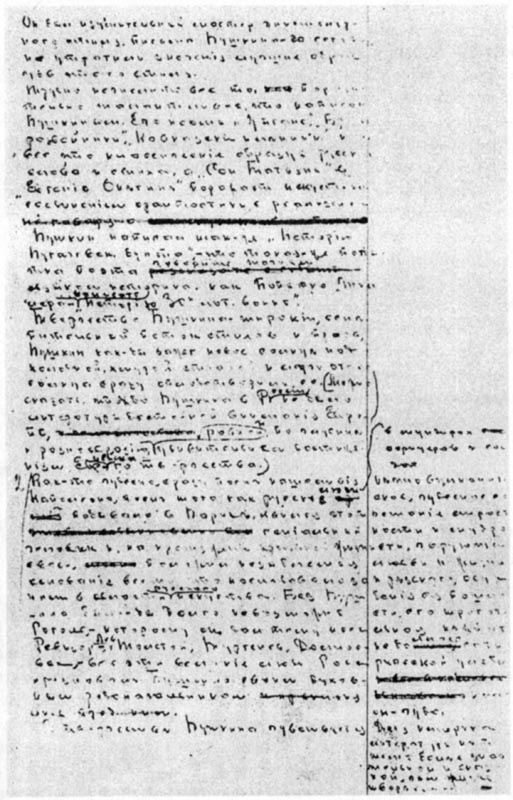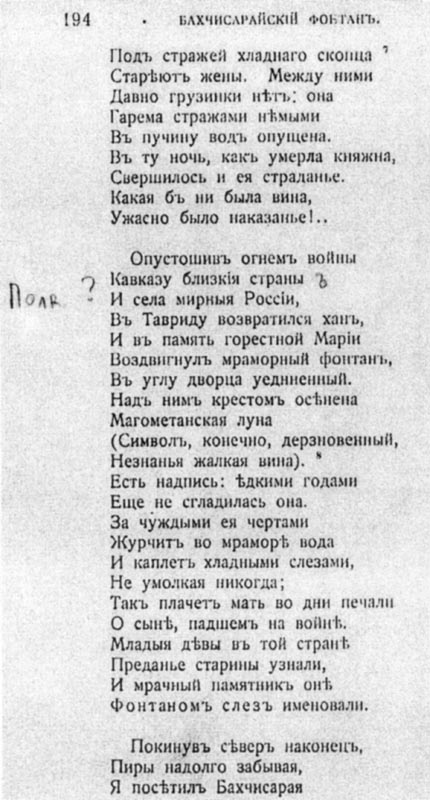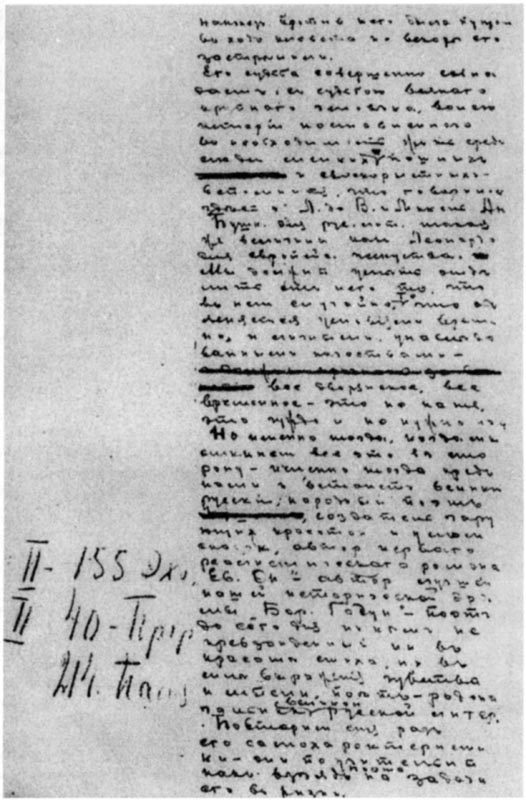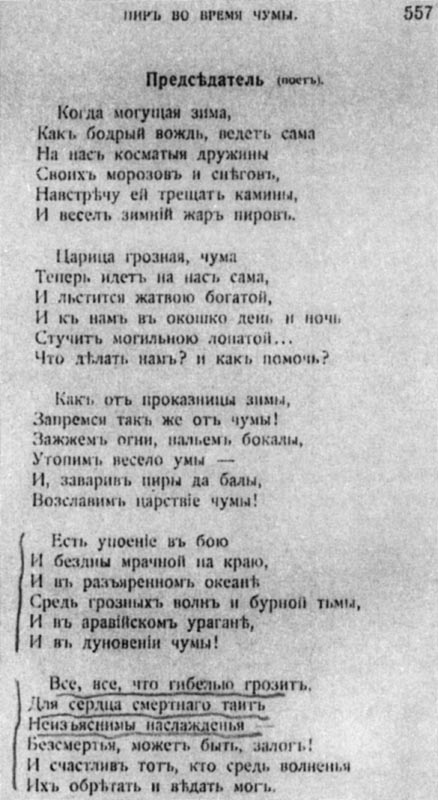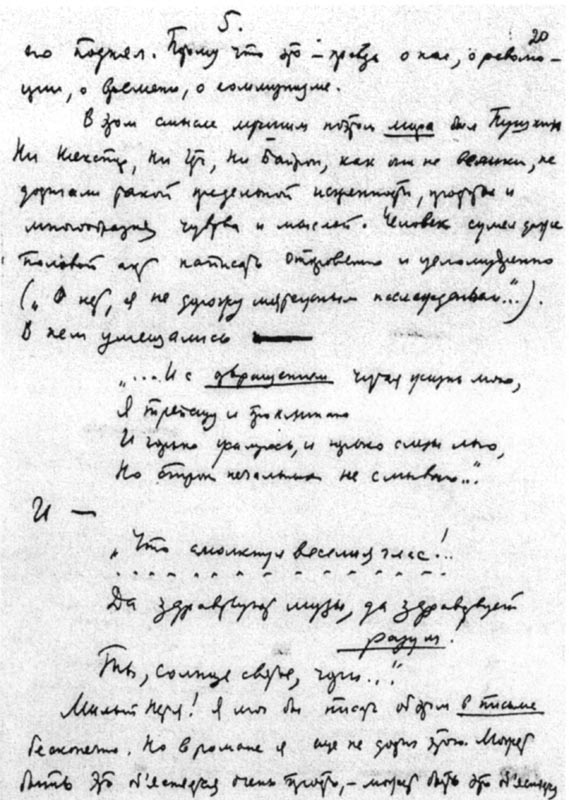- 1 -
- 2 -
- 3 -
Российская Академия наук
Институт мировой литературы им. А. М. ГорькогоЛ. Ф. Киселева
Пушкин
в мире русской прозы
XX века
Москва
«Наследие»
1999
- 4 -
ББК 83.3
Государственная Юбилейная издательская программа
к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Рецензенты:
доктор филологических наук В. С. Барахов
доктор филологических наук Н. В. Драгомирецкая
Л. Ф. Киселева.
Пушкин в мире русской прозы XX века. М.: Наследие, 1999. — 362 с.
В книге прослежена живая и разносторонняя жизнь Пушкина в прозе отечественной классики XX века. Пушкин показан глазами новой эпохи.
Выявлены многообразные формы пушкинского «присутствия» (черты поэтики) в творческих индивидуальностях многих и разных художников (М. Горький, М. Зощенко, Ю. Олеша, А. Платонов, М. Шолохов, А. Фадеев, М. Булгаков, Б. Пастернак, Л. Леонов).
Наследие Пушкина выведено из замкнутости веком XIX на простор русского и мирового литературного процесса, для которого и во имя которого он и творил.
ISBN 5-201-13346-0
© Л. Ф. Киселева, 1999
© Институт мировой литературы
им. А. М. Горького РАН,
«Наследие», 1999
- 5 -
Введение
Русское пушкиноведение имеет немало превосходных работ о связи великих русских классиков XIX-го века — Гоголя, Л. Толстого, Достоевского, Чехова — с художественным миром Пушкина; об отношении к нему русского авангарда ХХ-го века и о многом другом.
Но роль Пушкина для прозы русской отечественной классики ХХ-го века остается областью малоисследованной, если не сказать почти нетронутой.
Этому имеются свои причины и закономерности.
Непосредственным предшественником литературного процесса ХХ-го столетия был сложный русский реализм второй половины XIX-го века. Течения авангардистские от него отталкивались, неореалистические — так или иначе продолжали и развивали его традиции. Могло начать казаться, что для отечественной прозы нового века Пушкин стал фигурой во многом сторонней, далекой, хотя и любимой.
Но это не совсем так. Для понимания роли Пушкина в истории русской литературы необходимо учитывать два объективных фактора.
1. Связь с Пушкиным, во всяком случае в прозе, не укладывается в общепринятые понятия «влияние», «школа», «учеба», «традиция» и так далее, она требует для себя иных обозначений. Это относилось уже и к послепушкинской поре, но в еще большей мере — к веку ХХ-му.
- 6 -
Гениальную пушкинскую «соразмерность и сообразность», где «гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства» (Л. Толстой), невозможно ни воспроизвести, ни развить, — но ее невозможно и окончательно отторгнуть от русского искусства слова, к какому бы веку оно ни принадлежало. Она — коренное свойство литературы, ее природное качество, которое в гении нашло свое наивысшее воплощение. Это хорошо чувствовали, об этом неоднократно высказывались решительно все русские классики послепушкинской поры. И потому обнаружение «присутствия» Пушкина, видов и форм проявления «пушкинских начал» (так условно назовем их), нуждается в особых подходах и видах анализа.
Развитие традиций зачастую понимается как прямое продолжение открытий предшественника, потому часто не замечается исторической преемственности там, где художники — как и породившие их эпохи — разительно отличаются каждый своей самобытностью.
Но вот как определял историческую преемственность наш известный драматург А. Н. Островский на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве (1880 г.): «Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны...
...Всякий великий писатель оставляет за собой школу, оставляет последователей. Что это за школа, что он дал своим последователям?
Он завещал им искренность, самобытность, он завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским. Ведь это только легко сказать! Ведь это значит, что он,.. Пушкин, раскрыл русскую душу!»1
2. Сложность выявления пушкинских начал в русской прозе объясняется, в значительной мере, еще и тем, что в последней желают отыскать следы Пушкина-прозаика, убеждаясь при этом, снова и опять, что прямого продолжения (за редким и частичным исключением у Чехова и Бунина) пушкинская проза в литературе последующих периодов не имела. В ее дальнейшем развитии, тем более в ХХ-м веке, в гораздо большей степени участвовала пушкинская поэзия.
В этом нет ничего странного или противоестественного. Именно лирика, род лирический, как известно из многовековой истории развития словесного искусства, и открывал большей частью новый литературный этап.
- 7 -
Потому обнаружение «пушкинских начал», форм его «присутствия», нуждается в нетрадиционных видах исследования и анализа. Тем более, что сами эти формы порою совсем по-пушкински, «вдруг» (говоря одним из частых его слов при неожиданно-закономерном «случае») — хотя и очень-таки органично (что опять же по-пушкински) — могут объявиться, прорасти, отозваться; напомнить о себе воспоминанием или просто отзвуком; сказаться в мотиве, сюжете, теме, позиции автора в композиции произведения. Либо — мелькнуть в обороте речи, структуре фразы отдельного произведения или творчества писателя. (Применительно к Достоевскому это блестяще выявлено и проанализировано С. Г. Бочаровым: «Кубок жизни и клейкие листочки» (два воспоминания из Пушкина в «Братьях Карамазовых»)2; относительно Л. Толстого — в статье Г. В. Краснова «Воспоминание» Пушкина в «Воспоминаниях» Л. Н. Толстого»3).
Если под углом зрения сказанного внимательно вчитаться в русскую прозу ХХ-го века, нельзя не заметить следующего.
Ни один из ее классиков в своих творческих исканиях и свершениях не прошел мимо Пушкина, но «следы», «отзвуки», «воспоминания» о его «присутствии» у каждого — свои, особенные.
Посвятив немалые годы изучению отечественной классики советского времени, автор данного труда не раз обнаруживал эти многие и разные, прямые и косвенные, явные и тайные «выходы» к Пушкину или «вводы» его в свои художественные миры. Это относится как к прозаикам преимущественно реалистических форм (Горький, Шолохов, Булгаков, Фадеев), так и метафорических, лирико-философских (А. Платонов, М. Пришвин) и даже к прозе «смещенных вещей и понятий» (М. Зощенко, Ю. Олеша).
Особенная внутренняя потребность в Пушкине, непреодолимая нужда в нем, всеобщая тяга к пушкинскому миру художественной гармонии наиболее остро, явственно и плодотворно для творчества писателей сказалась в 30-е годы, с приближением столетней годовщины со дня его гибели (1937 г.), павшей на сложнейший, можно сказать антипушкинский период острейшей дисгармонии в самой действительности.
У каждого и для каждого из писателей той поры, уже заметно становящихся классиками нового времени, Пушкин выступал в качестве своего рода «прояснителя» и «вожатого».
Горького, которому он с юных лет стал «вечным спутником», Пушкин
- 8 -
«вывел» к созданию его «духовного и художественного завещания» («Жизни Клима Самгина»), своеобразному инварианту «Повести временных лет» и «Истории Государства Российского» за сорокалетний предреволюционный период; это — со стороны позиции автора в композиции произведения, а со стороны содержательной — к инварианту художественной «энциклопедии русской жизни» (Белинский о «Евгении Онегине»), не столько, правда, самой реальной жизни (ее главный герой — имитатор жизни), сколько жизни русских идей, течений и общественных движений этого времени.
Шолохова, как автора «Тихого Дона», сюжетные коллизии первых частей которого являли собой острейшие схватки героев и событий, Пушкин «подвел» в последних частях романа к удивительной для его темы и материала художественной гармонии.
Булгакову-прозаику, в чьем творчестве Пушкин уже зримо присутствовал своим отсутствием (драма «Пушкин», в постановке МХАТа — «Последние дни»), гений синтеза «приоткрыл» для его последнего, «итогового произведения» «Мастер и Маргарита», секрет равнозначимого участия и влияния на судьбу человека двух противоположных высших сил.
В платоновском мире «совмещенных» — но не соединенных в синтезе — сфер и явлений жизни и литературы («умозрительного и простого», «вещества существования» С. Бочаров), Пушкин стал «нашим товарищем».
Зощенке — как автору малых рассказов о мелочах быта и мелочной психологии мелких людей — Пушкин дал возможность увидеть, как теперь принято выражаться, «свет в конце туннеля» в его крупных повестях «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца».
Список «неопознанных деяний» Пушкина для русской классики советского времени можно продолжать долго.
Автор данной работы сосредоточивается в основном на 30-х годах, этом крайне важном для темы периоде русской литературы, хотя и делает выходы как в более раннее время, так и к последующим десятилетиям, второй половине века, обращаясь к произведениям отечественных классиков знаменательно переломным втройне: для творчества самих писателей, для своего времени и, конечно же, — что самое главное, — для нашего предмета исследования («Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Пирамида» Л. Леонова). Ибо «провести
- 9 -
границу — уже значит переступить ее» (Т. Манн). «Переступление» же границы, даже для темы локальной и четко отграниченной, каковой является наша тема, диктуется законами историзма.
Проникнуть глубже в предмет, услышать «шаги», увидеть «следы», почувствовать «отзвуки» Пушкина в вышеназванных творческих индивидуальностях, «многих и разных», чьим творчеством во многом определялась духовная жизнь 70-летнего периода в русской истории ХХ-го столетия, — и попытаться повести за собой читателя — задача данного исследования.
Это представляется данью справедливости, важной и нужной как в отношении писателей нашего уходящего столетия, так и в связи с 200-летием со дня рождения Пушкина; данью благодарности, своего рода «художественным удостоверением» русскому гению в том, что сбылись его уверенные надежды на жизнь в искусстве слова после жизни: бессмертен, «славен будет» он, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».
Но и здесь хотелось предуведомить читателя. Не все, из обнаруженного в ходе анализа и отмеченного на страницах работы, можно было подробно рассматривать, тем более делать из него выводы. И не только по причине ограниченности места и времени. В не меньшей мере — и из-за опасной преждевременности суждений и заключений, могущих привести к натяжкам и дурной тенденциозности, что всегда плохо, а по отношению к Пушкину — недопустимо.
За пределами нашего исследования остается также обширная область высокохудожественной прозы классики русского зарубежья. Она требует, конечно же, очень внимательного и детального изучения специалистами. По нашему же, невольно априорному и, несомненно, субъективному взгляду, Пушкин для русского зарубежья в целом был своего рода «чудотворной иконой», вывезенной с родины, «святыми мощами» русского искусства слова, которые помогали в чужой стране. — В отличие от литературы отечественной, где он активно привлекался (и вовлекался) к участию в творческом писательском процессе.
Не хотелось бы, чтобы в том или в другом случае был усмотрен оттенок отрицательный. Жизнь Пушкина после его жизни продолжалась как в формах движущихся мгновений, так и «мгновений остановленных».
Предмет нашего исследования — формы первого ряда.
Осознавая, сколь «велика ответственность прикосновения к этой
- 10 -
теме»4, автор работы, сердечно любя Пушкина, но не состоя в рядах многоопытных пушкинистов, не берет на себя дерзости анализировать, тем более препарировать его произведения. Задача его, как уже было сказано, в другом: проследить живую, разностороннюю и очень разнообразную жизнь Пушкина в прозе отечественной классики ХХ-го столетия.
Это позволит увидеть Пушкина глазами новой эпохи. Одновременно — точнее определить своеобразие восприятия Пушкина каждой творческой личностью (как и собственное ее своеобразие). И в разнородной пестроте, множественности метаний и раздерганности самого литературного процесса нового времени — обнаружить единство обращенности, повернутости (у каждого по-своему) к центральной фигуре русской классики, национальному гению, который глубинно и постоянно присутствовал (и продолжает присутствовать) в отечественной словесности.
Быть может, со временем, это поможет внести в не раз переписываемую историю русской литературы ХХ-го столетия необходимые, и более прочные, дополнительные ценностные ориентиры и критерии.
И тогда та самая «общая русская идея», о которой теперь очень много говорят и хлопочут ученые самых разных специальностей, смогла бы предстать не в форме лозунгового призыва, а в живом художественном движении и выражении.
———————————
1 Островский А. Н. Собр. соч. в десяти томах. Том 10. М., 1960. С. 150—154.
2 Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 219—228.
3 Болдинские чтения. Горький, 1979. С. 152—161.
4 Филин М. Д. О Пушкиниане Русского зарубежья. Библиографический опыт // «Московский пушкинист». 1. Ежегодный сборник. М., 1995. С. 297.
- 11 -
Глава первая
ГОРЬКИЙ И ПУШКИН
(Связь времен. Свет поэзии в прозе)
Горький о Пушкине.
Пушкин в восприятии Горького.Со времени опубликования каприйских лекций Горького (1937, 1939 гг.1), в частности, лекции о Пушкине, черновая рукопись которой датирована 1909 г., неизданного Предисловия к неизданному однотомнику прозы Пушкина на английском языке, предназначенному для американских читателей (датировано 1925 г.), его бесед, выступлений, ряда писем и других материалов, увидевших свет после смерти Горького, случившейся за полгода до столетней годовщины со дня смерти Пушкина, стала широко известна чрезвычайно высокая оценка им личности, творчества и роли Пушкина для отечественной — и даже мировой — литературы, и не только в прошлом, но в настоящем и будущем.
В глазах Горького Пушкин — «родоначальник великой русской литературы», «начало всех начал» в ней»2, в том числе и прозы второй половины XIX века. — Последняя, по его твердому убеждению, «вышла» не из натуральной школы (Белинский), не из «Шинели» Гоголя («Достоевский или Тургенев?»3), а из прозы Пушкина: «Его рассказы «Пиковая дама», «Дубровский», «Станционный смотритель»4 и другие положили основание новой русской прозе, смело ввели в литературу новизну тем», «освободив русский язык от влияний французского, немецкого» (24, 256).
«...мы с большим правом можем сказать, что реализм в рус[ской]
- 12 -
лит[ературе] начат Пуш[киным], именно его «Станцион[ным] смотр[ителем]» и вообще им».5
«Не сравнимый ни с кем, человек совершенно изумительного таланта», «никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли», Пушкин — по мнению Горького — «всем нам навсегда учитель» (24, 96; 29, 303).
Анализируя горьковский каскад высоких оценок Пушкина, известный пушкинист Д. Д. Благой обратил внимание на то, как тщательно устанавливал и аргументированно объяснял Горький — русскому и зарубежному читателю — истинное место Пушкина в ряду великих классиков и русской, и мировой литературы.
Говоря о «страстной любви Горького к родной отечественной литературе», где из прозаиков выше всех он ставил Л. Толстого, «глубоко национального писателя», «с изумительной полнотой воплотившего в своей душе все особенности сложной русской психики» («Толстой — это целый мир»: «в нем есть буйное озорство Васьки Буслаева, кроткая вдумчивость Нестора-летописца, в нем горит фанатизм Аввакума, он скептик, как Чаадаев, поэт не менее, чем Пушкин, и умен, как Герцен»)6, — Д. Д. Благой замечает: «Однако в дальнейшем Горький вносит в эту оценку в части, касающейся сопоставления Толстого с Пушкиным... поправку явно в пользу последнего. «Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...» — пишет Горький в своих воспоминаниях о Льве Толстом. И имя Пушкина поставлено здесь на первое место не только по хронологическому принципу» (458).
А в 1925 году, называя Льва Толстого «величайшим художником России», Горький знаменательно добавляет: «после Пушкина» (там же).
Что это высказывание Горького было не случайной оговоркой, а устойчивым мнением, как и утверждение, что Пушкин (а не Гоголь) родоначальник русской прозы, говорит и тот факт, на который также ссылается Благой: «В другой своей статье, написанной в том же 1925 году и также обращенной к зарубежным читателям, Горький идет еще дальше, прямо заявляя: «Лев Толстой величайший в мире художник после Пушкина» (там же).
Оговорка эта, по мнению Д. Д. Благого, тем выразительнее, что сделана в статье, обращенной к западноевропейским читателям, «которые уже привыкли считать Толстого величайшим художественным
- 13 -
гением современности и одним из величайших гениев всей вообще мировой литературы. Пушкина же знали сравнительно мало, а если и признавали его великим русским писателем, то все же писателем, деятельность которого имела лишь национальное, а отнюдь не общемировое значение».
«Таким образом, — заключает пушкинист, — Горький во всеуслышание, причем, в порядке не случайного высказывания, а выражения своего стойкого и глубокого убеждения, провозглашает именно Пушкина «величайшим в мире художником» (там же).
О слабом знакомстве Запада с русской поэзией и почти полном отсутствии ориентации в ее талантах было известно еще во времена Пушкина.
«Ваша слава должна распространяться на Западе, ибо русского языка, нужно признаться, до сих пор еще не слыхали в наших краях. Вы должны сделаться известны», — с такими словами обратился к Пушкину, незадолго до его смерти (конец ноября 1836 г.) А. Тардиф де Мелло, французский писатель и переводчик. Говоря о своем желании и возможности «издать весьма солидную книгу» о русской литературе, где «ваши познания в области поэзии помогли бы мне больше всего другого придать ценность этому труду, который я хочу сделать европейским по значению», даже этот просвещенный европеец, относящийся к Пушкину с огромным пиитетом и «наисовершенным уважением», оценивает его на уровне таких западноевропейских художников, как Байрон, Ламартин, Гюго.
«Вы являетесь Виктором Гюго» в «современной русской литературе», — объявляет А. Тардиф де Мелло. А в мировой литературе — «Ваше имя должно стать рядом с Байронами и Ламартинами; я берусь позаботиться об этом».7
На этом фоне особенно велика заслуга Горького перед историей отечественной, мировой литературы и, конечно же, перед творческой личностью Пушкина: уже в начале нового столетия — времени нарушений, смещений, «сдвигов» в восприятии миров действительности и искусства — Горький внес истинно ценностные ориентиры, критерии высокой художественности в иерархию великих художников искусства слова.
Чтобы дать ясное представление человеку Запада о силе таланта русского гения и его роли в отечественном и мировом искусстве, Горький делает такое сравнение: «Пушкин для русской литературы
- 14 -
такая же величина, как Леонардо для европейского искусства» (24, 96).
И что — особенно значительно: все это весомо говорилось и настойчиво утверждалось в период смены исторических и литературных эпох, соответственно и смены авторитетов. В годы, когда новые авангардные и модернистские течения в русской литературе считали Пушкина устаревшим, а западный мир, его почти не знавший, но уже оценивший Л. Толстого и Достоевского (и с интересом приглядывающийся к новой русской поэзии и прозе, шумно заявлявших себя многими и разными школами и группами), обошел Пушкина как бы стороной.
В годы же становления в России новой литературы (первая четверть XX-го века) и широкой популярности ее родоначальника Горького, признанного уже не только в своем отечестве, но и за рубежом, — в этом плане мало что изменилось. Характеризуя Роллану в 1922 г. свое положение в России в трудную для него и страны минуту словами Пушкина8: «Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом»9, — Горький предваряет их такой аттестацией: «Величайший, удивительный наш поэт Александр Пушкин» восклицал, — понимая, что даже Роллану, большому знатоку искусства, автору жизнеописаний его великих людей, и сам Пушкин, и его роль и место в истории русской и мировой литературы могут быть известны и понятны далеко не в достаточной мере и степени.
Истинная народность Пушкина — «самое полное выражение духовных сил России» (24, 184), «универсальность гения» делают его «величайшим в мире художником», с которым даже в мировой литературе «мало кто может быть сопоставлен» (458).
Последняя мысль Горького также была плодом его долгих и продуманных рассмотрений и сопоставлений.
В упомянутом выше Предисловии к однотомнику прозы Пушкина на английском языке Горький «как бы примеряет по отношению к Пушкину ряд наиболее признанных мировых имен, причем некоторые из них, в виду недостаточности в данном плане, тут же отбрасывает» (469). Так, поставив поначалу первым — в этом ряду гигантов — очень популярного в России в революционные годы Шиллера, Горький вскоре его снимает и начинает ряд с Шекспира; то же происходит с Байроном. «В итоге в «ряду гигантов» вместе с Пушкиным Горький называет всего только два имени — Шекспир и Гете» (там же).
- 15 -
Но и на этом писатель новой эпохи не останавливается. «По диапазону творчества Пушкин всего ближе к Гете, а если оставить в стороне научные интересы и домыслы последнего, творчество Пушкина окажется разнообразнее, шире всей массы достижений немецкого олимпийца» (470), — делает он пояснение.
Не раз обращаясь к горьковским высказываниям и открывая в них все новые грани, крупнейший пушкинист, знаток многочисленных мнений и оценок Пушкина, заключал: «Такой высочайшей оценки Пушкину не давал никогда и никто даже из самых восторженных его почитателей — и русских, и зарубежных» (458).
А позднее сделал вывод, который действенен и на сегодня: «Утверждение Горьким подлинно мирового значения Пушкина в качестве «величайшего в мире художника» — это действительно последнее слово, сказанное у нас о Пушкине от лица новой эпохи» (473).
«От лица новой эпохи» о Пушкине говорилось и после Горького, и ныне говорится немало лестных слов. Они группируются, в основном, по четырем направлениям: Пушкин для русской литературы, Пушкин для мировой литературы, Пушкин в сравнении с кем-либо из выдающихся гениев (в науке, смежных литературе видах искусства, в культурной, общественной, государственной деятельности) и Пушкин лично для того или иного писателя. — Последнее, надо заметить, бывает чаще всего.
Для сравнения напомним некоторые наиболее значительные из них.
В «Слове о Пушкине» (1961 г.) Анна Ахматова верно подметила, как после его смерти, с течением времени, «Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской». А прежние высокие чины императорского двора, «кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы» и прочие «постепенно начали именоваться пушкинскими современниками»; именно в таковом виде и качестве (а не сами по себе) они и остались интересны для потомков, сохранившись в каталогах библиотек и тем самым не канув в Лету.10
Ахматова же отметила два особенных качества поэзии Пушкина, важных для поэтов современности: оригинальный, непереводной характер именуемых самим Пушкиным «переводов» или «подражаний» (и западным, и восточным образцам), и его так называемые «мистификации», когда Пушкин выдает свои оригинальные творения — за копии с чужих оригиналов.11
- 16 -
Обратив внимание на особенную автобиографичность пушкинской поэзии, Ахматова заключила: «Откликаясь «на каждый звук», Пушкин вобрал в себя опыт всего своего поколения». «Исходя из личного опыта, создает законченные и объективные характеры: он не замыкается от мира, а идет к миру». «Вот почему самопризнания в его произведениях так незаметны, и обнаружить их можно лишь в результате тщательного анализа».12
Новый поворот в видении Пушкина и его роли для России «от лица» последних десятилетий «новой эпохи» дан в статье А. Битова «Воспоминание о Пушкине».
Наш современник находит великое сходство между Пушкиным и Петром Первым — в равновеликости личностей, значении для истории отечества и даже в поведении обоих перед смертью (последнее подтверждается А. Битовым параллельным сопоставлением двух «конспектов», в буквальном и двойном смысле предсмертных: записей Пушкина к истории Петра перед его и своей смертью, случившейся день за днем — 28 и 29 января, и дневника Жуковского о последних днях Пушкина).
Говоря о мужественном величии Пушкина в эти последние часы его жизни и находя много общего в ситуации личной жизни, поведении и финале судеб двух величин, писатель, оценивая эти фигуры в контексте истории России и глазами нашей современности, заключает: «Умирал ли он на самом деле в контексте «смерти Петра», не так и важно. Точно, что Пушкин-человек умер как царь.
В царствовании своем вознесся он, может быть, не только выше Александрийского столпа, но уже и выше Медного всадника».13
Последние слова Пушкина, записанные Жуковским, «слова высшей точности» («Кончена жизнь». «Жизнь кончена!»), позволяют А. Битову сделать вывод об удивительном «единстве жизни и текста» у него: «Кто мог поставить такую точную точку в конце ВСЕГО? Мало сказать: гений, надо сказать: Пушкин.
Не меньше Петра... Такое соотношение поэта с великим царем в позднейшей мировой литературе возможно лишь в России» (223).
Как считает и показывает исследователь финалов жизни двух величайших для истории России личностей, Петр Первый был единственной фигурой, равновеликой Пушкину.
«У Пушкина были предшественники и старшие братья по перу. Но вряд ли кто в России того времени мог взять на себя действительную
- 17 -
роль наставника, учителя или кумира: как сравнительная величина Пушкин сразу одинок, как гений... уже в 1824 году, после «Цыган», Пушкин не может скрыть раздражения по поводу настойчивого стремления современников толковать его в «байронической» традиции... «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» — в восторге этом по поводу окончания «Бориса Годунова» есть и момент восхождения на шекспировскую вершину. «Новая сцена из Фауста» — легкий пролет не то сквозь, не то над, не то мимо Гете. И, наконец, «Граф Нулин», через месяц с небольшим после «Годунова», — уже пародия на Шекспира — чистый вздох и усмешка освобождения от кумира» (217).
Уже с этого времени, считает А. Битов, Пушкин в русской литературе «встал на мировую дорогу всей стопой... Литературная его роль перерастает в роль историческую. И Петр начинает его занимать более Байрона и Шекспира».
Что мысль о равновеликости Пушкина в поэзии Петру в государственной деятельности была «мыслью самого времени» («Эта идея носилась и оседала»), а не плодом домысла нашего современника, говорят его же ссылки на авторитеты пушкинской поры: «Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один», — приводит Битов слова Баратынского Пушкину.
С 1825 года и все последующее десятилетие у Пушкина, находит современный писатель, «буквально посвящено Петру» (его проза начинается с «Арапа Петра Великого», хотя и не дописанного. Далее — «Полтава», «Медный всадник», «Пир Петра», бесконечная работа над будущей «Историей Петра», прерванная смертью).
***
Горьковская выверенная, продуманная и аргументированная концепция роли, места и значения Пушкина в истории русской и мировой литературы важна была не только для пушкиноведения.
После опубликования каприйских лекций Н. К. Пиксанов, не без горечи, замечал: «Если бы этот курс был напечатан около 1925 года, это остерегло бы нас от грубых ошибок вульгарного социологизма».14
- 18 -
И действительно, для Горького — в отличие от иных зачинателей и толкователей новой русской литературы XX-го века, — Пушкин не только не был мертвой традицией, мешающей выразить новую эпоху новыми средствами словесного искусства и потому подлежащий «сбрасыванию с Парохода современности», — напротив. Как художник новой эпохи Горький входил в нее — с Пушкиным.
В детстве, очарованный его поэмами, он был ими пробужден к творчеству. «Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю. И каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует» (13, 348—349).
Справедливо сказано, что рассказ Горького о первом знакомстве с Пушкиным из всех до нас дошедших — «едва ли не самый захватывающий».15
Оценивая творчество Пушкина «как восторженный и проницательный критик, он был многим обязан Пушкину — «началу всех начал» русской литературы» — и как писатель-художник», «в развитии в нем чувства художественной правды и красоты» (там же, 474).
«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну. А некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.
Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей— мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни» (13, 349).
- 19 -
В отрочестве Алеша Пешков «оборонялся» стихами Пушкина от людской злобы и серых будней жизни, делясь своим знанием и радостным настроением с трудящимся людом, не соприкоснувшимся с волшебным миром Пушкина. «Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:
— Вот славно, а? Ах, господи...
Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:
— Зачитался, пострел, а самовар четвертый день не чищен! Как возьму скалку...
Что — скалка? Я оборонялся против нее стихами:
Душою черной зло любя,
Колдунья старая...» (там же).И действительно, такого первозданно образного, солнечно волшебного, действенно полновесного восприятия Пушкина в детстве и отрочестве не найти даже у крупнейших наших поэтов и писателей, хотя мало кто из них не выразил его в своих произведениях или воспоминаниях весьма поэтически и личностно.
Напомним, к примеру, воспоминание о Пушкине из автобиографического романа Бунина «Жизнь Арсеньева», создававшегося, как известно, уже в эмиграции.
«Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел», — и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я», — и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме».16
Если для Горького Пушкин и его поэзия с самого детства —
- 20 -
«чудо», действенное волшебство, — доброе чудо из лучших русских сказок, чудесным образом «сжатых» в одну, и таковыми они (оба) остаются для него навсегда, даже в периоды его зрелой и поздней жизни, то для Бунина Пушкин с ранних лет — свой; сначала, как мы видели — «наш», домашний, семейный, потом, в годы отрочества и юности — «мой», личный «сопроводитель». Стихами Пушкина герой «Жизни Арсеньева» «часто сопровождал свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил» (109).
«Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный», — с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:
Еще ты дремлешь, друг прелестный...
Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:
Вопросами: тепло ль? Утихла ли метель,
Пороша есть иль нет? И можно ли постель
Оставить для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?Вот весенние сумерки,.. и опять он со мной...
Вот уж совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей
Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча»...
А там опять «роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы» — той самой, которой с такой страстью предаюсь и я...» (109—110).
У меняющегося с годами, растущего и взрослеющего героя романа Бунина не раз возобновляется встреча с поэзией Пушкина, точнее говоря, совместное прохождение разных стадий своей жизни. И всякий раз оно сохраняет оттенок «родственной фамильярности», обращения к поэту как человеку «нашего круга». Сначала как к наилучшему выразителю «нашей среды», потом — как к поэту, близким и родственным образом, лучше всех передавшему личные впечатления, переживания, желания героя.
- 21 -
Так, в годы увлечения Арсеньева Дон Кихотом, рыцарскими замками, средневековьем, герой Бунина и в пушкинских стихах чисто сказочного, русского народного характера — в Первой песне «Руслана и Людмилы» — чувствует и видит отражение предмета своего увлечения: рыцарскую символику, средневековое мышление, поэтику рыцарской мистики: «...чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей»,.. это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом — сон, наважденье, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:
Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать рыцарей прекрасных
Чредой из волн выходят ясных,
И с ними дядька их морской...»(33—34)
(«И тридцать рыцарей прекрасных», — у Пушкина, как известно, — «витязей». Но герою, увлеченному в этот период жизни рыцарством и рыцарскими романами, они и у Пушкина видятся «рыцарями»).
И вот что интересно.
Героя автобиографической трилогии Горького, воспринявшего Пушкина как «чудо», те же самые строки первой песни «Руслана и Людмилы» («Там на неведомых дорожках / Следы невиданных зверей») — «изумляют своей чеканной правдой», кажутся очень реальными, понятными: он «видел эти, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть...».
Для героя же автобиографического романа Бунина, которому Пушкин с детства — свой, обыденно домашний, поэт «нашего круга», — те же строки, напротив, полны «наважденья», «колдовства».
В этих двух, столь разнящихся до полной противоположности
- 22 -
восприятиях одних и тех же пушкинских строк, в одном возрастном периоде — разница, конечно же, двух будущих художественных натур писателей, обусловленных как природным внутренним складом личности, так и образом жизни, окружающей средой, выходом из различных сословных кругов.
Но не менее сказывается в этом и то особенное качество и свойство поэзии, поэтики и личности самого Пушкина, каковое издавна пытаются как можно точнее определить многие его исследователи, называя то протеизмом, то гармонией контрастов, синтезом, гармонией разнородного и т. д.17
Но качество это, к счастью, окончательно так и не поддается точному определению. (Именно — к счастью, иначе ретивые «продолжатели» этих важных и нужных вышеуказанных научных открытий давно бы «растиражировали» неповторимого гения поэзии на многочисленные его копии и подделки).
А что точно определить это невозможно («анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается». Л. Толстой18), и не только невозможно, но и не нужно, — об этом красноречиво говорит опыт создания Михаилом Зощенко так называемой «Шестой повести Белкина» («Талисман») и его самокритичная оценка этого опыта (о чем специальный разговор в главе о Зощенко).
Навсегда «наш» (в смысле — поэт «нашего круга»), «семейно-домашний» до «родственной фамильярности», «лично сопровождающий» все периоды жизни героя Бунина, Пушкин показан и на мир смотрящим как бы его глазами, говорящим его словами, выражающим его личные мысли и чувства даже в момент приближения музы и «первых общений» с ней.
«Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни —
Когда в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне...Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку «промотавшихся отцов», в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и везде таинственные для
- 23 -
юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой — все это у меня было» (81).
Романтичным, точнее, быть может, сказать — дистанционным (в отличие от бунинского, без дистанции, «домашнего», даже, можно сказать, панибратски свойского восприятия и отношения) — было и восприятие Пушкина Мариной Цветаевой (а потом и его героев, особенно образа «вожатого» в «Капитанской дочке»).
В этом детском, но очень-таки необычном, оригинальном восприятии поэта — не на слух и не через его слово, а — через Памятник Пушкину (куда ее девочкой водили к нему ежедневно гулять), через его черную, высокую, в выразительном жесте гордого поклона поставленную фигуру — было нечто и от романтизма начала прошедшей эпохи (байроновского), и от метаморфоз романтизма конца XIX-го — начала XX-го вв., мрачного, «черного» романтизма последних дней уходящей эпохи как дней конца света, апокалипсических.
Но — выражено оно в милой, детской форме присущего для ребенка сравнительства: «я» и «Он» (что потом в иных видах и формах нашей отечественной литературы, у некоторых, по возрасту вполне зрелых писателей, разовьется до грубой гипертрофии того же принципа: «Пушкин и Я». Или, что еще хуже: «Я как Пушкин». Либо — по видимости вроде бы обратное, противоположное, а по сути — то же самое: «пушкин как и я». Иными словами, либо уничижение Пушкина до себя, либо — возвеличение себя до Пушкина).
Для девочки Марины «Памятник Пушкина» был и «целью и средством прогулок» («от Памятника Пушкина до Памятника Пушкина»), и видом ее собственной, «отдельной игры»: «приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку», и — сравнивать (по цвету, по росту, по разнице возможностей): «сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» — с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто меня, тогда — может, потому что я ведь еще вырасту...».19
Скульптурная фигура Пушкина стала уже тогда для Марины Цветаевой и предметом неосознанного выбора между «черным и белым» в жизни и судьбе: «и так как черный был явлен гигантом, а белый — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать,
- 24 -
я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь» (330).
Важно, что для будущей поэтессы «Памятник Пушкина» оказался «первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что Памятник-Пушкина — для меня».
Из всех «первых уроков» маленькой девочки, будущей крупной поэтессы, получаемых от детской игры при сравнивании (числа, цвета, масштаба, материала, мышления) — главным стало «наглядное подтверждение всего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина» (331).
И — еще одно, очень существенное открытие и наглядное подтверждение пушкинской «неприкосновенности и непреложности», его вечности: «...мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.
Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял» (332).
«Многие и разные» видения и понимания Пушкина русскими поэтами и писателями новой эпохи освещали его фигуру в богатом спектре самых неожиданных мыслей, сравнений, образов, сочетаний и красок.
А с ним — и свою. Каждый, видя и чувствуя по-своему, вносил и нечто новое, особенное.
Среди них, детских, Алеши Пешкова (горьковское) — одно из самых свежих, первозданных, и самых живых, действенных. Разумеется, здесь играла роль и среда, из которой вышел будущий писатель новой эпохи, и факторы иные.
Но не в меньшей степени — и самая личность будущего писателя, сразу и навсегда отказавшегося от сравниваний и сравнений себя с Пушкиным.
Еще до знакомства с поэзией Пушкина Алеша сам сочинял стихи, часто мыслил и выражался стихами, и «был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в форме ее стихов» (13, 266).
- 25 -
А познав пушкинскую поэзию, он почувствовал ее кровное родство не со своим детским стихоплетством, а с русским народным творчеством: поэмы Пушкина «напоминали мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну».
И это ощущение глубинности пушкинской поэтичности, уходящей корнями в самую древность русского искусства слова, и в то же время ее — первозданности, родниковости, иными словами, новорожденности, оттуда же, из первоисточника, а не от дальнейших модификаций, — сохранилось у Горького навсегда.
И даже с возрастом и дальнейшим самообразованием, когда у него появилось и знание, и понимание, и четкое видение в творчестве Пушкина всех его предшественников и современников, и отечественных, и зарубежных, иными словами, когда Горький, как зрелый писатель, знающий исследователь и опытный педагог-воспитатель нового молодого поколения русских художников слова, критиков и читателей в своих лекциях, статьях, ответах на письма «выстраивал» весьма пышное и разветвленное древо русской литературы, — многочисленные ветви и листья этого древа никогда не застилали и не затуманивали в горьковском восприятии пушкинской первозданности, родниковости его поэтического искусства, новорожденности художественного стиля (от самых далеких, глубинных основ народного искусства слова).
Как метко и, вместе с тем, образно было сказано, «стиль Пушкина — новорожденный, творимый в живой связи с языковым творчеством и сотворением национального художественного самосознания». Вместе с тем, слова как элементы художественного стиля у Пушкина «включают в себя» и «тот смысл и окраску, какую они получили в стиле предшествующих и современных художников: слова Пушкина «помнят» свое пребывание, скажем, в стиле Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и т. д.».20
Для Горького, сразу воспринявшего поэзию Пушкина и его самого как доброе чудо из русских сказок, как действенное волшебство, они навсегда таковыми и остаются, даже в периоды его зрелой и поздней жизни.
Земное и небесное, — но не просто земное, с его малостями, а корневое, первозданное, только что рожденное, и не просто небесное, а — божественное, в световых, солнечных лучах и излучениях, —
- 26 -
гармоническому союзу этой поэтической новорожденности, первозданности у Пушкина этих двух, столь, казалось бы, разных сфер и свойств его лиры и личности, по-разному называемых («чудесное, волшебное» и — «чеканная правда», а в понятиях теоретических категорий — романтическое и реалистическое) — Горький не переставал и сам дивиться (как чудному явлению в искусстве), и увлекать своим творческим удивлением-открытием Пушкина его читателей и исследователей.
Представ с первого знакомства перед Горьким как «диво дивное», пушкинское слово — в его звучании, содержании и действии — открылось для Горького как слово в прямом смысле волшебное, обладающее чудесным воздействием на людей, как орудие добрых высших сил. И это восприятие Пушкина как чуда, его искусства слова как сказочного волшебства, сохранилось на всю дальнейшую жизнь Горького.
Даже в его Предисловии к прозе Пушкина, предназначенном для американских читателей, где он, знакомя зарубежного читателя с творчеством русского гения в духе американской деловитости, дает точные и краткие характеристики всем родам, видам и жанрам его творчества, Горький не может удержаться от внесения в них элементов пушкинского поэтического «волшебства» и «чудесности». «Пушкин — автор изумительных по силе и страстной нежности чувства лирических стихов, создатель таких эпических и мудрых поэм, каковы «Медный всадник», «Полтава», чудесных по изяществу сказок «Руслан и Людмила», «Русалка».21 Он «изумительно, с блестящим юмором изложил гибким, звонким стихом мудрые сказки русского народа — «Золотой петушок», «О рыбаке и рыбке», «О попе и его работнике Балде»; он создал лучшую в русской литературе и до сего дня не превзойденную историческую драму «Борис Годунов», вероятно, известную Америке по знаменитой опере Мусоргского». «Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где, с проницательностью историка, дал живой образ казака Емельяна Пугачева...».
«Его рассказы «Пиковая дама», «Станционный смотритель» и другие положили основание новой русской прозе...».
«Роман в стихах «Евгений Онегин» навсегда останется одним из замечательнейших достижений русского искусства...».
«Он был изумительный мастер эпистолярного стиля, письма Пушкина до сего дня не утратили значения лучших образцов этого стиля».
- 27 -
Горький А. М. Предисловие к сочинениям А. С. Пушкина для американских читателей [1926].
Архив А. М. Горького. ПрГ 2-6-1, л. 3.
- 28 -
При этом Горький желает дать иностранным читателям точное представление о роли и месте Пушкина в русской литературе: «Без Пушкина были бы долго невозможны Гоголь — которому он дал тему пьесы «Ревизор», — Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, — все эти великие люди России признавали Пушкина своим духовным родоначальником». А также о его значении в поднятии русской литературы на мировой уровень: «Можно сказать, что до Пушкина в России не было литературы, достойной внимания Европы и по глубине и разнообразию равной удивительным достижениям европейского творчества».
Говоря о «редкой даже и для гениальных художников слова способности таинственно проникать в дух и быт чужих стран, отдаленных эпох» (о чем свидетельствуют «такие его произведения, как «Скупой рыцарь», «Египетские ночи», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери»), Горький подчеркивает для западного человека, что «на этих произведениях Пушкина особенно ярко сверкает печать неувядаемости, бессмертия, гениальной прозорливости».
Определяя место Пушкина в мировой литературе среди ее гениев, он обращается к чувствам просвещенных читателей со сравнением, на близость и понимание которого он рассчитывает: «Если б те люди Европы и Америки, в которых процесс чтения произведений подлинного искусства вызывает радостное и почти религиозное чувство восхищения красотой и мудростью духа человеческого, — если б эти люди знали творчество Александра Пушкина, они оценили бы его так же высоко, как высоко и справедливо оценено ими священное писание о человеке столь гениальных художников, каковы Шекспир, Гете и другие этого ряда гигантов» (24, 255—257).
И при такой полной и, одновременно, конкретной характеристике как всех видов творчества Пушкина, вплоть до эпистолярного жанра, так и четком разъяснении обусловленно закономерного появлении его в самой русской литературе и столь же закономерном ее входе с Пушкиным (и благодаря ему) в мировую, в первые ряды ее гигантов, — всю статью в целом и каждый ее пассаж в отдельности пронизывает горьковское ощущение Пушкина как «чуда»: явления — при всей обоснованности появления и конкретности рассмотрения — неожиданного, волшебного, о чем он и желает поделиться с западным читателем.
- 29 -
Находясь под обаянием личности и творчества Пушкина, Горький даже в своем представлении Пушкина иноземным читателям мыслит порой его сравнениями, объясняется с ними — его выражениями.
«Как-то чудесно, сразу после нашествия Наполеона, после того, как русские люди в мундирах офицеров и солдат побывали в Париже, явился этот гениальный человек и на протяжении краткой жизни своей положил незыблемые основания всему, что последовало за ним в области русского искусства» (24, 255).
Эта фраза — своего рода вариация, модификация, а если сказать точнее — перифраза пушкинской фразы из его «Набросков статьи о русской литературе» 1830 г.: «Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной» (VII, 226).
Соглашаясь с Р. И. Хлодовским, что «затем эта формула была им (Пушкиным. — Л. К.) переделана в духе диалектики и историзма. И это естественно: сами заметки начинались словами: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости»22, — можно, однако, заметить, что «формула эта» не столько «была им переделана», сколько дополнена. Обаяние, характерность и особенность не только стиля, но и мышления Пушкина — в органическом сочетании «стилевых контрастов» (Н. К. Гей).
Для подтверждения напомним кое-что из пушкинских органических контрастов:
Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как божия гроза.(Полтава)23
Интересно, что почти теми же эпитетами («прекрасен», «ужасен») говорит Мария о Мазепе:
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
- 30 -
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен(IV, 302)
Но у Марии это тоже — не противоречия, вернее, больше чем противоречия; это — «несовместность» двух обликов («Я принимала за другого тебя, старик»): того, кого она любила, и — кто предстал перед ней сейчас; ясное видение Марией, находящейся вне себя (сошедшей с ума), в Мазепе того, что не виделось ею тогда, когда она была в здравом уме — его подлого и хитрого двуличия:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..(IV, 302—303)
Авторская характеристика Петра подает его облик в «гармонии контрастов»: «Он весь как божия гроза» — вот планка, подобающая Петру. Он — как разгневанный бог, подобен Божьей грозе, то есть, справедливому явлению, спускающемуся с небес на землю для наказания предателя.
«Гармония контрастов» самого высшего плана в облике Петра как бы проигрывается в разных соотношениях его с другими образами, и не только людей, но и всей непосредственно окружающей его действительности, близких ему предметов и живых существ.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком(IV, 296)
Обычно смирный, конь «мчится», «гордясь могущим седоком» (снова — «могущим», в котором сочетается и собственная сила, «мощь», и ее умелое применение, «могущество»).
Как пахарь, битва отдыхает.
Молчит музыка боевая...
- 31 -
Но —
...се — равнину оглашая
Далече грянуло ура:
Полки увидели ПетраИ он промчался пред полками,
Могущ и радостен как бой.(Там же)
Как говорил А. И. Герцен, «Пушкин знал противоречия, но не смущался ими». А Горький, — что уже не раз приводилось, — видел в этом не противоречия, а «органическое слияние реализма с романтизмом», ставшее характерным для русской литературы после Пушкина, «придавая ей свой тон, свое лицо».
Горьковская «формула» (если употреблять термин Р. И. Хлодовского) внезапности пушкинского появления в литературе («Как-то чудесно, сразу после нашествия Наполеона...»), также как и пушкинская о русской литературе («Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии...»), — не столько им «переделывалась в духе диалектики и историзма», сколько дополнялась в этом же духе, и не раз, в частности, и в том же самом Предисловии.
Но отказываться от передачи ощущения «чуда» в самом факте появления Пушкина в русской литературе — Горький не стал (видимо, и не желал).
«В творчестве Пушкина чувствуется нечто вулканическое, чудесное сочетание страстности и мудрости, чарующей любви к жизни и резкого осуждения ее пошлости, его трогательная нежность не боялась сатирической улыбки, и весь он — чудо» (24, 257) — так кончал родоначальник русской литературы XX-го века свою статью о творчестве «начала всех начал» в русской литературе.
В таком же духе и стиле был сделан Горьким и вывод-наказ для будущих историков литературы: за изложением фактов и событий биографии поэта, за анализом произведений Пушкина — не забывать, что «весь он — чудо»: «Для историка литературы нет темы более значительной и сказочной, чем жизнь и творчество [Пушкина]» (там же).
Возможно, Горький подумывал сам написать со временем творческую биографию Пушкина. Черновой вариант его Предисловия не кончался характеристикой творчества Пушкина. Он содержал следующие строки, набросанные другими чернилами:
- 32 -
«Жизнь Пушкина почти так же сказочно разнообразна, как его творчество.
Он потомок африканца Ганнибала, одного из близких людей царя Петра Великого...» (24, 551).24
При огромной амплитуде горьковских оценок, один конец которой уходил в «божий дар», дар небес, другой — в дар земной, историю предков, — в общем и целом получался — Пушкин: явление новорожденное, искусство первозданное, иными словами, органическое творение (точнее, творческое сотворчество) и божеского, и человеческого («чудо чудное», «диво дивное», — если говорить определениями самого поэта «затейницы» белочки, тридцати трех богатырей, царевны Лебедь из его «Сказки о царе Салтане»).
***
«Предисловие» не стало известно американским читателям, поскольку не был издан однотомник прозы Пушкина, для которого оно предназначалось. До 1938 года оно не было известно и русским читателям.
Но — важно, что восприятие Горьким Пушкина — и его натуры, и его творчества — как «чуда», явившегося в русской литературе «вдруг», — весьма соответствовало, точнее говоря, было адекватным (если не сказать конгениальным) постижением и выражением и натуры самого Пушкина, и законов структуры его художественного мира.
Надо полагать, что Горький, очень хорошо уловивший «дух» Пушкина, имел полное право сказать — лично себе, в строках, не предназначенных для печати:
Читают Пушкина, а тень поэта стонет:
Слова — у всех в устах, но дух — никем не понят!(10 ноября, 1911 Capri)25
И сказал он это тогда, когда уже смог, как художник, не только почувствовать, ощутить, но и квалифицированно оценить, понять и поделиться своим открытием пушкинского «духа» с читателями и слушателями.
Не станем останавливаться на пушкинских сказках, где «чудо на
- 33 -
чуде» — буквально во всем (в характерах героев, их поступках, событиях, явлениях со стороны, в сюжетных поворотах и т. д.). Там — сам жанр этого требовал, тем более, что об особенностях пушкинской «сказочности» уже не мало и очень хорошо было сказано.26
В пушкинских стихах несколько аллегорического плана, не столь уж у него частого («Пророк», «Эхо», «Арион», «Анчар»), — явление чуда, неожиданного «вдруг» с последующим волшебным действием, также можно было бы объяснить спецификой библейско-символической аллегории. Но само появление «шестикрылого серафима» — на земле, перед человеком («Пророк») — не только поэтическая метафора волшебной неожиданности в одном из библейских мотивов. В тексте это и совершенно буквальное схождение с небес на землю определенной фигуры (из мира небесного в мир земной), с определенными целями и реальными, конкретными для их выполнения последовательными действиями (вырвал язык, вложил в уста, вынул сердце, вставил угль, сказал и т. д.):
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы...
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон...
..................
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык...
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.(II, 338)
Но вот когда появляется это неожиданное «вдруг» в финале исторической трагедии — «народ безмолвствует» — причем, уже не в виде фигуры, а как массовый жест, как неожиданный для основных действующих лиц исторической драмы отказ от действия людей, прежде весьма шумно и активно выражающих свое мнение:
- 34 -
Народ! Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.
(Народ в ужасе молчит.)
Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
Народ «безмолвствует» (V, 322), —
даже сам автор, причем, также внезапно, неожиданно для себя, тоже «вдруг» осознает, что нежданно-негаданно — угодил в главный узел нерва всей русской истории, в крепко завязанный узел ее «загадок».
Отсюда — «Ай да Пушкин,..». — Слова, говорящие о его собственном, писательском «чуде» перед самим собой как автором исторической трагедии («истинно романтической», — по его собственному определению, которое он не раз подтверждал в своих письмах друзьям).
Столь же неожиданным «вдруг» явился для автора поступок его любимой героини из романа в стихах, на который он отреагировал столь же непосредственно и откровенно: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна. Она замуж вышла...».
Но Татьяна в романе Пушкина «удирает штуку», говоря словами автора, или действует «вдруг», уже не в первый и не в последний раз.
Само явление Татьяны, как и появление ее в сюжетных ходах романа («в деревне, где скучал Евгений», в семье Лариных, в московской родне, на ярмарке невест, в высшем свете Петербурга в роли жены «важного генерала») — почти всегда неожиданность, «чудо».
Подробно разбирая вторую главу пушкинского романа в стихах, В. С. Непомнящий замечает, как «вдруг случается неожиданное»: автор «обрывает себя буквально на полуслове», отделываясь от портрета Ольги «в самой решительной форме» («Но надоел он мне безмерно»); «в поведении автора появляется свобода — ничем в тексте не обусловленная, ничем не подготовленная и не объяснимая. Это и есть чудо»...
...Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.
-----------
Ее сестра звалась Татьяна...27По мнению пушкиниста, явление Татьяны в «Евгении Онегине» «не подготовлено ничем — ни общими законами романного повествования
- 35 -
(Ленский), ни сюжетной мотивировкой (Ольга), ни необходимостью в среде или фоне (Ларины). Другие персонажи должны были появиться, чтобы повествование состоялось, — Татьяна могла бы не появиться... Ее возникновение не вызвано никакой повествовательной необходимостью — оно вызвано свободой, обрушившейся на автора вдруг» (подобно упоминаемой В. С. Непомнящим свободе импровизатора в «Египетских ночах»).
«Татьяна свободно явлена ему. Явление окружено тайной — и для самого автора оно тайна; он даже не сразу находится как назвать ту, что ему явилась» (там же, 48—49).
В семье она не похожа ни на кого из родных — интересами, поведением, обликом:
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.В душе Онегина, скучающей, байронической, она пробудила «давно умолкнувшие чувства»; в светских разговорах московских домов, куда возят Татьяну, и где «всех в гостиной занимает / Такой бессвязный, пошлый вздор», («И даже глупости смешной / В тебе не встретишь, свет пустой»), —
Один какой-то шут печальной
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.(V, 161)
А в не менее скучной и тягостной для Татьяны обстановке у московской родни — рядом с ней («печальной», «идеальной») вдруг появляется реальное лицо из жизни, из близкого самому поэту окружения:
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.(V, 161)
Один из самых близких Пушкину друзей, надо думать, не без авторского внутреннего импульса «подсел» к любимой героине своего друга, чтобы хоть как-то скрасить ее пребывание в столь тягостных для нее обстоятельствах.
- 36 -
Как известно из воспоминаний современников, князь Вяземский был человеком леноватым, и по своей воле и охоте он вряд ли бы стал «занимать душу» не знакомой ему провинциалки.
Второй раз в «Онегине» среди действующих лиц появляется лицо реальное, из дружеского круга самого автора. — Первым был упомянутый автором в первой главе «Онегина» — и для Онегина — Каверин:
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.Остальные реальные лица — друзья, знакомые автора, — если и появлялись в романе, то не в его сюжете, не в качестве действующих лиц (пусть даже эпизодических), и не для них, то есть не для героев, а лишь в авторском воспоминании или упоминании о них. Во взаимодействие же с героями произведения, пусть даже мимолетное, они не входили. Не составляет исключения в этом плане и один из соседей Лариных:
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком, —как аттестует автор героя поэмы своего дядюшки В. Л. Пушкина «Опасный сосед».
Появившись на именинах Татьяны, на правах одного из приглашенных соседей, он возникает не по нужде автора для кого-либо из героев, а для читательского представления об общем колорите лиц и фигур гостей на балу у Лариных:
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все.
И бал блестит во всей красе.Перед нами, в мире Татьяны (странном, необычном, чуждом общепринятому), вдруг появляется, только для нее — друг самого автора, чтоб «душу ей занять».
Здесь тот самый особенный случай художественного мира Пушкина, которым был так пленен Алеша Пешков еще в детстве (удивительно органическое сочетание в поэзии Пушкина двух, самих по себе противоположных качеств: волшебного и — реального; «сказки», «чуда» — и — «чеканной правды»). А в зрелости назвал это «органическим слиянием романтизма с реализмом».
- 37 -
В Петербурге, на балу, Татьяну по особому воспринимает все общество высшего света:
К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале...(V, 172)
И что — самое важное для образа Татьяны, и для сюжета, более того, самое удивительное — это полная неожиданность для автора — поступка его же героини: «Этого я никак не ожидал от нее».
Главного героя («героя моего романа»), автор, сразу представив читателю («Онегин, добрый мой приятель») и наделив чертами, близкими своей натуре и в быту, и в характере (в определенный период), — по ходу движения сюжета старается все более различить от себя
Чтобы насмешливый читатель...
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,..
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.(V, 33—34)
Последующее дистанцирование автора от героя внутренне мотивировано весьма органично: с перемещением Онегина в деревню появляются новые лица, законно требующие авторского представления их читателям, а развитие событий (объяснение с Татьяной, дуэль с Ленским) столь же закономерно удаляет Онегина на долгое время из сюжета.
Но с характерами главных героев за период увеличения дистанции между ними, не только временной, но и событийной, также происходит нечто неожиданное, хотя и весьма внутренне закономерное. Онегин, прежде весьма далекий Татьяне — образу ее жизни, интересам, складу характера, — начинает проявлять себя и, соответственно, характеризоваться и автором, и светом, словесно, и чертами, весьма близкими Татьяне первых сцен ее появлений в романе:
- 38 -
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.(V, 168)
Отсюда весьма естественно и органично, что и поступки Онегина становятся подстать поступкам Татьяны (письмо, и не только по факту его написания, но и по содержанию; состояние после письма, в ожидании ответа; реакция на ответ Татьяны в финале романа). Отношение автора к своим героям в этой второй сцене их объяснений также подобно его отношению в первой сцене, после письма Татьяны.
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь-в-точь.«Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!»И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.Она вздрогнула и молчит,
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно все...Перед нами — та же кольцевая композиция, то же схождение конца с началом (в сюжете), та же парность (в образах), что и в трагедии «Борис Годунов»28, в пушкинских поэмах и сказках; словом, та же особенная внутренняя организация произведения, пушкинская структурная гармония («гениальность плана», если сказать его выражением о «Божественной комедии» Данте).
Но в «Евгении Онегине», романе в стихах, это совершается при открытом финале, что не был присущ остальным жанрам упомянутых
- 39 -
выше пушкинских произведений, а станет потом (опять же после Пушкина) характерен для русского романа в целом (теперь уже прозаического).
***
«Евгений Онегин» — как ни покажется парадоксальным наше утверждение — несомненное предвестие «Повестей Белкина».
Предвестие — и по счастливой все же развязке, счастливой для судеб героев, что едва ли не самое главное: сохранены и обоюдные чувства двух главных героев, Онегина и Татьяны, именно в последней сцене окончательно проявившие себя как ответные; остался не разрушенным и семейный мир Татьяны и ее мужа; сохранена и онегинская свобода.
(О другом типе пушкинских счастливых концов — в «Повестях Белкина» — Анна Ахматова выразилась так: «happy end-ы, или, вернее «игрушечные развязки» при самых неблагоприятных обстоятельствах, когда уже ни на что ни рассчитывать, ни надеяться нельзя».29 Но концы эти в «Повестях Белкина» были не только «игрушечными развязками»; они еще и развязки — сказочные, с народной верой в то, что все должно хорошо кончиться. Иными словами, это пушкинские «вдруг», где случай выступает как «мощное, мгновенное орудие провидения» в сюжетах и характерах его героев).
Предвестие — и по позиции автора в композиции произведения. Его свободно и вольно развернувшееся, как ни в одном другом до этого жанре, авторское «я», столь всеобъемлющее по интересам, образу жизни, многосторонности «отзвуков» и «откликов» на «каждый звук» (как гипотетический образ поэта в стихотворении «Эхо»), — это авторское «я» было чрезвычайно привлекательно и интересно для читателя (не менее, чем «роман героев») в своих художественных выражениях и гуманистических чувствиях, в своей «болтовне», решительно обо всем и обо всех — делах, явлениях природных и житейских, проблемах современной жизни и ее современниках (не случайно Белинский определил роман Пушкина как «энциклопедию русской жизни»).
Потому оно естественно и органично удерживалось в кругу его главных героев, и само, как центр внутри окружности, удерживало равный
- 40 -
интерес читателей ко всем троим лицам, родственным в романном пушкинском мире. Герои ромна в стихах Пушкина были вровень автору, «родственны» по натуре и устремлениям (Онегин — «добрый мой приятель», Татьяна — «милый идеал»).
Не удивительно, что Пушкин настойчиво и не раз повторял: «Евгений Онегин» — «лучшее мое произведение» (Л. С. Пушкину. Январь (после 12) — начало февраля 1924 г. Из Одессы в Петербург: «Может быть, я пришлю ему (Дельвигу. — Л. К.) отрывки из «Онегина»; это лучшее мое произведение» — Х, 81; А. А. Бестужеву. 24 марта 1825 г. Из Михайловского в Петербург: «Твое письмо очень умно, но все-таки ты неправ, все-таки ты смотришь на «Онегина» не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое» — Х, 131).
Художественный мир «романа в стихах» — мир красоты и свободы отношений автора с героями и читателем, «свободы и воли» каждого в своих проявлениях и также по отношению друг к другу — являлся идеалом для мира человеческих отношений.
Главные его герои — любимы автором, в чем он не раз чистосердечно признается читателям:
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!...Хоть я сердечно
Люблю героя моего...Признается, извиняясь перед ними, что, увлекшись, в первом случае — сочувствием героине —
Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит! —надолго занял внимание читателя мрачными картинами:
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.(V, 86)
А во втором случае, с Онегиным, напротив, извиняется, что неожиданно оборвал разговор о нем —
- 41 -
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам.
Но не теперь.Не в первый и не в последний раз автор неожиданно, «вдруг» оставляет героя: после сцен его петербургской жизни, перед поездкой в деревню (конец главы первой); перед объяснением Онегина с Татьяной после ее письма (конец главы третьей); после дуэли Онегина с Ленским (конец главы шестой); в финале романа, после объяснения героев (конец главы восьмой).
Всякий раз это весьма органический, естественный антракт, необходимый и лично каждому, и всем вместе участникам этого удивительного тройственного союза свободных и, вместе с тем, по-домашнему близких и по-семейному родственных друг другу личностей, — родственных в художественном мире романа в стихах.
Сюжетно антракты происходят перед каждым новым жизненным этапом героя, автора, читателя.
После первого, петербургского, великосветского периода и перед поездкой в деревню, когда должна произойти смена образа жизни героя, и в преддверии новых обстоятельств автору очень удобно поговорить с читателем о разнице «между Онегиным и мной». — Суета и общий ритуал светской жизни, описанные в главе первой, сводил на нет эти различия, да и не было нужды в тех условиях их подчеркивать: общего было так много (в образе жизни, увлечениях, отношении к моде и т. д.), что автору даже приятно было вспомнить обо всем этом по удобному, весьма к месту подвернувшемуся случаю. И самому вспомнить, и увлечь читателя общими увлечениями (или воспоминаниями), — если они были. Если — нет, то дать ему представление обо всем этом (начиная с «кабинета» героя, театра, «званых вечеров», «науки страсти нежной», — всего того, что составляло вихрь светской жизни и являло интерес для автора и героя в годы молодости, когда оба были и «молодыми повесами», и «науку страсти нежной» знали «лучше всех наук», увлекались и капризами моды, вплоть до «красы ногтей» и т. д.). Благодаря этому автор мог повести разговор о герое не только как «добром приятеле» лично его, автора, но и как о близком человеке и читателю:
...мой приятель
Родился на брегах Невы,
- 42 -
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель?
Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня.(V, 10)
Сразу попадая в атмосферу этих близких отношений, мы получаем и первоначальные представления об отличии (знаем, что автор не родился «на брегах Невы», но читатель — «быть может», и родился, или — во всяком случае — «блистал» в том свете, где автор «некогда гулял», и в прямом, и в переносном смысле. И в этом втором, переносном смысле, «Север» и оказался «вреден для меня»).
Первый антракт происходит после непосредственных впечатлений читателя от героя и автора, когда почти в каждой сцене автор делился и своим впечатлением, и своим отношением, в целом — достаточно близкими (и к «кабинету» Онегина, где он «одет, раздет и вновь одет», и к образу жизни — «Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут», и к театру — «Волшебный край! Там в стары годы...»), хотя и отличающимися: «И молвил: «Всех пора на смену; / Балеты долго я терпел, / Но и Дидло мне надоел» (V, 14, 16, 19).
Это позволяет читателю познакомиться с двумя характерами, имеющими так много общего («молодой повеса», отношение к наследству и т. п.) и, вместе с тем, почувствовать между ними и разницу.
Вторая «передышка» происходит перед сценой объяснения в саду Онегина с Татьяной; это именно «передышка» — в буквальном смысле слова — для всех.
И для героини, после столь напряженных переживаний, вызванных ее чувством к Онегину, объяснением в письме, ожиданием ответа и — неожиданным его приездом.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
- 43 -
Куртины, мостики, лужок.
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью,
И, задыхаясь, на скамьюXXXIX
Упала...
«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»(V, 75)
XLI
Но, наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла...Передышка необходима и автору.
Ему, «любящему сердечно» своих героев и переживающему за каждого из них, понадобилось немало душевных усилий, чтобы перевести для читателя с французского на русский письмо Татьяны, поразившее его самого.
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор,
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять.(V, 69)
Авторское удивление богатством чувств в письме Татьяны — весьма отличается по восприятию автором же поведения Онегина в свете в первой главе романа:
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать...
- 44 -
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять...Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!..(V, 13—14)
Но — что любопытно и важно: лексика и стилистика, черты и приемы письма Татьяны («и эта нежность, и слов любезная небрежность») — удивительно близки.
Только там все это шло от знания «науки страсти нежной», здесь — от непроизвольно нахлынувшего истинного чувства.
И это — еще одно из «тайных», «скрытых», но зароненных в душу читателей (очень может быть, что им пока и не замеченных, но автором — уже зароненных) «сближений» натур Татьяны и Онегина; одна из органических мотивировок к последней финальной встрече, где ответность чувств героев выступит открыто, почти в повторных формах выражения (при обратной направленности).
Все вместе взятое рождает заключительные строки третьей главы:
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.(V, 77)
И это авторское, также как и у героев «романа героев» (определение С. Г. Бочарова) очень искреннее состояние и желание, длится шесть полных онегинских строф. — Глава следующая, четвертая, начинается сразу с VII строфы (первые шесть — I, II, III, IV, V, VI — автором пропускаются). И начинается она, как начинался роман, «симметрично» (выражение Д. Д. Благого и В. С. Непомнящего по отношению к структуре «Бориса Годунова»): эпиграфом.
Далее, также симметрично первой главе, следует афористическая сентенция:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
- 45 -
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.(V, 78)
Но не в форме прямой речи героя, как было в его тираде о дяде («Мой дядя самых честных правил...»). Что она принадлежит не автору (точнее, не только автору), мы узнаем из следующих за ней слов автора, также симметричных первой главе.
Там прямую речь героя заключали авторские слова:
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых...Здесь — мы узнаем, что это мысли героя, а не самого автора («Так точно думал мой Евгений»), лишь по прочтении целых двух онегинских строф (28 строк стиха).
Но что так думал не только герой, но и автор, нам уже было ясно из косвенной формы речи (для автора — почти прямой, с принятой формой множественного числа «мы»).
Подобно передышке Татьяне на скамье, эта авторская передышка-переключение в повествовании объясняет и подготавливает к очень ответственной для всех участников сцене объяснения, и не только Онегина с Татьяной, но и автора с читателем.
Ответственной, поскольку она завершается обращением к читателю в форме излюбленного автором вопроса, с приглашением присоединиться к его, авторскому мнению:
Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель.(Кстати, заметим: теперь Онегин, после всего сказанного о нем автором, уже и «наш приятель», а не только «мой приятель». — Л. К.)
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего.(V, 83)
Продолжая разговор об Онегине, автор с доверием переводит
- 46 -
его в русло теперь уже общего, важного и, как он понимает, больного для всего теперешнего «дружества» в мире романа вопроса — о верных друзьях:
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.(Там же)
Но не странно ли, что читатель вводится автором в положение «дружества» при весьма, казалось бы, мало располагающих к этому обстоятельствах?
Только что, до этого, он, как будто, установил дружеские отношения с читателями (а перед этим — с героями), называя их теперь «друзья мои», «милые друзья» (правда, не в первый раз:
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас: —так приглашал автор в первой главе «Онегина» прежних своих друзей-читателей к «дружеству» с героями нового произведения).
Установил — и по отношению к герою, призвав читателей согласиться, что «очень мило поступил с печальной Таней наш приятель»; и по отношению к себе, введя читателя в мир своего не только образа жизни, своих увлечений (как было в первой главе), но и своих переживаний (в мир мук дружбы, которые, видимо, не менее болезненны, чем любовные переживания), — и — вдруг — следует большой пассаж о «друзьях», от которых «спаси нас боже», а вслед за ним еще и о родных:
Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
- 47 -
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.(V, 84)
И автор разъясняет...
Кажется, читатель теперь совсем уж запутывается во всех предложенных ему автором отношениях и соотношениях: то — как будто все сближались, то, вдруг, автор его «просвещает», и что такое друзья, и что такое родные. И оказывается, что это нечто совсем обратное тому, что должно быть и что здесь же, только что, совсем недавно проповедовалось автором. (А поскольку только что, перед этим, им же, автором, было сделано к нему, читателю, обращение: «Друзья мои», то читатель теперь может трактовать это и как насмешку автора над своим же, дружеским к нему, читателю, обращением).
И совсем уж странным может показаться предложенный вывод автора на им же поставленный перед читателем вопрос:
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?..И вывод, как мы знаем, таков:
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.(V, 85)
А далее, без каких бы то ни было дополнительных, связующе переходных моментов, автор вновь возвращается к своим героям.
Но в этом таился не авторский «подвох», а скорее нечто обратное: автор доверяет читателю свои переживания (о своих «друзьях»), как в начале романа герой доверял автору свои мысли о родных («Мой дядя самых лучших правил...»).
И неожиданным как бы «напоминанием» о том начале, где Онегин в прямой речи о своем «дяде» (а здесь автор о том, что такое «родные»), возвращаясь к прежнему, он переходит на новый
- 48 -
мотив в сюжете и новый характер в отношениях с героем и читателями.
После такого, не без доброго юмора и доли иронии как бы легкого «проигрывания» темы «друзей» и «дружества», заново устанавливаются еще более крепкие, чем были поначалу, связи между всеми членами этого поэтического союза (автор, герой, читатель).
И для самого автора появляется возможность, более того, необходимость, при таких отношениях доверия дать волю не только героям, не стесняя их той самой «логикой характера и событий», которая станет непременной во второй половине XIX-го века в русском реалистическом романе, но и себе. Позволить себе такую же свободу и волю: порой — необходимость «и погулять, и отдохнуть» (как перед сценой объяснения героев), порой — в конце шестой главы, после гибели Ленского на дуэли с Онегиным, — прямо объявить читателю, что «мне теперь не до него» (не до Онегина. — Л. К.):
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.(V, 137—138)
Чувствуя и осознавая, что не только для героев прошел жизненно важный этап, что вместе с ними и для него, автора, прошла пора беззаботности («Ужель мне скоро тридцать лет?»), поэт чувствует и необходимость, и желание проститься с собственной юностью; проститься до того, как он вернется к судьбам своих героев, также, как и он сам, повзрослевшим:
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе гонят...И, переведя разговор на себя и о себе, он исповедуется перед читателем в своих чувствах и переживаниях:
- 49 -
Ужель и впрямь и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?Простившись с юностью и поблагодарив ее, автор сообщает:
С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.(V, 138)
Между автором, героями, читателем в пушкинском романе в стихах возникает тот удивительный союз — домашний, «семейственный», какого не встретишь более в других его произведениях, и каковой наиболее органичен поэтической натуре писателя. Он аналогичен союзу «святого братства» лицейских товарищей в жизни Пушкина. Все его участники — родственны по благородству своих натур, как родственны были лицейские друзья «священного братства» по высоте своего духа.
Другие произведения Пушкина могли иметь в своей основе иные импульсы к возникновению внутри себя художественного мира. Это и «интерес событий» исторических, как в «Полтаве», «Медном всаднике», «Капитанской дочке»; либо интерес положений, неожиданных случаев, жизненных происшествий, как в «Пиковой даме», «Графе Нулине», «Русалке»; или «интерес характеров» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь») и многое другое.
Но такого гармоничного союза трех абсолютно суверенных в своих функциях лиц, вольных в действиях и органичных в поведении, союза, для существования которого вовсе не обязательны события (хотя они, как это обычно и бывает в жизни, происходят и в «Евгении Онегине», но не ими определяется пафос романа в стихах) — больше нет ни в каком другом произведении. В таком качестве и виде образ автора не мог и не должен был повториться.
Он возникал и воссоздавался соответственно и жанру (от «поэмы романтической» к «роману в стихах»), и героям. И на протяжении произведения оставался адекватен им.
- 50 -
В свое время Д. Д. Благой, пораженный множественностью жанровых и стилевых переходов творчества Пушкина, говорил о необходимости найти логику этих переходов.
Думается, что внутренней пружиной этих переходов у Пушкина является его авторский протеизм, иными словами, неуловимая эманация образа автора, его вечное движение, смена повествовательных обликов перед читателем и прямо на глазах читателя. Причем, смена — очень-таки естественная и органическая, вызываемая законами художественного мира каждого нового произведения, законами его жанра и стиля.
«Домашность истории», «семейственность» ее — один из самых ярких, особенных, ключевых моментов пушкинской лиры, удивлявших как историков (Тарле, например, о чем специально ниже), так и литературоведов-пушкинистов (Ю. Тынянова, Д. Благого, В. Непомнящего и других). И, конечно же, моментов самых неповторимых (во всяком случае, для всей послепушкинской художественной истории словесности, вплоть до дня сегодняшнего, и, по всей видимости, не только для отечественной).
Байроновский тип классического романтического героя, тождественного автору и противостоящего другим героям и среде, был чужд натуре Пушкина в принципе, что явно сказалось уже в его южных романтических поэмах, как в самом тексте, так и в авторских комментариях к ним. В остальных жанрах — до «романа в стихах» — авторское «я» проявлялось соответственно жанрам.
В своей «свободе и воле» художественного мира «романа в стихах» оно дошло до той границы, за которой логично следовала для Пушкина необходимость своеобразной эманации образа автора (говоря словами В. Сквозникова относительно лирики Пушкина — необходимость «отчуждения образа лирического переживания»). Эманации (или отчуждения) в две, по своей сути противоположные (для Пушкина — органично соединенные «гармонией контраста»), как бы полярные фигуры: волшебную Белочку из «Сказки о царе Салтане» и — прозаически реалистического, хотя и почти безличного рассказчика Белкина в «Повестях Белкина».
Первая фигура — Белочка — своеобразный потомок «кота ученого» из «Руслана и Людмилы»; но, в отличие от него, свободна от «цепи» (хотя бы и «златой»), хотя и охраняема приставленной к ней «стражей»; но охраняема, опять же, не из опасения, что она
- 51 -
может «выдать» не ту «песнь» или «сказку», будучи абсолютно свободной и независимой, а, напротив, — из-за ценности ее «честного ремесла».
Оно для нее — и любимое, и полезно необходимое для существования, самой ее природой предназначенное творческое занятие, лишь опоэтизированное законами жанра сказки:
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет,
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд.(IV, 443)
Для обитателей сказочного острова Буяна «затейница» Белочка — и поэтическая, и, одновременно, экономическая основа сказочного богатства этого удивительного острова:
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да подспуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты....(IV, 443—444)
Почти безличный рассказчик Белкин из «Повестей Белкина» по своей авторской функции — также потомок более ранней фигуры повествователя в творчестве Пушкина: нейтрального летописца Пимена. Но — уменьшенный в своей роли и в своем задании: не в качестве «свидетеля» и не «Господом поставленный», он создает не летопись исторических событий Государства Российского, не «сказанье»
- 52 -
о них, а пересказывает мелкие житейские случаи, «повести», «слышанные им от разных особ». («Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ» — VI, 83).
Эти реальные случаи маленьких житейских происшествий, со счастливыми развязками — противоположны крупным историческим событиям с трагическими развязками. Но в системе пушкинского поэтического и исторического мышления они столь же важны и значительны, как и дела государственные. Хотя «имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околодка... не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения», — как считает или констатирует друг покойного Ивана Петровича Белкина в своей справке о нем издателю.
Он же характеризует умершего Белкина весьма положительно: «я...искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного». «Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств... стыдливость была в нем истинно девическая» (VI, 82). — Характеризует качествами, весьма близкими тем, коими автор «Бориса Годунова» представлял читателям своего летописца Пимена: «В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое...» (VII, 74).
В первой, почти юношеской своей поэме «Руслан и Людмила» (1817—1820 гг.), которую Горький не без прозорливой точности назвал «сказкой», сказочны были и многие ее герои, и сюжет, и фигура поэта-повествователя, поданная в зачине и в конце поэмы совсем в духе и стиле русских сказителей-сказочников:
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...(IV, 12)
- 53 -
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.(IV, 13, 99)
Уже здесь появляется поэтическая метафора («кот ученый»), фигура, в которой сокрыто (но угадывается, ибо весьма напоминает) положение автора в тот период и еще больше потом: прикованность цепью, хотя и к дубу, хотя и «златой», но цепью, обрекающей на хождение «по цепи кругом». Сокрыто, но угадывается и положение, и — поведение согласно профессии:
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.(IV, 11)
(Напомним: поэмы Пушкина были разделены на «Песни». И даже «Евгений Онегин» поначалу писался в череде «песен»: в письмах друзьям и родным Пушкин, сообщая о работе над «Онегиным», оповещал, что написал «Песнь первую». Отказ от разбивки нового своего творения на «Песни» происходил по мере перерастания «Онегина» из поэмы в жанр «романа в стихах».)
В ранних романтических рассказах юного Горького, явная близость которых к пушкинским южным поэмам не раз прослеживалась исследователями30, присутствует несомненный элемент учения у Пушкина, как присутствует в пушкинских южных поэмах элемент подражания Байрону, его романтическому мировосприятию и мировыражению. Именно — элемент. Уже сам поэт, после написания «Кавказского пленника», сделал заключение: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (В. П. Горчакову. — Х, 49).31
«В герои романтического стихотворения» (романтического на старый лад, как «гордости поэт»), — Пушкин, с его протеистической натурой, живо откликавшейся на «каждый звук», — разумеется, не годился. Как не годился он для главных героев всех своих южных поэм, произведений, безусловно, романтических, но еще не в пушкинском понимании «истинного романтизма».
Готовясь к лекциям по русской литературе на Капри и перечитывая Пушкина в этот зрелый период своего сугубо реалистического творчества (1903—1909 гг.), Горький выделяет из пушкинского комментария к
- 54 -
его романтической поэме «Кавказский пленник» следующее, весьма прозаическое (не без оттенка иронии) объяснение того, почему герой не бросился спасать черкешенку. «Другим досадно, что Пленник не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в кавказских реках, — тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь; мой пленник человек умный, рассудительный, он не влюблен в черкешенку». И добавляет свое авторское, обоснованное жанром, стилем, наконец, характером героя заключение: «он прав, что не утопился» (П. А. Вяземскому, 6 февраля 1823 г. — X, 56).
В герои «истинно романтической трагедии», как называл Пушкин «Бориса Годунова», «годились» лишь реальные лица русской истории того времени. Туда «сгодились» его предки Пушкины, выведенные в драме. Но, по законам исторической правды, они не могли быть (и не были) главными действующими лицами народной трагедии, хотя были несомненными ее участниками (ср. тексты «Бориса Годунова» и «Моей родословной»).
А лицо и фигура автора в «Борисе Годунове» — по роду драматического жанра — могли (и должны были) оставаться невидимыми; подобно героине его первой поэмы, автор и мог, и должен был скрываться — до нужной поры — под шапкой-невидимкой, для исполнения функций которой очень-таки «годились» две настолько различные до противоположности фигуры в самой драме (летописец Пимен и Юродивый), что современники Пушкина вряд ли могли бы сразу догадаться, кто скрывается под ними. Как показала жизнь, и не догадались, хотя автор напечатал Монолог Пимена, с целью представить читателям характер, который должен им быть близок («все вместе нов и знаком для русского сердца»), а о юродивом, устами которого передавал свое мнение о царе Борисе («Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит») писал Вяземскому: «никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (Х, 189).
И — переход — к «Повестям Белкина» — всем ходом предшествующих форм повествования у Пушкина — совершился весьма органически, по естественной необходимости. Широчайшая шкала соотношений автора и героев пушкинской поэзии «сжалась» в прозе «чудесным образом» в одну.
Но внутри себя она не могла не сохранить искры «чуда», «волшебства» (отсюда в «Повестях Белкина» счастливые развязки и ряд других моментов «чудесности»).
- 55 -
Пушкинский «свет» в прозе Горького.
Не только горьковское восприятие Пушкина, его характеристики и оценки проникнуты этим чувством явления гения в русской литературе — как «чуда» (при всей его закономерности и подготовленности).
Им же, этим чувством и этим видением, как светом неожиданно, «вдруг» явившейся звезды, оказался проникнут и весь художественный мир Горького.
Для творчества Горького существенно и органично неожиданное появление в рассказе — пушкинского света. Когда «чудо», его «вдруг», незаметно войдя вглубь структуры повествования, органично растворившись в ней, «вдруг» озарит прозаические, серые, зачастую даже злые будни тяжелой жизни, с их тягостными для человека событиями и гадкими его же, человека, поступками. Озарит изнутри произведения — видимой неожиданностью иных, благородных поступков героев, непредвиденностью обстоятельств, непредсказуемостью поворотов в сюжете.
Это возникает как свет волшебной звезды, неожиданно появившийся и преобразивший и героев, и окружающий мир, как яркие стихи внутри скучной прозы, как праздник жизни среди ее будней.
В конечном счете, во всех этих случаях у Горького как бы вспыхивает воспоминание о первой встрече с Пушкиным, с его поэмами еще в детстве (воспоминание об ощущении при выходе из болотистого места на «сухую, солнечную поляну, полную цветов и солнца»).
Это мы видим и в «Рождении человека», и в «Рассказе о безответной любви», «Страстях-Мордастях» и многих других произведениях, весьма будничных и прозаических по сюжету и характерам героев.
Не единожды появляется это и в отдельных сценах его крупных романов — в автобиографической трилогии, в «Деле Артамоновых», «Жизни Клима Самгина» и других, когда в сюжет или в облик героя, его поведение, характер врывается нечто удивительное, непривычное для ситуации, фабулы или натуры героя — яркое, необычное, светлое.
Для самого писателя Горького это «чудо» есть «свободно явленный акт» творчества (в изображении ли природы, человека, или
- 56 -
предметов и явлений окружающего его мира), будь то рождение произведения искусства, или необыкновенных человеческих чувств, подвигов, в высшей степени благородных поступков и других нежданно-негаданных проявлений, делающих вдруг человека — Человеком, преображая своим творческим актом будни его жизни — в сказку, и вызывая у самого героя (или его автора) — удивление перед собственным, сотворенным своими же руками или поступками — «чудом».
«Это было на тихой улице Арзамаса, пред вечерней, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньских будней», — так начинается маленький рассказ Горького «Как сложили песню». «В пруду, за садом нашей улицы, квакают лягушки странно стеклянным звуком; назойливо плещется в жаркой тишине звон колоколов; где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув и задыхаясь зноем, старый дом соседа» (11, 290).
И в тон атмосфере этих сонных будней летнего жаркого дня на тихой улице провинциального городка — настроение и разговор двух женщин: дородной, рябой кухарки Устиньи, «хитрой, болтливой, сплетницы на всю улицу», и маленькой, «костлявой, угловатой горничной», похожей на «подростка». Ее детские «пухлые губы надуты, точно она обижена, боится, что сейчас еще больше обидят, и вот-вот заплачет» (11, 292).
Толчком к движению сюжета, выходу из атмосферы и состояния полудремы, служит письмо из дома, полученное горничной. Текста самого письма в рассказе не приводится, но смысл его становится известным из расспросов кухарки.
«— А еще чего пишут? — выспрашивает она мужским, но очень гибким голосом.
— Да ничего еще-то, — задумчиво и тихонько отвечает горничная, худенькая девица, с темным лицом и маленькими испуганно-неподвижными глазами.
— Значит — получи поклоны да пришли деньжонок, — так ли?
...А кто как живет — сама догадайся... эхе-хе...
...Родные... — а отойди от них на три версты — и нет тебя, и отломилась, как сучок? Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала... Бывало — глохнешь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне, а у меня и нет никого там: батюшка в пожаре
- 57 -
сгорел пьяный, дядя — холерой помер, были братья — один в солдатах остался, ундером сделали, другой — каменщик, в Бойгороде живет. Всех будто половодьем смыло с земли..» (290—291).
От общего чувства тоски по родной деревне и желания преодолеть ее у этих двух, совершенно разных по натуре женщин, вдруг складывается общая песня.
«— Ну-кось, Машутка, подсказывай...
— Чего это?
— Песню сложим...
И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает:
Эх, да белым днем, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце...»И складывается эта песня из двух противоположных по тону, смыслу и содержанию мотивов: у кухарки — желания радостей жизни, у горничной — грусти-печали по недавно оставленному дому. Но это не мешает ее цельности: два разных чувства органично соединяются в песню о жизни-судьбе молодой женщины, что помогает каждой по-своему, соответственно своей натуре, выйти из состояния тоски по дому, навеянной письмом из него.
«Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поет:
Беспокойно мне, девице молодой...
А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца:
Все тоскою сердце мается...
Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо
— Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу песни складывать. Как нитку сучить... Ну-ко...
Помолчав, точно прислушиваясь к унывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками:
Ой, да ни зимою вьюги лютые,
Ни весной ручьи веселые...Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую голову
- 58 -
на круглое плечо ее, закрыла глаза и уже смелее, тонким вздрагивающим голоском продолжает:
Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную...— Так-то вот! — сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. — А была я моложе — того лучше песни складывала! ....Ну, как дальше-то будет?
— Я не знаю, — сказала горничная, открыв глаза, улыбаясь...
Жаворонок над полями поет,
Васильки-цветы в полях зацвели,— задумчиво поет Устинья, сложив руки на груди, глядя в небо, а горничная вторит складно и смело:
Поглядеть бы на родные-то поля!»
«Улыбаясь», «складно и смело» — слова эти говорят о том, что тоска горничной по оставленному дому уже преодолена, изжита процессом складывания песни и выражением в ней своих чувств; остается лишь грустное желание «поглядеть бы на родные-то поля». И важно, что каждая в песню вкладывает свою душу, свое понимание, свое отношение, свои желания. Кухарка — все больше мечтает о радостях земных, горничная — о доме, но уже без тоски:
«И Устинья, умело поддерживая высокий, качающийся голос, стелет бархатом душевные слова:
Погулять бы, с милым другом, по лесам!..
Кончив песню, они длительно молчат, тесно прижавшись друг к другу; потом женщина говорит негромко, задумчиво:
— Али плохо сложили песню? Вовсе хорошо ведь..» (11, 292—293).
Рассказ «Рождение человека» начинается с авторского (он же рассказчик) описания яркими красками роскошной кавказской осени, вызывающей чувство восхищения творческими деяниями природы.
«Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный
- 59 -
храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:
— Твое — от Твоих — Тебе.
...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли» (11, 8).
И на этом роскошном фоне «безумно-красивого куска благодатной земли» рассказчику («да ведь и солнцу») «часто, очень грустно смотреть на людей: так много оно потрудилось для них, а — не удались людишки...» (там же).
О таких «неудавшихся людишках» повествует рассказчик. «Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей» (11, 9).
Чудо происходит, когда из среды этих «скучных, неудавшихся» природе людишек, — «скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами, синевато-серого цвета», — рожает ребенка. — Как бы совершает действие, противоположное и ее образу жизни, и ее внешнему виду. И — вносит от себя в эту красивую природу свой, не менее ценный дар («Тебе — От Твоих — Твое»), нечто такое, что превосходит даже все прочие богатые дары — новое, достойное и этой природы и, одновременно, преображающее ее самою: «нового жителя земли русской, человека неизвестной судьбы» (11, 17).
И — стирается, исчезает дисгармония «неудавшихся людишек» и роскошной природы, возникает почти что библейская картина их полной гармонии (природы и человека, матери и сына); гармония мира земного, человеческого и — художественного (автор-рассказчик делается бескорыстным соучастником этого творческого акта: на время, для воссоздания этой гармонии, становится бабкой-повитухой, принимая у матери-роженицы «нового жителя земли русской», омывает, купает его в море, потом сопровождает мать и сына).
- 60 -
Гармония общей красоты и общего творчества человека, природы, произведения искусства, картина гармонии миров (природного, человеческого, божественного), какой не было до этого — вселяет надежду и в рассказчика, которой у него в начале рассказа не было. Напомним. Наблюдая красоту природы осенью на Кавказе и описывая ее яркие краски, он заключал: «Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотою!». Но — тут же — и сетовал на несоответствие человека, «людишек» — природе. «Ну, да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а — не удались людишки...
Разумеется есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново» (там же).
Рождение ребенка и его активное утверждение в мире («этот красный человечище... сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним: — Я-а...я-а...») вселяет в рассказчика приятное чувство надежды на возможное преображение серой жизни серых людишек в будущем («Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...» — 11, 13). А преображение «желтой бабы», с «испуганно вытаращенными глазами», — в стыдливую перед чужим человеком женщину, «с изумительно ясными синими глазами», и нежную, заботливую мать, — решительно меняет контраст дисгармонии (природы — и людишек) на картину полной их гармонии.
Конец рассказа — почти картина «Святой Троицы» в словесном ее воссоздании: «Новый житель земли русской... человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.
Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх. Оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны. Снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.
Однажды, остановясь, она сказала:
- 61 -
— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж краю света, а он бы, сынок, — рос, да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...
...Море шумит, шумит...» (11, 17).
В начале другого рассказа Горького — «Страсти-Мордасти» — перед нами картина обратная: нагнетение темного, дурного, тяжкого и в природе, и в человеке. «Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, — топала и гнусаво пела скверненькую песню...» (11, 369).
В самой этой картине — все отвратительно: и время происшествия (душной летней ночью), и место (в глухом переулке), и действующее лицо — женщина, топающая в луже, разбрызгивая грязь, и даже испорченное ею произведение искусства — песня, которую она пела.
С развитием событий, когда сюжет начинает двигаться, картина лучше не становится, напротив, она делается еще гаже: женщина, не желая вылезать из лужи, дерется, скандалит, ругается. Из разговора со сторожем рассказчику становится известна и ее далеко не светлая личность, и ее совсем уж грязная профессия. Еще неприглядней оказывается ее жилище.
И — на этом фоне, совсем как чудо из совершенно иного мира — возникает лицо ее сына, с «неописуемым выражением его глаз — внимательных и спокойных» («нечеловечий взгляд» глаз, опушенных «удивительно длинными ресницами» — 11, 372).
Отвечая на вопросы рассказчика, мальчик повествует о себе, своих больных сухих ногах и об удивительной коллекции («зверильнице»), где каждое существо наделено именем и выделяется поведением. Рассказчик слушает детские характеристики людей, приходящих к матери (по ним-то герой чаще всего и нарекает обитателей своей «зверильницы»: иного знакомства с иным миром у него, лишенного возможности видеть жизнь вне этой комнаты — не существует), и ее самой.
Ему открывается никогда прежде невиданный в ребенке удивительный мир чувств: и снисхождения к человеческим недостаткам, и его сыновней любви к матери, поведение которой, казалось, этого не
- 62 -
заслуживает, и удивительного для его возраста понимания людской психологии и людских слабостей. От чарующей улыбки ребенка и всего его облика идет удивительный свет доброты к людям, снисходительного понимания их недостатков и — любви за их достоинства.
И еще ярче, сильнее врывается в эту тяжкую картину жути человеческого бытия и существования — неожиданный свет очарования, когда рассказчик слышит из уст ребенка — совершенно недетскую, очень мудрую оценку матери. «Она ведь добрая, только пьяница, ну, — на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь», — а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь» (11, 373).
И — ответное, столь же доброе отношение, по-матерински ласковое («утешеньице-то ты мое»), и также по-матерински слегка усмешливо снисходительное к его глупым, еще совсем детским вопросам: «А — слушай-ка! — бога делают где — в богадельне?
Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, — опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:
— О, — чтоб те... о, господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то — богомазы... ой, смехота моя, чудашка...» (11, 381).
«Какая ты дура, мой ангел!» — эти слова Пушкина из письма жене, Наталье Николаевне (12 мая 1834 г. — Х, 483), содержат в себе то, самое удивительное в Пушкине, органическое соединение нежной любви (к предмету своего обожания, «ангелу») с «чарующей улыбкой» к его маленьким, понятным и простительным человеческим промашкам (или слабостям), что создает особенную, редкую в мире человеческих отношений атмосферу взаимной нежности и очарования, поднимая обоюдное настроение чувств до гармонии высшего в человеке состояния, как бы озаряемого лучом улыбки видящего это и любующегося этой картиной истинно человеческих чувств и отношений (как они и были задуманы Им) в этот момент их воссоздания, любующегося, с высоты небесных сфер своим творением — самого его Создателя.
Видимо, не случайно А. Платонов, художник, особенно чуткий ко всему «родственному» в явлениях природы, общества, предметного мира — натуре человека, в своей статье к столетию гибели Пушкина
- 63 -
и годовщине смерти Горького (1937 г.) — вдруг неожиданно сопоставил этот рассказ Горького — с пушкинским «Евгением Онегиным».32 Видимо, он уловил в горьковском рассказе — свет пушкинской «чарующей улыбки», снисхождения к слабостям сквозь любовь к достоинствам и, вместе с тем, без утраты истины, не поступаясь реальностью.
Неожиданное появление света у Горького предвещает пушкинское «диво» — в образе, характере или сюжете, — «чудо» преображения человеческого характера, действительности, природы — творческим актом (создание песни, рождение человека, проявление богатства человеческих чувств в фигурах мало к этому предполагаемых и т. п.).
Но стиль Горького почти всегда очень эмоционален («У Вас — «море смеялось». Чехов — Горькому). В нем, почти всегда, присутствует то, что по отношению к лирике называется критиками «лирическим героем».
Сам же Горький о себе очень точно сказал: «Я антропофил, геофил: для меня, прежде всего, существует человек и земля, на которой, работая, он создает для себя «вторую природу».33
Прозорливо точны слова Роллана — Горькому: «Самым замечательным у Вас, как художника, кажется мне то прозрение человеческой души — или природы, — которое на протяжении рассказа вдруг как молния озаряет огромную, погруженную во мрак равнину. Какой образ Волги! Он так необычен и, однако, правдив, он так неожиданен, но до такой степени пленителен, что испытываешь чувство, будто все это порождено твоим собственным воображением!..».
Оспаривая мнение В. Г. Короленко о сути таланта Горького («Я же говорил вам, что вы реалист»), Роллан из своих наблюдений делает неожиданный вывод, — неожиданный если не для самого художника Горького, то, по крайней мере, для его читателей и исследователей: «Короленко ошибался: в Вас живет крупный поэт, более крупный, быть может, чем наблюдатель-реалист. И поэзия эта подобна огненному следу, который оставляет на черном своде жизни Ваша пылкая душа».34
Видимо, это так и есть. Стихи писались Горьким свободно, с юных лет, в самых разнообразных стихотворных размерах, ритмах и рифмах, по самым различным поводам. Ранние стихи Горького очень
- 64 -
богаты по диапазону тем и разнообразию тональностей: интимные, гражданские, шутливые, сатирические.
Исследователи отмечали немалые художественные достоинства ряда его стихов: небанальность рифм, богатую аллитерацию, изобретательность рифмовки, свободное владение ритмом в белом стихе, чеканность афоризмов35; опору на фольклор многих народов (русский, украинский, татарский, башкирский, румынский, валашский, адыгейский, итальянский, скандинавский) и другое.
Перекликаясь своими мотивами и темами почти со всей предшествовавшей и современной Горькому русской поэзией, они имеют немало перекличек и с поэзией Пушкина.
Свобода любит красоту,
А красота — свободу.(254)
Нравится мне вся земля,
Но всего лучше на ней —
Вы, молодые цветы
Около старых камней.(Там же)
Напомним:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.Или:
О правде красивой тоскуя,
Так жадно душой ее ждешь,
Что любишь безумно, как правду,
Тобой же рожденную ложь.(80)
Это — почти афористическая перифраза одного из очень личных пушкинских мотивов в стихотворении «Признание»:
Алина! Сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви...
Но притворитесь! Этот взгляд
- 65 -
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!(II, 337)
Одно из самых ярких горьковских стихотворных произведений, «Баллада о графине ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ, украшенная различными сентенциями, среди которых есть весьма забавные» (последние приведенные строки — как раз из нее), перекликается с пушкинской поэзией рядом моментов: и темой (Клеопатры), и переадресовкой авторства — другому лицу (баллада имела подзаголовок, который почему-то не вошел в ее переиздания: «Приписывается Гюгу де Брюн, труверу доброго короля Рене, властителя Прованса» — 2, 582), и авторскими афористическими сентенциями.
Но сам писатель стихи свои не считал поэзией высокого плана, идеалом которой для него, уже с детства, стала поэзия Пушкина, с его «безошибочным тактом самовыражения» (В. Д. Сквозников36).
И потому опубликовал отдельно лишь малую их часть, и то в ранней молодости. А все остальное вставлял, к случаю, в свои прозаические и драматические произведения, приписывая их авторство своим героям или оставляя безымянными.
В письме к Г. А. Вяткину от 12 января 1935 г., предлагавшему издать стихи отдельной книгой, Горький так объяснял свой отказ: «Будучи правоверным прозаиком, я уничтожал их, печатал же в молодости лет — по легкомыслию, а позднее — лишь в случаях крайней необходимости и когда мог оклеветать кого-либо из героев, будто бы это его, а не мои стихи. Но все же написано их так много, что иногда они откуда-то выскакивают...».37
«Давно замечен и по достоинству оценен тот факт, что до Горького никто в русской литературе не вводил так часто стихи — в качестве произведений своих героев — в прозу и драматургию. Можно даже утверждать, что во всей мировой литературе нельзя найти другого великого прозаика или драматурга, у которого было бы столько героев-поэтов».38
Поэтическое начало горьковской художественной палитры, тонко подмеченное Р. Ролланом, продолжало проявляться в его прозе самыми разными видами и способами (в жанре, стиле, авторском начале, характеристике героев или событий, описаниях природы и особенно — в портретах).
- 66 -
Проза Горького — и не только ранних лет — надолго сохранила в себе тот особый, присущий лишь роду лирическому, отпечаток личностного отношения к героям и событиям, что в лирике определялся и выделялся многими ее исследователями как особое лицо художественного текста.
Этот «лирический герой» весьма заметен был и в рассказах Горького, рассмотренных нами выше (но при цитации — за ненадобностью — он нами не акцентировался).
Исключение составляет лишь «Жизнь Клима Самгина», произведение совершенно особенной формы повествования, можно сказать «безавторской»; там «лирический герой» исчезает из повествования вместе с исчезновением образа автора.
Думается, что и в этом — а именно в том, что Горький, при легкости владения стихом, способности разговора языком стиха, а не прозы, не стал тем не менее поэтом хорошего среднего уровня, а стал великим художником-прозаиком — невольную роль сыграл — Пушкин: после этого гения поэзии Горький не считал себя вправе быть и называться поэтом.
Молодому художнику, чье творчество складывалось на переломе двух веков — XIX-го и XX-го, знакомому с золотым веком поэзии русской классики и, одновременно, со всеми новыми веяниями, течениями и исканиями современной ему поэзии, в которых он весьма квалифицированно разбирался39, был присущ широкий спектр раздумий, сомнений и размышлений о предназначении поэта.
Все эти размышления о поэте и поэзии, об их роли и предназначении, отношениях с публикой и т. д. — вопросы, казалось бы, поэтические, очень близкие пушкинскому лирическому герою его ранних стихотворений, даже, можно сказать, общие с ним, — прерогатива горьковских произведений прозаических («Об одном поэте», «Публика», «Пузыри» и другие).
Не решаясь поднимать их в поэзии после Пушкина, не претендуя выступать в роли и звании поэта (хотя, как уже говорилось, исследователи открыли во многих стихах Горького немалое чисто поэтических достоинств), он передает авторство героям своих прозаических произведений. А сам, в роли автора, выступает в прозе зачастую не без эмоций, акций и реакций, характерных для так называемого «лирического героя», что оказывается вполне органичным, поскольку автор у Горького — чаще всего рассказчик о своих героях-спутниках,
- 67 -
то есть в прямом виде и смысле повествователь.
«Быть или не быть?» Если — быть, то — каким именно? Какую позицию — из всех существующих для художников слова — избрать? Какие стороны жизни и какими красками изображать? Как относиться к читателям, публике, к возможной известности и славе?
Этими и подобными вопросами озадачен юный художник слова в первых рассказах Горького («Об одном поэте», «Читатель», «О чорте», «Еще о чорте», «Пузыри», «О писателе, который зазнался», «Публика», «И еще о чорте»).
Ключевым в этом плане является рассказ «Об одном поэте», «который умер от нужды, не написав ни одной строчки», «умер оттого, что был не по-человечески честен», «не успев запятнать своей чистой души ни тайным, ни явным презрением к людям, ни поклонением самому себе, ни жадным желанием славы и ничем из того, что вытравляет из душ поэтов то божественное, что дает им право на внимание людей» (1, 331, 336, 331).
«То божественное, что дает им право на внимание людей», — очень возможно, что это и был идеал Пушкинского искусства поэзии, хранимый в душе этого молодого, начинающего поэта...
И потому предлагаемые поочередно тремя различными музами на выбор возможные позиции художника не могли принести удовлетворение юному поэту.
Он не хочет служить красоте холодной правды, где «нет ни печали, ни радости, ни добра, ни зла»; не хочет играть словами, которые «холодны и красивы, как куски мрамора» и из которых «создаются вечные творения, которыми могут наслаждаться только избранные умы и сердца», — иными словами, поэт не согласен видеть «высшую справедливость» в голой объективности, лишенной души. «Смотри, какие великие умы есть в жизни, но где — укажи мне — великие души», — отвечает он музе (1, 333, 332, 334).
Не близка герою рассказа и роль утешителя, предлагаемая второй музой: «Мои слова просты, легки, ласковы... Я сожалею. Я ободряю... И скорбь, и все желания твои ты перельешь в слова... я смягчаю и заставляю мечтать о лучшем, буди любовь, вот и все, что нужно» (1, 334).
Возражая музе, поэт высказывает свое понимание роли искусства поэзии: «Мечтать — это не значит жить. Нужны подвиги, подвиги!». «Люди забыли свое призвание быть великими...». «Нужны
- 68 -
такие слова, которые бы звучали, как колокол набата, тревожили все и, сотрясая, толкали вперед. Пусть будет ясное осознание ошибок и стыд за прошлое. Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болью и жажда будущего — страстным мучением»; «...полюбить — еще не значит помочь! Мало любить и смягчать; нужно ненавидеть и быть твердым» (там же).
Но и предложение третьей музы, музы сатиры, желающей наградить поэта словами, «как бичи и иглы терновника», действуя которыми и прогоняя людей сквозь строй «огненных упреков и ядовитых уколов совести», он мог бы «двигать людьми», сам оставаясь «холодным, как снег, и равнодушным, как камень», «не трогаясь их стонами», — не может найти отклика в его душе. «Это — страшно! — сказал мой поэт. У него было нежное сердце» (1, 335).
Решающую роль в отказе молодого поэта от всех трех предложенных музами позиций играет просьба самих слов: «Мы просим тебя, как честного и чистого, не насилуй нас! Не слагай из нас гимнов идолам и не отуманивай нами идеалов! Не делай нас двусмысленными, как делают многие из робости, другие из цинизма, третьи потому, что они низки душой... Не злоупотребляй нами, не злоупотребляй нами!..» (там же).
Из горьковских представлений в рассказе «Об одном поэте» вырисовывается идеал пушкинского образа поэта, чью цельность полноты, силы, многосторонности и искусства высшего класса — как, видимо, понял Горький из своих первых стихотворных опусов — он не смог бы воплотить в стихе.
Почти каждый стихотворный опус Горького, сам по себе и выразительный, яркий, порой даже весьма поэтический и оригинально построенный ритмически, все же часто — одногранен, подчинен одной мысли. Многосторонности и, вместе с тем, цельности, целокупности синтеза, иными словами, целостности и единства между тремя разными музами у «одного поэта» — не было. Каждая из них была музой одного определенного человеческого чувства, а не тем божественным светом (не шестикрылым серафимом), который явился герою пушкинского «Пророка» на перепутье (перепутье разных, многих дорог) и совершил с поэтом предписанные ему свыше «операции», отчего поэт стал способен «внимать» и небу, и земле, и подземному царству.
Но неожиданный свет в прозе Горького, о котором мы говорили выше — был, несомненно, того же происхождения.
- 69 -
Появление света в горьковских сценах будней есть как бы предвестие, точнее, весть, своего рода «знак» того божественного, светоносного «пушкинского» поэтического начала, которое, подобно свету небесному, идущему от бога в «Данае» Рембрандта, или на лице его же «Портрета старушки», или «Саскии» — озаряет и фигуры горьковских героев.
Это было почувствовано и уловлено Р. Ролланом. В ответ на самокритичное признание Горького Роллану в торопливости своей манеры письма, погоне за фактами и, в этой связи, о тайной своей мечте и идеале: «писать как Флобер», — Роллан, раскрыв Горькому истинные методы, которыми достигалось такое письмо у Флобера, насиловавшего свой талант, настойчиво убеждает его «оставаться самим собой»: «Ваша звенящая стрела несет в будущее вместе с криком отчаяния несчастной России свидетельство ее неистребимой жизненной силы, ее юное видение очень старого мира, и с отдельными светозарными вспышками тот гений разума и искусства, который выходит из мрака и хаоса. В моих глазах Вы стоите ближе к Рембрандту, чем к Флоберу, и Вы мне больше нравитесь именно таким».40
Многие и разные виды и формы появления пушкинского чудесного света, наподобие неожиданно вспыхивавшей огнями на Рождество елки, выступают в произведениях Горького в очень различных для героев и сюжета случаях и обстоятельствах, многообразными, порой необычными способами.
Но в последнем его романе, «Жизнь Клима Самгина», с главным героем, которого Луначарский метко окрестил «чертовой куклой», а Фадеев столь же метко определил «монументальным ультрасредним», человеком, лишенным способности очаровываться (серое восприятие Москвы, Петербурга, раздражение от Кавказа, сухая реакция охолощенных чувств на поэзию и поэтическое настроение других героев и т. д.) — такого «чуда» не происходит.
И это тоже знаменательно. Тем более, что герой не раз оказывается перед видением «чуда» (Нижегородская ярмарка, Марина Зотова и другое) и возможностью собственного преображения.
Между тем пушкинское «чудо» в этом «духовном завещании» Горького — не только не исчезает, напротив: оно получает самобытное и, может быть, по-пушкински самое яркое горьковское выражение,
- 70 -
характерное для этого уже совершенно зрелого, даже можно сказать, мудрого периода его творчества.
Пушкинское «чудо» в этом романе выступает не только открыто, обнаженно, в сценах, удачно названных Фадеевым монбланами этого романа (Ходынка, Нижегородская ярмарка и другие).
С героем «Жизни Клима Самгина» чуда не происходит. Но оно происходит — с автором.
Оригинально, почти обратным способом, пушкинское «вдруг» сказывается во внутренней организации «итогового» горьковского романа, в повествовательной структуре последнего. В его совершенно удивительной — и для Горького, и для русской литературы — необычной для романа форме как бы безавторского повествования, не мотивированного ни логикой развития сюжета, ни внутренней логикой развития характеров героев.
Переход от одного к другому герою или событию в последнем произведении Горького — очень-таки неожиданен, и внешне, и внутренне ничем, казалось бы, не мотивирован и не обусловлен.
Но это — не совсем так.
Повествовательная структура романа «Жизнь Клима Самгина», с ее сплошным, без пауз, текстом, связями не только (точнее, не столько) сюжетно-фабульными, логическими, мотивированными, но гораздо более через мотивы, лейтмотивы, с ее двойным миром жизни, реальным и выдуманным, призрачным, зеркальной композицией и авторской новой позицией — выразила кардинальное изменение типа художественных связей (в связи с изменением и расширением их в действительности). С этой стороны роман Горького, как было замечено критикой, предвосхищает самые дерзкие формальные опыты литературы модернизма (А. И. Овчаренко).41
Принцип «соединения прежде несоединимого» — охватывает весь роман, начиная от внешней формы — манеры строить и вести повествование — и кончая структурой фразы, языком.
События, как и герои, могут появляться — и появляются в романе — без всякой внутренней или внешней мотивировки, не будучи подготовлены логически, и без авторских указаний (или пояснений) на смену места, времени, на перемену ситуации.
Автор может включить в происходящий в настоящее время конкретный разговор конкретных лиц — слова, реплики, фразы людей, не только не присутствующих в этой сцене, но даже и не могущих
- 71 -
принимать в ней участие. Причем, не в виде передачи каким-либо лицом чужой речи, а как мнение, реплику самого отсутствующего лица.
Традиционная романная нить повествования — логика событий или характеров героев — сменяется у Горького диалектикой мотивов. Мотив становится сюжетным и композиционным стержнем повествования. Он выполняет роль эпических скреп: связывает неожиданные и ничем другим не связанные в повествовании события, соединяет и опосредствует ситуации, героев, различные сцены, как бы «разбросанные» по разным томам. Именно мотив принимает на себя функции каузальной связи.
Появляющийся с первых страниц романа мотив «выдумывания» (в сцене выбора герою имени), искусственности, граничащей с призрачной нереальностью, расходясь далее в своих бесчисленных вариациях по всему роману, видоизменяется и переходит (в зависимости от героев и событий) в мотивы «слепоты» и «прозрения», «усложнения» и «упрощения», «сидения не на тех стульях», «чужой одежды», «поумнения» и другие. Каждый из них проходит в романе полный цикл своего развития: выступает и в своем прямом виде и смысле, и в обратном, обыгрывается героями, порой превращается ими в словесную игру, над чем не раз скрыто иронизирует автор.
Взаимодействуя друг с другом, мотивы вступают в связи, подобные сюжетным; один мотив порой оборачивается в другой («слепота» в «прозрение», «усложнение» в «упрощение» и так далее).
В совокупности же все эти мотивы являются инобытием «выдуманности», которая есть ни что иное, как представляемая героем в фальсифицированном виде — и настойчиво приводимая автором в свой истинный вид (через живую жизнь мотива) — главная тема романа: жизнь России, ее народа и интеллигенции за сорокалетний предреволюционный период, их взаимоотношения друг с другом и с властью.
Каждая ключевая в этом плане сцена (Ходынка, Нижегородская ярмарка, декабрьское восстание в Москве, троекратное исполнение Шаляпиным «Дубинушки» и другие) все сложнее, противоречивее и, одновременно, понятнее, проясненнее раскрывает эту тему.
Полностью устранившись внешне, автор выступает изнутри через ход и роль живого слова, мотивов и лейтмотивов, и выступает не менее полновластно, чем герой, хотя и в абсолютно противоположном
- 72 -
повороте: превращенные героем в пустую словесно-головную игру жизненные явления (и их словесные называния) — возвращаются автором к их истинному смыслу и виду даже еще более живыми и полноценными.42
Читатель проведен автором по всей сложной цепи развития темы и поставлен перед двумя противоположными представлениями и концепциями о том, что есть человек и жизнь — перед истинной и фальсифицированной, реальной и призрачной.
Сюжетный «ход» в романе совершается через развитие мотивов-лейтмотивов таким контрастно-параллельным способом, что перед нами всякий раз встают одновременно два плана романа, два мира в нем.
За внешним, отчетливо видимым миром главного героя и ряда близких ему персонажей, своего рода «двойников» его (Лидия Варавка, Серафима Нехаева и другие), подобных тем, что явились Самгину во сне (но в данном случае они существуют наяву, в виде действующих лиц романа), миром, который на деле пуст, призрачен, ибо от роду он был оскоплен, натужно выдуман, мистифицирован, этот мир ненастоящей, надуманной, головной жизни, — встает невидимый мир автора и зримый мир живой жизни людей, состояший из ярких личностей (Марина Зотова, Лютов, Варавка, отдельные эпизодические фигуры людей из народа: горбатенькая девочка с ее фразой «Да был ли мальчик-то?», деревенский мужик, мистифицирующий господ возможностью поймать сома на горшок с гречневой кашей и другие) — мир сложный, противоречивый, реальный и настоящий, хотя автор и делает вид, что совершенно не причастен к ходу романа, и не выступает лично от себя — в качестве повествователя — ни в рассказывании, ни в оценке событий.
Но вот что необходимо заметить.
В особой роли мотива в последнем произведении Горького, как и в особенной позиции автора, как бы отказавшегося от своих функций в повествовании, следует видеть не только «самые дерзкие формальные опыты модернизма», который всему духу Горького был глубоко чужд.
С гораздо большим основанием в этом можно увидеть осложненную современностью форму того типа художественной структуры, что был характерен для древнего эпоса разных народов («Слова о полку Игореве», «Илиады», «Одиссеи» и других); характерен для русских летописей с их безыменными авторами, старающимися точной
- 73 -
передачей чреды событий запечатлеть для будущих веков свое время. Тех безыменных авторов, о которых Пушкин, создавая своего летописца Пимена по их подобию, с теплотой сказал: «В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое,.. совершенное отсутствие суетности пристрастия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших...» (VII, 74).
А позиция автора в композиции горьковского произведения — совсем уж пименовская. Из чего и проистекает удивительная структура этого совершенно необычного и для Горького, и для русской литературы произведения, замеченная, но по-разному оцененная в русской и зарубежной печати.
Ромен Роллан, будучи «поражен огромным разнообразием характеров, а также живостью и объективностью повествования» в «Самгине», был «восхищен жгучей беспристрастностью глаза и ума» писателя (247). «Вы обладаете необычайным даром, не становясь ни на чью сторону, оставаться нейтральным среди множества Ваших героев; и это особенно примечательно у человека, который в своей общественной практике определяет свои позиции с исключительной страстностью» (260).
Критиками же отечественными, отнесшимися к этому горьковскому «нововведению» весьма отрицательно, «Жизнь Клима Самгина» не была ни понята, ни принята. Больше того, высказаны подозрения: в особенном характере повествования были усмотрены «глаза Максима Горького сквозь самгинские очки». — Хотя сам автор, в процессе длительного создания своего произведения (от начала 20-х гг. до смерти) неоднократно высказывался о Самгине как полном своем антиподе («Во всяком случае — не он выразитель симпатий автора (поскольку о них можно говорить в произведении, кое автор намерен сделать вполне объективным)», — писал Горький А. Воронскому).43
Но в этом отходе Горького от внешней (событийной) и внутренней (психологической) мотивировки поступков героев и событий, что было существеннейшим принципом поэтики романа второй половины XIX-го века, можно видеть неожиданный как бы возврат к роли пушкинского «вдруг» в ходе сюжета. Реабилитацию, восстановление его в правах одной из важнейших основ поворота в сюжете и развязки в финале. Иными словами, отказ от тотальной, детальной,
- 74 -
всеобщей мотивированности поступков и событий, характерной и обязательной для романа второй половины XIX-го века; предоставление и героям, и сюжету суверенного права на свободу, на неожиданные ходы и повороты, на роль в них «случая».
Но между пушкинским «вдруг» и горьковским отходом от мотивированности поступков и событий важно видеть и существенное различие.
Пушкинское «вдруг» в сюжете и «счастливые развязки» в финале выражали собой согласие между автором и героями, общую их гармонию в удачном разрешении судеб героев.
В романе же Горького они, напротив, выражают скорее полное отчуждение между автором и героем, доведение отношений «спутников», присущих этой паре во многих других его произведениях, до отношений полного отчуждения.
Автор — объективен своим отсутствием в повествовании; подобно летописцу, хроникеру, он не проявляет своего лица; герой — объективен своим безволием в движении сюжета романа, как лицо, не могущее владеть ходом повествования.
Перед читателем встают два мира, различных до полной противоположности: реальный и — призрачный. Квинтэссенция второго — сон Самгина с его «двойниками; квинтэссенция первого — сцены так называемых «монбланов», где в повествователи выходит сама жизнь, само событие, как бы само себя представляющее. Когда же Самгин, свидетель этих сцен, пытается передать свое о них впечатление — ничего не получается: статья о ярмарке выходит у него «приукрашенной», слащавой; статья о кровавом воскресеньи — «устрашающей штучкой для обывателя».
Если для автора романа, который не выступает внешне в образе и функциях повествователя, а все происходящие события подает глазами героя (не допуская его, однако, к ведению повествования, просто, быть может, по его неспособности вести его), форма повествования складывается как своего рода летописная: правдивая фиксация происшествий и событий, где внешне немотивированные и внутренне вроде бы не подготовленные переходы-перескоки (от одного к другому герою, событию, месту, времени) не выглядят случайностью, а совершаются посредством жизненного случая, могущего быть неожиданным, необычным, но, тем не менее, не случайным, — то для главного героя романа все это обстоит иначе.
- 75 -
Для Клима Самгина вся его жизнь представляется «цепью бессвязных случайностей»: «Вся моя жизнь — цепь бессвязных случайностей. Именно — цепь». Добавим: «именно — бессвязных», поскольку все происходящее с героем совершается как бы вне его понимания и вне зависимости от его воли.
У Пушкина же «случай» выступает как «орудие провидения», то есть как нечто весьма закономерное, пришедшее вовремя, для разрешения назревшего события, а вовсе не как нелепая, бессвязная случайность; более того, как нечто обусловленное свыше («провидением»).
И вот эти новые связи героев и событий в романе Горького (самих героев между собой, самой череды событий) предстают в своей первородной складываемости, в процессе их возникновения, где первостепенную роль играет «первоэлемент литературы», самое слово. То есть — от истоков искусства слова, от самого его начала, когда оно находилось в процессе складывания, как в древних летописях.
Горький как бы отказывается от прежних своих принципов, характерных для всего его творчества, — от авторской, очень эмоциональной и четко пристрастной реакции почти в каждом произведении (в какой бы он роли там ни выступал: рассказчика, всеведущего автора, или другой какой-либо), от прямого выражения своей симпатии или антипатии, проявления своих авторских чувств.
Иными словами, из романа «Жизнь Клима Самгина», из формы его повествования уходит «лирический герой» Горького.
Автор и герой — перестают быть в отношениях «спутников».
Герой разрастается до гипертрофированных форм своей личности, и в этом качестве перестает быть «героем» в положительном смысле. События, происходящие с ним самим и наблюдаемые им в действительности, поступки его самого — все это ощущается им как «цепь бессвязных случайностей», а себя он чувствует — «невольным зрителем», «случайным свидетелем» и тому подобной фигурой «постороннего» наблюдателя, что объективно так и есть.
Стремясь все время к объективности (то есть к позиции по сути беспристрастного свидетеля и объективного летописца, которую осуществляет в романе автор), Самгин — в этой своей претензии на позицию и роль Пимена — Пушкиным же и высмеивается (о чем ниже, в разделе «Пушкин в среде героев Горького»).
- 76 -
Автор же, как бы отказавшись от ведения повествования, оказывается, между тем, полноправным его распорядителем: он получает возможность полного — как в «Онегине» — «свободного волевого акта»: переноса действий, неожиданных «прыжков» к самым разным действующим лицам, без всяких на то внешних объяснений, каких-либо мотивировок, и даже без элементарно логических повествовательных связок, типа: «в то время, как», «когда», «вернемся к...» и тому подобных.
И — вместе с тем — эта авторская «полная свобода» оказывается — «вдруг» — ни чем иным, как принципом Пимена: повествованием летописным, житийным, характерным для древнерусских летописей.
Не случайно Горький (как это видно из его помет на Сочинениях Пушкина) из всех пушкинских произведений всего более акцентировал его драму «Борис Годунов» и образ Пимена в ней.
Это — одна из форм возврата писателя XX-го столетия, с огромным опытом за плечами великой русской прозы второй половины XIX-го века и, конечно же, опыта и рубежа двух веков, XIX-го и XX-го, периода всяческих формальных исканий и повествовательных трюков, ясно обнаруживших предел границ, за которым начинался уже распад искусства (утрата словом его смысла и формы); возвращение его к той, говоря словами М. Зощенко, «народной прозе», утрату которой в русской литературе второй половины XIX-го и первой XX-го вв. (с уходом ее от традиций пушкинской прозы и дальнейшим развитием исключительно и преимущественно по пути углубленного психологизма) так остро ощущали многие писатели.
Совершив к концу своей творческой жизни такой новый, неожиданный «заход» (как бы с обратного конца) к Пушкину, — не удивительно, что Горький и в начале своего творческого пути вступал в литературу с пушкинским миром. С миром солнца, света, разума, свободы человеческих чувств. Его первый печатный рассказ «Макар Чудра» (1892 г.), как не раз отмечалось в критике, сюжетными линиями, образами героев, самой атмосферой произведения перекликался с романтическими поэмами Пушкина раннего периода («Цыганами», «Кавказским пленником», «Братьями-разбойниками»).44
- 77 -
И это — в период так называемых «сумерков литературы», когда в ней преобладали мрачные темы и мотивы апокалипсиса, измельчания человеческой личности и тому подобные.
А в 1925 году, за девять лет до Первого Съезда Советских писателей, официально признавшего романтическое начало неотъемлемой частью своего метода, Горький провозгласил Пушкина «основоположником того слияния романтизма с реализмом, которое и до сего дня характерно для русской литературы и придает ей свой тон, свое лицо» (24, 256).
По удачному выражению исследователей, Пушкин стал для Горького «вечным спутником» (С. Д. Балухатый, Н. К. Пиксанов, Е. Б. Тагер). И не только художественного творчества, но и литературно-критической, культурно-просветительской, организаторской деятельности.
И пушкинисты, и горьковеды не раз касались отдельных моментов их связи (восприятие молодым Горьким пушкинской «музыки стиха», Горьким-драматургом — опыта «Бориса Годунова», следы пушкинских «Цыган» и «Кавказского пленника» на романтических рассказах «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и других45).
При этом — не уставали подчеркивать, что «Горький от Пушкина брал не частности, а общее глубокое: реализм, гуманность, народность, свободолюбие», — словом, все то, что «сам Горький так ценил в творческой деятельности Пушкина» (широту охвата, жанровое разнообразие, слияние романтизма с реализмом). Одновременно — и очень справедливо — и пушкинисты, и горьковеды остерегали от применения «буквалистских приемов, погони за параллелями, мелкими совпадениями в языке, образах, сюжетах и прочем».46
К чести исследователей последующего поколения, нужно сказать, что завет этот — был выполнен: в сопоставлении Горького с Пушкиным почти не встречается ни «буквалистских приемов», ни «погони за параллелями» либо «мелкими совпадениями в языке, образах, сюжетах и прочем».
Но, вместе с тем, нельзя не отметить и другое.
За несколько десятилетий, прошедших со времени публикации горьковских материалов о Пушкине, особенно таких значительных, как его Каприйские лекции, Предисловие к английскому изданию прозы Пушкина для американских читателей, ценного справочника «М. Горький. О Пушкине» (1937), составленного С. Д. Балухатым, впервые собравшим основные высказывания Горького о Пушкине из
- 78 -
его статей, писем, в его художественных произведениях (ныне книжица эта стала библиографической редкостью), — за все это немалое время, в течение которого вышли также два полных Собрания сочинений Горького, снабженных обстоятельным и квалифицированным справочным аппаратом, и было издано значительное количество неизвестных ранее архивных материалов и документов, — тема: «Горький и Пушкин» — остановилась фактически на стадии того типа исследования, которое было обозначено еще 30-ми годами: сопоставление ранних романтических периодов у двух художников; высказывания Горького о Пушкине.
Яркость и всеохватность горьковских высказываний о Пушкине, не требующих дополнительных разъяснений, а лишь систематизации и более полного их донесения до читателей (что и делалось не раз, особенно к юбилейным дням того или другого писателя), с одной стороны; с другой — прочно устоявшееся в критике мнение, что пушкинская линия в развитии русской прозы прервалась уже во второй половине XIX-го века (мнение, которое Горький, как мы видели, не разделял), а в XX-м веке тем более не имела продолжения; наконец, разительные отличия эпох (начал XIX-го и XX-го вв.) и не меньшие различия личностей их первооткрывателей, — все это надолго сделало сближение двух художников — преждевременным. Ибо, игнорируя историческую и личностную дистанцию, оно могло нивелировать обе фигуры до заурядных представителей общих вечных тем, мотивов, образов, или же, напротив (что вряд ли лучше), актуализировать Пушкина до «нашего современника».47
Возможно, этим и объясняется тот факт, что «вопрос о связи Горького с пушкинской традицией» хотя и регулярно возобновлялся в критике (чаще всего по юбилейным датам), но так и «не стал темой специального исследования»48, как констатировали сами пушкинисты и горьковеды еще в 50-е—60-е гг., и что продолжает, к сожалению, иметь место вплоть до дня сегодняшнего.
В настоящее время, когда XIX и XX вв. исторически сблизились в преддверии нового тысячелетия, — оба, уходя в прошлое, представительствуют в нем как этапы русской и всемирной истории, — крайне важно истинное понимание творческих соотношений между родоначальниками этих двух эпох русской литературы (и не только родоначальниками, но и организаторами и строителями литературных направлений своего времени).
- 79 -
В чем и как «перекликались» литературные эпохи первых третей XIX-го и XX-го вв. через «начала начал» в каждой из них? — Данная тема нуждается, конечно же, в глубоком разностороннем и многостороннем раскрытии. Не претендуя на такое раскрытие (это — дело будущих поколений), попытаемся лишь пунктирно обозначить некоторые из важных ее линий в пределах нашего основного предмета исследования.
Рожденные и пробужденные к творчеству первоистоками словесного искусства, что всегда важны для писателя, а для родоначальников новых эпох — первостепенны (Пушкин — сказками и песнями няни, Горький — бабушки), оба навсегда сохранили в своем творчестве живительную силу слова: — не первобытность его, как у голых экспериментаторов, возвращающих ему свежесть искусственными манипуляциями, доводя ими слово порой до состояния и вида пещерной звукоряди, а именно — первозданность, родниковую свежесть.
Стиль Пушкина, как справедливо было сказано, «стиль новорожденный, творимый в живой связи с языковым творчеством и сотворением национального художественного самосознания». «Искусность и естественность в нем неразделимы,.. и невозможно сказать о том или ином элементе стиля, является ли он приближением поэзии к жизни или же новой ступенью поэтической искусности». «В принципе это и есть идеал стилевого творчества вообще».49 «Уникальность, непревзойденность» пушкинского стиля объясняется во многом эпохой: «в истории русской культуры другой такой эпохи не было». Но «подобные эпохи уникальны в истории любой национальной культуры, как, скажем, для Италии эпоха Петрарки и Боккаччо, для Франции — Рабле и Плеяды (Ронсар, Дю Белле и др.), для Англии — Спенсера и Шекспира.
Эпоха объясняет и непревзойденность, недосягаемость пушкинского стиля» (92).
Потому стиль Пушкина нельзя было «законсервировать в его совершенстве и «повторять», воспроизводить снова и снова».
И не оттого только, что «стадия языкового и духовного творчества, его породившая, закончилась.
Сохраняя пушкинскую цельность, литература не могла бы сделать вперед ни шагу» (93), о чем и свидетельствует ее дальнейшее
- 80 -
развитие. Так, Гоголь берет от пушкинского стиля начало материальное, Лермонтов — высокое, духовное. И оба «вырастают на открытых Пушкиным стилевых контрастах, которые у него были почти неощутимы». Пушкинские контрасты не были противоречиями, каковыми они стали в последующее время, у Л. Толстого, Достоевского, в литературе XX-го века.
Но поскольку «мера стиля уже была дана», то любой выход за ее пределы, любое отклонение не являлось отказом, а определялось конкретной художественной целью. Даже отрицание стиля Пушкина, по мнению исследователя, «оказывалось не разрушением, а... испытанием на прочность» (94).
Акценты Горького на тексте
Сочинений и писем Пушкина.В личной библиотеке А. М. Горького сохранилось издание Сочинений и писем А. С. Пушкина в восьми томах под редакцией П. О. Морозова (СПб., изд. «Просвещение», 1903—1906 гг.) с горьковскими пометами. — Отчеркивание на полях мест, привлекших его внимание (красным, синим, иногда черным карандашом), восклицательные или вопросительные знаки, подчеркивание отдельных слов или выражений, NB в местах, вызвавших его восхищение, — все это дает интереснейший материал к нашей теме.*
Морозовское издание Пушкина, как было установлено специалистами, перечитывалось Горьким в период подготовки Каприйских лекций. Эту целенаправленность, разумеется, необходимо иметь в виду. Отсюда — широкий и многосторонний диапазон горьковских акцентов на самых разных сторонах жизни и творчества Пушкина.
Акцентированы характерные моменты его биографии, его родословной, личной жизни; отношений с друзьями. В переписке с широким кругом лиц, и близких, и далеких, выделены проблемы, глубоко волнующие поэта: история и судьба России, участь и положение лучших ее людей, поэт и власть, поэт и цензура, поэт и поэзия и многое другое. — Все это, конечно же, дает яркое представление
- 81 -
о широте восприятия гения русской литературы, «начала всех начал» в ней, родоначальником литературы новой эпохи.
А что «Горький — это целая эпоха» (А. Ахматова) — не сомневались даже великие его современники, художники иного склада и миропонимания, значительно его пережившие и потому могущие судить о нем не только как его современники, но и с высоты исторической дистанции.
Со многими из горьковских помет (но далеко не всеми) читателей впервые знакомила (1962 г.) обстоятельная статья Н. М. Лобиковой.50
С тех пор этот ценнейший материал горьковских помет фактически исчез из поля зрения исследователей.
Остановимся на нем подробнее в рамках нашей темы.
Больше всего внимания акцентировано Горьким на пушкинском отношении к русскому языку и обращении с ним. Если выписать отмеченные им места, относящиеся к языку, из разных томов сочинений указанного издания, станет особенно заметна первостепенная забота Пушкина об этом «первоэлементе литературы», как называл слово Горький.
Пометы касаются как необходимости обновления слова — и нововведениями, и возвращением к исконным, корневым, бытующим в народе формам, — так и границ дозволенности на этом пути, ставящих заслон пустой игре его формами или превращению слова в голый знак.
Фиксируя внимание на укороченных формах слов в стихах Пушкина, что типичны для древнерусского языка, он тщательно выделяет эти формы почти во всех частях речи у него (существительные, прилагательные, глаголы, наречия).51
Как сткло булат его блестит.
(«Полтава» — 3, 413)
Средь бурей тайный мой хранитель.
(«Наполеон на Эльбе» — 1, 100)
В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.(Там же, 101)
- 82 -
И праздный в поле ржавить плуг.
(«Воспоминания в Царском селе» — 1, 86)
В Каприйских лекциях Горький говорил: «Пушкин первый настойчиво вводил в язык полногласность: он перестал писать брада, власа, глад и писал борода, волосы, голод; но когда тема стихотворения требовала каких-то особенных, железных слов, он не стеснялся брать их из славянского языка, — как мы видим это в «Пророке». Он мастер. Он превосходно знает свое орудие, свой материал».52
Интересно, что укороченный предлог «пред», оставшийся в таком виде больше в стихах, где он необходим для рифмы (в том числе и в стихах Горького), а в прозе XX-го века употребляемый довольно редко, вводится Горьким неоднократно в его прозаический роман «Жизнь Клима Самгина», особенно в местах, где речь идет о явлениях, предметах, героях русского национального склада, в частности, в сцене нижегородской ярмарки («Клим Самгин видел, что пред ним развернулась огромная, фантастически богатая страна, бытия которой он не подозревал...». «...пред этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей». «...пред витринами текстильщиков и посудников...» и т. д. — 19, 516, 517, 518. Курсив мой. — Л. К.).
Не обходит вниманием Горький и пушкинские вынужденно неправильные ударения, вызванные необходимостью соблюдать в стихах рифму:
Вкруг холма обходит друг сильного конь.
(«Сраженный рыцарь» — 1, 139)
Побегли вспять враги — и тихий мир герою.
(«Огар» — 1, 47)
Когда Милона молодова,
Лепеча что-то не для нас.(«К молодой актрисе» — 1, 55)
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.(«Руслан и Людмила» — 3, 88)
Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом.(«Скупой рыцарь» — 3, 485)
- 83 -
Отмечая в пушкинском Предисловии к «Полтаве» сетование поэта на критику, требующую для художественного произведения стерильности, что противоестественна в живой жизни слова («Слова: усы, визжать, вставай, рассветает, ого, пора — показались критикам низкими, бурлацкими выражениями. Как быть!»), — Горький приветствует его решение своим отчеркиванием на полях следующего пассажа: «Никогда не пожертвую краткостию выражения провинциальной чопорности, из боязни казаться простонародным, славянофилом и т. п.» (3, 396—397).
В продолжение этой же мысли Пушкина, выраженной в иной форме его письма к П. А. Вяземскому («Я не люблю видеть в первобытном языке нашем следы европейского жеманства и французской утонченности»), Горький выделяет фразу: «Грубость и простота более ему пристали».
Но дальнейшее откровенное пушкинское признание: «Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе» (8, 48) — он оставляет без акцентировки.
Акцентировку на эти слова Пушкина сделает позднее Вл. Ходасевич.53
Не остаются вне поля зрения Горького даже черновые пушкинские наброски, даваемые в Примечаниях морозовского издания. Из черновика того же письма П. А. Вяземскому он выделяет следующий абзац: «Язвительные лобзания напоминают тебе... постель. Поставь: пронзительных. Это будет смело...». И особенно — фразу: «Я желал бы оставить русскому языку часть некоторой библейской похабности» (8, 436).
Живую реакцию Горького вызывают некоторые критические статьи современников Пушкина, возмутившихся простонародными словами и выражениями в его поэмах и стихах.
В частности, статья критика из «Вестника Европы», протестующего против внесения в поэму «Руслан и Людмила» неприличных, с его точки зрения, слов и выражений.
«Потом витязь ударяет в щеку тяжкой рукавицей... Но увольте меня от подробного описания, и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться...» (3, 20).
- 84 -
Также и слова другого критика, характеризуемого — не без иронии — самим Пушкиным как «увенчанного, первоклассного отечественного писателя», между тем «приветствовавшего сей опыт молодого поэта следующим стихом:
Мать дочери велит на эту сказку плюнуть» (3, 21).
Мимо внимания Горького не проходят и комментарии к сочинениям и письмам Пушкина. Он отчеркивает — помещенные опять же в «Вестнике Европы» — строки хулы на «Черную шаль», ставшую одним из любимых народных романсов. Возмущаясь тем, что, положенная на музыку Верстовским, она «под названием кантаты» «распевалась на московской сцене Булаховым», критик из «Вестника Европы» вопиет: «Почему это кантата? Что за кантата?.. Какой-то молдаванин убил какую-то красавицу, которую соблазнил какой-то армянин!».
Композитора журнал упрекает за то, что он расточил так много своего музыкального таланта на «темное злодеяние каких-то неизвестных людей» (1, 577).
«Черная шаль» — один из наиболее часто распеваемых горьковскими героями романсов. В устах этих героев он стал душещипательным мещанским романсом, слова которого каждым исполнителем дополнялись (или поправлялись) на свой лад.
Отмечает Горький — видимо, не без удовлетворения — и несбывшийся пушкинский прогноз по поводу «отсутствия читательниц на русской земле». Сообщая А. А. Бестужеву, что у него уцелел от поэмы «Братья-разбойники» лишь один отрывок (остальное — сжег), он просит его: «Если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его». При этом присовокупляет: «Впрочем: чего бояться читательниц? Их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем» (8, 42).
Как важный совет-вывод из всего этого круга вопросов о соотношении разговорного языка с литературным, границах использования простонародных выражений и т. п., воспринимает Горький пушкинское кредо, изложенное им в одной из заметок к драме «Борис Годунов»: «Есть шутки грубые, сцены простонародные. Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может их избежать; если же нет, то ему нет нужды стараться заменять их чем-нибудь иным» (3, 254).
- 85 -
Целый ряд помет Горького на Сочинениях Пушкина, с красноречиво поставленными крупными вопросительными или восклицательными знаками, носят характер почти что живой его беседы с поэтом.
Так, глубокое удивление вызывает у него пушкинское определение языка знаменитого греческого баснописца (в черновых вариантах «Домика в Коломне»):
...Опять, зачем Езопа
Я вплел, с его вареным языком.(3, 459)
К этой строфе Горький ставит крупный и длинный восклицательный знак.
Другой, столь же выразительный знак, но теперь уже вопросительный, ставит Горький к двум строкам из монолога Патриарха в «Борисе Годунове», видимо, неясных ему по смыслу (или кажущихся неточными по согласованию).
А снилися мне только звуки. Раз,
В глубоком сне, я слышу, детский голос...(3, 329)
Первую строчку в строфе он еще и подчеркивает, возможно, находя в ней логическую неточность (могут ли «сниться звуки»?).
Неточность в согласовании находит Горький и в строках «Кавказского пленника»:
Колчан и лук — и в быстры волны
За ним бросается потом.(3, 128)
Слова «За ним» он подчеркивает, ставя перед ними знак вопроса.
Нужно заметить, что хотя Горький не проходит мимо некоторых пушкинских неточностей или неправильностей, но и сам порой допускает, совсем в стиле Пушкина и его духе, подобные же неточности.
Вместе с тем, интерес вызывают у писателя остроумные пушкинские замечания на некоторые выражения и фразы в сочинениях разного рода писателей и графоманов.
- 86 -
Пометы А. М. Горького в 3-м томе «Сочинений и писем А. С. Пушкина»
(1903 г., под ред. П. О. Морозова). Музей А. М. Горького. ОЛБГ № 2680.
- 87 -
«Вчера люблю и мыслю» поместят со временем в грамматику для примера бессмыслицы», — акцентирует Горький это место из письма Пушкина к А. А. Бестужеву (8, 59).
Подобные «примеры бессмыслицы» Горькому приходилось многократно наблюдать — и акцентировать внимание их авторов — в произведениях молодых начинающих писателей, которые присылали ему свои рукописи или первые опусы.
Обращает Горький внимание и на характерное для пушкинских времен употребление слова «дуэль» в мужском роде: «а с отцом и с дядей-башмачником дуэля, кажется, не будет» (Письмо к Н. Н. Пушкиной — 8, 299).
Судя по помете, Горькому понравилось пушкинское выражение из «Полтавы» (слова Марии) —
Одно имела я в предмете —
Твою любовь...(3, 418)
«Иметь в предмете» — одна из характерных для пушкинских времен идиом — нередко встречается у Пушкина.
Писателю XX-го века, видимо, пришлось по душе и одно из чисто пушкинских словообразований — «хандрлив», — возникшее по определенному, весьма конкретному случаю, по этому же случаю и поводу весьма к месту и употребленное (если верить «Словарю языка Пушкина», оно больше ни разу не было поэтом повторено54).
Слово это, как видно, понравилось и самому его словотворцу. Сообщая А. А. Дельвигу из Болдина о причине своего мрачного настроении (по случаю холеры сидит в карантине), и так характеризуя это настроение: «мнителен и хандрлив», — Пушкин спрашивает адресата: «каково словечко?» (8, 218).
Весьма любопытно, что в одном из рассказов Горького 20-х гг. (с подзаголовком «Страница автобиографии»), герой (он же рассказчик) употребляет слово, созданное по типу пушкинского «хандрлив», — но совсем иного значения и звучания, возникшее абсолютно по другому поводу, в иной ситуации и для характеристики иного состояния героя.
«Это куда же я втряпался?» — жутко подумалось мне» (14, 8. Курсив мой. — Л. К.). — Так спрашивает сам себя герой-рассказчик из «Хозяина», поступив на работу в булочную к странному
- 88 -
человеку с его странным бытом. («Все — живет странной, запутанной жизнью, а в центре всего носится, потея и хрипя, необычный, невиданный мною человек» — там же).
«Каково словечко!» — невольно хочется сказать об этом слове Горького, возникшем по-пушкински, с нарушением правил грамматики — но по правилам поэтики, законов выразительности, требующих в неординарных обстоятельствах неординарных выражений, которые могли бы истинно-верно отразить необычное человеческое состояние при странных обстоятельствах. Возникнув у Горького, как видно, неожиданно, хотя и весьма к месту, оно вряд ли еще где-либо у него повторилось.
А одна из строф пушкинской оды «На смерть Наполеона», которую сам поэт характеризует в письме А. И. Тургеневу лишь как «сносную» («Вы желали видеть оду на смерть N [Наполеона]. Она не хороша;. вот вам самые сносные строфы») —
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил.— приводит Горького в восхищение. Он ставит подле нее крупный знак NB.
Возможно, что выразительность пушкинской строфы, где неожиданная поза явления (что само по себе — редкость: предмет неодушевленный, к тому же почти символический — свобода — обретает свойства одушевленности) — напомнила писателю нового века политические события своей эпохи (революцию 1905 г.), а не только обстоятельства французской революции 1789 г.
И это состояние — онемение (от неожиданности свершения давно чаемого, долгожданного), — тем сильнее — до потери дара речи — поразившее при своем свершении «вдруг», — появится в прозе Горького не раз, в разных обстоятельствах и формах, но уже применительно не к понятию свободы, а к живым существам, людям, их реакциям.
«Игрушки и машины, колокола и экипажи, работы ювелиров и рояли, цветистый казанский сафьян, такой ласковый на ощупь, горы сахара, огромные кучи пеньковых веревок и просмоленных канатов, часовня, построенная из стеариновых свеч, изумительной красоты меха Сорокоумовского и железо с Урала, кладки ароматного мыла, отлично дубленные кожи, изделия из щетины — пред этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей и,
- 89 -
глядя на грандиозный труд своей родины, несколько смущали Самгина, охлаждая молчанием своим его повышенное настроение.
Редко слышал он возгласы восторга, а если они раздавались, то чаще всего из уст женщин пред витринами текстильщиков и посудников, парфюмеров, ювелиров и меховщиков. Впрочем, можно было думать, что большинство людей немело от обилия впечатлений» (19, 517—518. Курсив мой. — Л. К.).
В массовых, народных сценах романа «Жизнь Клима Самгина» это состояние людей, пораженных «чудом» создания рук своих до безмолвного онемения, синтезирует в себе два качественно различных у Пушкина — и по смыслу, и по ситуациям — момента: утрату дара речи (онемение) от переизбытка чувств положительных (в приведенном выше месте из оды Наполеону — по отношению к понятию свобода), и состояние безмолвия от огорошенности случившимся, когда вдруг осознается (открывается истина), что произошло это — не без собственного участия (в народных сценах драмы «Борис Годунов»: «народ безмолвствует»).
Безмолвие и — онемение. В них и общее и — разность.
При сказе Орины Федосовой рука Клима с вынутыми часами (чтобы посмотреть время) — застывает в этом жесте, время как будто останавливается: «...с эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские, старинные слова... Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое, магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть с часами в руке». «Оживший голос героической древности» воплощал собой «подлинную историю правды добра и правды зла, которая и должна и умеет говорить о прошлом так, как сказывает олонецкая, кривобокая старуха, одинаково любовно и мудро о гневе и о нежности, о неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах детей. Обо всем, что есть жизнь» (19, 524—525).
Сказительница вводит слушателей в древний мир героических подвигов русских богатырей. — Подобно тому, как Пимен у Пушкина в «Борисе Годунове» вводил современных читателей и зрителей в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».
Но и — разница: там — летописец — олицетворял воплощенную объективность; здесь — сказительница — «играла людями» («заметьте: она — не актриса, не играет людей, а людями играет». Дронов об Орине Федосовой. — 19, 525).
- 90 -
Но у обоих — искусство живого слова обращает ко временам давним, древним временам русской истории, хотя и весьма различным в ней этапам: в первом случае — ко смутному времени, во втором — к героическому прошлому богатырей земли русской.
У Горького — соответственно духу «показываемого» времени — «немели» («цепенели») современные слушатели, зримо увидевшие сцены, о которых сказывала «кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным лицом и улыбчивыми, детскими глазами» (19, 524).
У Пушкина — соответственно происходящим событиям — онемели, потеряли дар слова, то есть стали «безмолвствовать» (до этого, во всех прежних сценах, весьма шумно и грмко реагировавшие) — действующие лица самих описываемых времен, народ, народная масса.
Следует заметить и другое. Горьковское восхищение этим образным и, одновременно, очень емким пушкинским выражением и дальнейшее его как бы «воплощение» и «перевоплощение» в своем творчестве, могло быть вызвано еще и тем, что Пушкин назвал allussions, «намеком» (заметки о «Борисе Годунове» в «Письме «Московскому Вестнику»). То есть возможной невольной ассоциацией с современностью (это и явилось основной причиной его отказа от желания и предложения «Московского вестника» печатать трагедию «Борис Годунов» целиком). Иными словами, пушкинское выражение о судьбе французской революции 1789 года могло навести Горького на сравнение, ассоциацию, allussions с судьбой русской революции 1905 года.
«Новорожденная свобода», уже мелькнувшая в Истории Государства Российского в период революции 1905 года, также, как и во французской революции 1789, от переизбытка потраченных сил, от неожиданности — «вдруг онемев, лишилась сил».
По пометам Горького на критику и хулу пушкинских сочинений видно, сколь близко и знакомо все это было и ему как писателю.
«Вспомните, что меня лет 10 сряду хвалили Бог весть за что, а разругали за Годунова и Полтаву», — пишет Пушкин М. П. Погодину, узнав, что его «разбранили» за «Марфу Посадницу» (произведение, которое Пушкин считал у Погодина, да и для русской литературы того времени, — значительным). И выражает надежду, что «это никакого влияния не будет иметь на ваши труды» (8, 278).
- 91 -
Отчеркивает он и горький вывод Пушкина: «Нововведения опасны и, кажется, не нужны» (3, 249), сделанный им из печально окончившегося опыта — желания познакомить читателей со своей трагедией «Борис Годунов» по одной ее сцене, монологу Пимена. — Прекрасно понимая значение этого произведения в целом («Ай да Пушкин, ай да...»), как, вместе с тем, и невозможность его опубликования в настоящее время полностью, поэт надеялся таким способом дать предварительное представление читателям об этой трагедии.
Знакомя их с одним из близких, как он полагал, русскому сердцу характеров (в произведении это лицо нейтральное), Пушкин надеялся, «что сей характер все вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателя...».
Но «...что же вышло? Люди умные обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм называться стихами. Г-н З. предложил променять сцену Бориса Годунова на картинки Дамского Журнала. Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики».
И Пушкин заключает: «Воспитанные под влиянием французской литературы, русские привыкли к правилам, утвержденным сею критикою, и неохотно смотрят на все, что не подходит под ее законы. Нововведения опасны и, кажется, не нужны» (VII, 74—75).
«Хотите ли знать, что еще удерживает меня от напечатания моей трагедии? Те места, кои в ней могут подать повод применениям, намекам, allusions» (VII, 75).
В надежде вызвать интерес у читателей родственным им, как считал поэт, образом Пимена, он полагал тем самым и приобщить наиболее органическим способом к новой, особенной форме своей трагедии (новой и по жанру, по стилю, отличной от классицистической с ее единствами места и времени, и — самое главное — по сути, содержанию: «судьба человеческая, судьба народная»).
«Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира и принес ему в жертву пред его алтарь два классических единства, и едва сохранил последнее» (единство действия). «Почтенный александрийский стих переменил я на пятистопный белый, в некоторых сценах унизился даже до презренной прозы, не
- 92 -
разделил своей трагедии на действия, — и думал уже, что публика скажет мне большое спасибо».
«Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий, — словом написал трагедию истинно романтическую».
Но ни монолог, ни характер Пимена не были ни поняты, ни оценены критикой и читателем. Из чего Пушкин и сделал свой горький вывод: «Нововведения опасны и, кажется, не нужны» (VII, 72—73, 75).
Это состояние Пушкина (понимание, что его произведение, благодаря «нововведениям», не будет понято, следовательно, и принято), — было особенно близко и родственно Горькому.
Критики его также много лет «сряду хвалили Бог весть за что», а «разругали» (и тоже основываясь на знакомстве лишь с первой книгой его четырехтомного многолетнего труда) — за главное его, «итоговое» произведение, «художественное и духовное завещание», создаваемое на протяжении почти двадцати лет творческой жизни, где писатель хотел отразить сорокалетнюю предреволюционную историю России.
«Жизнь Клима Самгина» — произведение совершенно необычное для русской литературы и XIX-го и XX-го вв.. Необычное и по форме повествования, стилю, о чем речь шла выше. И — по своему жанру: «Летопись», «Хроника», «Житие», «Роман», наконец, «Повесть» — такие жанровые обозначения давал автор этому сочинению в ходе работы над ним, в поисках более точного определения, могущего бы выразить его замысел. Последнее уточнение Горького («Повесть»), по отношению к произведению с более чем двумя тысячами страниц текста, удивляло критиков и не раз оспаривалось ими. Но этим словом писатель хотел, видимо, подчеркнуть летописно-повествовательный характер его формы (по типу древнерусских «Повестей временных лет» и других).
Не переставая до конца жизни и сам учиться у Пушкина выразительности русского языка, и учить молодых начинающих писателей (см. статьи: «О пользе грамотности», «Еще о грамотности», «О начинающих писателях», «О писателях-самоучках», «О том, как я учился писать» и другие), Горький, по сути дела, возобновлял на новом этапе литературного развития ту борьбу с «архаистами» и
- 93 -
«новаторами», что вел в свое время Пушкин (как с шишковистами, сторонниками «мокроступов», так и с новомодными введениями чужеродных русскому языку иноземных слов и оборотов).
Тем самым Горький невольно выполнял завет Пушкина в отношении художника к действительности, которая есть всегда сложная связь трех времен — настоящего, прошлого и будущего: «следовать духу времени» («К чему бесплодно спорить с веком?»), памятуя при этом и о корнях своих («Зачем писателю не повиноваться законам своего языка?»).
Но: чтобы не попасть в рабство ни моде настоящего, ни правилам прошлого, руководствоваться всегда — литературной совестью: «обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть?».55
«В поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля», — так характеризовал Белинский «глубокое чувство действительности» у Пушкина.56
«Будущее было в его жизни главным, но писал он только о прошлом», — не без раздражения говорила о Горьком Н. Берберова. — «Прошлое было ему необходимо, чтобы показать его ужас... и дать каждому человеку мечту о том прекрасном, что его ждет».57
Н. Берберова была далеко не права, о чем свидетельствует огромный и разнообразный художественный мир Горького, где героев-современников и современной действительности не меньше, чем образов и картин прошлого.
Но — главное — не следует забывать различия самих «действительностей» времен Горького и Пушкина.
Не станем подробно характеризовать действительности пушкинских и горьковских времен. Это — предмет специалистов, историков, философов, политиков, немало сил потративших на описание и объяснение как той, так и другой. К тому же сегодняшнее их толкование — зачастую прямо обратно вчерашнему (что, впрочем, больше характеризует их толкователей, чем сами реальности).
Жизнь показывает, что действительность характеризуется гораздо истиннее и прозорливее ее крупными художниками, о чем в свое время очень точно сказал Александр Сергеевич Пушкин (в письме переводчику «Илиады» Н. И. Гнедичу): «История народа принадлежит поэту» (Х, 126). Она характеризуется теми, кого и рождает в
- 94 -
качестве своих полномочных «послов», одновременно и запечатляющих, и творчески воссоздающих моменты исторической жизни.
Но в каждой эпохе есть ключевое событие, определяющее основную ее направленность, ее историческую характерность.
Для Пушкинской действительности это, несомненно (как и считают почти все исследователи) — война 1812 г. и декабристское восстание.
Для Горького — русская революция, все к ней подводящее (жажда и необходимость изменений, надежда на воплощение многовековых идеалов человечества) и — из нее вытекающее.
Эти ключевые события эпох рождают и свои ключевые фигуры в искусстве, художников эпохального масштаба и эпохальных форм выражения.
Если принимать это во внимание, тогда не покажется удивительным, что две великие личности разных эпох — поэт, чья палитра «знала небо, но была проникнута землей», и писатель, слишком рано и слишком хорошо познавший землю, и потому активно устремленный к реализации мечты о ее преобразовании, к «небу», — с разных концов своих художественных миров сходились к общему для человека и человечества идеалу земного устройства («вечного мира» на земле); сходились и в представлениях о человеческом счастье, понятиях о человеческой личности, основных принципах порядочности и нравственности, и о гармонии, земной и художественной.
Если учитывать это и помнить об этом, нельзя будет не заметить, что пушкинский «истинный романтизм» (как определял сам поэт свою манеру письма) был по сути — реализмом, но романтическим; а горьковский «социалистический реализм», наоборот: романтизмом, но — реалистическим. И что второй, в новых исторических условиях, своеобразно, по-своему как бы возобновлял и развивал первый.
Между поэтикой Горького и Пушкина, как художников-зачинателей новых эпох, складывается невольный диалог, — «разговор», или «беседа», если говорить языком пушкинских или горьковских времен; беседа-разговор по основным темам словесного искусства: автор — герой — читатель, сюжет — завязка — развязка и другие.
У Пушкина автор — пророк, гений, «всеведущий и всезнающий»
- 95 -
(Горький); ему «внятно все» («И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход»).
Автор у Горького — ремесленник, мастер, мастеровой.
И отношение Горького к процессу создания художественного произведения было как к творению в прямом смысле рукотворному, произведению человеческого труда, непосредственному делу рук мастера.
«У него была веселая манера — дарить писателям книги. Чуть узнает, что вы работаете над какой-нибудь темой, принесет вам на ближайшее заседание в огромном портфеле из своей библиотеки те книги, которые могут пригодиться для вашей работы, и не говоря ни слова, мимоходом положит перед вами на стол... И было похоже, что он, мастер, раздает подмастерьям рубанки и стамески для работы».
«Высшая была у него похвала о каком-нибудь писателе — работник. Самое это слово он произносил веско и радостно, словно поднимал какую-то приятную тяжесть: «ра-бот-ник».58
И в этом различии — в значительной мере разница эпох, их запросов: духовно-мыслительный век XIX, где слово являлось преимущественно выражением чувств и мыслей героев и автора; активный в своих действиях и материализованной направленности век XX, использующий слово как орудие борьбы или как материал для постройки здания-произведения.
Активность формы, ведущая к общей повышенной содержательности стиля, — общая черта новой литературной эпохи («К чему бесплодно спорить с веком?»), характерная для самых разных, порою противоположных течений, групп, школ.
В этом, соответственно, и кроется подоснова кардинальных различий художественных миров и поэтики двух творческих личностей, родоначальников двух разных эпох.
Но что — интересно. Свое высокое искусство Пушкин называет «мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость» (Одесса, 25 мая 1824 г. — 8, 63).
А Горький — «как бы вослед Пушкину» — озаглавливает свои статьи, обращенные к начинающим писателям, «Беседы о ремесле».59
И эту характеристику «писательства», литературы как «ремесла»,
- 96 -
не раз повторенную Пушкиным в письмах к официальным лицам (А. И. Казначееву, Бенкендорфу и другим), Горький всякий раз отчеркивает на полях.
«Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности: читателей было еще мало», — говорит Пушкин в письме Бенкендорфу, обосновывая свою просьбу об издании газеты.
«Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. торговое. Ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законами» (8, 243—243).
Сетуя в период своей южной ссылки, что ему, находясь «за 2000 верст от столиц», «поминутно» приходится «отказываться от самых выгодных предложений», за что «Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты», — Пушкин заявляет: «я принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паек ссылочного невольника». И — более того: «Я готов от них отказаться, если могу быть властен в моем времени и занятиях» (А. И. Казначееву. Одесса, 25 мая 1824 г. — 8, 63).
В это же время он пишет брату, Л. С. Пушкину: «На сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма» (Одесса, январь 1824 г. — 8, 56).
Отчеркивает Горький и отчаянное пушкинское обращение, опять же к брату, теперь уже из Михайловского: «Христом Богом прошу скорее вытащить «Онегина» из-под цензуры... — деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи, — режь, рви. Кромсай хоть все 54 строфы, но денег, ради Бога, денег!» (Декабрь 1824 г. — 8, 83).
А спустя десять лет, в письме жене, Н. Н., Пушкин еще раз подтвердит свое отношение к литературе как «честной отрасли промышленности, доставляющей свободу и пропитание», такими словами: «Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости» (Н. Н. Пушкиной. СПб., 13 июля 1834 г. — 8, 342).
Но работать ради денег — поэт не может. В другом письме Пушкина к Наталье Николаевне Горький отчеркивает следующие строки: «Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу» (Михайловское, 21 сентября 1835 г. — 8, 369).
- 97 -
Горький А. М. История русской литературы [1908—1909].
Архив А. М. Горького. ЛСГ 2-17-1, л. 113.
- 98 -
А сообщая М. П. Погодину о своих делах — запрете издания «Медного всадника», выходе Пугачева, начале работы над материалами к истории Петра I, — он так характеризует свое положение и, одновременно, объясняет отношение ко всем этим вопросам: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег...
Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так» (СПб., 6 апреля 1834 г. — 8, 317).
Предлагая М. П. Погодину принять участие в издании разрешенной государем «политической газеты» («дело без вас не обойдется»), Пушкин так аргументирует свое предложение: «журнал будет торговым предприятием», а «я ни к чему приступить не дерзаю» (СПб., 11 июля 1832 г. — 8, 279).
Видимо, Горького, которому приходилось затевать немалое количество всяческих изданий, имея дело с ними и как «с торговыми предприятиями», интересует вся сумма этих вопросов не только по отношению к Пушкину, но и лично для себя.
Не случайно он тщательно отчеркивает на полях пушкинские на этот счет размышления, наблюдения, соображения, излагаемые им в письмах к самым разным лицам. В частности, и пушкинское замечание о том, что «политические газеты приносят своим издателям до 100.000 дохода, между тем как чисто литературная едва ли окупает издержки издания» (Бенкендорфу. Черновая редакция. — 8, 503). Отсюда — и вывод-пожелание: в союзники брать либо моду, либо политику. «Дело в том, что чисто литературной газеты у нас быть не может: должно принять в союзницы или моду, или политику» (П. А. Вяземскому. Москва, 2 мая 1830 г. — 8, 201).
Этот круг вопросов, акцентируемых Горьким в переписке Пушкина, ясно говорит как о пушкинском понимании вынужденности «торгового» направления его «ремесла», зависимости и от правительства, и от «моды» («публику почитаю наравне с книгопродавцами — пусть покупают и врут, что хотят». Л. С. Пушкину. Одесса, 1 апреля 1824 г. — 8, 61)60, так, вместе с тем, и о его понимании основ, в этом случае, своей писательской независимости («единственный способ благопристойной независимости»; или, в другой, стиховой форме выражения: «Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись продать»).
- 99 -
Непростой клубок из разных сторон одной проблемы тесно переплетен с кругом других вопросов, также акцентируемых Горьким на страницах Сочинений Пушкина: пушкинский аристократизм, его гордая духовная независимость — при постоянной опутанности «позором мелочных обид», под неусыпным жандармским наблюдением-опекой, выговорами, безграмотными вмешательствами цензуры и т. п.
Все эти вопросы для Горького были важны и в связи с Пушкиным, и — для себя лично, как проекция на собственное свое писательское положение, — хотя, казалось бы, совсем в иных обстоятельствах и абсолютно другого направления исторических условиях.
Безвыходная сложность пушкинского положения в 30-е годы не раз отмечается Горьким по его письмам и к жене, и к друзьям. «Кружусь в свете, жена моя в большой моде; все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения» (П. В. Нащокину. — 8, 287).
«Для вдохновения нужно сердечное спокойствие; а я совсем не спокоен» (П. А. Плетневу. — 8, 373).
Вместе с тем, с интересом отмечает Горький пушкинскую веру в юные годы во всемогущество поэта:
Минуты счастья золотые
Пускай мне Клофо не совьет:
В мечтах все радости земные!
Судьбы всемощнее поэт.(«Послание к Юдину», 1815. — 1, 125)
Отмечает и его увлечения, забавы юных лет:
Смертный! Век твой — провиденье:
Счастье резвое лови.
Наслаждайся, наслаждайся,
Чаще кубок наливай,
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!(«Гроб Анакреона», 1815. — 1, 132)
Но и в этом легком пушкинском отношении к жизни Горький акцентирует его, уже в те годы, умное лукавство:
Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье:
- 100 -
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с Портиком, и с книгой, и с бокалом,
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.(К П. П. Каверину. 1817. — 1, 208)
С удовлетворением находит Горький союзников среди современников Пушкина своему пониманию и суждению о его поэтической натуре, которые, как и он, умеют видеть «под легким покрывалом» его поэзии «верх ума, вкуса и вдохновения». Отчеркивая эти слова Плетнева о пушкинском «Разговоре с книгопродавцом» (из Комментария к стихотворению), Горький выделяет весь абзац с его оценкой: «Я уж не говорю о стихах: меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем — какая свобода в ходе! (1, 660).
Не ускользают от внимания Горького и «малые» пушкинские заботы даже зрелых лет. «Где ты достал краски для ногтей?» — подчеркивает он этот пушкинский вопрос из его письма Верстовскому (Болдино, в конце ноября 1830 года — 8, 223). Вопрос, веский аргумент возникновению которого дан самим же поэтом:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.(«Евгений Онегин»)
С другой стороны, отмечает Горький и пушкинскую веру в судьбу, его суеверие. В объяснении П. В. Нащокину, почему он просит вернуть ему, если тот найдет, вместе с «опекунским билетом» и «выроненную серебряную копеечку», Горький акцентирует слова поэта: «Если и ее найдешь, и ее перешли. Ты их счастию не веруешь, а я верю» (8, 271).
***
Пушкин первым «почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности, первым сделал ее — профессией, серьезным и ответственным трудом», и сам стал ее первым профессиональным писателем, — объясняет Горький еще одно «первоначало»
- 101 -
Пушкина для русской литературы своим слушателям лекций на Капри. До него она была «светской забавой» в руках господ, а писатель — их слугой («придворным или мелким чиновником»).
В этой связи он упрекает ростовского писателя П. Максимова: «...сокрушаюсь — почто Вы Пушкина засадили в «легкомысленные люди» (29, 181).
Ссылаясь на ряд стихотворений Пушкина, где дана его характеристика роли поэта и поэзии, в частности, на «Эхо», «Пророк», «Памятник», и называя эти стихи «самохарактеристикой» Пушкина, Горький подчеркивает глубокую их значимость для современных художников: «они поучительны как взгляд поэта на задачи его в жизни» (24, 85; 29, 180).
И — делает убедительный вывод не только для П. Максимова, но для всех современных русских писателей: Пушкин «всем нам навсегда учитель» (24, 96).
В Каприйских лекциях, идя по строкам пушкинских стихотворений, Горький аргументированно опровергает ставшее ходячим в то время мнение (и не только в то время: сторонников его немало было и прежде, и потом) о пушкинском якобы презрительном отношении к народу, подразумеваемому им будто бы под словом «чернь».
А в своих пометах на Сочинениях Пушкина отчеркивает обширный пассаж из его письма П. А. Вяземскому из Михайловского, говорящий об истинном отношении поэта к народу: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни — ей-Богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и проч. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитву, вероятно, сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом» (9 ноября 1826 г. — 8, 158).
Упоминание о няниной молитве, которую Пушкин относит ко временам Грозного, возникает у него, видимо, не без ассоциации с казнью декабристов и ссылкой товарищей, а фигура Ивана Грозного — не без проекции на поступок Николая I с декабристами. Очень может быть, что няня Пушкина выучила молитву об
- 102 -
«укрощении духа его свирепости» в связи с делом декабристов, многих из которых она знала как друзей своего питомца. И попы у нее «дерут молебен» — тоже по этому поводу.
В лекции о Пушкине Горький доказательно разъяснял, что под «чернью», презираемой Пушкиным, тот подразумевал вовсе не народ, как пытаются иногда истолковать некоторые критики, а завистливое светское общество, утратившее силу над поэтом, сделавшим литературу «ремеслом», «отраслью честной промышленности». Это дало ему независимость от покровителей и меценатов и средства для жизни.
На полях Сочинений Пушкина — своим отчеркиванием употреблений этого слова в различных контекстах — Горький убедительно показывает, что же такое «чернь» в понимании Пушкина и каково было его истинное отношение к народу.
О том, что во времена Пушкина слово «чернь» применялось довольно широко, ко всем слоям общества, а в них — к людям определенного сорта, а не было закреплено за одним общественным слоем, — говорят и самые разные свидетельства современников.
Находясь в Риме в момент смерти Пушкина, Гоголь пишет М. П. Погодину: «Моя утрата всех больше... Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним... Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово» (Н. В. Гоголь — М. П. Погодину. 30/18 марта 1837 года. Из Рима в Петербург. Курсив мой. — Л. К.61).
Пересказывая в письме к матери и сестре из Парижа свою беседу с одним из представителей так называемого «прекрасного общества» (кавычки адресата. — Л. К.), обвиняющего в смерти Пушкина — самого поэта, А. Н. Карамзин (сын историка Н. Карамзина) так передает свою с ним беседу:
«Он: «Только одна чернь проявила энтузиазм, но общество, в котором жил Пушкин, имело более прав судить его».
Я: «Это общество не имело никакого права, оно отринуло Пушкина, из зависти или почему — не знаю, оно всегда было ему враждебно и в час его смерти изменило народной славе и народным чувствам и стало достойно презрения. Что же касается того, что вы называете чернью, — то были военные, чиновники, артисты,
- 103 -
купцы и добрый народ русский, мнение которого, уж, конечно, стоит не меньше, чем мнение самозванного кружка без всякого веса» (А. Н. Карамзин — Е. А. и С. Н. Карамзиным. 28/16 февраля — 3 марта/19 февраля 1837 года. Из Парижа в Петербург. — Курсив мой. — Л. К.62).
Из приведенных материалов ясно: слово «чернь» во времена Пушкина имело широкое бытование, и каждый слой, в людях другого слоя, ему антипатичных, видел — «чернь».
Из сказанного можно сделать вывод, что «чернь» пушкинских времен — оказывалась весьма близка «мещанству» времен горьковских.
И это — одна из существеннейших метаморфоз социального явления, как в действительности, так и в искусстве двух разных эпох. Соответственно, и в художественных произведениях, и в поэтиках.
Не следует ни в коей мере соотносить «мещанство» как социальное явление, получившее широкое распространение во времена Горького и в XX-м веке вообще, с мещанским сословием пушкинских времен и XIX-го века вообще. В последнем случае это были городские жители, стоящие рангом ниже дворянского сословия на иерархической лестнице, но ничуть не ниже по своим качествам человека и гражданина.
Об этих «мещанах» своего времени Пушкин говорил с гордостью. Среди них он видел и защитника России Минина:
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.(«Моя родословная». — III, 209)
К ним он с гордостью и вызовом — по отношению к булгаринскому пасквилю — причислял и себя в «Моей родословной»:
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.(III, 208)
Чернь вельможная, околотронная — «Он (граф Воронцов. —
- 104 -
Л. К.) воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. Дьявольская разница!» (8, 107—108). «Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым им можно поступать как им угодно... Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога» (8, 331);
чернь великосветская, «известная под именем публики» —
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы...Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.(«Поэт и толпа». — III, 88—89);
чернь окололитературная (Булгарин и прочие):
Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!(III, 208)
Всем этим видам «черни» Пушкин адресует свое человеческое и писательское презрение, — как потом Горький будет адресовать свой гнев и сарказм всем видам мещанства его времен.
Этой «черни», кичащейся мнимыми «достоинствами», ухваченными нечестным путем, будь то звание дворянина, высокий чин или что другое подобное, Пушкин и противопоставляет свой истинный аристократизм — гордость шестисотлетним родом Пушкиных, «приложивших руку» к созданию Государства Российского (избранию первого царя из рода Романовых) и всегда державшихся независимо по отношению к его правителям (за что не раз попадали в немилость), и свое собственное вольнолюбие и независимость.
Тщательно фиксируя места, дающие представление о натуре поэта в этом плане, его гордом поведении художника, с такой славной
- 105 -
родословной, перед любым видом черни, будь то царские вельможи или сочинители пасквилей, Горький отчеркивает вопрос Пушкина из письма А. А. Дельвигу, на чем остановился Карамзин в написании «Истории Государства Российского»: «Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные!63 Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! да два руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я?..» (Михайловское, 8 июня 1825 г. — 8, 112).
Отчеркивает он и обращение поэта за советом к П. А. Плетневу, после гадкой булгаринской карикатуры (словесной) на род Пушкиных: «Думаю написать предисловие. Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, А. Пушкину, являясь перед Россией с Борисом Годуновым, заговорить о Фаддее Булгарине? Кажется, неприлично. Как ты думаешь? Реши» (Москва. Начало мая 1830 г. — 8, 203).
Интересно, что Горький не обходит вниманием и реакцию Рылеева на некоторые строки «Моей родословной»: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону.
Будь, ради Бога, Пушкиным! Ты сам по себе молодец».64
И — ответ Пушкина: «Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от сословия писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по-своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc» (там же).
Продолжая следить за темой, Горький приводит слова поэта из его заметок последующих лет, удивительным образом снимающие это наметившееся было противоречие: «Из всех моих подражаний Байрону дворянская спесь было самое смешное», — констатирует здесь Пушкин, как бы соглашаясь с Рылеевым.
Но объясняет это — совсем иным.
Вразрез соображениям Рылеева (с которым только что он как бы выразил согласие), но в pendant собственной мысли, выраженной в «Моей родословной», Пушкин пишет: «Аристокрацию нашу составляет дворянство новое, древнее же пришло в упадок; его права уравнены с правами прочих сословий... Принадлежать к такой аристократии не представляет никакого преимущества в глазах благоразумного
- 106 -
человека...» (там же. С. 90). В «Моей родословной»:
Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.(III, 208)
Отсюда, «смешно» гордиться «новым дворянством», чья разительная метаморфоза — налицо (М. Ю. Лермонтов: «Вы, жадною толпой стоящие у трона...»).
«Но от кого бы я ни происходил, — от разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, — образ мыслей моих от этого никак бы не зависел. Отказываться от него я ничуть не намерен, хоть нигде доныне я его не обнаруживал, и никому до него дела нет» (там же. С. 90).
И — как непреложный вывод из всей истории вопроса — пушкинское весомое решение для себя и других: «Что значит аристокрация богатства и породы в сравнении со влиянием аристокрации пишущих талантов?»65 (в чем невольное согласие с Рылеевым: «Будь, ради Бога, Пушкиным! Ты сам по себе молодец»).
В «Моей родословной» это звучит так:
Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.(III, 210)
(«Я — мещанин», то есть — человек городской, имеющий определенный род занятий («ремесленник»). Это — последняя ступень иерархической лестницы, в ряду перечисления тех основ, на которых зиждется независимость, гордость поэта в «Моей родословной».)
Понятие «аристокрации пишущих талантов» по отношению к
- 107 -
гордому, независимому поведению писателя-профессионала — было не чуждо, можно даже сказать, весьма близко и натуре Горького, независимой натуре художника иной эпохи, человеку с совершенно иной «родословной», но, как верно было подмечено Р. Ролланом, «аристократу духа».66
И дело здесь вовсе не в «спеси», будь она дворянская или мещанская, или еще какая-либо, — дело в чувстве гордости своим «честным ремеслом», профессионализмом в нем, высоким мастерством, дарующим художнику независимость от любых «сильных мира сего», но и налагающим на него огромную ответственность, быть может, не менее весомую своей значимостью, чем на правителей государства налагала «шапка Мономаха».
И найти правильный модус этого сложного соотношения писателя — с народом (для которого тот и пишет), с современной историей, о которой пишет, властями, цензурой, читателями — дело чрезвычайно ответственное и сложное.
Своими умными акцентами в пушкинском тексте на разных сторонах этого узла очень сложной соотнесенности Горький совершает чрезвычайно важное дело. Одним из первых он раскрывает пушкинскую многогранность в этих многосторонних соотношениях. Ибо, чаще всего, и писатели, и критики, и даже читатели выделяли, как правило (зачастую продолжают выделять и по настоящее время), одну из черт творческого поведения Пушкина: то — полную его независимость, абсолютное и безграничное свободолюбие, то, наоборот, якобы склонение головы перед царем (основываясь на определенных строках стихов, именно так понятых и толкуемых даже рядом друзей Пушкина), его будто бы тайную симпатию к самодержавию, любовь к русским царям и тому подобное.
Горький отчеркивает у Пушкина те места из его писем и других сочинений, что говорят о разных сторонах в отношениях Пушкина с царизмом, властями, с цензурой.
В многогранном по смыслу контексте следует рассматривать и два пушкинских послания различных периодов разным адресатам, но оба с апелляцией к примеру прежних времен (оба отмечены Горьким).
В «Первом послании цензору», где Пушкин указывает современному чиновнику на добрый пример его предшественников, когда цензура помогала правителям и властям, «И никому из них цензура не мешала» —
- 108 -
Ты что-то хмуришься? Признайся, в наши дни
С тобой не так б легко разделались они.
Ты в этом виноват. Перед тобой зерцало —Горьким целиком отчеркнута следующая строфа:
Дней Александровых прекрасное начало:
Проведай, что в те дни произвела печать;
На поприще ума нельзя нам отступать!
Старинной глупости мы праведно стыдимся:
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?(1, 329)
Это «Послание к цензору» (1821 г.) аналогично более позднему обращению Пушкина к Николаю Первому («Во всем будь пращуру подобен...»), за которое не только недруги, но и друзья обвиняли Пушкина в верноподданничестве.
В то время, как дух и смысл обращения был, говоря современной терминологией, наставительный, нравственно воспитательный. А его стиль — в стиле многих иных пушкинских обращений (будь то к «племени младому, незнакомому», или к цензору во «Втором послании», или к кому другому), по сути — повелительный: «будь!»
Фактически, это было продолжение «песни юных лет»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма». Продолжение и по смыслу (утверждение всего светлого), и по стилю и жанру: «наказ», причем, в повелительном наклонении — «Будь подобен». И сделан он по отношению к сильным мира сего (царю, цензору), от которых зависела судьба поэта и его творчества («профессии», «честного ремесла»), и не только поэта, но и судьба народа и государства.
Снова, как равный к равному, Пушкин обращается не только что к вельможе, но даже — к царю. И не с одою, а с указанием на пример для подражания («будь подобен», если желаешь быть полезным для государства, народа и уважаемым им), — на пример его «пращура», Петра Первого.
Словом, Горький выделяет у Пушкина те места, что говорят о неординарности, неоднозначности его отношений с властями и цензурой.
- 109 -
Акцентируя место из письма П. А. Вяземскому от 6 февраля 1823 г., где Пушкин благодарит его за «щелчок цензуре» и добавляет: «она и не этого стоит», Горький отмечает такой пушкинский пассаж: «пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосам; презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся». А также — следующую за ним фразу: «Дайте нам цензуру строгую, — согласен; но не бессмысленную» (8, 39).
Последние слова поэта выказывают понимание смысла ее существования. Но и требование ее профессионализма: пускай будет строгой, но не бессмысленной.
Отсюда — не без сарказма — сказано им в другом письме, также выделенном Горьким: «Равнодушию правительства и притеснению цензуре обязаны мы духом нашей словесности» (Рылееву. Черновое. Михайловское, май 1825 года. — 8, 108).
Непонимание порой стихов и поведения Пушкина и некоторыми его современниками, и многими его потомками — компенсировалось — от имени новой эпохи — родоначальником этой эпохи, Горьким.
И сам этот факт был в духе совершенно пушкинского же отношения к прошлому, уважения к нему («Неуважение к минувшему есть признак дикости или варварства». Особенно неуважение к тому, что было полезного в нем для потомков).
Интересно, что пушкинское отношение к государственным институтам, в том числе и цензуре, проскакивающее даже в его личных письмах к Н. Н., подчеркивает в своих отметках на полях и Горький. Так, из письма Пушкина к Н. Н. он выделяет строки: «Жду от тебя письма об Ярополице. Но будь осторожна... вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность» (8, 332).
Но той же Н. Н. — в другом своем письме — Пушкин четко определяет разницу: одно дело право цензуры, следящей за государственной безопасностью, просматривать корреспонденцию, хотя это бесчестно и противно, но совсем другое, если она сама дает читать письма. («Смотри, женка: надеюсь, что ты моих писем списывать никому не дашь; если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом; но если ты виновата,
- 110 -
так это мне было бы больно. Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе, не для печати; а тебе нечего публику принимать в наперсники. Но знаю, что этого быть не может; а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет» (Н. Н. Пушкиной. 18 мая 1834 года. Из Петербурга в Ярополец. — Х, 485).
Он же, 3 июня 1834 г., из Петербурга в Полотняный завод, Н. Н. Пушкиной: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство... Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности... невозможно: каторга не в пример лучше» (Х, 487—488).
Жандармский же надзор за собой, мелочную опеку, слежку, Пушкин не только не извиняет, но всякий раз, и в письмах друзьям (не боясь, что будет прочитано цензурой), и прямо в лицо высоким чинам, высказывает гнев свой и возмущение. И это Горький также отмечает.67
Интересно наблюдать, как тщательно прослеживает Горький все нюансы отношений Пушкина к правителям государства Российского.
Из его письма от 4 декабря 1825 (из Михайловского), связанного со смертью Александра I и прожектами, кто будет вместо него, Горький выделяет следующую фразу: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I: в нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше» (8, 143).
А из письма А. А. Дельвигу из Михайловского (январь 1826) — отчеркивает: «Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я конечно не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам — но никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революции» (8, 148).
Напомним — в том же плане — пушкинскую «гармонию контрастов»:
- 111 -
Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ...Царь входит и вещает:..
................
«Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».От радости в постеле
Распрыгалось дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А Мать ему: «Бай-бай! Закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши как царь-отец
Рассказывает сказки».(I, 342—343)
И — вместе с тем:
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.Полней, полней! и, сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.(II, 277)
В то же время, не соглашаясь с А. А. Бестужевым, что в России писатели не были «ободрены» правительством, Пушкин аргументированно возражает ему из Михайловского (а Горький выделяет весь этот абзац): «Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он еще не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрен, Жуковский не может жаловаться,
- 112 -
Крылов — также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг; посмотрим, когда появится его Гомер». И — заключает: «Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава Богу!» (21—24 марта 1825 года. — 8, 98).
В эти годы тема отношения к царям у Пушкина весьма частая. И Горький, чтобы правильнее, ближе к истине уяснить его отношение, тоже весьма немало останавливает на ней внимания. Видимо, чувствуя у Пушкина нечто себе родственное в отношении к властям, он пристально следит за всей «гармонией контрастов» пушкинских высказываний.
Сообщая М. П. Погодину о своей беседе с царем — по поводу издания газеты, для чего он выпрашивал Погодина в сотрудники — и о его реакции на эту просьбу (сначала — нахмурился, решив, что речь идет о Полевом), Пушкин не без иронии к царской «просвещенности» замечает: «Он литератор не весьма твердый», тут же добавляя: «хоть и молодец, и славный царь» (5 марта 1833 года. — 8, 288).
А в письме к П. А. Нащокину, спустя год (март или апрель 1834 года), после сообщения Пушкина о запрете издания «Медного всадника», Горький отчеркивает о том же Николае Первом такие пушкинские слова: «За то Пугачев пропущен, и я печатаю его на счет Государя. Это совершенно меня утешило, тем более, что, конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах и верно не думал меня кольнуть» (8, 316).
В письме Пушкина к Наталье Николаевне (из Санкт-Петербурга от 20—22 апреля 1834 года) Горький выделяет тему пушкинского рода, даваемую поэтом теперь не только в ретроспекции его отношений с царским родом, как в «Моей родословной», но и в перспективе отношения к «племени младому» в его же собственной семье.
После сообщительных о себе сведений («Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз, и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю: от добра добра не ищут»), — он делает наказ старшему сыну, совсем в том же духе и стиле, как в своих обращениях к царям, давая ему, как представителю «племени младого», отеческие наставления (с оттенком своего твердого, как главы семейства, желания): «Посмотрим,
- 113 -
как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет» (8, 325).
Во всех этих вопросах, видимо, проявляется то качество пушкинской художнической натуры, которое открыл, с удивлением для себя, историк-академик Тарле: история для Пушкина — дело семейное, следовательно, родовое, то есть — столь же близкое, родное, сколь и важное для истории как любой общественный, государственный факт или событие.
Говоря о том, что «Пушкин не только ощущал историю, но и сумел подойти к истории, и прежде всего к русской истории, по-особенному, так, как никто из наших историков до него еще не подходил», Тарле видит это особое пушкинское ощущение и его особый подход в том, что «для Пушкина русская история и Россия были как бы своей семьей, своим домом, по-семейному родными и история для него была чем-то вроде расширенной их, Пушкиных, семейной хроникой».68
«То, что Пушкины часто сталкивались с царями и очень во многом расходились с ними — все это так переплетено с историческими событиями, что совершенно невозможно отделить историю пушкинского рода от истории Руси» (212).
«Они сливались у него так естественно, что даже не удивляешься, когда сталкиваешься с его — таким совершенно необычным — подходом к историческим явлениям» (там же).69
Тарле называет «Капитанскую дочку» Пушкина — «идеальным историческим романом», находя, что в этом качестве («как исторический роман») произведение Пушкина «превосходит величайшее произведение русской литературы — «Войну и мир».
«Война и мир» — великий роман, нет сомнения. Но в «Войне и мире» действуют персонажи, которые сплошь и рядом говорят не как офицеры 1812 года, а как офицеры крымской кампании или даже более позднего времени. Могучий талант Толстого все превозмогает, и мы верим всему, а герои «Капитанской дочки» — говорят и думают так, как они на самом деле могли думать и говорить в 1774 году» (220).
И завершает Тарле свои соображения об особенном подходе Пушкина к истории такими словами: «Вот мысли, которые сами
- 114 -
собой приходят в голову, когда начинаешь думать о том, что в Александре Сергеевиче Пушкине мы потеряли великого историка» (там же).
В кажущемся — на взгляд историка-специалиста — «особенном подходе» Пушкина к истории (да и на любой другой, обычный взгляд) сказывается та же «первозданность» пушкинского мировосприятия, «первородность» его мышления, удивительная «соразмерность и сообразность» в правильности «распределения» («иерархии»), и не только «предметов» и явлений природных, но и явлений, и предметов социальных, общественных, исторических, чему поражался, подобно Л. Толстому, и Горький. И поражался, и глубоко понимал ее.
Понимал естественную для Пушкина реакцию на ряд исторических событий (например, польское восстание 1830 г: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей» (П. А. Вяземскому. 1 июня 1831 г. — Х, 351—352).70
Художнику иной эпохи, времен как бы заново создаваемой истории России, пушкинское особое отношение к истории было близко своей новорожденностью.
Но у Пушкина «домашний», «семейственный» характер его исторических воззрений и отношений ничуть не мешал любить человечество; напротив, он органически возводил, как бы поднимал по иерархической лестнице от «дружества» и любви к конкретному человеку — к пониманию, дружбе и любви других народов, иными словами, от единичного, корней своей «родословной» — к общему, всечеловеческому.
Поворот в истории XX-го столетия, — и не только в России, и не только поворот политический, скорее и больше даже экономический, — вырвал человека из его домашней среды, из ближнего окружения. «Активность исторического процесса, выводящего всех и каждого за ограничивающие рамки определенной социальной среды», поставила каждого отдельного человека «лицом к лицу со всей исторической действительностью и тем самым уже вне рамок воспитавшей его среды». «Человек уже не может уклониться от широты жизненных связей».71 Нарушив природную, естественную иерархическую лестницу его чувств и отношений, разорвав прежние связи,
- 115 -
этот поворот поставил человека перед необходимостью иных, более широких связей и отношений.
Горьковский афоризм, с оттенком сильной горечи: «Когда желаешь осчастливить сразу все человечество — человек несколько мешает этой задаче», выведенный им из наблюдений над политикой нового российского правительства, очень точно выразил это (М. Горький и Р. Роллан. Переписка. С. 47).
И горьковская история отношений с руководителями вновь созданного российского государства оказывается и близка, и — далека от пушкинской.
«Я его любил, и — люблю. Любил с гневом» — так определит Горький свое отношение к Ленину (в ответ на просьбу Роллана сказать «всю правду о великом человеке, без прикрас»). Любил за «неукротимую вражду ко всему, что искажает человека»; и «гневался», не соглашаясь с его желанием «упростить человека, упростить жизнь».72
Особый интерес и особенное внимание у Горького, подобно Пушкину, было к фигурам народных вождей.
У Пушкина это объяснялось характером его историзма (о чем речь шла выше не раз): отношением к истории как к прямому и непосредственному прошлому своей «семьи». Его ощущением и пониманием истории Государства Российского как длинной, более чем шестисотлетней истории и рода Пушкиных, «приложивших руку» к избранию Романовых.
У Горького — иным, новым духом другой эпохи, времени борьбы бесправных прежде трудящихся масс за свои права; отсюда, и несколько иным отношением к истории, и иным ее пониманием: история человечества как история «непрерывно растущего человека», как «распрямление» человека, возвышение его личности (поднятие его с колен — и в физическом, и в нравственном смысле: от позы «мордой упершейся вниз», говоря словами Маяковского, к становлению творческого сознания и творческого поведения).
Но и у того, и у другого вызывали в равной мере повышенный интерес и образы руководителей Государства, и образы вождей Народных восстаний, как сами по себе личности великих людей (у Пушкина — Емельян Пугачев как человек, «потрясавший третью Государства», управляемого тоже великой личностью — Екатериной Второй; у Горького — Степан Разин).
- 116 -
Но что — немаловажно: и те, и другие личности интересовали обоих великих художников не только по их роли в истории Государства Российского, но и в гуманистическом аспекте, в своих человеческих качествах.
Так, в одном из своих стихотворений далеко не раннего периода, «Герой» (1830), с весьма красноречивым эпиграфом к нему: «Что есть истина?» (вопрос Понтия Пилата Христу; Евангелие от Иоанна) и в не менее характерном для Пушкина типе беседы (между Поэтом и Другом, как обозначены эти два лица), Друг, в ходе рассуждений о «прихотях славы», вопрошает Поэта:
На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на чреде иной
Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?— на что получает ответ его:
Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирялися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.Но поражают поэта не картины славы Наполеона или его изгнания, а одна сцена из его жизни, говорящая о бесстрашном гуманизме «тирана», за что стихотворению (соответственно и его герою) поэтом присвоено имя «Герой». Это — посещение Наполеоном (по преданию) барака с его солдатами, болеющими чумой:
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменый мощною чумою,
Царицею болезней; он,..
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость...(III, 198—199)
В еще более позднем стихотворении (1835 года), уже о другом Герое — «Пир Петра Первого», — поэт обращается к читателям в той же манере вопросов:
- 117 -
Что пирует царь великий
В Питербурге-городке
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?Сам же подсказывая возможные варианты причин пира —
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
...Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
...Родила ль Екатерина?
Именинница ль она...,он, как и в стихотворении о Наполеоне, дает весьма неожиданный ответ на поставленный вопрос:
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.(III, 350—351)
Для обоих стихотворений о двух великих, хотя и весьма различных по всем статьям исторических личностях, общим является этический ракурс авторского взгляда и его гуманистический пафос. Это очень точно выразилось в эстетической оценке каждого уже самим названием стихотворения. В первом случае — «Герой», но за подвиг не на поле брани:
...хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость...;во втором — «Пир», но не в честь победы над врагом или рождения наследника:
Нет!
Он с подданным мирится;
- 118 -
...И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.И — далее:
Оставь герою сердце; что же
Он будет без него? Тиран!(III, 200)
Эти заключительные слова из стихотворения «Герой» были отчеркнуты Горьким на полях Собрания сочинений Пушкина. Видно, что они для Горького были принципиально важны в его понимании и отображении великих личностей.
Столь же значительным представлялся ему и вывод Поэта из этого же стихотворения:
...Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой.(Там же. С. 199—200)
В период каприйских лекций, когда русские писатели (особенно Пушкин) были у Горького на первом плане, он начинает собирание материалов о Разине. «Что Вы знаете о Степане Разине, кроме Костомарова, Соловьева и т. д.? — обращается он к А. В. Амфитеатрову. — Нет ли специальных исследований? У раскольников нет ли чего? Помогите, ибо этот человек, названный Пушкиным «единственным поэтическим лицом русской истории», спать мне не дает. Напишу я его, видимо. Может, не напечатаю, а уж напишу!» (29, 104).
В апреле 1913 г. Ф. И. Шаляпин пишет Горькому из Москвы: «Вместе с этим письмом я пришлю тебе отдельно библиографические сведения о Степане Тимофеевиче Разине, может, тебе что и пригодится. Собрал их по моей просьбе один приятель мой».
Летом того же года Горький дважды просит И. П. Ладыжникова подобрать материалы о Степане Разине в петербургских книжных магазинах и в Публичной библиотеке.
- 119 -
А в прессе этого времени уже стали появляться сообщения такого характера: «С. И. Зимин просил Максима Горького написать либретто для новой оперы. Возбуждает интерес — что даст отшельник с Капри? Его мечта написать либретто для Ф. И. Шаляпина на тему о Стеньке Разине» («Театр», 1913, № 1388, 14 ноября. С. 9).
«Знаменитый бас давно уже уговаривает своего друга написать либретто для оперы. Особенно его интересует сюжет из похождений Стеньки Разина, которого артист давно уже мечтает воплотить на сцене. Горький обещал подумать об этом и при первой возможности исполнить просьбу своего друга. Когда либретто будет готово, Глазунов обещал написать музыку. Таким образом, предстоит интересный триумвират: Горький, Глазунов, Шаляпин» («Вечерние биржевые ведомости». 12 июля 1915 года).73
Но либретто написано не было, «интересный триумвират» — не состоялся, по целому ряду причин и объективного плана, и субъективного: современная история России стала так себя выказывать и требовать от ее «буревестника» стольких сил и внимания, что давняя история отступила перед ней на второй план; к тому же и пути-дороги прежних друзей в новой истории стали сильно расходиться.
Но образ Степана Разина не покидал Горького. В следующее десятилетие им было написано два сценария (по договору с представителем французской кинофирмы С. М. Гороном).
В рукописи первого сценария (1921 год), кроме заглавия на титульном листе «Степан Разин. Народный бунт в Московском государстве 1666—1668 годов», стоял еще титул: «Казацкий бунт в XVII столетии».74
Во втором сценарии, кроме ряда новых фактических данных, Горький, по его выражению, «где это можно было сделать, не нарушая истины, смягчил характер Разина»: «Ввел новое лицо: песенника Бориса, который проходит почти сквозь весь сценарий, являясь как бы стражем добрых чувств Разина, затем уходит от него и, впоследствии, — заключительная картина — славословия Разина».75
Вот некоторые из этих сцен.
- 120 -
V
Пещера отшельника на берегу реки. Отшельник, маленький седой старичок, молится, стоя на камне. К нему идет Разин, старик не замечает его. Разин с минуту наблюдает за ним.
VI
— Довольно, старик! Я пришел рассказать тебе жизнь мою. Может быть, есть бог, ты умрешь скоро, так вот, — выслушай меня и расскажи богу.
Разин стаскивает отшельника за полу и, усадив его на камень, рассказывает жизнь свою; волнуясь, то загорается гневом, то печально разводит руками, говорит:
— Может, я многих людей зря погубил, ну все-таки: мой грех — не царский грех, не против всех!
VII
Встал, обнажил голову.
— Вот. Отец, я тебе все рассказал. Коли есть бог — скажи ему: на земле и праведное дело без греха не сделать! Это уж не наша, людская, вина.
Старик властно говорит:
— Встань на колени, проси прощенья!
Разин отрицательно мотнул головой:
— Ни пред кем не вставал и пред тобой не встану. Я — не каяться пришел, а рассказать. Прощай. Скажи спасибо, что я тебе голову не срубил!76
Финал сценария был таков:
XV
Прошли года.
В лесу, на поляне группа разнообразно вооруженных людей, разбойники. Среди них — старик с гуслями, поет о Разине:
Жил да был справедливый
козак,
- 121 -
Жил Степан Разин, Тимофеев
сын.
Он бояр казнил, бедный люд
любил...XVI
Разбойники благодарят старика за песню. Атаман их дает ему денег, спрашивает:
— Как тебя звать, дед?
— Борис.
XVII
В избе, тесно набитой взрослыми и детьми, за столом сидит дед Борис, играя на гуслях, поет:
Кто людям послужил, тот и богу послужил,
А грехи его тяжелые — не нам судить.
Тут и кончена песня про Разина,
Про удалого Степана Тимофеева.(Там же. С. 220)77
При всей разнице личностей родоначальников двух различных художественных эпох (и при не меньшем различии самих исторических эпох, начал XIX-го и XX-го вв.), оба сходились в понимании решающей роли для человеческой личности — гуманистических, нравственных основ, равно важных и для великих, и для малых. Основы эти рассматривались каждым и применительно к себе (может, в первую очередь к себе), не без доли юмора, за которым был скрыт порой вопрос серьезный.
(Например, пушкинские о себе эпитафии:
Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет,
И молвит: то-то был поэт.
- 122 -
Или — Горький о себе: «Я антропофил, геофил: для меня, прежде всего, существует человек и земля, на которой, работая, он создает для себя «вторую природу».)
Отношение к истории России как истории «семейственной», в которой род Пушкиных принимал прямое и непосредственное участие, органично вызывало в поэте «родственное» отношение и к дальнейшей истории России, не отчужденное, а очень-таки заинтересованное и ответственное.
Отсюда — гордость, и не только своим родом (и родиной), но и государством. Россией как великой державой78. Ее победами. Ее силой. И — «наставление», «наказ» ее правителям.
Но отсюда же и возмущение всем, что унижало Державу, — поведением «словесной братии» и знати перед иностранцами.
Услыхав о характере приема в Петербурге «путешественника Ансело», Пушкин пишет П. А. Вяземскому (Псков, начало июня 1826 года): «30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь. Когда приедешь в Петербург, овладей этим Lancelot (которого я нисколько не помню) и не пускай по кабакам отечественной словесности» (8, 155).
Горький отчеркивает далее обширный абзац, видимо, близкий его чувствам и мыслям: «Мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. При англичанах дурачим Василья Львовича; пред m-me de Stael заставляем Милорадовича отличаться в мазурке. Русский барин кричит: Мальчик! Забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Все это попадает в его журнал и печатается в Европе. Это мерзко.
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног; но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство» (там же).
Пушкинское отношение к этим вопросам — крайне близко Горькому. В переписке с Ролланом он с болью говорит о чертах азиатчины в русском характере, раскрывает ему «великую муку свою» и тревогу за народ, за его «загадочную душу» (на что Роллан реагировал так: «Да, я всегда чувствовал по Вашим произведениям, что Вы «больны Россией», больны с детства; и я люблю Вас за эту благородную болезнь»79).
Не менее близко и понятно Горькому и пушкинское желание уехать
- 123 -
из России в это время. В том же письме, после перечисленных фактов недостойного поведения «литературной братии», следует обращение Пушкина к Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь оставаться в России? Если царь даст мне
свободу{/норма}, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке...». А в конце письма Пушкина к Н. Н от 18 мая 1836 года Горький отчеркивает такие слова: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать» (8, 392).
Своим отчеркиванием определенных мест пушкинского текста Горький дает современному читателю путеводную нить в прочтении и целостном понимании столь контрастных пушкинских реакций и высказываний.
Рассматриваемые далее вопросы относятся к понятию, которое определяется современной терминологией как «образ жизни» или «творческое поведение» художника (Д. Стариков), как «стиль личности», создаваемый «единством понятий и поведения» (В. Сквозников), или — «единство текста и жизни» (А. Битов).
По пометам Горького на полях сочинений Пушкина видно, что весь этот блок вопросов интересовал его не только для Каприйских лекций.
Он был важен Горькому и для соотнесения своей собственной линии поведения — с пушкинской, которая даже в этих вопросах, казалось бы, совсем иначе стоящих в пушкинские времена царской России, была для Горького не только важна, но и поучительна, служа примером порядочности («всем нам навсегда учитель»), а говоря пушкинским определением — примером «литературной совести».
Уважение вызывает у Горького отношение Пушкина к своим предшественникам, собратьям по перу, незаслуженно забытым или высмеиваемым современниками.
«За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей» (8, 376), — отчеркивает Горький эти слова поэта из его письма И. И. Лажечникову.
Также отмечает он и строки из другого письма, к А. А. Бестужеву: «Покамест жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о русской литературе забыть Радищева?» (8, 41—42).
- 124 -
За Радищева, тем более пострадавшего в екатерининские времена, Пушкин вступается не раз, на что обращает внимание Горький. К пушкинской фразе, оправдывающей «непостоянство» взглядов Радищева: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют», — Горький ставит знак
NB{/норма}. Вместе с тем, он не проходит мимо и пушкинской справедливости в оценке писателя; отчеркивает из его статьи «Александр Радищев» фразу: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком» (6, 392) и, одновременно, обращает внимание на его характеристику с точки зрения человеческой порядочности («рыцарская совестливость» Радищева).80
Выделяет Горький целую строфу Пушкинского послания Чаадаеву, чьим мнением поэт особенно дорожил, в противоположность лицам, саркастически высмеиваемым в этом же послании:
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор?(1, 285)
Отмечает для себя Горький и бескорыстное пушкинское восхищение удавшимися произведениями своих современников, как старшего поколения, так и молодых.
«...а сцена с отцом! — чудо!» — подчеркивает Горький слова пушкинского восхищения «Эдой» Баратынского в письме барону А. А. Дельвигу (Михайловское, 20 февраля 1826 года. — 8, 150)
И — целиком выделяет большой пассаж пушкинского восторженного принятия гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Из письма А. Ф. Воейкову (Царское село, между 21—25 августа 1831 года): «Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился» (8, 259).
Не проходит мимо внимания Горького и мудрая пушкинская поддержка, признанного в это время уже великим, не сравнимым ни с
- 125 -
кем поэтом, своего менее великого собрата, в трудную для того минуту непонимания и непринятия критикой лучшего его творения: «Вспомните, что меня лет 10 сряду хвалили Бог весть за что, а разругали за Годунова и Полтаву», — утешает он таким благородным сравнением с собой М. П. Погодина, которого критика «разбранила за Посадницу» (Марфу-Посадницу). И при этом выражает твердую надежду, что «это никакого влияния не будет иметь на ваши труды» (8, 278).
А на леность Вяземского, которого он считает талантливым поэтом, Пушкин реагирует так: «Милый мой, поэзия — твой родной язык, слышна по выговору... И нет над тобою... моей няни Василисы, чтоб на тебя прикрикнуть: извольте-де браниться в рифмах, извольте жаловаться в стихах» (25 августа 1825 года. Михайловское. — 8, 127).81
«Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», — выделяет Горький слова Пушкина из письма П. А. Вяземскому (после казни декабристов) и его надежду на помилование товарищей (в связи с коронацией Николая I): «Еще-таки я все надеюсь на коронацию» (14 августа 1826 года. Михайловское. — 8, 157).82
Отмечает Горький и пушкинское сожаление, что ему не удалось встретиться с Белинским, мнением которого он, видимо, дорожил. Посылая П. В. Нащокину два экземпляра изданного им журнала «Современник», Пушкин просит его: «Один отдай кн. Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому... и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться» (СПб., 27 мая 1836 года. — 8, 393).
«Рыцарская совестливость», отнесенная Пушкиным к Радищеву, не в меньшей мере характеризовала и самого Пушкина.
В паре с «рыцарской совестливостью» в натуре поэта было и то, что сам Пушкин называл «совестью литературной» (напомним: «обычаи и традиции должны ли порабощать литературную совесть?»), и что иными словами можно было бы назвать художественной истиной.
Эта пара «столпов» в творчестве, образе жизни и личности Пушкина определяет, во многом объясняет и характеризует его творческое поведение.
- 126 -
Пушкин в среде героев Горького.
В художественном мире Горького Пушкин выступает так же всеохватно, многогранно и разносторонне, как в его высказываниях и пометах на собрании сочинений.
Различные мнения разных лиц о творчестве и судьбе поэта, стихи и мысли Пушкина, произносимые тем или иным персонажем преломительно к общественным ситуациям, конкретным обстоятельствам своей жизни; образы и фигуры пушкинского творчества, возникающие перед героями Горького в самых разных моментах и случаях их жизни, — таков далеко не полный перечень «явлений» Пушкина на страницах прозы Горького.
Упомянутый нами в начале главы сборник «М. Горький. О Пушкине» под редакцией С. Д. Балухатого (1937 г.), где впервые были собраны высказывания из писем, статей, речей и художественных произведений Горького о нем, а также подробный и тщательно составленный справочный «Указатель имен, названий и событий, упоминаемых в «Жизни Клима Самгина» (последнее издание ПСС Горького, том 25), дают ценный материал для представления о «бытовании» Пушкина в художественном мире нового века, в его «пестрой» (говоря одним из любимых Горьким словом), разнороднейшей и разнохарактернейшей — идейно, социально, нравственно — среде.
Между тем, такой аспект исследования почему-то прошел мимо и пушкинистов, и горьковедов. Отнесемся же к нему со вниманием.
В одном из ранних рассказов Горького, «Ярмарка в Голтве» (1897 г.), «остробородый ярославец», торгуя предметами для ублажения тела: «— Паж-жалуйте-с! Заграничные товары!.. Благовонные мыла! Небесные духи!», а также пособиями для ведения домашнего хозяйства («Болезни домашних животных», «О разведении кур» — не желаете ли просветиться? Пять копеек цена»), предлагает предметы и для души, так их аттестуя и оценивая: «Столичные книги!.. для приятного чтения-с»: «очень занимательная история — смерть господина Ивана Ильича... Графское сочинение — за двугривенный, дешевле никто не продаст!»... «Князь Серебряный» — «про царя Ивана Грозного»... за тридцать пять копеек»; «Загробная жизнь, или о том, что ждет душу нашу по смерти»... Весьма полезно знать — цена полтина!»
- 127 -
Пометы А. М. Горького в 3-м томе «Сочинений и писем А. С. Пушкина»
(1903 г., под ред. П. О. Морозова). Музей А. М. Горького. ОЛБГ № 2680.
- 128 -
Среди перечисленных предметов и книг предлагаются и «стихи поэта Пушкина-с — по пятачку и по три копейки книжка», которые разбитной торговец характеризует так: «Прекрасные стихи — самого веселого содержания» (3, 97—98).
Стихи Пушкина, как видим, среди заморских потребительских товаров и «столичных книг» оказываются самыми дешевыми: видимо, оттого, что в моде в это время темы не жизни, а смерти, мотивы не радостей и веселья, а загробные, конца света; к тому же на цене более высокой для сочинений Пушкина торговец, по его представлениям, настаивать перед покупателями не смог бы: Пушкин — не граф.
Как известно, рассказ этот написан был Горьким почти с натуры, он отражал его впечатления в период пребывания на Украине в 1897 г. и первоначально имел подзаголовок «Очерк» («Нижегородский листок», 20 июля и 03 августа. — 3, 527).
В другом рассказе раннего Горького, под выразительным названием «Проходимец» (написан в 1897 г., опубликован в 1898), герой использует стихи Пушкина для подкрепления и оправдания своих далеко не лучших пристрастий и черт характера: «Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и, в течение ночи, десять раз умрешь и воскреснешь... Бьешь карту, а точно вырываешь у человека из сердца кусочек горячего мяса с нервами и кровью... Сочно! Этот постоянный риск падения — самое лучшее в жизни, и самая лучшая мысль выражена так:
Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю!83Великое наслаждение есть в этом... и вообще хорошо себя чувствовать можно только тогда, когда чем-нибудь рискуешь. Чем больше риску, тем больше жизни...» (3, 349—350).
Слова Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина разными героями Горького эксплуатируются не раз, оцениваясь и приспосабливаясь каждым к своей натуре и обстоятельствам.
Если герой «Проходимца» желает выразить ими перед случайным спутником свои азартные, до кровожадности, наклонности, то герой рассказа «Неприятность» Миляев, — «поэт из признанных, дописавшийся до эпитета «маленький, но симпатичный талант» («мужчина лет под тридцать, с пышной шевелюрой и темными карими
- 129 -
глазами»), — растолковывает смысл этих слов, в которых он видит ключ к своему творчеству, перед девочкой-гимназисткой.
Придя к знакомым, но застав дома лишь Верочку, Миляев, из разговора с ней, приятно удивлен серьезным увлечением Верочки мотивами разочарования и грусти в его стихах (хотя сам он создавал их без всякой грусти).
Верочкина искренняя вера в истинность чувств, выраженных в стихах человека, сидящего перед ней, и ее детские вопросы: «почему?» в местах, где она чувствует какое-то противоречие — «Вы не любите действительности, и днем вам все кажется грубым и дурным... и в то же время вы говорите, что вам всегда приятно видеть, как первый солнечный луч возвращает вас к реальности, убивая своим светом ночные видения и чувства... Я не понимаю — почему это? Почему вам «сладко видеть разрушенье светом солнца ночи грез»? — настраивают Миляева на продолжение роли, принятой в его стихах.
«Думая, он сделал себе грустное лицо — он всегда, говоря о себе, делал грустное и убитое лицо человека, обиженного жизнью и разочарованного в ней... — Почему, говорите вы?.. не знаю, поймете ли вы меня... Постараюсь быть понятным. Для людей моего типа есть и будет:
Наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю...Я не умею верить, и, право, мне нечего ждать от жизни. Я одинок. Меня не понимают. В то же время я многого хочу и знаю — не найду я ничего, ничего! Но, по свойственному человеку стремлению к лучшему, я увлекаюсь, воображаю, несколько минут живу миражами воображения и — сам разрушаю их. Сам, — раньше, чем это сделает жизнь. Опережая ее, я чувствую горькое довольство самим собой. И это все, чем я живу» (2, 130).
Полагая, что Верочка не поймет и «не станет ловить» его «на противоречии с самим собой или читать мораль», герой не предвидит неожиданной реакции ребенка.
Приняв «все его слова за чистую монету», Верочка «вскричала с печалью и болью в голосе:
— Я так и представляла вас себе. Но это... страшно! Какой вы... несчастный...».
- 130 -
А Миляев, продолжая свою тираду разочарованного и никем не понятого поэта (помесь байронизма в самом худшем виде, высмеянного еще Пушкиным, с современным декадентством апокалипсического толка, не раз высмеиваемым Горьким84), доводит ее до высоких нот.
«— Да... живется нелегко... Из любопытства живешь... единственно из холодного желания знать, какой мелочью завтра будет отличено от сегодня? А настоящего, горячего желания жить... даже желания желать чего-либо — нет. Душа опустошена жизнью. Холодно и скучно».
Кончается тем, что герою приходится ретироваться: доведенная до слез и стихами, и словами несчастного поэта, чья душа настолько «опустошена жизнью», что у него нет «даже желания жить», Верочка хотела «броситься на его грудь», утешить, отдать всю себя и свою жизнь ему. «Но когда она подняла голову, его уже не было на террасе. Издали доносились торопливые шаги по полу комнат» (2, 131—132).
С иной целью произносит и по-иному толкует эти же пушкинские строки главный герой романа «Жизнь Клима Самгина».
Получив в очередной раз возможность «думать о мысли» (в связи с ответом новой служанки на вопрос, дома ли он? «— Дома, — звучно и весело ответила девица»), — Самгин, которому по его собственному признанию, «думать о мыслях легче и проще, чем о фактах» жизни (21, 132), рассуждает сам с собой.
«Дома у меня — нет, — шагая по комнате, мысленно возразил Самгин. — Его нет не только в смысле реальном: жена, дети, определенный круг знакомств,.. нет у меня дома и в смысле идеальном, в смысле внутреннего уюта...».
И, как бы оправдывая отсутствие у себя «дома» во всех этих смыслах и возлагая вину за это на современное человечество («Уот Уитмэн сказал, что человеку надоела скромная жизнь, что он жаждет грозных опасностей, неизведанного, необыкновенного...»), Самгин характеризует слова Уитмэна как «кокетство анархиста» и подкрепляет их пушкинскими строками (без указания первоисточника):
Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю.А завершает характеристику того и другого вкупе — весьма
- 131 -
уничижительно: «Романтизм подростков... Майн-Рид, бегство от гимназии в Америку» (22, 114).
Постановкой пушкинских строк в контекст своей мысли и пренебрежительным, как бы сквозь зубы, произнесением: «Кокетство анархиста... «Есть наслаждение в бою / И мрачной бездны на краю», — и собственным уничижительным их толкованием: «Романтизм подростков... Майн-Рид, бегство от гимназии в Америку...», — Самгин лишает эти строки их основного смысла и пафоса.
Всем трем различным толкованиям пушкинских строк героями произведений Горького, приспособлением их к своему поведению и мышлению — противостоит авторское их понимание.
Оно проявляется не прямым образом, а косвенно, в соответствии с позицией автора в сюжете и композиции каждого из произведений, но обнаруживает себя весьма красноречиво.
В рассказе «Проходимец» — вынесением определения своего спутника в название произведения, имеющее двойной смысл (не только косвенный — человек с определенными наклонностями: проныра, хитрый плут, но и прямой — странник, невольно попавший в поле зрения рассказчика).
В «Неприятности» (с жанровым подзаголовком «Эскиз», не включаемом автором в свои издания; опубликован в «Самарской газете» от 14 ноября 1895 года) — самохарактеристикой героя, определением собственного поведения, как «игры с котенком», закончившейся для поэта неожиданной неприятностью.
В «Жизни Клима Самгина» — раскрытием ситуации, в которой произносятся яркие строки человеком заурядным, «ультрасредним», не имеющим своих мыслей и слов, но желающим убедить и окружающих, и себя в оригинальности своих толкований, незаурядности ума и эрудиции, для чего и служат его манипуляции над текстами известных и значительных первоисточников.
Искажая смысл пушкинского текста постановкой его в определенный контекст и претендующей на оригинальность, но мало соотносящейся с истиной интерпретацией, Самгин уже не в первый раз демонстрирует свой особый счет к Пушкину (подробно об этом — ниже).
Само же ядро мысли этих строк, как оно чувствуется и понимается Горьким-художником, раскрывается не в крайностях толкования его разными героями, где автор в первом случае — случайный
- 132 -
спутник героя, и ему важно и нужно показать его натуру («проходимца» не только в метафорическом, но и прямом смысле); во втором — раскрыть мелодраматическую игру поэта Миляева пушкинскими строками под устаревший байронизм и современное декадентство на струнах детской души; в третьем, где автор как повествователь отсутствует, герой, лишенный высоких чувств и ярких ощущений, «недоступный» (по натуре) для наслажденья риском, самораскрывается собственными о них суждениями и оценками.
В других произведениях Горького, где автор выступает как повествователь, более того, почти что как «певец» — в прямом смысле слова — романтических порывов («Песня о Соколе», Песня о Буревестнике»), пафос, стиль и смысл которых романтичен в самом высоком плане, — именно в этом плане он оказывается близок пафосу, стилю и смыслу пушкинских строк.85
В многогранной и пестрой картине горьковских произведений, и в еще более пестрой толпе его многочисленных героев из самых разных сословий, служб и профессий, людей различных характеров и психологий, одни из них берут себе Пушкина в союзники, как выразителя якобы их мыслей и оправдателя поступков, другие — его пропагандируют, третьи, завидуя его широкой популярности и славе, но, при своем невежестве, будучи не знакомы с сочинениями Пушкина, претендуют, между тем, на его роль, четвертые ставят себя выше Пушкина и т. д. А для многих героев Горького стихи Пушкина настолько вошли в их жизнь, что служат для выражения собственных чувств, мыслей, переживаний.
В провинциальной мещанской среде горьковских персонажей существует обывательское представление о легкости сочинительства и легкой жизни сочинителей. Два героя из «Городка Окурова», Стрельцов и Тиунов, рассуждают между собой:
«— Говорят — будто бы на этом можно деньги зашибить? — мечтательно спрашивает Стрельцов.
— А почему нельзя? Памятники даже ставят некоторым сочинителям: Пушкину в Москве поставили, — хотя он при дворе служил, Пушкин! Державину в Казани — тоже придворный, положим» (9, 21).
А в народной среде бытование Пушкина — совсем иное: его стихи, подобно стихам народного безымянного акына, распеваются на разные голоса.
- 133 -
«— Паша, — попросил Щукин, — песенку бы спеть! Степа?
— Можно, — сказала сердитая девица, внимательно осматривая Смагина раскосыми глазами.
— Я — отсюда, — крикнула Паша, и они запели в два голоса, стройно, протяжно:
— Гляжу-ль я безмолвно на черную шаль
И хладную душу терзает печаль.Спев два стиха, Паша замолчала, а Степа, сдвинув глаза к переносью, начала мрачно, низким голосом:
Когда легковерен и мо-о...
(XI, 414)
В «Рассказе о безответной любви» один из любовников артистки Ларисы Антоновны, студент стихотворец, «себя называл гениальным поэтом, а Пушкина недорослем» (16, 70).
По мнению других героев Горького, писать стихи и не знать Пушкина — нонсенс. Юному, не без таланта, но малограмотному местному поэту из «Городка Окурова», Симе Девушкину, земский начальник, выслушав его неопытные вирши, советует: «Пушкина надо читать. Знаешь Пушкина?» — Удивившись отрицательному ответу Симы, он напоминает: «А помнишь в школе?» — и приводит из Пушкина близкую — лично для него как чиновника — деловую картину утра делового человека:
Встает заря, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик, —и заключает: «Это и есть Пушкин!» (9, 46).
Для демонстрации своей близости к народу использует простые строки пушкинских стихов поселившийся во флигеле у Самгиных «веселый писатель Нестор Николаевич Катин», взявший себе псевдоним по модному для того времени принципу: «производить псевдонимы по именам жен». Для вящей наглядности своей глубокой народности, причастности к древнерусскому происхождению, а также, чтобы рассмешить людей, он в речи постоянно употреблял церковно-славянские слова (аще, поелику, дондеже и прочие), «носил косоворотку, подпоясанную узеньким ремнем, брюки заправлял за
- 134 -
сапоги, волосы стриг в кружок «a la мужик»; рассуждал «о красоте лесов, полей», о душе народа, «простой и мудрой», и о том, как отравляет эту душу город.
Вечерами к нему приходили «серьезные люди», а по воскресеньям — собиралась молодежь, «и тогда серьезные разговоры о народе заменялись пением, танцами... и больше всех шумел писатель, одновременно изображая и оркестр и дирижера... Это всех смешило, а писатель, распаляясь все более, пел под гармонику в ритм кадрили:
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца».(19, 99, 100, 101)
Это фарсовое веселье — под пушкинские строки далеко не веселого содержания — Варавка метко окрестил «рыбьими плясками».
Поддельностью под настоящие чувства и поступки не только героев Пушкина, но и его самого, отличаются и другие персонажи у Горького.
Макарову, неудачно стрелявшему в себя (из-за Лидии Варавки), «незнакомый седой доктор», вытаскивая пульку, засучив рукава и ковыряя «грудь его длинной, блестящей иглою», говорил: «— Что же это вы, молодежь, все шалите, стреляете?.. Пушкины, Лермонтовы стрелялись иначе...» (19, 177).
Порою мысли героев созвучны авторским, как бы перекликаясь через него — с пушкинскими: «...— без Ивана Грозного и Великого Петра, без Екатерины, Пушкина, Гоголя, Достоевского, — мир не знал бы и не чувствовал России. История всегда дело единиц, результат творчества героев. Италию создали Данте и Петрарка, Англию — Мильтон, Юм, Гоббс...» («Рассказ о герое»).
В своих речах и статьях Горький не раз говорил о значении великих людей в истории государства, не забывая напомнить и о роли «маленьких людей (но не мелких! — Л. К.) и их великой работе».
А Пушкин в значении и предназначении поэта видел не только величие творца («Гений с одного взгляда открывает истину, а Истина сильнее царя, говорит священное писание»86), но и его великую ответственность за свое творение, понимая, что по нему потомки
- 135 -
будут судить об эпохе, ее проблемах и героях. («История народа принадлежит поэту». А. С. Пушкин — Н. М. Гнедичу).
Если для Горького-писателя Пушкин стал «вечным спутником», то для его героев он был как бы «проявителем» их натур, помощником автору в распознавании создаваемых им характеров.
Это особенно явственно и значительно выступает в итоговом произведении Горького, романе «Жизнь Клима Самгина», где стихи Пушкина и его имя возникает более сорока раз, и чаще всего — в связи с главным героем и по отношению к нему.
Раздражение у Самгина, «провинциала», вызывают столь любимые и воспетые великим поэтом обе русские столицы, Москва и Петербург.
«Белые ночи возмутили Самгина своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврастеником: было похоже, что в воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния прозрачной и раздражающе светящейся пыли» (20, 180).
Москва также «не вызывала восхищения» у Самгина: «для его глаз город был похож на чудовищный пряник, пестро раскрашенный, припудренный опаловой пылью и рыхлый» (19, 258).
Между тем, находясь в Москве или Петербурге, он «считает себя обязанным» вспоминать пушкинские стихи, но делает это совсем с иными чувствами, чем те, которыми они полны, допуская сознательное искажение и текста, и мысли поэта.
«Когда говорили о красоте, Клим предпочитал осторожно молчать», или подавать лаконичные отрезвляющие реплики.
Любуясь на Москву с высоты Воробьевых гор, глядя на нее из окон ресторана, сородич Самгина, Макаров, «тихо сказал: — Да, красота...
Самгин утвердительно кивнул головою, но тотчас же заметил:
— Понятие условное» (там же).
Желая противопоставить общее восхищение Москвой своему трезво-философскому взгляду, чтобы показать себя и в этом случае — особенным, оригинальным, Самгин напоминает Макарову (не без явной иронической насмешки) другие пушкинские строки о ней:
«— Помнишь Пушкина:
Москва!
Сколь русскому твой зрак унылый страшен.
- 136 -
Макаров взглянул на него трезвыми глазами и не ответил. Это не понравилось Климу, показалось ему невежливым» (19, 259).
Недоуменная реакция собеседника Самгина, любующегося сегодняшней Москвой — естественна и понятна.
Слова юного поэта, сказанные с болью за многострадальную Москву, относились к ее лику в период Отечественной войны 1812 года с Наполеоном («Воспоминания в Царском Селе»), к Москве сожженной, опустевшей, сознательно покинутой жителями, не пожелавшими поднести ключи от столицы победоносно шествующему по всей Европе завоевателю.
Не нравится Климу и горная природа Кавказа, раздражая своей величавостью. «Величественно безобразные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, бесстыдным хвастовством, бесплодной силою своей.
— Встряхнуть бы все это, чтоб рассыпалось в пыль, — бормотал он, глядя в ощеренные пасти камней, в трещины отвесной горы» (20, 291).
Раздражением, желанием стереть краски жизни, скучной выхолощенностью отдает всякий раз самгинское прикосновение к Пушкину, даже в моменты лирического настроения его спутников или спутниц.
«...Варвара, привстав, держась за плечо его, изумленно смотрела вниз, на золотую реку, на мягкие горы, одетые густейшей зеленой овчиной, на стадо овец, серыми шариками скатывавшихся по горе.
— Какая красота, — восторженно шептала она. — Какая милая красота!.. Смотри: женщина с ребенком на осле, и человек ведет осла, — но ведь это богоматерь, Иосиф! Клим, дорогой мой, — это удивительно!» (20, 294).
Серость натуры «монументального ультрасреднего» особенно заметна в этой «разнотонности» его восприятия с восприятием его жены, с которой они проводят на Кавказе свой медовый месяц.
«Он усмехался, слушая наивные восторги, и опасливо смотрел через очки вниз. Спуск был извилист, крут, спускались на тормозах, колеса отвратительно скрежетали по щебню...
— Здесь где-то Пушкин любовался Арагвой, — говорила она. — Помнишь: «На холмах Грузии...».
— «Тобой, одной тобой», — пробормотал он.
Варвара крепко сжала его руку.
- 137 -
— Непостижимо: как много может вложить поэт в три простые слова!
— Да, — сказал Самгин» (там же).
Произнесение строк, полных глубокого чувства и смысла («Тобой, одной тобой...»), почти что сквозь зубы («пробормотал»), и — скучное согласие («да») на восторженные слова Варвары («непостижимо..!») — выдают его более чем равнодушное отношение к лирике пушкинских чувств.
Мотив пушкинских строк «Тобой, одной тобой...» до этой, приведенной сцены, возникал в романе Горького уже дважды. И возникал он в связи с другим лицом романа.
На вечеринке у Премировых Клим смотрит вслед проходящей мимо него Елизаветы Спивак: «Она душилась очень крепкими духами, и Клим вдруг вспомнил, что он ощутил их впервые недели две тому назад, когда Спивак, проходя мимо его и напевая романс «На холмах Грузии», произнесла волнующий стих:
Тобой, одной тобой.
У Самгина, с его гипертрофированным «я», возникает мысль: «А что, если она пела: «...одним тобой»? (19, 242).
Это самгинское предположение еще раз возникнет в его самомнении, когда Елизавета Спивак в «необыкновенно широкой темной мантии» предстанет перед ним уже у себя дома, «постаревшей, монашески скромной и не такой интересной, как она была в Петербурге». «Но его ноздри приятно защекотал запах знакомых духов, и в памяти прозвучала красивая фраза:
Тобой, одной тобой».
(19, 332)
Видимо, пушкинское стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» было одним из самых близких душе Горького стихотворений. В молодости, в одном из своих стихотворений, посвященных Е. П. Пешковой, он явной перифразой этих пушкинских строк пытался выразить чувства своего лирического героя:
Уж ночь давно, и темный сад
Так странно смотрит мне в окно...
Стоят деревья и молчат.
- 138 -
И тишь вокруг... ...Но все равно —
В душе моей нет тишины —
Мечты мои — тобой полны,
Тобой, мой славный, нежный друг...
Но тьма вокруг и тишь вокруг,
И нет тебя, далеко ты!
Моя душа — полна тоски.(19 июня 1896)87
Видимо, неудовлетворенный своей поэтической перифразой пушкинских строк, Горький как бы «переадресовывал» их героям своей прозы, которые, как можно было видеть, не смогли оправдать авторских надежд.
К великим русским классикам, и к Пушкину в первую очередь, у Самгина был свой личный счет: обида за то, что не он, Самгин, а они, опередив его, великолепно выразили словами глубокие мысли о жизни.
День похорон мужа Елизаветы Львовны Спивак навевал Самгину «неприятные мысли о тленности жизни, тем более неприятные, что они облекались в чужие слова».
«Хотелось затиснуть жизнь в свои слова и было обидно убедиться, что все грустное, что можно сказать о жизни, было уже сказано и очень хорошо сказано —
...дар случайный.
Жизнь — зачем ты мне дана?— вспомнил он, а оттолкнув эти слова, вспомнил другие:
«А жизнь, как посмотришь с холодными вниманьем вокруг, такая пустая и глупая...»
Все это угнетало...» (22, 289).
Прямой вопрос поэта к жизни: «Жизнь — зачем ты мне дана?» (в очень молодые годы88), переходит в романе Горького в мотив о сути и смысле человеческой жизни на земле.
Один из самых ярких и жизненных героев романа, Лютов, повстречавшийся с Самгиным в необычной обстановке — в Подольске, куда он приехал покупать для Алины Телепневой коня, — откровенничает с ним о нем же:
«— Моралист, хех! Неплохое ремесло. Ну-ко, выпьем, моралист. Легко, брат, убеждать людей, что они — дрянь и жизнь
- 139 -
их — дрянь, они этому тоже легко верят, черт их знает почему! Именно эта их вера и создает тебе и подобным репутации мудрецов. Ты — не обижайся, — попросил он, хлопнув ладонью по колену Самгина. — Это я говорю для упражнения в острословии. Обязательно, братец мой, быть остроумным, ибо — чем еще я куплю себе кусок удовольствия?
Склонив голову к плечу, он подмигнул левым глазом и прошептал:
— «Жизнь для лжи-зни нам дана», — заметь, что этот каламбуришко достигается приставкой к слову жизнь буквы «люди». Штучка?
— Плохой каламбур, — сухо сказал Клим.
— Отвратителен, — согласился Лютов.
Самгин и раньше подозревал, что этот искаженный человек понимает его лучше других, что он намеренно дразнит и раздражает его, играя какую-то злую и темную игру» (20, 455).
В дальнейшем разговоре Лютов еще точнее и, если так можно выразиться, острословнее определяет Самгина: «почтеннейший страховых дел мастер», «нормалист» (456).
«Страховых дел мастер», «нормалист», «моралист», «невольный свидетель», «зритель» — этими и подобными словами определяется отношение Самгина к жизни и другими его знакомыми, и им самим. Отношение, которое говорит о существе его собственной жизни как «лжежизни» в условиях бурной действительности тех лет.
В другой сцене, с иным, противоположным по характеру Лютову персонажем, поручиком Трифоновым, с которым Самгин оказывается в одном поезде, он слышит такое обращение: «— Вы что молчите? Вы — не бойтесь, я — смирный! Все ясно! Вы — раздражаете, я — усмиряю. Жизнь для жизни нам дана», — как сказал какой-то Макарий, поэт»89 (21, 116).
В разговоре с Мариной Зотовой, желающей побеседовать с ним «эдак, знаешь, открыто, без многоточий», Самгин, считая «нужным предупредить, что едва ли он покажется ей интересным» и, услышав возражение: «— Ну, как же это? — Прожил человек половину жизни...», — вдруг, не желая, проговаривается: «— Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собою, — почти сердито, неожиданно для себя, произнес Самгин, и это еще более рассердило его» (21, 155).
- 140 -
Не имея часто своих слов для выражения ярких и сильных чувств и мыслей, Самгин «чувствует себя обязанным» в самых разных обстоятельствах фиксировать свои реакции пушкинскими словами и образами.
«На Сенатской площади такие же опаловые пузыри освещали темную, маслено блестевшую фигуру царя, бронзовой рукою царь указывал путь на Запад, за широкую реку;.. Клим чувствовал себя обязанным вспомнить стихи из «Медного всадника», но вспомнил из «Полтавы»:
И грозным манием руки
На шведов двинул он полки.(19, 192)
Приписывание Самгиным действий шведского короля Карла — Петру, как и перемена определений и предметов — не сразу может быть уловлена читателем, если он не помнит наизусть этих строк из «Полтавы».
Напомним, что у Пушкина говорится о действиях шведского короля Карла XII, и они Пушкиным характеризуются так:
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.О Петре же Первом — речь шла ранее; его облику, поведению в бою поэт посвятил прекрасные строки, приводимые нами выше (см. с. 29—31).
Надо полагать, что совершенная Самгиным в пушкинских строках «Полтавы» — не без умысла, но весьма ловко и не сразу приметно — подмена, как предмета (Петра — на Карла, русских — на шведов), так и его определений («слабым манием руки» — на «грозным манием руки») — чрезвычайно выразительно и точно характеризует героя как человека мелкозавистливого, желающего хоть таким путем (подложив мелкую пакость), унизить, «подкузьмить» великого поэта и его великого героя.
Регулярно демонстрируя свою блестящую эрудицию и отличную память, Самгин вряд ли мог просто так, неожиданно, «вдруг» перепутать героев и события, да еще в «Полтаве».
Подобная «странность», но уже на иной лад, с памятью человека более чем эрудированного, происходит и в другой ситуации его «встречи» с Пушкиным.
- 141 -
Возвращаясь домой с очередной сцены народного волнения, где он, как обычно, оказывался в роли «невольного зрителя», Самгин «ел холодную, безвкусную телятину, пил перепаренный, горьковатый чай и старался вспомнить слова летописца Пимена: «Недаром... свидетелем господь меня поставил», и не мог вспомнить: свидетелем чего? Как там сказано?» (21, 60).
Преодолев усталость, он сходил за книгой: все же нужно было точно знать, «свидетелем чего» его «господь поставил»? — знать для возвышения своей, самгинской позиции «невольного зрителя» — до пушкинского летописца Пимена.
Но Пушкин, не терпящий при жизни никаких искусственных «подделок», имитаций, ни у своих собственных героев, ни под них, и не желающий, чтобы и после его смерти «промышляли» ими, даже и Пименом, как «промышляли» при его жизни повествователем Белкиным90, «удирает» с Самгиным свою авторскую «штуку». Когда тот «взял, наощупь, книгу, воротился, лег. — Оказалось, он ошибся, — книга — не Пушкин, а «История Наполеона» (21, 61).
Самгину, с его постоянной натужностью выглядеть перед людьми (и даже перед самим собой) сверхэрудированным и абсолютно объективным, — не удается держать позу объективного свидетеля, облаченного свыше ответственной миссией, перед всегда естественным, искренним, живым в жизни и в своем творчестве Пушкиным.
Поэт — не дается — ни в память, ни в руки, ни в «пустую душу» Самгина (один из вариантов названия романа был, как известно, «История пустой души»).
Подобно Германну из «Пиковой дамы» Пушкина, Самгин — случайной своей ошибкой — вместо ожидаемого, фигурально выражаясь, «туза», сулящего крупный выигрыш (в его случае — выигрыш во мнении о своей персоне), получает — «даму пик», разом разрушившую его претенциозные планы на роль «объективного свидетеля» в ранге пушкинского летописца Пимена, поставленного свыше, «самим господом», и обнажившую их истинную суть: духовный бонапартизм.
Еще не раз возникнет в «Жизни Клима Самгина» тема мещанского бонапартизма, применительно и к главному герою, и к ряду других.91
Вот Самгин, после предложения Дронова об издании газеты, представляет себя в роли главного редактора, который «изучает,
- 142 -
редактирует и корректирует все течения, все изгибы, всю игру мысли, современной ему. К его вескому слову прислушиваются политики всех партий, просветители, озабоченные культурным развитием низших слоев народа, литераторы, запутавшиеся в противоречиях критиков, критики, поверхностно знакомые с философией и плохо знакомые с действительной жизнью.
Он — один из диктаторов интеллектуальной жизни страны. Он наиболее крупный и честный диктатор, ибо не связан с какой-то определенной программой, обладает широчайшим опытом и, в сущности, не имеет личных целей... Он действительно независимый человек» (22, 236).
Но мещански бонапартистские поползновения Самгина кончаются для него, как правило, эффектом «Пиковой дамы» (а если посмотреть глубже, в корень, можно даже сказать, что и эффектом возвращения к «разбитому корыту»).
Многократно цитируя Пушкина, проговаривая себе — или в общем разговоре — его выражения и мысли, применительно к обстоятельствам своей жизни или к обсуждаемым ситуациям и событиям, Самгин, как бы невзначай, всяческими замысловатыми ухищрениями, пытается сделать великого поэта — незначительным, мелким.
Радуясь, что так легко, «тактично, точно во сне приснилась», разрешился его «роман» с Никоновой, уехавшей на рассвете, «разнеженный Самгин думал сквозь дремоту:
Только утро любви хорошо,
Хороши только первые встречи.«Глуповатые стишки. Но кто-то сказал, что поэзия должна быть глуповатой...» (20, 435).
Подтверждая свое мнение («глуповатые стишки») о слегка измененном им двустишии Надсона пушкинскими словами («поэзия должна быть глуповатой»), Самгин и здесь не преминет принизить великого поэта (взяв его себе в союзники и приложив к Надсону), при этом еще и незаметно лягнув («кто-то сказал, что ...»).
Искажение Пушкина, приспособление его высоких мыслей и строк к ситуациям совсем уж низким, для Самгина — дело не только привычное, но и почти что обязательное.
После встреч с одной из девиц публичного дома, «светловолосой, мягкой и теплой, точно парное молоко», с ласковой и робкой улыбкой,
- 143 -
«странно не совпадавшей с ее профессиональной опытностью» (22, 143), Самгин заинтересовывается вопросом: «бывает ли, что мужчины грубо обращаются с ней?».
Отрицательный ответ обидевшейся на его вопрос Анюты («За что же грубить? Я — ласковая, хорошенькая, пьяной — не бываю. Дом у нас приличный, вы сами знаете. Гости — очень известные, скандалить — стесняются. Нет, у нас тихо»), вызывает в памяти Самгина, задумавшего было написать об Анюте рассказ, контрастную параллель с героинями Достоевского: «Но у нас, по милости Достоевского, так много написано и пишется о проститутках. «Милость к падшим». А падшие не чувствуют себя таковыми и в нашей милости — не нуждаются» (22, 144).
Всем памятны пушкинские строки из стихотворения «Памятник», где речь идет о совсем других «падших». Перенося их на лиц определенной «профессии» у Достоевского, подкрепляя Достоевского — Пушкиным, его словами о совсем иных героях, — Самгин совершает низкий подлог высокой пушкинской мысли.
При подобных самгинских «сближениях» и «переносах» перед читателем разом, «вдруг» разверзается пропасть разницы, точно, ярко и образно объясненной самим поэтом в его письме П. А. Вяземскому.
«Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии... Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением... Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскрешающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе» (Х, 190—191).
Заметим, что Горький — в своих пометах на полях сочинений А. С. Пушкина — выделил это место из письма его к П. А. Вяземскому.
Самгинские поползновения, как видим, отлично парализуются пушкинским же, как бы заранее предугаданным, спрогнозированным и подготовленным ответом в этом косвенном, невольном диалоге
- 144 -
(или скрытом рандеву), на который его все время как бы провоцировал Самгин, желая установить между собой и поэтом почти что панибратские отношения, «потому что в подлости своей....радуется унижению высокого, слабостям могущего... Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок не так, как вы — иначе».
Обида Самгина на Пушкина (и его мелкая месть) тем чаще и сильнее, что природная пустота самгинской натуры лишает его шанса приблизиться к поэту, в то время как другим героям романа, которых Самгин считает несравнимо ниже себя во всех отношениях, Пушкин оказывается близок, с его точки зрения, — ни за что, просто так.
«— Ведь, вот я нашел же себя в голубиной охоте. Нашел ту песню, которую суждено мне спеть. Суть жизни именно в такой песне — и чтоб спеть ее от души. Пушкин, Чайковский, Миклухо-Маклай — все жили, чтобы тратить себя на любимое занятие, — верно?» — апеллирует Валентин Безбедов к Самгину (21, 215), человеку иных понятий о сути жизни («Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собою»); человеку-имитатору, метафорически названному А. В. Луначарским «чертовой куклой».
В романе Горького Пушкин — своим отношением к жизни — оказывается близок не только людям простым. Он по-настоящему любим людьми и очень сложными, яркими, противоречивыми, как Лютов. Рассуждая о современной модной литературе, Алина Телепнева обращается к Лидии Варавке: «— Вот, Лидочка, как это страшно, когда интеллигент и шалаш?.. А мой Лютов — старовер, купчишка, обожает Пушкина; это тоже — староверство — Пушкина читать. Теперь ведь в моде этот — как его? Витебский, Виленский?» (19, 270).
За Пушкина вступаются в романе Горького и персонажи третьего ряда, фигуры эпизодические. «А ваши нигилисты, ваши писаревцы не устраивали погрома Пушкину? Это же все равно, что плевать на солнце!» (Слова Депсамеса Брагину. — 21, 102).
Не только по отношению к своей личной жизни, но и к явлениям и фактам общественным и политическим, Самгин часто применяет пушкинские выражения и мысли в стихах и прозе. Неоднократно рассуждает он о народе, стихии, бунте выражениями и мыслями Пушкина и его героев, сказанными по иным поводам и в ином контексте.
- 145 -
Слыша разговор солдат о войне, он решает: «В двадцатом веке пугачевщина едва ли возможна. Даже в нашей, в крестьянской стране» (22, 488).
А ранее, в разговоре с Любашей Сомовой, ставящей ему вопросы: «— Классовая точка зрения совершенно вычеркивает гуманизм, — верно?», — он отвечает так, чтобы «смутить, запугать ее»: «— Совершенно правильно», — говорил он «тоном философа, привыкшего мыслить безжалостно. — Гуманизм и борьба — понятия взаимно исключающие друг друга. Вполне правильное представление о классовой борьбе имели только Разин и Пугачев, творцы «безжалостного и беспощадного русского бунта» (20, 149).
Разъезжая по провинции и случайно подслушав разговор мужиков о начавшейся первой мировой войне («— Вот Дудорову ногу отрезали, как ребятенки в школе поют, «церкви и отечеству во славу». Вот снова начали мужикам головы, руки, ноги отрывать, а — для чего? Для чьей пользы войну затеяли? Для тебя, для Дудорова?..»), — Самгин, «возвращаясь в комнату, подумал:
«Да, вредный мужичонка. В эти дни, когда снова поставлен вопрос: «славянские ручьи сольются ль в русском море, оно ль иссякнет...» (22, 389).
Стихотворение Пушкина «Клеветникам России», чьими строками Самгин определяет позицию русского крестьянина как «вредного мужичонки», были, как известно, адресованы совершенно иным людям.
Аналогичное можно сказать и о другом пушкинском выражении в устах Самгина, к тому же редуцированном и совмещенном. Направляясь к дому, но заметив манифестацию рабочих, он задерживается на скамье в саду: «Домой идти не хотелось.
«Там, вероятно, «гремят народные витии», — подумал он, но все-таки пошел пустыми переулками, мимо запертых ворот и закрытых окон маленьких домиков. Здесь было тихо, даже дети не кричали...» (20, 577).
«Гремят народные витии» — по отношению к обывателям провинциального городка — таков «масштаб» иронических суждений Самгина.
Не один Самгин в романе Горького пользуется пушкинскими мыслями и строками в спорах; но, в отличие от Самгина, делая это органично, хотя и не всегда точно цитируя.
- 146 -
В ответ на слова Туробоева об отсутствии в России организующих идей, Лютов вскричал:
«— А славянофилы? народники?
— «Одних уж нет, а те далече» от действительности, — ответил Туробоев, впервые за все время спора усмехнувшись.
Наскакивая на него, Лютов покрикивал:
— Но ведь и вы — и вы не самостооятельны в мыслях. Ой, нет! Чаадаев...
— Посмотрел на Россию глазами умного и любящего европейца» (19, 319—320).
Дронов, выспрашивая мнение Самгина — будет ли в России конституция и прочее, высказывается сам так: «— А я, брат, что-то не верю в благополучие. Россия — страна не-бла-го-по-лу-чная, — произнес он, напомнив тургеневского Пигасова. — Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят. «Закружились бесы разны»...
...— Томилина помнишь? Вещий человек. Приезжал сюда читать лекцию. «Идеал, действительность и «Бесы» Достоевского». Был единодушно освистан, а в Туле или в Орле его даже бить хотели» (21, 152).
Но если для большинства героев романа Горького мысли Пушкина, как и строки его стихов, служат для подтверждения приводимых ими фактов современной действительности, которую гений определил и опередил намного вперед, то Самгин всегда преломляет и подает Пушкина — под себя и для себя.
В гостиной известного адвоката Самгин произносил речь о предстоящем юбилее дома Романовых и тоном ироничного критициста поставил вопрос перед слушателями: «Как отнесемся мы, интеллигенция, к этому праздничку? Не следует ли нам вспомнить, чем бывали наполнены эти три сотни лет?» Сделав «краткий очерк генеалогии Романовых» и поразив многих слушателей сообщениями, что «последним членом этой русской фамилии была дочь Петра Первого Елизавета», а «юноша Михаил Романов был выбран боярами в цари за глупость», он завершил свою речь эффектным концом: «Весьма похоже, что ныне царствующий Николай Второй — родня Михаилу Романову только по глупости» (22, 325, 326).
А выступивший вслед за Самгиным красноречивый оратор — «стер его речь, как стирают тряпкой надпись мелом на школьной
- 147 -
доске», переключив внимание слушателей на историю жизни великих людей. («Вот подлинная история, которую необходимо знать»). «С чувством благоговения и обожания он произносил имена — Леонардо Винчи, Джонатан Свифт, Верлен, Флобер, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, — бесконечное количество имен, — и называл всех носителей их великомучениками:
— Вот они, великомученики нашей церкви, церкви интеллектуалистов, великомученики духа, каких не знает и не имеет церковь Христа...
— Господа: — возгласил он... — Чего можем требовать мы, люди, от жизни, если даже боги наши глубоко несчастны? Если даже религии в их большинстве — есть религии страдающих богов — Диониса, Будды, Христа?» (22, 328—329).
Недовольный тем, что «этот красавец стер его речь», Самгин, как обычно, ищет аргументы, могущие вернуть вес его персоне, и в этом случае также прибегает к авторитетным суждениям Пушкина. Узнав о быте оратора (нелады с семьей, жена очень богата, но денег не дает, «а он — ленив, делами занимается мало, стишки пишет, статейки в «Новом времени»), Самгин «докторально» заключает: «Во Франции такой тип, вероятно, не писал бы стихов, которых никто не знает, а сидел в парламенте».
И — «подключив» к своей мысли Пушкина («Мы ленивы, не любопытны», — вспомнил он»), чтобы вернуть превосходство над «красноречивым оратором» — «тотчас (видимо, мысленно сравнив. — Л. К.) подумал: «Он — никого не цитировал».
«Он», стерший его речь, «никого не цитировал», — в противоположность ему, Самгину, умеющему щеголять цитатами. — И — вывел отсюда заключение, как всегда, в свою пользу: и о причине отсутствии цитат у оратора («Это — признак самоуверенности»), и о характере его речи вообще («Игра в пессимизм — простенькая игра» (22, 329—330).
В комнате присяжных поверенных Самгин прислушивается к их разноголосому спору, где «носатый брюнет, причесанный под Гоголя», «не слушая собеседников, заговорил гневно, громко:
— Нет, вы подумайте: девятнадцатый век мы начали Карамзиным, Пушкиным, Сперанским, а в двадцатом у нас — Гапон, Азеф, Распутин...».
«Не утратя способности завидовать мастерам красивого слова»,
- 148 -
Самгин «упрекнул себя: как это он не догадался поставить в ряд Гапона, Азефа и Распутина? Первые двое представляют возможность очень широких толкований...» (22, 490).
Не только слова и мысли Пушкина, но и образы его героев накладываются Самгиным на окружающую его действительность.
Оказавшись в гуще участников событий кровавого воскресенья революции 1905 г. в Петербурге, бежа вместе с толпой и, очутившись у Певческого моста, Самгин наблюдает, «как на мост, забитый людьми, ворвались пятеро драгун, как засверкали их шашки, двое из пятерых, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве, толстая лошадь вырвалась на правую сторону реки. Люди стали швырять в нее комьями снега, а она топталась на месте, встряхивая головой; с морды ее падала пена» (20, 539—540).
Эту же картину наблюдал и стоявший «у дома, где жил и умер Пушкин... старик из «Сказки о рыбаке и рыбке», сивобородый старик, в ватной кофте, на голове у него трепаная шапка, он держал в руке обломок кирпича.
— Хорошо угостили, а? — спросил он, подмигнув острым глазом, и, постучав кирпичом в стену, метнул его под ноги людям. — Молодых-то сколько побили, молодых-то! — громко и с явным изумлением сказал он» (20, 540).
Рассказывая позднее об этом событии и «все определеннее чувствуя себя не столько свидетелем, как судьей» (20, 542), «Самгин старался выдержать... тон человека, которому дорога только правда, какова бы она ни была. Но он сам слышал, что говорит озлобленно... Ему очень хотелось напугать людей. И он делал это с наслаждением» (20, 552—553).
А делая доклады о кровавом воскресенье («в пользу комитета»), Самгин «значительно расширил рассказ о воскресенье рассказом о своих наблюдениях над царем, интересно сопоставлял его с Гапоном», «говорил о кочегаре, о рабочих, которые умирали потрясающе просто, о том как старичок стучал камнем в стену дома, где жил и умер Пушкин, — о старичке этом он говорил гораздо больше, чем знал о нем» (20, 555). А «небольшую статейку фактического характера», предложенную ему написать Елизаветой Спивак, Самгин превратил в «штучку устрашающую для обывателей» как определил ее характер один из героев романа (20, 556).
На пути Самгина неоднократно попадаются предметы и образы,
- 149 -
напоминающие ему персонажей или вещи из пушкинских произведений, а исследователей наталкивающие на любопытные allusions (если пользоваться смыслом этого слова, употребленного Пушкиным в письме к издателю «Московского вестника»).
Отдаленную аллюзию с одним из символических предметов у Пушкина можно усмотреть в одном из ярких, крупных, бросающихся в глаза предметов Нижегородской ярмарки, описанной в «Жизни Клима Самгина». «Рядом с рельсами, несколько ниже насыпи, ослепительно сияло на солнце здание машинного отдела, построенное из железа и стекла, похожее формой на огромное корыто, опрокинутое вверх дном» (19, 514).
Сам по себе предмет этот, при всей его яркости, не выделяется из общего вида ярмарки, развернувшей показ страны как «огромной, фантастически богатой», «страны разнообразнейшего труда, вот — она собрала продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой» (19, 516). И потому ничем, как будто, не напоминает финала пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке», не ассоциируется с ним.
Но уже в самом факте «совмещения» в одной картине двух «вещей несовместных» — «фантастического богатства страны», сделанного руками трудящегося люда, и собственной бедности «каких-то людишек ее», как и в факте наскоро, временно созданного их противоестественного объединения на общей площадке («Можно думать, что красивенькие здания намеренно построены на унылом поле, обок с бедной и грязной слободой, уродливо безличные жилища которой скучно рассеяны по песку, намытому Волгой и Окой...»), — в этих двух «кричащих противоречиях» русской действительности тех лет заложена неотвратимая возможность взрыва между ними, возврата «временно и наскоро сооруженного» яркого, блестящего, из «железа и стекла «перевернутого корыта» — на его дно, дно жизни.
Проходя через улицу, видя, как служат молебен, Самгин наблюдает картину, напоминающему ему сцену из «Руслана и Людмилы»: «В центре небольшого круга, созданного из пестрых фигур людей, как бы вкопанных в землю, в изрытый, вытоптанный дерн, стоял на толстых слегах двухсотпудовый колокол, а перед ним еще три, один другого меньше. Большой колокол напомнил Климу Голову богатыря из «Руслана», а сутулый попик, с бронзовым лицом, был похож на волшебного Финна. Попик плыл вокруг колоколов, распевая... тенорком,
- 150 -
и кропил медь святою водой; три связки толстых веревок лежали на земле...» (19, 353).
Видение Клима напоминает больше театральные декорации, чем текст поэмы Пушкина. А сам текст снижается действиями «попика», который «плыл вокруг колоколов, распевая ясным тенорком, и кропил медь святою водой».
Интересное наблюдение сделано Л. А. Колобаевой над одним из лейтмотивов романа («А был ли мальчик?»): «Мотив «мальчика», восходящий к известному пушкинскому (мотив трагической вины героя в «Борисе Годунове») становится у Самгина знаком кардинального свойства его мировосприятия — скептицизма, стремления прошедшие перед его глазами, но неудобные для него факты и явления объявлять иллюзией, действительностью несостоявшейся или недолжной, тем самым снимая всякую ответственность за них с себя самого».92
Еще много пушкинских «следов» в темах, мотивах, образах можно выявлять из произведений Горького, и особенно из «Жизни Клима Самгина».
Находить ассоциации, усматривать аллюзии, видеть «переклички» с пушкинскими образами и предметами у Горького можно бесконечно. Нам же важно было не столько выявить их полноту, сколько, взглянув на них в аспекте нашей темы, приоткрыть возможные направления исследования, диктуемые как уважением к традициям, так и потребностями современного литературоведения.
———————————
1 Лекция Горького о Пушкине (из рукописного курса Каприйских лекций) была опубликована впервые в следующих двух изданиях: Горький М. О Пушкине. Под редакцией С. Д. Балухатого. М. — Л., 1937 г. С. 5—42; Горький М. История русской литературы. Архив А. М. Горького. Том I. М., 1939. С. 86—105.
2 Горький М. ПСС в 30-ти томах. Том 24. М., 1953. С. 96; том 29. М., 1955. С. 181.
Далее ссылки на произведения Горького даются в тексте, по этому изданию, с указанием в скобках тома и страницы. Иные случаи оговариваются особо.
3 Название статьи Л. Долотовой // «Вопросы литературы»,1972, № 11.
- 151 -
Полемику в отношении авторства фразы: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя» см. в журнале «Вопросы литературы»: Рейсер С. Все мы вышли из «Шинели» Гоголя». 1968, № 2; Бочаров С., Манн Ю. «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». 1972, № 11.
4 Как указывает Д. Д. Благой, в рукописном тексте горьковской лекции о Пушкине рассказ Пушкина из «Повестей Белкина» назывался «Смотритель почтовой станции».
5 Горький. История русской литературы. С. 127.
6 Благой Д. Д. Горький и Пушкин // Благой Д. Д. Литература и действительность. М., 1959. С. 458. Далее ссылки на работы Д. Д. Благого даются по этому изданию в тексте, с указанием страницы в скобках; Горький М. История русской литературы. С. 127.
7 А. Тардиф де Мелло — Пушкину. 22 ноября 1836. Из Парижа в Петербург // Последний год жизни Пушкина. (Переписка. Воспоминания. Дневники). М., 1988. С. 385—386.
8 Горький М. и Роллан Р. Переписка (1916—1936). Архив А. М. Горького. Том XV. М., 1996. С. 36.
9 У Пушкина, как известно, это звучит так: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать» (Х, 583). Неточность цитирования, тем более в материалах рукописных, каковыми являлись горьковские каприйские лекции о русской литературе или его письма, явление довольно распространенное. Но у Горького, обладающего, по свидетельствам современников, феноменальной памятью, эти невольные ошибки могут иметь и дополнительный смысл: в них (и через них) очень хорошо проглядывается характер новой эпохи и склад мышления ее современников.
10 Ахматова А. Слово о Пушкине // Ахматова Анна. Сочинения в двух томах. Том второй. М., 1990. С. 109.
11 Ранние штудии Анны Ахматовой (по материалам архива П. Лукницкого) // «Вопросы литературы». 1978, № 1.
12 Ахматова А. «Каменный гость» Пушкина // Ахматова Анна. Сочинения в двух томах. Том второй. С. 126.
13 Битов А. Воспоминание о Пушкине // «Знамя», 1985, № 12 С. 223. Далее ссылки на статью А. Битова даются в тексте с указанием в скобках страницы.
О постепенном и осторожном подходе Пушкина к образу Петра Первого, с учетом исторической и временной дистанции, см. в работе В. Д. Сквозникова. Стиль Пушкина // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1965.
14 Пиксанов Н. К. Пушкин и Горький // Пушкин. Исследования и материалы. Труды 3-ей Всесоюзной пушкинской конференции. М. — Л., 1953. С. 170.
15 Благой Д. Д. Литература и действительность. С. 475.
- 152 -
16 Бунин И. А. Жизнь Арсеньева // Бунин И. А. Собр. соч. в шести томах. Том 5. М., 1991. С. 108—109.
Далее ссылки на роман Бунина даются по этому изданию в тексте, с указанием страницы в скобках.
17 Анализируя художественный синтез а стиле Пушкина, Н. К. Гей останавливает внимание на «как бы «разностильных» контрастных сочетаниях» зрелого Пушкина. «И шайка вся сокрылась вдруг», «уста жуют», «келья модная», «благо...не допущают», «страшный мужик ласково меня кликал» и других. «В этих сочетаниях заданный стилеобразующий заряд отдельного слова не снимается. Но получается не осредненный и эстетически нейтральный словесный ряд, а особый пушкинский синтез. Стиль возникает как бы поверх барьеров, разделяющих литературный и разговорный, поэтический и бытовой язык... все это не столкновение контрастов, знакомых и классицизму, и романтическому стилю, а взаимодействие слов разных ипостасей в единой стилевой реальности». Гей Н. К. Художественный синтез в стиле Пушкина // Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976. С. 118—119.
О подобных явлениях в лирике Пушкина (в частности, в стихотворении «На холмах Грузии»: «Мне грустно и легко; / Печаль моя светла...») интересное наблюдение было сделано В. Д. Сквозниковым: «Пушкинский образ «светлой печали», по представлениям того времени, был слишком противоречивым, тем, что называют оксюморон, — когда сочетаются вроде бы взаимно исключающие друг друга понятия: печаль и светлость. До Пушкина подобных смелых сочетаний в лирике не было». Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. М., 1975. С. 45.
В «смелом соединении отрицающих друг друга эпитетов» («Красою тихою, блистающей смиренно», «пышное природы увяданье». «Унылая пора! Очей очарованье», «В избушке, распевая, дева...» — о крестьянской девушке, и, наоборот, «Девчонки прыгают заране» — о дворянских барышнях на бале» и других), Н. В. Драгомирецкая видит «закон внутренней формы» у Пушкина («сохранить целое, не допустить односторонности»); «образ, созданный по принципу «передоверения» активности от одного сотворца другому», что «рождает впечатление бесконечности жизни». Драгомирецкая Н. В. Автор и герой в русской литературе XIX—XX вв. М., 1991. С. 140, 142.
18 Речь идет о «гармонической правильности распределения предметов, доведенной до совершенства». Вот полная цитата из Л. Толстого: «Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства.
- 153 -
Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается». Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 144.
19 Цветаева Марина. Мой Пушкин // Сочинения в двух томах. Том второй. М., 1980. С. 331. Курсив автора.
Далее ссылки на М. Цветаеву даются по этому изданию в тексте, с указанием в скобках страницы.
20 Кожинов В. В. Становление классического стиля в русской литературе // Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976. С. 92, 82.
21 В горьковском назывании пушкинских поэм «Русалка», «Руслан и Людмила» — сказками, а «Золотого петушка» — «мудрой сказкой русского народа» — в этих определениях отразились и личность писателя, и взгляд новой эпохи.
22 Хлодовский Р. И. Пушкинская концепция классического национального стиля // Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени. М., 1976. С. 200.
23 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание второе. Том IV. М., 1957. С. 296. Далее ссылки на сочинения А. С. Пушкина даются в тексте по этому изданию, с указанием тома римской цифрой, страницы арабской.
24 В статье Н. М. Лобиковой «Пометы Горького на полях сочинений Пушкина» приводятся архивные материалы, говорящие о горьковской мечте — создать биографию Пушкина.
«В апреле 1927 г. Горький пишет Груздеву: «Эх, если бы я был богат, объявил бы я премию в 100 тысяч за биографию Пушкина. Давняя мечта моя». А через полтора месяца в письме от 12 июня 1927 г. Горький предлагает ему написать книгу о жизни Пушкина и Герцена, просит серьезно подумать над этим предложением, вдохновляя на увлекательный труд, и в сентябре 1927 г. выражает уверенность в том, что сможет субсидировать Груздева для осуществления этой цели». Лобикова Н. М. Пометы Горького на полях сочинений Пушкина // Горьковские чтения 1959—1960. М., 1962. С. 295.
25 Надпись Горького на открытке // Архив А. М. Горького. ХПГ—52—26.
26 См., например: Медриш Д. Н. От двойной сказки — к антисказке (Сказки Пушкина как цикл) // «Московский пушкинист». 1. Ежегодный сборник. М., 1995.
27 Непомнящий В. С. «...На перепутье...». «Евгений Онегин» в духовной биографии Пушкина. Опыт анализа второй главы... // «Московский пушкинист». 1. М., 1995. С. 48; разраядка автора статьи. Далее ссылки на статью В. С. Непомнящего даются в тексте, с указанием страницы в скобках.
28 О поэтике пушкинской гармонии в «Борисе Годунове», почти «алгебраической» структуре этой трагедии («кольцевой симметрии», «точном соответствии
- 154 -
конца — началу») см.: Благой Д. Д. Мастерство Пушкина.
О «зеркально-обратном» соотношении экспозиции и финала в трагедии Пушкина см.: Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1983. С. 229—231.
29 Ахматова Анна. Дополнения к статье «Каменный гость Пушкина» (1958—1959) // Ахматова Анна. Сочинения в двух томах. Том второй. М., 1990. С. 129.
30 Кроме указанных ранее работ Д. Д. Благого, Н. К. Пиксанова см. еще: Закруткин В. Молодой Горький и Пушкин // «Красная новь», 1936, № 10; Мейлах Б. Горький и Пушкин // «Новый мир», 1937, № 6.
Более подробную библиографию см. в кн.: Муратова К. Д. М. Горький. Семинарий. М., 1981.
31 Интересно интерпретировал это высказывание в контексте «поэтики тождества» С. Г. Бочаров. См.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. С. 53—55.
32 Платонов А. Горький и Пушкин // «Литературная учеба», 1937, № 6.
33 Архив А. М. Горького. Том X. М., 1965. С. 63.
34 Горький М. и Роллан Р. Переписка (1916—1936) // Архив А. М. Горького. Том XV. М., 1996. С. 77.
Суждения Роллана касаются посланной ему Горьким книги «Мои университеты» во французском издании. В нее автором был включен (в качестве главы XVII) его очерк «В. Г. Короленко», из которого и стало известно Роллану высказывание Короленко о характере таланта Горького. Вот более полный текст слов Короленко, сказанных молодому Горькому: «Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!» (там же. С. 369).
В передаче Н. И. Дрягина юному Горькому мнения Короленко о его ранних вещах (несохранившемся стихотворении «Песнь старого дуба» и некоторых прозаических рассказах) оно звучало так: «Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!».
Сам Горький о мнении Короленко говорил: «На обложке рукописи, карандашом, острым почерком написано: «По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть...Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие». Горький А. М. Художественные произведения в 25-ти томах. Том I. С. 563.
Обращение к стихам молодой писатель объяснял тем, что ему «казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей», хотя он и «чувствовал, что они тяжелы, резки» (там же).
В статье «О том, как я учился писать» Горький рассказывал: «Стихи писал
- 155 -
я легко, но видел, что они — отвратительны; писать прозу — не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отличать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов» (24, 487).
35 Подробно об этом см.: Бялик Б. М. Горький-поэт // Горький М. Стихотворения. Малая серия Библиотеки поэта. М., 1963. С. 5—53. Приводимые далее строки из стихотворений Горького даются по этому изданию в тексте, с указанием в скобках страницы.
Б. А. Бялик отмечает художественные достоинства ряда стихов Горького. В героических песнях (и ряде других) — «очень важна интонация — интонация свободно звучащего стиха» (14). Эти стихотворения обладают «отчетливым стихотворным ритмом», что отличает их от его же, горьковской, «ритмической прозы» (в философской поэме «Человек», «Перед лицом жизни» и др.).
Но при этом — «ритм этих белых стихов очень свободен, разговорен, — автор не случайно отказывался разбивать «песни» на стихотворные строки» (14).
Сам Горький в объяснении формы поэмы «Человек» говорил: «Гладких и слащавых стихов — я не хочу». И это, считает Бялик, относилось не только к ритмической прозе Горького, но и к его поэзии.
Исследователь стиха Горького приводит строки «с богатой аллитерацией» (о земле, обожженной войной: «Рыжая, как ржавое железо» — 14); с «не банальными рифмами» («болезни — побесполезней; недужной — ненужной; лижет — иди же; крепче — шепчет; до сего дня — сводня; выползали — азалий; вилланам — дала нам») и ряд других горьковских строк с ярко выраженной индивидуальной окраской.
Позднее он «показал образцы изобретательной рифмовки в своих шуточных стихах» для рукописного журнала «Соррентинская правда».
Говоря о разработке Горьким т. н. «белого стиха», исследователь находит, что здесь писатель «предвосхитил новаторские искания более позднего времени». Но не слишком увлекался формальными поисками, ибо важно было, чтоб стих «звучал «как колокол на башне вечевой». Потому некоторые стихи Горького «звучат как выступление, обращенное к массам» (15).
Большую роль у него имеют «чеканные афористические «формулы»: «Рожденный ползать — летать не может». «Безумство храбрых — вот мудрость жизни»; концовка «Легенды о Марко»: А вы на земле проживете, / Как черви слепые живут: / Ни сказок о вас не расскажут, / Ни песен про вас не споют!» (15).
36 Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. С. 52.
37 Горький М. ПСС. Художественные произведения в 25 томах. Том I. М., 1968. С. 560. Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием тома римской цифрой, страницы — арабской.
38 Бялик Б. М. Горький-поэт. С. 16.
- 156 -
39 «Во время работы над списками русских писателей я убедился, что Горький лучше любого из нас знает самые темные закоулки русской литературной истории,.. до тонкостей разбирается в «течениях», «направлениях», «веяниях», которые и делают историю литературы историей. Байронизм, натурализм, символизм, вообще всевозможные «измы» были досконально изучены им». Чуковский Корней. Современники // Собр. соч. В шести томах. Том 2. М., 1965. С. 143.
40 Горький М. и Роллан Р. Переписка. С. 81.
41 См.: Овчаренко А. И. Горький и литературные искания ХХ столетия. М., 1978. С. 379—462.
42 Подробнее об этом см. в моих работах: Киселева Л. Ф. Внутренняя организация произведения // Проблемы художественной формы социалистического реализма. В двух томах. Том II. М., 1971. С. 105—139; Современная интерпретация образа Клима Самгина // М. Горький и революция. Горьковские чтения, 90. Часть первая. Нижний Новгород. 1991. С. 135—142.
43 Архив А. М. Горького. Том X. М., 1965. С. 54.
44 См. сноску 30.
45 Библиографию см. в кн.: Муратова К. Д. М. Горький. Семинарий. М., 1981.
46 Пиксанов Н. К. Цит. изд-е. С. 166; Благой Д. Д. Цит. изд-е. С. 482.
47 См.: Платонов А. Пушкин — наш товарищ // «Литературный критик», 1937. № 1.
48 См. сноску 46.
49 Кожинов В. В. Цит. изд-е. С. 92.
50 Лобикова Н. М. Пометы Горького на полях сочинений Пушкина // Горьковские чтения. 1959—1960. М., 1962.
51 Здесь и далее ссылки на сочинения Пушкина даются в тексте по изданию, хранящемуся в ОЛБГ № 2680: Сочинения и письма А. С. Пушкина. Под редакцией П. О. Морозова. С.-Петербург. 1903—1906 гг. Том и страница указываются в скобках арабскими цифрами. Курсив и разрядка принадлежат А. С. Пушкину. Иные случаи оговариваются особо.
52 Горький М. История русской литературы. С. 73.
53 Считая, что Пушкин, как и Карамзин, недооценил общее значение Державина, хотя сам стал «новым Державиным», и не только по месту на Парнасе, но еще и потому, что был «продолжателем не карамзинско-дмитриевской, барской, сентиментальной традиции, но державинской, народной, реалистической», Ходасевич развивает свою мысль далее: «Настоящее, образующее влияние карамзинизм оказал только на язык Пушкина, как и на весь русский литературный язык. Однако еще вопрос, все ли в этом влиянии было безусловно благодетельно и не был ли кое в чем прав старик Шишков, видевший в карамзинской реформе не развитие, а лишь офранцуживание русского языка. Упорядочив синтаксис и расширив словарь, Карамзин и Дмитриев,
- 157 -
несомненно, придали русскому языку стройность, изящество, гибкость, каких ранее в нем не было. Но они же и оторвали его от народных корней, с которыми еще был так прочно связан косматый язык Державина. Самые неправильности державинского языка народнее, почвеннее слишком отделанного, тепличного языка карамзинистов. Замечательно, что Пушкин, смеявшийся над «киргиз-кайсацким» слогом Державина, в то же время отчетливо сознавал пороки языка реформированного. Может быть, не случайно, что всего через десять дней после того письма, в котором бранил Дмитриева, он писал тому же Вяземскому: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота ему более пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе».
«Эту «привычку» он получил, конечно, от карамзинско-дмитриевской школы. Доведя язык, завещанный ею, до небывалого совершенства, он невольно содействовал углублению рва, вырытого карамзинистами между языком народа и языком дворянства, а затем и всего образованного русского общества». (1937 год). Владислав Ходасевич. От Державина до Чехова // Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 150.
54 См.: Словарь языка Пушкина. Том 4. М., 1961. С. 800.
55 Вот полная цитата: «...искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признанье ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть? Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы» (VII, 71—72).
56 Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах. М., 1977—1982. Том 6. С. 283.
57 Берберова Н. Железная женщина // «Дружба народов», М., 1989, № 12. С. 131.
58 Чуковский Корней. Современники // Чуковский Корней. Собр. соч. в 6 томах. Том 2. М.,1965. С. 126—127.
59 Троицкий В. Ю. Пушкин и Горький // Пушкин и литература народов Советского Союза. Ереван, 1975. С. 189.
60 Но если «публике», руководствующейся «модой» — как в некотором роде «духом времени», — Пушкин позволяет «врать, что хотят», лишь бы интересовались и покупали его сочинения, то журналистам как профессионалам — он этого ни позволить, ни простить не может:
«Что это со мною делают журналисты!
- 158 -
Булгарин хуже Воейкова — как можно печатать партикулярные письма — мало ли что мне приходит на ум в дружеской переписке, а им все и печатать — это разбой; решено: прерываю со всеми переписку — не хочу с ними иметь ничего общего. А они глупо ругай или глупо хвали меня — мне все равно — их ни в грош не ставлю, а публику почитаю наравне с книгопродавцами — пусть покупают и врут, что хотят» (8, 61).
61 Цит. по книге: Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., 1988. С. 508.
62 Там же. С. 584.
63 В морозовском издании слово «Неблагодарные!» было выпущено, видимо, цензурой.
64 Горький М. История русской литературы. С. 89.
65 Подробнее о «жизненном облике Пушкина, воссозданном им самим во многих произведениях и письмах, дополненном свидетельствами современников», как факте «удивительно упорно проводимого единства понятий и поведения — того, что определяет, так сказать, стиль личности», см.: Сквозников В. Д. Стиль Пушкина // Теория литературы. М., 1965. С. 64 и далее.
66 «И как это странно, однако! Вы, деливший с народом хлеб и жизнь (стоит прочесть Ваш рассказ «Хозяин»), словно принадлежали к другой расе. Ютясь на мерзком чердаке булочной, Вы оставались чужаком, аристократом духа. Ваши товарищи и сам хозяин сознавали это». Р. Роллан — М. Горькому. 4 апреля 1922 г. // М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916—1936). С. 31.
67 Горький отчеркивает целиком также запрос Бенкендорфа Пушкину по случаю его отъезда в Москву: «К крайнему моему удивлению услышал я, по возвращении моем в Петербург, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно со сделанным между нами условием, о сей вашей поездке. Поступок сей понуждает меня просить вас о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову. Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительны, чтоб извинить оный; но я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению» (Москва, 21 марта 1830 года).
68 Тарле Е. В. Пушкин как историк // «Новый мир», 1963, № 2. С. 211. Далее ссылки на статью Е. В. Тарле даются в тексте с указанием страницы в скобках.
69 Об этом же «личном, автобиографическом, домашнем интересе к истории» как «характерной черте Пушкина-романиста» писал и Ю. Тынянов («Проза Пушкина»); на нее обращали внимание и пушкинисты (см.: В. Д. Сквозников. Стиль Пушкина. С. 69; С. Г. Бочаров. «Поэтика Пушкина». С. 121; В. С. Непомнящий. «...На перепутье...»).
70 Об этом же в стихотворении «Клеветникам России»:
- 159 -
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы...Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда...71 С. Г. Бочаров. Психологическое раскрытие характера в русской классической литературе и творчество Горького // Социалистический реализм и классическое наследие. М., 1960. С. 155—158.
72 «...я спорил с ним, указывая, что его борьба против русского анархизма принимает, приняла характер борьбы против культуры. Указывал, что истребляя русскую интеллигенцию, он лишает русский народ мозга. И, несмотря на то, что я люблю этого человека, а он меня, кажется, тоже любил, моментами наши столкновения будили взаимную ненависть».
«Ленин — государственник. Вы, написавший «Клерамбо», книгу жуткую и печальную, хорошо знаете, что последовательный государственник — двадцать раз «Великий Инквизитор». М. Горький — Р. Роллану. 13 декабря 1923. Мариенбад // Горький М. и Роллан Р. Переписка (1916—1936). С. 92, 88.
73 Дано по кн.: Горький А. М. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке // Архив А. М. Горького. М., 1957. Том VI. С. 240.
74 Ср.: Пушкин в письме П. А. Вяземскому (от 13 июля 1825 года из Михайловского в Царское Село) сообщал: «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавие: Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче. Каково?» (Х, 153—154. Курсив А. С. Пушкина). Проглядывающий в этом, видимо, невольном совпадении по некоторым моментам взглядов на историю «настоящих бед» в государстве, был смысл и более глубокий, относящийся к сути двух разных событий.
75 Цит. по кн.: Горький М. Пьесы и сценарии // Архив А. М. Горького. Том II. М., 1941. С. 324.
76 Архив А. М. Горького. Том II. С. 217.
77 Ср. у Пушкина:
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
- 160 -
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой.(III, 199—200)
78 См.: В. Д. Сквозников. Пушкин. Историческая мысль поэта. М., 1999; он же: Державность миропонимания Пушкина // Пушкин и теоретико-литературная мысль. М., 1999.
79 Горький М. и Роллан Р. Переписка. С. 75.
80 Многосторонний анализ статьи Пушкина «Александр Радищев» в аспекте того, «как пушкинские литературные «труды» (это его, Пушкина, любимое слово) становились трудами художественными и, тем самым оказывались в сфере воздействия системы стиля», — дан в работе В. Д. Сквозникова. Границы пушкинского стиля // Теория литературных стилей. М., 1976. С. 151—166.
81 В последующих собраниях сочинений А. С. Пушкина, в частности, ПСС в десяти томах, по которому делаются ссылки в других главах книги, вместо слов «моей няни Василисы» стоит «иной няни Василисы» (Х, 170). Это представляется нам более вероятным. Поскольку у Пушкина «няни Василисы», как известно, не было.
А в «Примечаниях» этого же Х-го тома ПСС дается такое разъяснение: «Няня Василиса — из комедии И. Крылова «Урок дочкам» (Х, 686 — Курсив ред.).
82 Об уникальности чувства «дружества», пронесенного поэтом через всю его жизнь и воспетого во многих стихах, см.: Сквозников В. Лирика Пушкина. С. 67—68.
83 У Пушкина, как известно, «Есть упоение в бою...». О причине горьковской перемены см. в сноске 85.
84 См., например, из «Русских сказок» Горького Стихи поэта-декадента (сказка 2) и Стихи Смертяшкина (сказка 3) // Горький М. Стихотворения. М., 1963. С. 160, 161.
85 «Небезынтересно отметить, что Горький упорно, в течение всего своего творческого пути, начиная с рассказов «Неприятность» и «Проходимец»... цитировал не «Есть упоение в бою…», а «Есть наслаждение в бою...». Вот почему слова о «наслажденьи битвой» («им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни». «Песня о Буревестнике». — Л. К.) он сам мог рассматривать как прямую перекличку с пушкинским стихом» // Б. Бялик. М. Горький-поэт. Вступительная статья к изданию: М. Горький. Стихотворения. Малая серия. Издание третье. М. — Л., 1963. С. 12—13.
86 Эти слова были адресованы Пушкиным историку, герою войны 1812 года К. Ф. Толю (Х, 622). Но еще более они могут быть отнесены к самому Пушкину.
- 161 -
87 Горький М. Стихотворения. С. 240.
88 Подробнее об этом см.: Сквозников В. Лирика Пушкина. М., 1975. С. 44—45.
89 Точную справку об авторстве этих строк см. в Реальном комментарии к «Жизни Клима Самгина» // Горький М. ПСС. Художественные произведения в 25 томах. Том 25. М., 1976. С. 379—380.
90 А. С. Пушкин — М. П. Погодину. Начало мая 1835 г. Из Петербурга в Москву (Черновое). «Милостивый государь, / Михайло Петрович, / Сейчас получил я последнюю книжку «Библиотеки для чтения», и увидел там какую-то повесть с подписью Белкин ... Как я читать ее не буду, то спешу Вам объявить, что этот Белкин не мой Белкин и что за его нелепость я не отвечаю» (Х, 531).
А. С. Пушкин — П. А. Плетневу. Около (не позднее) 11 октября 1835 г. Из Михайловского в Петербург. «Радуюсь, что Сенковский промышляет именем Белкина; но нельзя ль (разумеется из-за угла и тихонько, например в «Московском наблюдателе») объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю грехов своего омонима? Это бы, право, было не худо» (Х, 553).
91 «— Знаете, если обыкновенный человек почувствует свою нищету — беда с ним!» — говорит Тося Самгину, не подозревая, что слова эти имеют и к нему прямое отношение. Неудивительно, что Самгину «это было неприятно слышать».
«— Начинает он играть пред вами, ломаться, а для вас это — и не забавно, а только тяжело. Вот Ванечка у меня — обыкновенный, и очень обижен этим, и все хочет сделать что-нибудь... потрясающее! Миллион выиграть на скачках или в карты, царя убить, думу взорвать, все равно — что» (22, 183).
92 Колобаева Л. А. «Жизнь Клима Самгина». Автор и герой // Неизвестный Горький. Горький и его эпоха. Материалы и исследования. Выпуск 3. М., 1994. С. 295.
- 162 -
Глава вторая
ПУШКИН В МИРЕ ПРОЗЫ
«СДВИНУТЫХ ВЕЩЕЙ», «СМЕЩЕННЫХ ПОНЯТИЙ»
(Зощенко, Олеша, Платонов)
Михаил Зощенко
В пределах нашей темы всего более внимания мы уделили Горькому, что было вызвано как схожестью положения обоих писателей в истории русской словесности (родоначальники двух, хотя и различнейших литературных эпох), так и его особенным пониманием Пушкина и отношением к нему. Как можно было видеть из предшествующей главы, Пушкин для Горького оказался поистине «вечным спутником», сопровождая все виды его творческой жизнедеятельности, от самых первых дней и до конца жизни.
Несколько иначе обстояло дело с другими русскими прозаиками ХХ-го века.
Для большинства из них, особенно тех, чей приход в литературу совершился уже в ХХ-м веке, сознательное обращение к Пушкину происходило, чаще всего, в расцвете творчества, поскольку его проза казалась им, писателям иного времени, в лучшем случае — чем-то далеким, хотя и сделанным рукой великого мастера, а в худшем — устаревшей, не отвечающей — и по существу, и по манере — духу новой эпохи.
И само обращение к Пушкину уже в зрелости совершалось нередко не прямо, а опосредованно, в ракурсе — и через призму — только что пережитых традиций других великих отечественных классиков, более близких по времени и, соответственно, по духу.
У Фадеева — непосредственно от толстовских традиций, у Зощенко
- 163 -
— от Горького, Достоевского и Гоголя, у Булгакова — от Чехова, Гоголя. И так далее.
И это вполне естественно: все эти прозаики были для молодого поколения писателей ХХ-го века еще живой традицией, непосредственными предшественниками в прямом смысле слова (в раннем детстве они заставали некоторых из них в живых).
Но что интересно.
То, как осознавалась роль Пушкина для своего творчества, и то, как на самом деле «входил» Пушкин в творчество каждого — порой не только не совпадали, но и разнились до чрезвычайности.
В этом плане любопытна судьба и история двух произведений Зощенко: маленькой повести «Талисман» (1936 г.), названной самим автором «Шестой повестью Белкина», и большой его повести «Перед восходом солнца» (1934—1943 гг.). Они важны для понимания как творчества самого писателя, так и действенной роли великого русского гения для нового, «младого племени».
«В дни моей литературной юности я испытывал нечто вроде зависти к тем писателям, которые имели счастье находить замечательные сюжеты для своих работ»1, — так начинает Зощенко свое предисловие «От автора» к «Шестой повести Белкина». Его «литературная юность» — это годы пребывания в группе «Серапионовых братьев», одной среди многочисленных группировок 20-х гг. Выделяясь своей нарочитой отрешенностью от трудных социальных и политических проблем того времени и повышенным вниманием к чисто профессиональным литературным вопросам формы (особенно сюжету и композиции), «Серапионовы братья» «были вполне единодушны» в установке: «вещь должна быть хорошо сделана», — и только».2
Эту группу (преимущественно молодых писателей нового поколения) Горький в письме к Ромену Роллану характеризовал так: «Я вижу, что в моей области — в литературе — несмотря на невыносимые условия жизни, растут и развиваются целые группы — да, — именно группы! — очень талантливых молодых людей. Некоторые из них будут, без сомнения, очень крупными писателями, и скоро Европа услышит о них. Это — удивительные люди. Все они — аполитичны, индивидуалисты и романтики.
Быть аполитичным в стране, живущей исключительно политикой, — это фокус, почти волшебный».3
- 164 -
В упомянутом выше предисловии к «Талисману» Зощенко делился с читателями своими планами-замыслами юных лет. «В классической литературе было несколько излюбленных сюжетов, на которые мне чрезвычайно хотелось бы написать. И я не переставал жалеть, что не я придумал их.
Да и сейчас имеется порядочное количество таких чужих сюжетов, к которым я неспокоен» (494).
Называя среди них сюжеты ряда классиков (Л. Толстого, Мопассана, Мериме), Зощенко говорит о своем «особом счете» к Пушкину: «Не только некоторые сюжеты Пушкина, но и его манера, форма, стиль, композиция были всегда для меня показательны...
Занимательность, краткость и четкость изложения, предельная изящность формы, ирония — вот чем так привлекательна проза Пушкина» (495).
«Иной раз мне даже казалось, что вместе с Пушкиным погибла та настоящая народная линия в русской литературе, которая была начата с таким удивительным блеском и которая (во второй половине прошлого столетия) была заменена психологической прозой, чуждой, в сущности, духу нашего народа» (там же).
Не станем вступать в спор с М. Зощенко, одним из оригинальнейших прозаиков нашей уходящей эпохи, повторяясь в мыслях и аргументах на тему о том, что такое пушкинская традиция в прозе. О ней — в иной связи — уже шла речь на страницах данной работы (во Введении).
Но заметим, что подобная мысль — в несколько иных формулировках — посещала не одного Зощенко.
«Русская литература, которая в действительности вытекает из Пушкина и сознательно считает его своим родоначальником, изменила главному завету его: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Как это странно! Начатая самым светлым, самым жизнерадостным из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха смерти» (Д. Мережковский).4
После Пушкина «наша литература как бы перестала быть искусством, и все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским), — гениальная путаница. Этого больше не будет и не должно быть (говорю преимущественно о «разливанном море» бесконечной «психологии»)» (А. Блок).5
Обратим внимание на вывод Зощенко и принятое им решение:
- 165 -
«...проза Пушкина — драгоценный образчик, на котором следует учиться писателям нашего времени...
Конечно, в наши дни не должно быть слепого подражания Пушкину. Ибо получится безжизненная копия, оторванная от нашего времени. Но иногда полезно сделать и копию, чтоб увидеть, каким секретом в своем мастерстве обладал великий поэт и какими красками он пользовался, чтоб достичь наибольшей силы» (495).
Говоря о сложности копии в литературе вообще, где «простая переписка ровным счетом ничего не покажет» (в сравнении с живописью, где «достаточно «списать» картину, чтоб многое понять»), Зощенко предлагает свой рецепт «переписки»: «Необходимо взять сколько-нибудь равноценный сюжет и, воспользовавшись формой мастера, изложить тему в его манере». Так было задумано и осуществлено писателем, в расцвете своей известности и популярности («после семнадцати лет моей литературной работы», в 1936 году), написание «Шестой повести Белкина» (под названием «Талисман»), написание «в той манере и в той «маске», как это сделано Пушкиным».
В молодости, — продолжает Зощенко, — «подобную копию мне никак не удавалось сделать. Я не понимал всей сложности мастерства и не умел владеть красками, как следовало». Да и сейчас он «не без робости приступил к копии с пушкинской прозы», отдавая отчет в сложности задуманного эксперимента.
Проследим за дальнейшим изложением процесса работы. Это важно и само по себе, как образчик освоения пушкинской темы в пушкинской манере (своего рода учеба в «пушкинской литературной школе»), и еще более для понимания результата.
Сетуя, что ему «не пришлось подражать общей манере (что было бы легче)», поскольку «все пять повестей Пушкина написаны как бы от разных рассказчиков», Зощенко сообщает читателям, что ему «пришлось ввести по-настоящему новый рассказ, такой рассказ, который бы мог существовать в ряду повестей Белкина» (там же; курсив мой. — Л. К.).
Это значительно усложнило его работу.
Еще более усложнило ее желание писателя «не быть слишком слепым подражателем». И потому он «взял тему совершенно самостоятельную, не такую, которая была у Пушкина, а такую, какая могла быть по моему разумению» (там же; курсив мой. — Л. К.).
- 166 -
Понимая неизбежность некоторых «погрешностей против стиля, и главным образом — против обрисовки характеров», он объясняет их «чувством писателя» своего времени («я не мог в своей копии кое-что оставить в вековой неподвижности», хотя и понимал, что «было бы правильнее каждую черточку прозы Пушкина передать в том виде, как она есть»).
«А. С. Пушкин был велик в своей работе и, смеясь, писал (Плетневу), что некоторые литераторы уже промышляют именем Белкина и что он этому рад, но вместе с тем хотел бы объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю чужих грехов...
Прошло сто лет, и вот я «промышляю» Белкиным с иной целью — из уважения к великому мастерству, на котором следует поучиться. И пусть теперь читатель судит, какие новые грехи возложены мной на Белкина» (496).
В заключение автор «Шестой повести Белкина» сообщает читателю — в духе пушкинского предисловия от Издателя «Повестей Белкина», — что в основу повести «положен подлинный факт», после чего берет, что называется, отступную: «благодаря чему взыскательный читатель может прочитать мою работу и без проекции на произведения Пушкина» (там же).
Попробуем же сначала прочитать «Талисман» с «проекцией на произведения Пушкина», то есть как «Шестую повесть Белкина».
Уже самим названием повести — «Талисман» — автор ориентирует читателя на одну из любимых и важных для Пушкина тем. И читателю, конечно же, вспоминаются «Храни меня, мой талисман», «Там, где море вечно плещет...» и другие великолепные строки пушкинского талисманства.
Но это тема — поэзии Пушкина. В его прозе, тем более в «Повестях Белкина», такой темы нет. И потому согласимся с Зощенко, что тема эта — «совершенно самостоятельная, не такая, которая была у Пушкина, а какая могла быть».
И «рассказ (в данном случае, у Зощенко, это нечто среднее между сюжетом и повествованием. — Л. К.) введен по-настоящему новый, такой, который бы мог существовать в ряду повестей Белкина».
Эпиграф из предпушкинской эпохи — «Не титла славу нам
- 167 -
сплетают, / Не предков наших имена» (Херасков) — как будто в стиле и духе эпиграфов к каждой из «Повестей Белкина» (и почти ко всем крупным произведениям Пушкина, часто бравшего эпиграфы от своих предшественников).
Но лишь — как будто.
Пушкинские эпиграфы (с определенной долей allusions) говорят о смысле произведения; они удивительно точно — и тонко, и метко, — вводят в существо содержания рассказа. По каждому из них можно сразу понять, к какому рассказу относится эпиграф, и в чем смысл рассказа.
Стрелялись мы.
Баратынский.
Я поклялся застрелить его по праву
дуэли (за ним остался еще мой выстрел).Вечер на бивуаке.
Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий...
...............
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...Жуковский.
Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?Державин.
Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.Князь Вяземский.
Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович.
- 168 -
И даже предисловию «От издателя» «Повестей покойного Белкина» дается — надо полагать, самим издателем, — эпиграф:
Г-жа Простакова. — То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.
Скотинин. — Митрофан по мне.
Недоросль.
Случай в литературе — не частый, когда так называемый «издатель» предпосылает эпиграф своему предисловию. Тем самым он знакомит читателя не только с историей создания и обстоятельствами выхода в свет данного сочинения (о чем обычно идет речь в любом предисловии, к «Повестям Белкина» в том числе), но и дает образное представление о складе характера его сочинителя («к историям охотник»), и даже о жанре его сочинений («истории»).
Больше того. Вторая фраза эпиграфа из фонвизинского «Недоросля»: «Митрофан по мне», — выражая одобрение дядей своего племянника, «охотника к историям», недвусмысленно говорит читателю и об одобрительном отношении к «охотнику до историй» самого издателя этих историй (сиречь «А. П.», как подписано это Предисловие).
И не только одобрение записанных Белкиным историй, «слышанных от разных особ», сквозит в этом эпиграфе от издателя.
В нем явна и несомненна и некая доля симпатии (не без доброй иронической улыбки) по отношению к бесхитростной и безыскусственной простоте двух натур «охотников до историй». Именно по этим качествам — «охотников к историям» — они сближены издателем (эпиграф и предисловие) еще и в тонкой параллели простейших русских имен (Митрофан Простаков — Иван Петрович Белкин). О чем, как понимает издатель, читатель не сразу может догадаться, — в силу очень уж значительного различия этих двух лиц почти по всем прочим моментам.
Но в этом, возможно, и была задача автора, его очень тонкой, не без доброго лукавства, игры (allusions).
Эпиграф же из Хераскова, взятый Зощенко для его «Талисмана», — утяжеленный по языку, тенденциозно нравоучительный по смыслу, — не вовлекает читателя ни в тонкую игру аллюзий (как у Пушкина) между хорошо известным ему произведением и тем, которое ему предстоит читать (Херасков не был близок читателям и
- 169 -
во времена Пушкина, современному же читателю он тем более и далек, и мало известен), ни в содержание последнего.
Он скорее представляет собой «мораль сей басни», лишенную как игрового характера allusions, так и явного сходства, точно нацеленного адресного намека (что является непременным свойством пушкинских эпиграфов), и потому может быть применен и к разным другим «историям», коль скоро бы они имели продолжение в виде «Седьмой», «Восьмой» и так далее «Повестей Белкина» от Зощенко.
Соблюдая необходимые внешние параметры для создания копии с «Повестей Белкина», причем, копии не слепой, а творческой, «Талисман», между тем, даже отдаленно не напоминает ни одну из них (ни «Выстрела», могущего казаться близким по теме, манере повествования, характерам героев и, отчасти, по ситуации, ни, тем более, других четырех, совсем уж далеких и по теме, и по фабуле).
Если он и вызывает в памяти читателя нечто из классической прозы первой половины XIX-го века, с ее «краткостью, точностью, занимательностью» и некоторой долей сюжетного сходства (предопределенность судьбы героя), то, скорее всего, «Фаталиста» Лермонтова из «Героя нашего времени».
К тому же название повести — «Талисман» — находится в ином ряду, чем все пять названий пушкинских «Повестей Белкина».
Те названия — чисто русского свойства и происхождения.
Первые два — «Выстрел» и «Метель» — выражают действия человека и природы; два следующих — профессии героев («Гробовщик», «Станционный смотритель»); последний — поведение и характер героини («Барышня-крестьянка»). И каждым названием, как и стоящим после него эпиграфом, уже до начала рассказа дается представление о смысле (и даже ходе) сюжета в аспекте главной темы произведения. В основе того и другого у Пушкина была, говоря словами Белинского о его поэзии, «всегда плодотворная идея».
Заявленная же заглавием рассказа Зощенко тема талисмана — лишь заявлена. По ходу рассказа читатель о ней не раз почти забывает, поскольку сюжет развивается не по этой теме, а по цепочке трех разных историй с различными героями, — как бы «случайных происшествий», или «несчастных случаев», как их определяет сам повествователь.
О первой истории, случившейся с «бедным ротмистром», повествует
- 170 -
лицо в сюжете нейтральное, обычный рассказчик, не столько участник, сколько невольный свидетель «глупого и жалкого столкновения, закончившегося столь трагическим образом» от нелепо «несчастного случая».
Ротмистр, на свой насмешливо любопытствующий вопрос поручику о его изуродованной руке («Где же, в таком случае, вы накололи свою руку, сударь?»), получив его отповедь («Извольте, ротмистр, выбирать более достойные слова для своих вопросов. Отдаленность от столицы, сколь вижу я, приводит вас к дикости»), счел себя «крайне обиженным» и «решил драться». Но, готовя к дуэли свои пистолеты, он «нечаянным образом выстрелил и убил себя наповал. Пуля ударила ему в подбородок и засела в мозгу; смерть была мгновенна и ужасна» (498).
Этот же повествователь начинает рассказ, знакомя читателей с главным героем повести в духе пушкинской «занимательности, краткости и точности» и в его же, пушкинско-белкинской, «манере» повествования и «маске» рассказчика (в данном случае от лица одного из армейских офицеров).
«В бытность мою в *** армейском полку служил у нас переведенный из гвардии гусарский поручик Б.
Офицеры весьма недоверчиво отнеслись к нему, полагая, что на совести его лежат многие не слишком славные поступки, приведшие его в наше унылое местечко.
Простреленная и изуродованная его рука нас еще более убедила в том, что жизнь этого офицера была затемнена многими облаками» (496—497). (Но — заметим: даже в этой, тщательно выписанной в первых строках повести пушкинской «манере» и «маске», к концу фраз появляются выражения, явно говорящие о «чувствах писателя моего (то есть Зощенко. — Л. К.) времени»: «многие не слишком славные поступки», «приведшие его в наше унылое местечко»; «жизнь этого офицера была затемнена многими облаками»).
В таком же стиле и духе он его и кончает: «Смерть бедного ротмистра весьма нас смутила, но мы не могли не признать, что поручик был всего менее в этом повинен. И, погоревав о несчастном нашем ротмистре, мы стали позабывать об этом глупом и жалком столкновении, закончившемся столь трагическим образом» (498).
Вторая история изобилует уже несколькими удивительными случаями и «нечаянными происшествиями». И начинает ее тот же повествователь,
- 171 -
еще тщательнее стараясь выдержать пушкинско-белкинскую «манеру» и «маску», вводя в свой рассказ любимые пушкинские словечки-определения, вроде «дружество», «славный малый» и другие. Но, также как и в первом рассказе, он допускает в него и «чувства писателя своего времени» (вроде «истинное и трогательное огорчение» или «мы даже стали его однажды утешать» и подобные).
«Прошло два месяца. Натянутые наши отношения с новым офицером постепенно перешли если не в дружество, то в добрые и короткие отношения.
Он и в самом деле оказался на редкость славным малым. И, пожалуй, он из нас сильнее всех жалел о несчастной судьбе погибшего ротмистра... видя его истинное и трогательное огорчение, мы даже стали его однажды утешать, говоря, что... вероятно, такова уж печальная судьба у нашего бедного ротмистра, если даже его жизнь не была сбережена талисманом, носимым постоянно им на груди» (там же).
Здесь впервые в повести, уже постфактум — после истории с несчастным ротмистром — в рассказе появляется тема талисмана (а с ней и некоторые старорусские, «вековой неподвижности» выражения, вроде «средство противу дурного глаза», «жизнь судила иначе» и другие).
«Поручик с благодарностью стал пожимать наши руки и с непонятным для нас волнением спросил: «Каков, однако, был талисман у него?»
Но мы не много знали об этом предмете. Ротмистр привез талисман из Персии и, будучи суеверным человеком, никогда с ним не расставался, считая его средством противу дурного глаза и несчастного случая. Однако ж, как мы видим, жизнь судила иначе» (499).
Всплывшая уже задним числом (по отношению к рассказанной нелепой истории с «бедным ротмистром») тема талисмана выступает здесь также не в своей «вековой неподвижности» (в том числе, уже совсем и не в поэтической пушкинской традиции этой темы), то есть не в своем положительном, спасительно-охранительном качестве.
Талисман — напротив — не спасает его владельца, как мы видели, не только от какого-либо несчастного случая, но даже и от совершенно нелепой случайности. (Хотя, забегая несколько вперед, скажем: по ходу дальнейшего рассказа читатель не раз ставится
- 172 -
перед намеком, иногда даже прямым подозрением повествователя и других армейских офицеров, от лица которых — то «я», то «мы» — и ведется повествование: не сам ли талисман «подстроил» нелепый случай смерти «бедного поручика»? Но эта версия современно-детективного плана, как слишком уж явно не соответствующая пушкинской теме «талисмана», — в ходе сюжета рассеивается, оставляя все же след в виде не единожды возникающих у читателя недоумений.)
Между тем появление заявленной уже давно, в заглавии, темы дает возможность автору — хотя и довольно искусственно, по цепочке ассоциаций — протянуть талисманство в следующий рассказ.
«В таком случае, господа, — сказал поручик, — я расскажу вам еще об одном талисмане, и ваша воля думать об этом как угодно.
И тут мы с величайшим интересом услышали следующий рассказ».
Этот новый, второй рассказ в «Шестой повести Белкина» — «еще об одном талисмане», — от лица самого героя всех трех частей повести, поручика Б., чья жизнь «была затемнена многими облаками», полон уже многих случайностей и всяческих «нечаянных происшествий».
Здесь и удивительная история самого рассказчика, который пока не раскрывает своего лица ни перед слушателями (в числе которых и повествователь), ни перед читателями, повествуя отстраненно, как бы не о себе, а о неком «молодом гусаре, сыне отставного генерала и помещика К.». Будучи баловнем судьбы, бесшабашно предаваясь кутежам и веселью, он «по весьма ничтожному поводу» вызвал на дуэль и тяжело ранил молодого графа, за что и был разжалован в нижние чины.
И — история несчастного полкового командира, с женой которого гусар, «скорее из шалости и озорства, чем из сердечных побуждений», вступил в связь.
И — история «еще одного талисмана». Варенька Л., жена полкового командира, приехав в полк для прощания с гусаром, «обливаясь слезами, надела на его шею металлическую цепочку с головой дракона, сказав, что не раз этот талисман сохранял жизнь ее отцу и не раз выводил его на путь радости; и что пусть этот талисман отвратит теперь от поручика все беды» (501).
Не пушкинская «занимательность», а скорее психологическая
- 173 -
спутанность отношений (характерная больше для героев Достоевского) и необходимость их резкой развязки определяют дальнейший ход сюжета.
Когда в полк прибыл великий князь и от имени государя обратился со словами благодарности полку за его доблестные сражения, предлагая командиру назвать фамилии наиболее отличившихся на поле сражения офицеров и нижних чинов — для представления к награде, — «несчастнейший наш командир и муж этой забывшей долг женщины», «быть может разгоряченный недавним семейным скандалом», «назвал ненавистную фамилию своего разжалованного в солдаты соперника».
«И тотчас адъютант повторил эти пять фамилий, и из рядов вышли пять нижних чинов, коим великий князь лично к шинелям приколол высокие награды» (502).
Осознавая нелепость своего положения, «тем более неприличного и скандального», что «бедный наш разжалованный офицер не был участником в сражении, находясь в ту пору в прикрытии к обозу», — и кляня в душе «немедленное действие талисмана» (он «хотел было сорвать с себя амулет, чтобы счастье не было к нему столь сразу благосклонным и бурным в своем проявлении»), он, «как честный и порядочный человек», признавая, что «невозможно оставить сей крест, так случайно и ошибочно им полученный. Между тем нету способа отказаться от него, не поставив себя и командира в ужасное и комическое положение», — находит достойный выход из этого «отчаянного положения», о чем и сообщает офицерам: «... — в самое ближайшее время я непременно постараюсь сделать какой-либо поступок, который оправдает столь высокую награду, случайно полученную мной» (503). Следствием такого отчаянного поступка и стали обожженные и изуродованные руки поручика, вызвавшегося отправиться в дозор, чтобы выведать расположение врага, но попавшего в плен и, ценой неимоверных усилий, сумевшего вырваться из него и вернуться в свой полк.
Больной и израненный, пролежав на больничной койке две недели без памяти, он в горячечном бреду отказывается от георгиевского креста. «Офицеры обступили его койку; пришел полковой командир; поручик, увидев его, сорвал с себя крест и бросил к ногам полковника. Он сказал: «Возьмите назад то, что я получил случайно» (506).
- 174 -
История третья завершает рассказ от лица самого героя, полный неожиданных перипетий и с ним самим (в рассказе первом — как поручике Б., в рассказе втором — как гусаре К.), и со всеми так или иначе причастными к нему персонажами. Перемежая его с комментариями, размышлениями и дополнительными, необходимыми для читателя разного рода сообщениями повествователя, она вновь касается главного предмета — талисмана, — о котором читатель, за всеми этими перипетиями случайных историй, уже успел почти позабыть.
И возникает эта тема у виновника всех разных происшествий и несчастных случаев, главного героя повести (и ее же рассказчика во второй части повести), уже после того, как в нем слушатели узнают того самого баловня судьбы, разжалованного поручика К., незаслуженно, при нелепых обстоятельствах получившего георгиевский крест, а затем, заслужив его столь рискованным для жизни способом, отказавшегося от него.
«— А где же теперь этот храбрый офицер? — спросили мы.
— Он, сказывают, служит в армейской части.
— А его руки? Полностью ли они зажили, или же он навсегда остался калекой?
Была лишь одна секунда, когда поручик взглянул на свои изуродованные руки, и они у него дрогнули; мы все в одно мгновение поняли, что славный поручик К. и есть наш рассказчик» (506).
Вслед за тем в рассказ вновь входит тема талисмана, но не сама по себе, а как бы по «подсказке» герою от повествователя, понимающего необходимость вернуться к главной, заявленной названием рассказа и его сюжетом теме, почти забытой читателем в ходе всяческих происшествий и разного рода случаев с действующими лицами рассказа.
«— А талисман?.. — спросил один из нас».
Заданный «одним из нас» вопрос вызывает последовавшее за ним «в одно мгновенье» общее предположение: «И тут мы все в одно мгновенье подумали, что наш бедный ротмистр, погибший столь нечаянным образом перед дуэлью, не есть ли жертва таинственной силы этого талисмана, который, как мы сейчас видели, многократно оберегал поручика от случайных бед. Не есть ли смерть несчастного ротмистра еще один случай одного и того же дела?» (там же).
- 175 -
Все это дает, казалось бы, возможность (если не сказать вероятность) — больше того, делает необходимым и непосредственному рассказчику в этот момент (поручику Б.), и повествователю, выступающему в данном случае в безличной маске одного из армейских офицеров, — завершить тему рассказа согласно ее главному предмету.
А именно — раскрыть читателю тайну всех неожиданно случавшихся в данной повести «несчастных случаев» и случаев удачных, «столь сразу благосклонных и бурных в своем проявлении», — в скрытом, магическом действии двух талисманов. — Еще бы неожиданнее, занимательнее и, вместе с тем, логичнее, — как закономерное для финала повести сведение и вполне обоснованное разрешение всех ее историй — стало бы, если бы талисман оказался одним и тем же предметом, но действующим по-разному в судьбах и на телах двух различных людей. Это подтвердило бы как смысл и роль талисмана в качестве ключевого предмета в сюжете повести, где столь различные события, происходящие со столь разными героями, довольно долго водили читателя по лабиринтам нескольких дорог, так и оправдало бы само название повести.
Но герой событий во всех трех частях повести Зощенко, поручик Б., он же гусар («славный поручик К.») своим ответом — стушевывает весь смысл повести, поворачивая его в иной план.
«Мы стали просить, чтобы поручик нам показал этот талисман, столь ревностно оберегавший его судьбу.
Поручик, засмеявшись, сказал:
— Я потерял его, господа. В тот момент, когда я вскочил на лошадь, чтобы бежать от французов, он выпал у меня из кармана; я хотел было остановить коня, чтобы поднять его, но точно рассчитал, что потерянные при этом две минуты создадут мне более сильную опасность, нежели потерянный амулет. Соображение это было правильным, и я остался, как видите, жив. И вот уже третий год моя судьба, увы, никем не оберегается. И нету оснований признавать, что талисман, быть может, явился причиной смерти бедного ротмистра» (507).
Ответом поручика смысл и действие талисмана как «вещи, в коей, по поверью, заключена спасительная волшебная сила» (В. Даль), — окончательно снимается, если не сказать травестируется.
- 176 -
«Мы разочарованно переглянулись, увидев, что это и в самом деле так. Мы ожидали услышать иной конец, который еще более показал бы могущество талисмана. Но этого, увы, не было» (там же).
А далее она и вовсе перекрывается более важными для самого героя, интересными для читателя (и нужными повествователю для завершения сюжета повести) сообщениями о дальнейшей судьбе действующих на протяжении повести лиц.
Обратим внимание, что язык и стиль этого заключительного куска повести наиболее приближены к финалу пушкинского «Выстрела», с характерными для повествователя краткими информационными фразами от себя и его же безличными словесными выражениями, типа «сказывают», о дальнейшей судьбе героя и остальных действующих лиц повести.
Вот два финала, данные параллельно.
«Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами» («Выстрел» А. Пушкина).
«Поручик Б. снова замолчал. Казалось, он не находил слов для дальнейшего...
Прошло полгода после этого рассказа. Поручик Б. был вызван к своему отцу, который находился при смерти. Он уехал и после этого к нам в полк не вернулся. Сказывают, что он бросил военную службу и стал заниматься хозяйством. И еще сказывают, что через год он все же получил заслуженный им георгиевский крест, с которым он никогда более не расставался, даже нося гражданское платье» («Талисман» М. Зощенко).
Хотя рассказ Зощенко завершается от повествователя, начавшего и заканчивающего его в наибольшей степени соблюдения «копии» («в той манере и в той «маске», как это сделано Пушкиным»), но не только «против стиля и против обрисовки характеров» автор «Талисмана» делает в своей копии «погрешности».
Основная его «погрешность» — и это особенно заметным становится к финалу — в развенчании предмета повести, выбранного им же самим в качестве главного, в нередких отходах от него по мере движении сюжета и, отсюда, в перемещении интереса в совсем иную
- 177 -
сферу, — чего не допускал ни один из рассказчиков в пушкинских «Повестях Белкина».
Отсюда, и кульминации по главной теме рассказа, по сути дела, — не происходит, и произойти не может; кульминации существуют лишь внутри каждой истории (и с талисманом фактически не связаны ни фабулой, ни событиями).
И развязки этих разных историй также трудно назвать happy end,ами, как определяла развязки «Повестей Белкина» А. Ахматова.
Ни пушкинской формы повествования (по видимости — простой и ясной, по сути — крайне сложной и загадочной системы рассказчиков), ни счастливых развязок здесь не имеется.
По форме повествования перед нами — типичный «рассказ в рассказе» (с двумя рассказчиками: очевидцем событий, одним из армейских офицеров, и героем повести, с которым эти события происходили).
Случай, который играет у Пушкина зачастую — а в «Повестях Белкина» в особенности — роль «мгновенного, мощного орудия провидения», счастливо разрешая почти неразрешимо запутанные ситуации, — выступает в «Талисмане» как цепь многих случайностей, к тому же далеко вовсе не счастливых.
Для судьбы убившего себя при разрядке оружия ротмистра — это случайность нелепая; для несчастного полковника, который желал освободиться от ротмистра (из-за жены), а на деле создал из него героя, представив к георгиевскому кресту — она почти анекдотическая, траги-фарсовая; наконец, для главного героя повести, поручика Б. (он же поручик К.), который был невольно (или вольно) причастен ко всем трем историям, всякий раз оканчивавшимся для него благополучно (что можно было бы приписать действию талисмана, если бы тот не оказался потерянным), его прежняя удивительная судьба завершается повествователем почти задорно юмористически: «И, женившись впоследствии на любимой им особе, всегда при случае называл ее кавалерственной дамой».
По мере развития сюжета (а оно у Зощенко идет не по прямой линии, а скорее как плетение цепочки, с переходом на новое звено, новую историю), роль главного предмета и виновника названия, «талисмана», не только не возрастает, а, напротив, все более снижается.
Сначала предмет раздвояется.
- 178 -
После истории с «бедным ротмистром», которого носимый постоянно талисман не спас от нелепой случайной смерти, в рассказе появляется еще одна история с талисманом, слишком уж быстро — как может показаться поначалу — проявившим свое действие, на деле же, как становится потом ясно, оказавшимся и вообще-то не при чем.
А затем, после того, как заявил о себе лишь дважды — когда читатель еще не может догадаться о роли и смысле брошенного вскользь повествователем факта, и когда он всплывает лишь «по подсказке» (вопросу, обращенному к герою), — тема талисмана фактически ретушируется.
Дважды развенчанный (и в случае с ротмистром, когда не спас его, и в случае с поручиком, когда тот, потеряв талисман, сумел собственными усилиями и волей вырваться из беды и остался жив), талисман совсем уходит из рассказа.
Вместо него, на первый план, окончательно выдвигается предмет той самой «психологической прозы», о главенствующем характере которой в русской литературе второй половины XIX-го века так сожалел в своем предисловии к «Шестой повести Белкина» ее автор.
А именно — психология главного героя в аспекте ставшей интересной и для повествователя, и, как он справедливо считает, для читателя, главной черты характера поручика Б.; черты, на которую, видимо, и намекал эпиграф к «Талисману» из Хераскова:
Не титла славу нам сплетают,
Не предков наших имена.Отсюда, и повествователь в «Талисмане» сообщает читателям о дальнейшей судьбе главного героя совсем не в ракурсе темы талисмана, а в аспекте сложного психологического отношения героя к более значимому для его истории и судьбы предмету — обстоятельствам незаслуженного получения Георгия; затем, истории его «оправдания» отчаянным поступком, далее, неожиданно последовавшим за этим отвержением награды (что психологически оправдано состоянием горячки героя) и, наконец, заслуженным ее получением, и даже гордостью за нее.
Став более важным для понимания характера, психологии и судьбы героя, орден святого Георгия уже давно, со второй части
- 179 -
рассказа, заместил собою интерес к талисману, поскольку его история в сюжете повести стала не менее занимательна, а, главное, она оказалась более прочно связанной с поступками героя, определяемыми узами его психологии.
И не удивительно, что, несмотря на подчеркнутое соблюдение пушкинско-белкинской «манеры» и «маски» в последней части повести, с характерной для нее «краткостью и точностью» слога («Прошло полгода... Поручик был вызван... Он уехал...»), а также с исторической достоверностью языка («Сказывают, что он... И еще сказывают...»), и то, и другое, как мы уже видели, перекрывается — и по значению в сюжете, и по звучанию — гораздо более ярким выражением, забирающим от главного прежде предмета его финальную функцию и, одновременно, завершающим рассказ: «И, женившись впоследствии на любимой им особе, всегда при случае называл ее кавалерственной дамой» (507).
Заключительные слова повести не кажутся неуместными (в отличие от почти искусственно притянутого к сюжету «талисмана»). В них-то и проявляется столь характерный для Зощенко как повествователя органический сплав мышления героя (и его выражения в слове) с авторским к нему отношением, метко отраженным и накрепко закрепленным в точно найденном — и для героя, и для себя — слове.6
Посему определение это — «кавалерственная дама» — как бы балансируя на грани двух художественных эпох, излучает дополнительно и очень тонкую, добродушную авторскую иронию, одновременно и подтрунивающую (над героем), и радующуюся (самому себе), за такое, удачно подвернувшееся — и к месту, и вовремя — слово, позволившее автору — не хуже его героя — благополучно, и не без доли лихости — выйти из сложной ситуации, с честью завершив повесть.
Напомним, как ярко обыграл Б. Эйхенбаум гоголевские «лапки под апплике» из его «Шинели».7
«Кавалерственная дама» — авторская находка из того же разряда.
В этой маленькой словесной штучке заключен большой содержательный смысл. В ней и точная характеристика мышления и выражения героя, языка его, а через них — мышления и языка изображаемой эпохи; и то, и другое пронизано добродушно подтрунивающей снисходительностью повествователя (от лица более молодого
- 180 -
поколения «армейских офицеров»). А между ними и сквозь них просвечивает радостная улыбка автора от своей удачной словесной находки, дающей возможность (и право) автору выступить в финале повести уже совершенно открыто (без «манеры» и «маски»), в характерном для него языковом выражении и человеческом отношении к своим героям.
Итак, если читать повесть Зощенко «с проекцией на Пушкина», то пушкинский «след», сделанный одним из глубоко значимых для поэта названием предмета (талисман), по мере движения текста сначала ретушируется, а затем и вовсе исчезает.
И это — не удивительно. ХХ-й век, с его приматом материализма и предметности перед идеализмом и духовностью, отсюда, и с отрицательным отношением ко всякого рода называемым им «предубеждениям» и «предрассудкам» в психологии людей, соответственно и к предметам-носителям, в коих они заключены («амулетам»), безусловно наложил отпечаток и на «копию» с «Шестой повести Белкина» у Зощенко.
Отпечаток этот оказался тем сильнее и значительнее, что повесть имела своим главным предметом вещь, действие которой в новую эпоху отрицалось общественным массовым сознанием или, во всяком случае, подвергалось большому сомнению.
Отсюда, заявленная и в названии, и сюжетно, одним из значимых для Пушкина предметом, тема повести «Талисман» — и по сути, и фабульно — в этом самом предмете — подвергается смещению и, в конечном счете, разрушению.
Талисман, как важный предмет прошлой эпохи, оказывается в творчестве Зощенко так же «сдвинутым» со своей «вековой неподвижности».
Он «смещен» с прежней роли и прежнего предназначения, наподобие предметам бытового употребления, — уже не в «копиях» с классиков, а в собственном творчестве Зощенко. (Вроде ничтожного ежика для чистки примуса, из-за которого произошла драка в коммунальной квартире — рассказ «Нервные люди»; или комода, за право владения которым была разрушена идиллическая, почти пасторальная история любви двух героев; выдержав несравнимо более трудное испытание (в виде малопривлекательного вида физиономии героя, раздувшейся при болезни свинкой), она рухнула при испытании
- 181 -
«комодом» — рассказ «О чем пел соловей» из «Сентиментальных повестей»).
Это не могло не отразиться не только на содержании, но и на форме повести. Сюжет и композиция «Талисмана», теряя целенаправленность и цельность, распадаются на ряд случайных, нелепых происшествий, утрачивая занимательность от неожиданного «случая», который у Пушкина всегда весьма органично завершал сюжет.
Нерусское название повести («Талисман»), предпосланный ей не на живом языке морально-назидательный эпиграф, несложная форма повествования (рассказ в рассказе), наконец, перенесение интереса с главного прежде предмета повести, с которым должны были быть связаны ее основные события, на другой предмет, с которым больше связана была психология героя, отсюда, посыпавшиеся в повести, одна за другой, «нелепые истории», «случайные происшествия», «отчаянные положения», — все это вместе взятое не способствовало (если не сказать активно противоборствовало) образованию «Шестой повести Белкина».
Сходство проявлялось, быть может, лишь в языке, при явной стилизации под некоторые ходы пушкинской манеры повествования, особенно в начале и в конце рассказов («В Бытность мою в *** армейском полку служил у нас переведенный из гвардии гусарский поручик Б.». «Случай помог нам выполнить наше недоброе намерение». «Но в ту пору начавшаяся война с Наполеоном задержала решение государя. Полчища французов быстро подходили к сердцу нашего любезного отечества». «Нечаянное происшествие изменило все». «Сказывают, что он...». «И еще сказывают...». И т. д.).
А также — в ряде выражений, которые навряд ли следует считать исключительно и специфически пушкинскими, поскольку они были характерны для всей его эпохи. «Прехладнокровно отнесся к нашему афронту»; «он дружества ни с кем не искал»; «ротмистр почел себя крайне обиженным»; «Подошед к офицерам, он сказал...». И т. п.
Впрочем, и то, и другое не раз перебивается в повести более яркими и более характерными выражениями от лица новой эпохи, от представлений о предметах и явлениях у современных героев и у автора повести. (Свидетельства этому уже не раз нами приводились.)
- 182 -
Там же, где они — пушкинские и зощенковские формы мышления и выражения — находятся в близком и непосредственном соседстве друг с другом (в одной фразе или в одном словесно смысловом отрезке), получается порою совершенно не пушкинская «гармонии контрастов», а типичный для Зощенко, — хотя вряд ли им самим предполагаемый, тем более, навряд ли желаемый, — комический эффект в далеко не комической ситуации.
Он происходит от разнородности, разнопегости сопряженных предметов. «Прострелянная и изуродованная его рука нас еще более убедила в том, что жизнь этого офицера была затемнена многими облаками». «И, видя его истинное и трогательное огорчение, мы даже стали его однажды утешать...». «Энтузиазм в столице был в ту пору всеобщий. Престарелый родитель поручика К., благороднейшая и возвышенная душа которого пылала ненавистью к узурпатору, прислал полковому нашему командиру наставление, что сделать с Наполеоном, буде он попадет к нам в плен». «Свидание с К. было трогательным и печальным. Варенька, обливаясь слезами, надела на его шею металлическую цепочку с головой дракона, сказав, что не раз этот талисман сохранял жизнь ее отцу и не раз из несчастия выводил его на путь радости...». «И, женившись впоследствии на любимой им особе, всегда при случае называл ее кавалерственной дамой».
Можно сказать, что эксперимент по созданию «Шестой повести Белкина» — не удался. Копии — не получилось. «Талисман» не включился органически в белкинский цикл Пушкина.
Но сам по себе эксперимент — как опыт в теории и практике искусства словесности — удался.
И оказался — весьма-таки успешным: он наглядно показал и доказал невозможность воссоздания литературной копии с пушкинского оригинала.
Если же читать «Талисман» независимо от «Повестей Белкина», а с «проекцией» на самого ее автора, то повесть эта также покажется не менее бледной копией с произведений Зощенко.
Писатель узнается в ней лишь по отдельным, характерным для него словесным оборотам (они не раз приводились выше) и по особенному авторскому отношению ко всем участникам всех этих «нелепых случайностей», «нечаянных происшествий», «несчастных случаев», — отношению жалостно подтрунивающе снисходительному
- 183 -
(«бедный ротмистр», «несчастнейший наш командир», «трогательное и печальное свидание» и т. п.).
Любой рассказ Зощенко зрелого периода — «Баня», «История болезни», «Лимонад», «Землетрясение» и многие другие — гораздо выразительнее, характернее и талантливее «Талисмана».
И это — понятно и естественно. Хотя автор в своем предисловии к «Шестой повести Белкина» и предупреждал читателей, что в обрисовке характеров и в стиле он «не мог в своей копии кое-что оставить в вековой неподвижности» («чувства писателя моего времени, вероятно, дали некоторый иной оттенок, хотя я и старался этого избежать»), но заданная заранее «проекция» на иное время, а, главное, на другое имя, не близкие по складу натуры ни автору, ни его эпохе, наводимая автором «Талисмана» на его живой рассказ, неизбежно затеняла, бледнила и деформировала последний.
И с этой стороны также можно сказать, что эксперимент по невозможности отказа художника от своего собственного лица (разумеется, если это лицо настоящего художника) — при создании копии другого лица, если оно принадлежит такому величайшему мастеру, как Пушкин, — удался.
Для новой эпохи, ХХ-го столетия, гений русской литературы остался тем же, кем он был и для эпохи непосредственно за ним последовавшей.
В случае же с Зощенко Пушкин показал еще раз невозможность подражать ему без отказа от себя, без утраты своего авторского, писательского «я». Ибо «школа Пушкина», «традиции, завещанные им», состоят не в следовании ему, не в подражании (путем стилизации или даже развития отдельных черт). Они находятся совсем в ином измерении.
Как справедливо и точно было сказано А. Н. Островским (на торжествах по случаю открытия памятника поэту), последователям своим Пушкин «завешал искренность, самобытность, он завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость» самовыражения.
И вот эта «искренность, самобытность», «смелость быть самим собой», — иными словами, истинно пушкинская традиция в творчестве М. Зощенко, — ярче всего и сильнее всего сказалась, как это ни покажется поначалу странным, в его оригинальных, малых рассказах зрелого периода 20—30-х годов.
- 184 -
Не содержа никакой специальной «проекции» на великого классика, рассказы эти, между тем, подхватывают и продолжают в русской литературе линию «начатой Пушкиным народной прозы». Разумеется, народной — для своего времени, в формах мировосприятия и мировыражения своего времени (как это и было у самого Пушкина в его «Повестях Белкина»).
Об этом уже веско свидетельствовали, это неоспоримо доказывали и подтверждали многочисленные (хотя и весьма разношерстные) письма читателей к Зощенко.8
Вслед за читателями, современниками писателя, бросив очень бегло и кратко взгляд из нашего времени, конца ХХ-го века, скажем сразу и со всей определенностью: рассказы Зощенко, создаваемые без какой-либо заданной «проекции» на литературные традиции, совершенно органически продолжают — в соответствии с жанром, позицией автора, изображаемыми лицами и описываемыми историями — черты той самой «настоящей народной линии в русской прозе», блестящее начало которой писатель видел в пушкинских «Повестях Белкина» и об утрате которой во второй половине XIX-го века и замене ее «психологической прозой» он так горевал, не замечая, как и каким образом прорастали некоторые важные ее элементы в его собственной прозе.9
Составные пушкинской «привлекательности» — «занимательность, краткость и четкость изложения, предельная изящность формы, ирония» — в малых рассказах Зощенко налицо. Впрочем, сами по себе, как отдельные черты прозы, они имеются в немалом числе произведений русской классики всего послепушкинского периода. Однако, из этих черт — и по отдельности, и даже вместе взятых, — в дальнейшем развитии русской литературы не получалось продолжения пушкинско-белкинской «линии настоящей народной прозы».
Поскольку тайна ее, концы и начала, были умело «спрятаны» Пушкиным в «загадочное» лицо повествователя. Внешне оно явлено простотой и полной открытостью, а внутренне — сложностью многоликости, не поддающейся раскрытию без разрушения формы повествования и глубины смысла.
Не случайно, до сих пор пушкинисты спорят о соотношении автора и повествователя, повествователя и рассказчиков в «Повестях Белкина», размышляют о сложности системы рассказчиков в них, такой, казалось бы, ясной, самим «А. П.» (как издателем повестей Белкина) открыто
- 185 -
представленной читателю в списке «особ», от которых Белкиным были слышаны сии истории (они поименно перечислены инициалами имен и фамилий и указанием на профессию и пол), но так и остающейся во многом все еще неразгаданной загадкой.
Повторим вслед за А. Ахматовой уже приводимые нами выше ее слова: «Пушкин умел прятать концы, и никакой Эйхенбаум никогда не узнает, в чем пленительность поэзии Пушкина».
Добавим лишь, что «умея прятать концы» от праздно любопытствующих, могущих безжалостно разломать красивую игрушку, полагая, что секрет ее пленительности в механизме, спрятанном внутри, Пушкин с не меньшим умением представлял истинно интересующимся читателям и исследователям, «любопытным изыскателям» (говоря его же словами из Предисловия от издателя «Повестей Белкина»), в «волшебном фокусе» художественного образа (в том числе и образе повествователя) всю полноту и цельность многокрасочной многогранности мира (не это ли ключ к истинно русской «линии народности» в искусстве?).
Линия «народной прозы» в художественной литературе, проложенная пушкинскими «Повестями Белкина», в рассказах Зощенко нагляднее всего и, вместе с тем, скрытнее всего, сказывается в том же, в чем ее в течение уже полутора столетий пытаются раскрыть, понять и объяснить и у Пушкина: а именно, в образе автора.
Как справедливо было сказано, проблема авторского слова является в поэтике Зощенко ключевой. «Со специфической интонацией рассказчиков всегда связывается наше представление о художественной манере Зощенко и о самом его художественном мире. Вокруг слова рассказчика и взаимоотношений этого слова с собственно авторской позицией постоянно велись споры в современной критике, которой словесная манера писателя казалась случайной и необязательной».10
С начала появления малых рассказов Зощенко и по настоящее время критики не перестают вести разговор о «лице» и «маске» рассказчика в них. При жизни писателя многие критики усматривали в самом авторе обывателя и мещанина, отождествляя с ним рассказчиков и героев его произведений. Иные же, напротив, находили в необычной авторской позиции нечто совсем обратное: остро сатирическое высмеивание и тех, и других, гротескно саркастическое к ним отношение автора.
- 186 -
Но и одни, и другие зачастую (и очень долго) не желали видеть многосложности и многооттеночности авторской позиции, как в изображении им разных лиц и событий, так и в отношении к ним, их понимании.
И, главное, не замечалась, игнорировалась возникающая при этом — и в самом этом, как поистине в «волшебном фокусе» (воспользуемся выражением Горького, хотя оно было сказано по иному поводу) — художественная цельность и гармония. Она возникает в разноголосии и разномыслии мнений и их словесных выражений (от лица очень многих, если не сказать почти всех слоев русского народонаселения), от многооттеночной, поистине на все чутко откликающейся, как мембрана, авторской позиции (как сказано в пушкинском «Эхо»: «На всякий звук / Свой отклик... / Родишь ты вдруг»).
В этой связи вряд ли можно согласиться с определением формы повествования в рассказах Зощенко как сказа «утрированно беспросветного» (С. Г. Бочаров), всецело принадлежащего слову рассказчика, «заполняющего все пространство рассказа, весь горизонт».11 Также вряд ли абсолютно справедливо сложившееся мнение о противоположности «образа автора», не имеющего ничего общего с его героями, «субъектами сказа».
Не имея в предмете анализ рассказов Зощенко самих по себе, кратко остановим внимание на двух из них, крайних и во многом противоположных по теме, лику рассказчика и авторскому проявлению.
«Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:
— Я братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках...
А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме».12
Без какого-либо специального представления автором героя, а лишь с минимальной подачей его имени (не без оттенка уважительности: «Григорий Иванович») и двух его жестов («шумно вздохнул» — говорит о состоянии героя, некой душевной травме; «вытер подбородок рукавом» — о его принадлежности к определенной социальной среде), герой ведет этот рассказ от начала до конца, без авторских реплик и комментарий.
И делает это по всем правилам и законам высокого искусства
- 187 -
рассказа, несмотря на свою далеко не интеллектуальную профессию, никак с этими правилами и законами не связанную. — О ней мы узнаем невзначай, но очень-таки к месту, в период интриги — если можно так назвать ее здесь, — ухаживаний за «аристократкой»: «И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней... Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?» (171).
И хотя автор в рассказе героя себя внешне никак не проявляет, но весь строй повествования, удивительно многое вместивший — и характер героя, и род его занятий, и предмет прежнего увлечения, и весь период почти романической интриги, и неожиданный финал ее, где поведение героя весьма-таки оправдано его финансовым положением, впрочем, как и поведение героини ее прежним социальным положением, что и дало заглавие рассказу («Аристократка»), и весь фон, на котором развертывается действие, с репликами и советами включившихся в момент критической ситуации других лиц (продавца, толпы, постороннего, предложившего докушать надкусанное пирожное), — не менее удивительно выдержан по всем правилам словесного мастерства автора. Это сказывается в учете правоты всех действующих лиц рассказа, в авторском отношении как к герою, которому нелегко доставалась рабочая копейка и который не нашел в предмете своего увлечения («аристократке») понимание этого, так и к ней, привыкшей к иным условиям и отношениям; отсюда, ее раздраженная реплика, которая в пересказе Григория Ивановича звучит так:
«А у дома она мне говорит своим буржуйным тоном:
— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.
А я говорю: — Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение».
Так мы с ней и разошлись» (173).
Кольцевая композиция рассказа завершает его фразой начала: «Не нравятся мне аристократки».
«Случай в провинции» уже самим названием заявляет о беспристрастном отражении события, что весьма отличает его от других названий у Зощенко, нередко содержащих в себе некую долю оценочного отношения рассказчика (как «Аристократка», или «Нервные люди» и другие).
Повествование в нем ведется и интрига развивается тоже по всем
- 188 -
правилам искусства рассказа, но теперь уже непосредственно от автора.
Читатель заинтригован неспешным повествованием героя, попавшего в какую-то мало поддающуюся разумному пониманию ситуацию, и долго держится им в ожидании разъяснения ее.
«Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был.
И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора.
Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы...
Это было в революцию, в двадцатом или двадцать первом году»(248).
В рассказе от лица автора («юмориста», как он себя именует перед читателями и как представлен перед зрителями) и остальные герои подстать ему — деятели искусства, решившие для просвещения народа и ради куска хлеба выехать в провинцию с концертом.
«Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов.
Мы ехали своим «чистым искусством» заработать кусок ржаного солдатского хлеба» (там же).
В большую «подготовительную программу» выступления артистов, среди которых и рассказчик (в своем собственном амплуа юмориста), втянуты и читатели, которые, также как и он, до самого финала описываемого концерта в провинции не могут понять странного зрительского восприятия.
Первой должна была выступать «пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру». Вторым — имажинист, «он вроде усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу». «Засим я — с юмористическими рассказами. И наконец лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера» (там же).
Все было продумано до тонкостей. Подготовка к вечеру велась как для самой высокой аудитории. А эффект получился — обратный ожидаемому: публика бешено аплодировала появлению каждого нового
- 189 -
артиста, хотя не была знакома ни с одним из них, вскакивая с мест с криками: «Ловко!..Крой! Валяй! Дави!», но — хранила гробовое молчание после очередного выступления.
«Имажинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал:
— Меня поймут через пятьдесят лет. Не раньше...
Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками.
Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву.
Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной мне форме».
Причина странного зрительского восприятия выясняется лишь в финале, когда делегация от зрителей ворвалась в артистическую, с просьбой повторить номер артиста, «который тут с переодеванием, трансформатор!».
«Вдруг в одно мгновение всем стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступать после нас».
И финал молниеносно разрешает недоумение артистов, делая понятным неадекватные реакции зрителей на тщательно подготовленную для них программу классического концерта.
«Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба.
И на другой день уехали из города».
И этот рассказ Зощенко, где автор выступает в собственном амплуа, не теряет черт «народной прозы», хотя народ, в виде пестрой по составу публики («человек сто красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий»), показан автором в своих реакциях на искусство далеко не в лучшем виде. Но автор (он же герой и рассказчик) не винит народ. Виноваты прежние «просветители» («трансформаторы»), которые своими пошлыми трюками, веселя публику, прививали ей дурной вкус.
Появившиеся нотки авторской горести за народ не поглощают тонкой авторской иронии, а делают ее еще тоньше.
«Маленькая блондинка пианистка, саженного роста имажинист, я и, наконец, полный, румяный лирический поэт — мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации.
- 190 -
Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа.
Придется ждать» (252).
Между двумя крайними точками амплуа рассказчика, явно неавторского («Аристократка») и явно авторского («Случай в провинции»), крайне велик и очень разнообразен спектр лиц рассказчиков, их голосов, а также сюжетов, происшествий и, что самое главное, многообразной и многосторонней позиции автора.
Она сказывается в авторском определении лиц и ситуаций, героев и событий, в отношении к ним, — порой насмешливо-ироничном, порой саркастическом, а чаще грустном, сочувственно понимающем тоне повествования, в его обращениях к читателям. Последние, в зависимости от степени близости к рассказчику (и автору), именуются то более официально («граждане», «товарищи»), то почти по родственному («братцы», «братишечки»), а иногда безадресно.
Самобытная писательская манера, его особенный тон, наконец, оригинальность и неповторимость стиля некоторых малых рассказов Зощенко, проявили и утвердили свою «классичность» в качестве продолжения линии «народной прозы» в условиях новой эпохи.
Обратим внимание лишь на некоторые начала и концы нескольких лучших рассказов. Поскольку даже такой беглый просмотр дает представление и о разнообразии лиц рассказчиков, и о различном положении писателя среди них, то есть о сложной, многовариантной системе рассказчиков в их соотношении с автором.
«Говорят, граждане, в Америке бани отличные.
Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться, беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет...
А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.
У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку), — дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой» («Баня». 278).
«Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.
Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.
Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.
- 191 -
Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет» («Нервные люди». 322).
«Я, конечно, человек не пьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать...» («Лимонад». 362).
По совету врача герой рассказа решил перестать пить: «...помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я еще человек молодой... «Надо, — думаю, — в самом деле пить бросить». Взял и бросил.
Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую...»
А там официант вместо требуемого героем лимонада — водку подает. Все более приятно удивляясь по мере ее вкушения, герой, лишь когда деньги заплатил, «замечание все-таки сделал»:
«— Я, — говорю, — лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?
Тот говорит:
— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.
— Неси, — говорю, — еще последнюю.
Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться» (362—363).
Ссылка героя-рассказчика на «помешавшие» выполнить его «горячее желание» «обстоятельства» — это уже нечто новое в рассказах Зощенко. В ряде других рассказов эта линия (ссылки на объективные моменты) продолжается и варьируется («Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят» и т. д.).
«Вот говорят, что деньги сильней всего на свете. Вздор. Ерунда.
Капиталисты для самообольщения все это выдумали.
Есть на свете кое-что покрепче денег.
Двумя словами об этом не рассказать. Тут целый рассказ требуется.
Извольте рассказ» («Паутина». 200).
«Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней в театре —
- 192 -
актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.
Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев» («Монтер». 355)
Рассказчик (так и оставшийся безымянным) заключает свой рассказ назидательно, но вместе с тем — и уважительно к проявленному рабочим человеком достоинству и осознанию важности своего труда, утвердившемуся у рабочего класса за годы советской власти.
«Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.
Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра — крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках».
«Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться: дескать, я — тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно, не в фокусе!» (355—356) — так кончается рассказ «Монтер».
Рассказ «Землетрясение» начинается с зачина, характерного для прямого авторского повествования: с названия события, указания даты его свершения и столь же точного и конкретного называния лица, с кем оно произошло.
«Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.
Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую» (441).
Далее повествование как бы раздвояется. За голосом автора слышится второй голос, своими оговорочками как бы уточняющий сообщение автора (впрочем, его действие можно понять и в прямо обратном смысле — как, напротив, затемняющее его).
«Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку».
«И они жили определенно не худо... Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, времени хватало. Чего-чего другого...».
Последуюшее повествование напоминает распев на два голоса, «оба-два», говоря выражением повествователя о жизни Сапожкова с
- 193 -
другим его собратом («работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были»).
Раздваивается и голос рассказчика, и его взгляд на происходящее. Это уже заранее подготавливает читателей к аналогичному видению картины города после землетрясения (на «оба-два») сильно выпившим героем.
А в финале рассказа перед читателем появляется и третье лицо повествователя. С прямым к нему, от имени автора, обращением.
«Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?
Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.
Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать».
Но по речи рассказчика видно, что слова эти — не авторские, они являют читателю одну из грубых интерпретаций произведений автора — критиками. И тонкий юмор автора (теперь уже самого автора), делающего свою остроумную «оговорочку»: «Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!» — позволяет завершить ему самому рассказ с улыбкой, по приятельски обращенной к понимающему его другу-читателю: «И очень даже просто, товарищи» (443—444).
Многообразнейшие события, происшествия, факты и случаи с не менее разнообразнейшими лицами различных социальных положений, профессий, сфер жизнедеятельности и быта, в разные периоды (войны и революции, нэпа и времени восстановления, в предвоенные 30-е гг.) и на всем протяжении жизненного пути — от рождения, крестин («Роза-Мария»), женитьбы, разводов, болезней до смерти («Медицинский случай», «Больные», «Врачевание и психика», «История болезни»), сопровождаются не меньшим диапазоном оттенков авторского отношения как к самим лицам, так и случаям с ними (от нежно сочувственного до почти саркастического, а, чаще всего, сочетая в пределах одного рассказа очень многие тона и полутона).
От всего этого необычного сочетания в авторском отношении к героям и сюжетам и жанр рассказа, соответственно, получает многочисленные оттенки, не всегда имеющие в теории жанра определение: от истинно комических, полукомических, полудраматических до почти
- 194 -
трагических. Или — наоборот, от почти драматических или трагических — к трагикомическим или комитрагическим.
Авторское отношение к своим героям в рассказах Зощенко находится в столь же сложном положении, столь же трудной ситуации, как сам автор произведения — к жизни и своему времени. Порой он чувствует, осознает и даже называет себя «попутчиком»; порой — очень-таки активным строителем новой жизни; иногда — мечтателем о лучшем будущем; а нередко, если не сказать часто — прямым наставником, как норм литературного языка, так и моральных норм жизненного поведения, своего рода кодекса нравственных и эстетических нормативов современности.13
«Занимательность, краткость и четкость изложения, предельная изящность формы, ирония» — все то, о чем говорил Зощенко как о прерванной пушкинской традиции, составляет основу и его собственного повествования в этих маленьких, комитрагических рассказах.
В них также ведется повествование «от различных особ», от самых разных рассказчиков. Порою «особы» эти определены фамилией, именем, профессией, или ролью, положением в сюжете, поведением («Жених», «Пациентка», «Нервные люди», «Аристократка» и т. д.); порой отмечены в отвлеченно обобщенном плане, если это нужно для сюжета; иногда повествование и вовсе обходится без рассказчика, его заменяет всесторонняя позиция автора.
В соответствии с новой эпохой и нагрянувшими в литературу иными темами, другими сюжетами, непривычными для роли «героев» человеческими характерами, произведения Зощенко воссоздают жизнь того периода в пестром разномногообразии лиц, зачастую попадающих в нелепейшие обстоятельства и совершающих совсем уж невообразимые поступки. И все это происходит в жанре одного лишь «маленького рассказа», как бы мы сказали, «маленьких комитрагедий».
В названиях рассказов Зощенко органично проступает авторская позиция по отношению к описываемому случаю и показываемым героям («Великосветская история», «Гиблое место», «Административный восторг», «Нервные люди», «Паутина», «Прискорбный случай», «Родные люди», «История болезни» и т. д.). И в этом плане они весьма и точны, и кратки, и метки, и тонко ироничны, и при всем том — многосодержательны.
Сам писатель, творец этих рассказов, видимо, под давлением пестроты
- 195 -
и обилия тем и сюжетов, а, главное, в связи с превалированием того или иного оттенка в авторском тоне, неоднократно разносил их по разным циклам, или, — что также верно будет сказать, — объединял их в разные циклы («Рассказы Назара Ильича Синебрюхова», «Сентиментальные повести» и другие).
Но иногда писатель как автор ощущает себя настолько выбитым из колеи фактами самой жизни или реакциями на них его героев, реакциями, идущими вразрез всякой логике и здравому смыслу ее участников или свидетелей, — настолько удивленным, пораженным, недоумевающим вместе с читателями, что даже принимается за исследование причин алогичнх человеческих поступков, с тем, чтобы помочь избавлению от них.
Но это уже тема иных жанров творчества Зощенко (повестей «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца»), хотя прямо и непосредственно она вызвана и обусловлена темой и жанром его малых рассказов и, главное, авторской позицией в них. Тема, потребовавшая такого же экспериментаторства, как при создании «Шестой повести Белкина», но уже не на путях художественного вымысла, а методом почти научного исследования человеческого естества, производя опыты не на материале искусства слова, а на живом материале своего собственного организма.
Успокаивая читателей заверением, что он не отказывается от своего призвания и вернется к художественному творчеству, Зощенко в Комментариях к «Возвращенной молодости» говорит: «Эту книгу я написал в назидание себе и людям. Я написал ее не для того, чтобы пофилософствовать...
Мне попросту хотелось быть в этом смысле полезным в той борьбе, которую ведет наша страна за социализм...
Эти мои медицинские рассуждения не списаны с книг. Я был той собакой, над которой произвел все опыты».
«Я знаю, что я до чрезвычайности опростил и, так сказать, огрубил всю предложенную схему жизни, здоровья и смерти. Подозреваю, что кое-что значительно сложнее и кое-что просто не понятно моему воображению... Но я написал эту книгу не как научное исследование, а как занимательный роман».14
Но что интересно. И эксперимент художественный (создание «Шестой повести Белкина»), и эксперимент, можно сказать, медицинский, по выяснению истоков «истории болезни», кроющихся, по
- 196 -
мысли Зощенко, все в том же разросшемся «излишнем психологизме», сбившем и искусство, и жизнь с пути «народного», — и то, и другое имеет у него своей панацеей, своим «талисманом» — теперь, думается, уместно будет употребить это слово самого Зощенко — Пушкина.
«Талант здоровый и оздоровляющий» — так было определено Горьким (в его Каприйских лекциях) отличие Пушкина, его роли и значения для литературы и жизни — от Достоевского, чей «больной гений», по мысли Горького, имел зачастую недоброе свое влияние и на искусство, и на действительность.
И это «оздоровляющее» влияние Пушкина в полной мере испытал на себе Зощенко, в двух своих весьма трудных экспериментах.
При всей широте и всеохватности «малых рассказов» Зощенко, они почти полностью были сосредоточены на проблемах бытия и быта современного человека (хотя и рассказчики, и автор неоднократно выходили и к более широким проблемам окружающей действительности).
В повести «Перед восходом солнца» писатель выходит к пониманию неразрывной связи истории и судьбы отдельного человека с судьбой и историей государства и человечества.
И сам по себе выход к пониманию органической связи того и другого (отсюда, и к решению прежде недоуменных вопросов) — приводит писателя к ясному осознанию необходимости соблюдения «иерархии предметов», «гармонической правильности распределения предметов». Иными словами, и то, и другое совершается у Зощенко с помощью Пушкина, благодаря ему, путем восстановления пушкинской иерархической «лестницы».
У Зощенко это называлось возвращением «смещенных понятий» и «сдвинутых вещей» на свои места, предназначенные и определенные им историей рода человеческого.
«Прежние творцы воспроизводили «вещи», а новые творцы воспроизводят свои душевные состояния, — записал свое наблюдение в дневнике молодой Зощенко. — Первые приводили в порядок явления и впечатления в том виде, в каком они укладывались в их мозгу, вторые воспроизводят только те чувства, которые возбуждаются этими явлениями. Вот причина классичности прежнего творца».15
Другое дело, насколько плодотворен был для Зощенко как писателя
- 197 -
отказ от своего жанра, и в этом плане — насколько плодотворен был для него этот второй «эксперимент».
Но это вопросы уже иного типа исследования, они лежат за границами нашей темы.
Нам было важно обратить внимание на один из самых оригинальных в отечественной литературе ХХ-го века и неповторимых подходов к Пушкину как своего рода «нити Ариадны» в поисках выхода к истинному искусству, к «классичности прежних творцов»; на подход, вряд ли могущий быть повторенным, и вряд ли нуждающийся в повторении, поскольку он был необходим определенному писателю, для определенного этапа в истории и действительности, и искусства.
От «Возвращенной молодости» через «Голубую книгу» к повести «Перед восходом солнца» пролегла длинная по времени и трудная по затраченным силам дорога (1932—1943 гг.).
В работе над этими крупными повестями Зощенко выходил в своем миропонимании и мироотношении к органическому сопряжению «судьбы человеческой и судьбы народной», открытию в частном случае — общего, соизмеримого с мировым по масштабу событием, докапываясь до истоков, причин, лежащих в основе «смещений», «сдвигов», до корней явлений разыгравшихся стихий, темных сил.
Идя сложной и трудной дорогой «оздоровления» путем эксперимента, теперь уже над самим собой не как писателем, а как человеком, и на материале анализа собственной жизни (а не пушкинского текста), в повести «Перед восходом солнца» Зощенко, по выражению его исследователя, «преодолевал Фрейда — Павловым, а Павлова — Пушкиным». Здесь «микрокосм» личного существования (вплоть до потаеннейших глубин душевной жизни) и «макрокосм» объективной, действительной жизни не просто соотнесены и уподоблены, но явлены как нечто единое, целостное, нерасчлененное.
Эта целостность обладает чертами «неустойчивого равновесия», ибо невротическое состояние (сугубо, казалось бы, личный недуг) и социально-историческое потрясение (война с фашизмом) чреваты срывом в досознательное «ничто». Но вместе с тем воссоздаваемый в повести процесс преодоления нездоровья, поиск предпосылок (научных и философских), обеспечивающих преодоление ложных
- 198 -
установок, порождающих «больные предметы», соответствует исторической необходимости и неизбежности победы советского народа над фашизмом».16
По мысли исследователя, в этой повести Зощенко «ценностный ориентир явлен с необычайной для творчества писателя обнаженностью. Это Пушкин...» (54).
Раскрытие этого ориентира он усматривает в зощенковской парафразе из его послесловия к повести.
Приводя стихи «греческого поэта» (как установил Н. Р. Скалон, они принадлежат Праксилле, поэтессе V-го века до нашей эры, в переводе В. Вересаева):
Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое — солнечный свет, второе — спокойные звезды
С месяцем, третье — яблоки, спелые дыни и груши,.. —Зощенко так их комментирует: «Впрочем, к звездам и к месяцу я совершенно равнодушен. Звезды и месяц я заменю чем-нибудь более для меня привлекательным. Эти стихи я произнесу так:
Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое — солнечный свет, второе — искусство и разум...А уж на третьем месте можно будет перечислить что-нибудь из фруктов — спелые груши, арбузы и дыни...» (692—693).
В этой парафразе, как замечает исследователь, отчетливо акцентированы мотивы пушкинской «Вакхической песни».
«Беспросветность» творческих самоограничений оборачивается у Зощенко выстраданным и воплощенным преклонением «пред солнцем бессмертным ума» (57).
«Античная философская и поэтическая традиция возвышена до Пушкина, а его творчество предстает образцом не только для современного искусства, но и познания» (там же).
Возвращая «сдвинутые вещи» и «смещенные понятия» на свои места, писатель не только преодолевает тьму — светом, подсознание — разумом, но и выходит к государственному мышлению, в отличие от своих мелких рассказов, где и герои, и автор были всецело поглощены темами и проблемами быта.
Другое дело, как это сказалось на силе таланта писателя. Выдержал
- 199 -
ли он этот груз государственного мышления? Не получилось ли перегрузки? И нужно ли это было для его таланта?
Но это вопросы и проблемы не нашего предмета исследования.
Гигантская работа, проделанная Зощенко на пути к Пушкину, сначала как мастеру повествования, с его «краткостью, занимательностью, точностью», затем — как художнику со светом разума, «солнцем бессмертным ума», работа, совершаемая и на художественном материале, материале искусства слова, и на жизненном, над самим собой, — думается, не должна остаться вне внимания будущего поколения писателей, независимо от того, будет ли она возобновлена уже в XXI-м веке (и в каких формах, родах и видах литературы), и насколько покажутся верными — или неверными — в глазах уже «племени младого, незнакомого», трудные искания и свершения Зощенко на его путях-дорогах возвращения к традициям пушкинской прозы (а с ней вместе — к пушкинской гармонии, основанной на правильной иерархии в распределении предметов).17
Но думается, что потомкам нашим по крайней мере будет небезынтересно знать и видеть, как почти каждый из «новых творцов», писателей ХХ-го века, по-своему, своими путями и на различных для каждого этапах творческого пути, но так или иначе искал возможности возвращения к «прерванной традиции», к Пушкину.
Юрий Олеша
В незавершенной книге Ю. Олеши* «Ни дня без строчки»18, получившей не меньшее признание, чем романы «Зависть» и «Три толстяка», имеются строки, близкие перефразировке Зощенко (в послесловии к повести «Перед восходом солнца»19) слов греческой поэтессы:
«Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле?
Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное — деревья... Некоторые из них действительно прекрасны. Я помню
- 200 -
сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть откинута назад, что было великолепно при ее высоте, была освещена закатом...
Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и еще стоит все там же на холме, все так же откинувшись...
Береза действительно очень красивое дерево...
Некоторые из них очень высоки, объемисты... Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали...
Я очень часто ухожу очень далеко один. И тем не менее связь моя с некоей станцией не нарушается... Очевидно, при каждом моем шаге с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешняя среда, очевидно, солнце, которое все время держит меня на проводе, на шнуре — и движет мною, и является моей вечно заряжающей станцией...
Что же это — солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым, — я всегда был на кончике луча» (620—621).
Доминанта пушкинского облика — и поэтического, и человеческого («светлый гений» — наиболее частое определение личности поэта; «солнце нашей поэзии закатилось» — А. А. Краевский о смерти Пушкина) — предстает у Олеши как главная движущая сила его собственной реальности, и жизненной, и творческой. — Хотя и не без характерной для него метафорической «облатки» («я всегда был на кончике луча»), впрочем, очень точно отражающей как его мировидение, так и осознание своего местоположения в литературе вообще и относительно Пушкина в частности («на кончике луча»).
Эта же доминанта еще ранее, и также в метафорической облатке, но иной, представала в рассказе для детей «Друзья», написанном Олешей к 150-летию со дня рождения Пушкина (1949 год).
«Лучи заходящего солнца косо падали на стену, у которой он сидел, и в этих лучах лицо его казалось золотым» (324) — таким видится юный поэт его лицейским друзьям, пришедшим навестить его, выздоравливающего и севшего читать для них (и о них) свои стихи, сочиненные во время болезни.
- 201 -
А далее, по ходу сюжета, олешинская метафора из образа, стиля, языка переходит в тему рассказа, в его содержание, смысл: «золотым» оказывается не только лицо Пушкина, но весь его поэтически человеческий облик.
«Все эти мальчики тоже сочиняли стихи, но, слушая стихи Пушкина, они понимали, какая огромная разница между тем, что сочиняли они, и тем, что сочинял их удивительный сверстник...
На этот раз им особенно нравилось то, что читал Пушкин. Еще бы, ведь в этих стихах он вел с ними товарищескую беседу, называя каждого из них по имени! То и дело раздавались взрывы хохота. Школьники узнавали свои смешные черты в том или ином стихе этой веселой песни:
Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!Больше всех восхищался тот, кого называли Виленькой».
В рассказе Олеши среди лицейских друзей Пушкина реально выписан лишь один «Виленька» (то есть Кюхельбекер), остальные даны собирательно («группа школьников», «они», «все эти мальчики», «слушатели»).
Считая поэзию «призванием своей жизни», Виленька «сочинял стихи и во время уроков, и по ночам, но, как он ни старался, строчки у него получались такие, что их даже трудно было выговорить... Он верил, что когда-нибудь и у него из-под пера вылетит стих, такой же легкий, такой же звонкий и так же попадающий в сердце, как стих Пушкина.
Пушкин любил Виленьку за его преданность поэзии, за трудолюбие, за непобедимое желание во что бы то ни стало добиться цели» (325).
«Весь отдавшись поэтическому восторгу» от читаемых товарищем стихов, «Виленька чувствовал по голосу поэта и по его жесту, что чтение подходит к концу, и очень страдал от этого: ему хотелось, чтобы Пушкин читал вечно!»
Прочитанные строки о нем:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее! —вызвали бурную реакцию товарищей, их громкий смех.
- 202 -
«Все бросились тормошить Виленьку», ему повторяли то, что прочел Пушкин, а потом даже не раз пропели хором.
Все это не сразу дошло до Виленьки, отдавшегося целиком «поэтическому восторгу» и страдавшему лишь от того, «что чтение подходит к концу».
Но — почти сразу вызвало бурную реакцию самого сочинителя.
«... тут белая рубашка появилась среди синих мундирчиков. Пушкин, вскочив с кровати, подбежал к другу.
— Что я должен сделать, чтобы ты простил меня? — воскликнул он. — Ну, говори же! Что же ты молчишь? О, как я себя презираю! Что я должен сделать?
Глаза Пушкина горели. Маленькими руками он комкал рубашку на своей широкой груди. Видно было, что он готов на все.
— Что я должен сделать? Ну, говори!
— Я тебя прощу, если ты...
— Ну?
— Если ты...
— Ну, говори!
— Если ты еще раз прочтешь это дивное стихотворение! Ах, Пушкин, Пушкин...
И Виленька обнял друга.
— Ах, Пушкин! — повторил он. — Ведь я знаю, что ты добрый друг! А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта. Ты и себе строгий судья, а что я перед тобой? Ну, прочти, прочти еще раз! Тебя можно слушать вечно, Пушкин!» (325—326).
Ценя метафору более всего, считая ее синонимом словесного искусства, своего рода залогом его вечности («Кто-то сказал, что от искусства для вечности остается только метафора. Так оно, конечно, и есть. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности» — 572), Олеша даже создал, по собственному выражению, «лавку метафор», предполагая «разбогатеть на них».
Но незавершенный труд Олеши, являя собой в целом апофеоз метафоры20, ключевым своим моментом и, по всей видимости, финальным аккордом имеет фразу эпического тона и эпического смысла: «Да здравствует мир без меня!» (588).
А до нее автором дается перечисление разнообразнейших видов
- 203 -
животного мира, и типических, и специфических его особей, из которых, по его мнению, этот мир и должен состоять: «Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, попугаи, бегемоты, медведи-гризли! Да здравствует птица-секретарь в атласных панталонах и золотых очках! Да здравствует все, что живет вообще — в траве, в пещерах, среди камней!» (там же).
«Да здравствует мир без меня».
По смыслу это — перефразировка пушкинских строк из двух различных его стихотворений:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дальней лозы прозябанье.(«Пророк»)
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.(«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»)
По тону и фразеологии — повторение (не без доли травестирующего оспаривания в выборе предметов здравицы) строк «Вакхической песни», с ее прославлением дев, муз, разума и солнца:
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
— Хотя образ солнца (насколько можно судить по отдельным записям незавершенной книги) появляется у писателя не сразу.
Восприятие Пушкина у Олеши, как и восприятие мира земной жизни и всех ее предметов, и живых и неживых, происходит как бы с двух сторон — лицевой и затылочной, иными словами, перекрестно-зеркальным путем. Возникшая от первой, беглой и часто отдаленной авторской встречи с явлением или предметом, метафора его,
- 204 -
не останавливаясь, совершает пробег до обратной стороны предмета, а появившаяся вослед ей мысль автора о предмете и осознание этого предмета, бежа в обратном направлении, к началу образа, вдруг узнает в нем подобие чего-то ранее ей знакомого. — Нечто подобное изображено в романе «Зависть», в образе зеркала, поставленного на перекрестке. А в книге «Ни дня без строчки» Ю. Олеша, очень точно описав это качество, назвал источник его возникновения: «Может быть, эта мечта уметь делать сальто-мортале и была во мне первым движением именно художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты» (420).
По выражению современного исследователя философской отечественной прозы ХХ-го века, для Олеши «важно уравновесить на «коромысле познания» преходящее и непреходящее, житейское и духовное. И не только для того, чтобы показать зависимость творчества от обыденных обстоятельств. В прямой соотнесенности социально-бытового и космического проступает гносеологический аспект».21
По его же, быть может, несколько излишне преувеличенному, но, тем не менее, со значительной долей истинности выражению, «стиль Олеши обнаруживает свою конгениальность стилю современного научного мышления» (159).22
В необычном ракурсе, но, вместе с тем, чрезвычайно точно отражающем и форму, и существо, выплывает перед нами и созданная Олешей метафора пушкинского почерка: «...иногда ощущаешь связь между рукой и головой в связи с белеющей перед тобой страницей...
...если человек, быстро пиша, не забывает неведомо для себя проделывать удивительные по сложности соединения отдельных букв в единый, если можно так выразиться, полет, то такой человек, очевидно, обладает умением организовывать... У поэтов такие соединения бывают чрезвычайно красивыми. Приглядитесь к почерку Пушкина — кажется, что плывет флот!» (517).
Это — метафора тройного временного ракурса. Непосредственно рассматриваемый в настоящий момент предмет (почерк Пушкина,
- 205 -
напоминающий плывущую флотилию) вызывает, одновременно, проекцию образа в эпоху и послепушкинскую (весьма отличающуюся иными почерками писателей), и предпушкинскую, к своего рода тоже «почерку», но уже другого великого деятеля России (Петра Первого), на ином поприще (государственном), предметом главных и первых забот которого был «флот» уже в прямом, не метафорическом смысле слова.
Как многие писатели, Олеша — при обращении к Пушкину — невольно приходит — по контрасту — ко Льву Толстому; а после рассмотрения каждого в отдельности, по личностным особенностям и в ряду литературном, решается как бы «проверить» их на собственный свой тест: на «метафору». И тогда уж, с удовлетворением, убеждается окончательно, что, при «двух больших разницах», оба — великие художники (и соответственно законам искусства слова, и в нарушение их), и что Пушкин — естественная предтеча Толстого.
Уже не в графологии, не в почерке, а непосредственно в стиле писателя, конкретнее, в его синтаксисе, видит он в Толстом поначалу нечто обратное Пушкину (и тем самым — и только этим — близкое себе).
Он находит «странным», что «существует на виду, так сказать, у всех стиль Толстого с его нагромождением соподчиненных придаточных предложений (вытекающие из одного «что» несколько других «что», из одного «который» несколько следующих «которых»), по существу говоря, единственно встречающийся в русской литературе по свободе и своеобразной неправильности стиль ... он писал так,.. как будто до него никто не писал, как будто он пишет впервые».
И — выводит свое объяснение: «Таким образом, и стиль Толстого есть проявление его бунта против каких бы то ни было норм и установлений» (522—523).
«Бунтом против норм и установлений» отличается и нарочито метафорический стиль Олеши. «Вещественный», «картинный», «зрелищный», сугубо «предметный», как определяют его различные исследователи, стиль Олеши «почти демонстративно не отделяет «зерна» от «плевел», стремясь «восстановить доверие к явлениям жизни, вернуть ощущение их чувственного богатства и многообразия, противостоящего утилитаризму и той зависимости от тотальных и нивелирующих идей, которые формировали ХХ век» (Скалон Н. Р. Указ. издание. С. 158).
- 206 -
Вместе с тем, в толстовском «бунте против каких бы то ни было норм и установлений» Олеша видит и облегченный путь выхода из трудностей.
«Согласие на синтаксические неточности дало ему возможность легче справляться с трудностями изложения мыслей и описания вещей или обстоятельств; другие писатели эпохи Толстого были чрезвычайно связаны запрещением, например, допускать соподчиненные «что» или «который»; оставаясь в рамках синтаксиса, они искали других путей для составления фразы».
И — «тем значительнее их работа, что они эти пути находили», — заключит Олеша.
Но — тут же задастся риторическим вопросом: «Впрочем, так ли уж важен синтаксис, когда пишет Толстой».
И — сам же на него ответит: «Только он, кстати говоря, и писал этим своим толстовским, неправильным языком, и никто этой манеры не позволил себе унаследовать» (523).
«Неправильным языком» (с точки зрения грамматических правил литературного языка) писали очень многие современники Олеши. Но это не был, как у Толстого, авторский «бунт против правил и установлений». Напротив, это было зачастую слишком прямое отображение новой эпохи, с ее много— и разноголосыми «неправильными» («нелитературными», «против норм и установлений») голосами и речениями.
Размышления Олеши касаются больной темы для каждого из писателей уровня и силы таланта, подобной ему: «Как они, Гоголь, Пушкин, заслонили собой почти всех, кто писал одновременно! Того же Анненкова, Аксаковых, еще многих ...». «За фигурами Пушкина и Лермонтова скрыт Фет. Между тем он не меньше — как лирик, просто он писал иначе». «Боже мой, Герцена! (заслонили. — Л. К.) Герцена, который писал, что у Николая был быстро бегущий назад лоб» (519, 526, 519). — Эта блестящая, с точки зрения Олеши, герценовская метафора дает ему основание сказать, что «Герцен писал великолепно (в чисто изобразительном смысле)» (519).
Но — важно, что Олеша, для которого в искусстве слова превыше всего была метафора, выходит к пониманию того, что гениальный художник велик не одной метафорой, больше того, не одной своей художественностью, и совершает это также не минуя Пушкина.
- 207 -
«Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом. Пушкин, вспомним, тоскует оттого, что декабристы хоть и заучивают его стихи, но не посвящают его в свои планы; автор «Божественной комедии» населяет ад своими политическими врагами; лорд Байрон помогает греческим повстанцам в их борьбе против турок.
Так же и Маяковский: и его не устраивало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственный пути политического трибуна» (459).
В ходе разного рода размышлений и ряда анализов Олеша приходит к выводу: «Впрочем, великий художник всегда прав» (529).23
Вместе с тем, именно у «великих художников» вообще, а из них — у Л. Толстого и Пушкина в частности и особенности, Юрий Олеша находит и открывает особенное внимание к тому, что в его время стало называться «литературной техникой», «мастерством». «Никто, как Толстой, не уделял столько внимания именно «литературной» стороне литературы. Он был — более других русских писателей — именно мастером, и очень часто видно, как он наслаждается тем, что он — мастер.
Этот человек боролся с искусством, считал искусство и его мастеров бессмысленным, преступным явлением.
А сам сделал следующее ... Вещь, полную ужаса перед смертью, он закончил литературной «штучкой». («Иван Ильич, умирая, вместо того, чтобы сказать «простите», говорит «пропустите»).24
И в Пушкине-поэте Олеша находит немало таких «литературных штучек».
«Мы имеем в конце концов право выбрать из всего Пушкина строки, которые нам нравятся более всего» (525). — Провозглашая это, Олеша, не без эпатажа заинтригованных читателей, ожидающих одну из любимых, близких их душам и сердцам строк, вынимает и преподносит читателям из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» следующую строчку: «И пусть у гробового входа...».
И так определяет свое «слышание» в ней пушкинских «шагов»:
«Пять раз повторяющееся «о» — «гробового входа». Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да, да, тут под сводами — эхо!» (525).
Заметим, что по смыслу этой пушкинской строки — в контексте всей строфы — навряд ли достоверным будет предположить «спуск
- 208 -
по ступенькам» вниз: «играющая младая жизнь» и «сияющая красой равнодушная природа», несомненно (и весьма-таки очевидно), находятся около, рядом, «у гробового входа», — иными словами, на поверхности, где эха быть не может.
Но олешинское метафорическое «услышанье» «эха» от спуска «по ступенькам под своды, в склеп» — несомненно впечатляет.
Взгляд Олеши на некоторые строки Пушкина сквозь метафору (воспользуемся его же образом березы, стоящей на пригорке: «смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая края шали») дает возможность увидеть, услышать, уловить в них «непостижимую» для «тогдашнего поэтического мышления», но ставшую «свойственной поэтам новых времен» смысловую звукопись (эхо шагов пушкинских слогов в некоторых строках его стихов).
Необычное, перекрестно метафорическое мировосприятие и перекрестно метафорическое его отображение в образе позволили Олеше увидеть Пушкина в повороте к ХХ-му веку, усмотреть в нем будущую, выражаясь языком самого Олеши, «лавку метафор» ХХ-го века; иными словами, обнаружить в Пушкине своего рода предтечу «многих и разных» поэтов современности.
«У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется непостижимым.
Когда сюда, на этот гордый гроб,
Придете кудри наклонять и плакать.(У Пушкина в «Каменном госте» — «Пойдете кудри наклонять». Курсив мой. — Л. К.)
«Кудри наклонять» — это результат обостренного приглядывания к вещи, несвойственного поэтам тех времен. Это слишком «крупный план» для тогдашнего поэтического мышления, умевшего создавать мощные образы, но все же не без оттенка риторики — «и звезда с звездою говорит».25
Размышляя о причинах появления у Пушкина таких «непостижимых строк» для «тогдашнего поэтического мышления» («Не есть ли это воспоминание о портретах Брюллова — это «кудри наклонять»? Или передача того мгновенного впечатления, которое получил поэт, посмотрев на жену, которую мы знаем в кудрях?»), Олеша делает вывод: «Во всяком случае, это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Ничего не было бы удивительного, если бы кто-либо
- 209 -
даже и знающий поэзию стал бы не соглашаться с тем, что эти два стиха именно Пушкина.
Что вы! Это какой-то новый поэт! Блок?» (524—525).
Олеше-художнику лично интересно пушкинское «обостренное приглядывание к вещи, несвойственное поэтам тех времен», «крупный план» малой веши. Его рассказы и роман «Зависть» полны таких «обостренных приглядываний» и «крупным планом» подаваемых мелких предметов, живых и неживых.
«Соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов». Трамвайные часы над перекрестком «напоминают бочонок... — Два циферблата. Два днища. О, пустая бочка времени...». Божья коровка «снялась с самой верхней точки яблока и улетела при помощи крыльев, вынутых откуда-то сзади, как вынимают из-под фрака носовой платок». — В этих и подобных выразительных примерах, говорящих об олешиной «остроте зрения и оригинальности формы», В. О. Перцов видел «решение художественными средствами глубоко современной задачи»: «борьбу за открытие мира, за утверждение его материальности, за ощущение первичности бытия по отношению к сознанию».26
Вот еще выразительный пример, который свидетельствует не только об «остроте зрения и оригинальности мышления» Олеши (в его умении «крупным планом» подать «мелкую деталь»), но и о специфике его метафоричности (виденье предмета сразу в двух его ипостасях). «Большая, толстая серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножья лампы. Она тотчас же прибегла ко всем возможностям мимикрии, вероятно, почувствовав что-то грозное рядом — меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима, во всяком случае, незаметна. А я не только видел ее, я еще подумал:
— Фюзеляж бабочки!
То есть я увидел еще и метафорическую ее ипостась — другими словами, дважды ее увидел...» (585).
Сам же Олеша замечает у Л. Толстого «некоторый вид того, что теперь называется «джойсизмом». Когда «подробнейшим образом, без всяких литературных ходов, рассказывается, перечисляется, что вынимает человек из кармана», или «перечисляются в порядке снимания части туалета», «список еды, который покупают
- 210 -
персонажи в романе», «блюд в обеде, который собирается съесть герой», — все это ему, писателю ХХ-го века, тоже «безумно интересно читать... Читательски интересно» (Ю. Олеша. М., 1956. С. 433—434).
Но, заметим, примеры он приводит из «Робинзона Крузо» Дефо, «Первых людей на луне» Уэллса, из сочинений Л. Толстого, — но не из «Евгения Онегина» Пушкина, или других его произведений, которые полны и «одеваний-раздеваний» героев, и «перечислений блюд еды», и других мелких подробностей жизненного бытия. Видимо, потому, что у Пушкина все эти «мелкие подробности» не являются «списком» или «перечислением», они действенно включены в ход сюжета; как будет сказано Олешей в другом месте, «все элементы его прозы служат развитию повествования» (там же. С. 425).
В произведениях же Пушкина Олеша замечает ту черту, что стала у Л. Толстого доминантной в создании портрета героя: не подробное описание, при котором «читатель получает механическое накопление черт и, несмотря на то, что таких черт бывает очень много — рост героя, сложение, цвет лица, глаз, форма носа, лба, ушей, рук, улыбка, изменение лица при различных переживаниях, — все-таки читатель ничего не видит», поскольку «подробное описание не приводит ни к какому воздействию» («Описываемая вещь не приобретает существования»). А — выделение черты, «вызывающей в нас краткое, мгновенное впечатление» («Мы только в том случае можем увидеть лицо, о котором нам говорят, если художник нашел черту, вызывающую в нас краткое, мгновенное впечатление» (там же. С. 421. Курсив Олеши.).
«Пушкин в «Арапе Петра Великого» показывает для противопоставления Ибрагиму молодого глупого щеголя Корсакова. Дана сцена, в которой изображен Корсаков за туалетом, и сказано:
...в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку.
У щеголя, стремившегося произвести впечатление модным покроем своей одежды, башмаками, париком, была стриженая головка. И он ее всунул в парик».
«Стриженая головка», «всунутая в парик» — «черта, вызывающая в нас краткое, мгновенное впечатление», «позволяет увидеть лицо, о котором нам говорят» (там же).
- 211 -
Это качество пушкинского дара видения и умения «показывать мгновенные черты» и стало «одним из свойств толстовского мастерства» при создании портрета героя» (там же).
Своим настроенным на метафору слухом и взглядом Олеша не только «видит» и «слышит» в Пушкине элементы поэтики будущих русских художников, — он еще и по-современному «читает» его: не только вперед, но и назад, с обратного конца. И при этом открывает в Пушкине уже не только Л. Толстого или Блока, и даже не только Маяковского, но почти — Велемира Хлебникова.
«При одном счастливом прочтении строчек «Там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей!» я заметил, что слово «Орфей» есть в довольно сильной степени обратное чтение слова «Европы». В самом деле, «евро», прочитанное с конца, даст «орве», а ведь это почти «орфе»! Таким образом, в строчку, начинающуюся со слова «Европа» и кончающуюся словом «Орфей», как бы вставлено зеркало!» (Ю. Олеша. М., 1983. С. 525).
Этот образ, навеянный одной пушкинской строкой, — как бы «напротив», со вставленным внутрь слова зеркалом, — возникнет и развернется потом, и не единожды, в романе самого Олеши «Зависть».
Кавалеров оказывается у зеркала на уличном перекрестке, где вскоре появится фигура человека, отраженная этим зеркалом — на него (и в прямом, и в переносном, метафорическом смысле): Иван Бабичев.
«Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен... Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг, на миг вам становится ясно: с миром, с правилами мира произошли небывалые перемены...
Вы начинаете думать, что видите затылком... Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту...
Перед вами открывается даль... таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами, — и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля...
...Догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату. Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно — частица, сохранившаяся от правильного мира... лицо
- 212 -
ваше — точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо» (там же. С. 61—62).
Очень может быть, что такое чтение одной пушкинской строки, посредством «зеркала, поставленного на перекрестке» (между началом и концом поэтической строки), и дало Олеше совершить — свой ход к Пушкину, чтобы увидеть поэзию его строк в «двух ипостасях», с двух сторон одновременно — через форму слов, прочитанных не только обычным способом, но и задом наперед, в направлении навстречу друг другу.
Правда, метафора зеркала у Олеши могла возникнуть и не без «подсказки» памяти его детского видения. «Когда я был ребенком, Пушкина издавали, как и теперь иногда — в виде однотомника. Тогда это была размером в лист, толстая книга с иллюстрациями — они были расположены по четыре на странице в виде окна, что ли,.. где каждая створка — картинка» (там же. С. 525). А также воспоминаний о литературных кружках в городе его юности (Одессе) и своеобразных «пушкинских штудиях» в период работы в «Гудке» в Москве.27
Второй раз весьма выразительная аллюзия к пушкинским словам «Орфей — Европа» возникает в романе «Зависть» в связи с многократно произносимым поэтическим именем «Офелия». Имя это начинает звучать с начала романа, когда еще непонятно, что это за предмет (или кто это) и каково его соотношение с нежным образом несчастной невесты Гамлета в трагедии Шекспира и со строчкой пушкинского стиха из отрывков «Путешествия Онегина».
Прося дочь вернуться к нему, Иван Бабичев произносит: «Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу «Офелию». Не хочешь?» (34).
Но «Офелия» в романе Олеши «читается наоборот» (по отношению к классике) не по звучанию, а по смыслу.
Дочь Бабичева сама по себе слабо ассоциируется с шекспировской Офелией или с пушкинскими поэтическими строками. («Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка...» — 34). — Хотя и Кавалеровым, и Иваном Бабичевым ее образ и видится, и подается почти что в поэтическом ключе.
Отец, желая вернуть себе дочь, приходит к ней с подушкой, надеясь вызвать в ней светлые воспоминания детства («— Смотри, я
- 213 -
принес... Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. ( Он засмеялся). Вернись, Валя, ко мне... Я тебе покажу «Офелию» — 34).
А неожиданное появление Вали перед Кавалеровым вызывает у того сравнение старомодно кавалерственного, северянинского типа: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».
Созданная же Иваном Бабичевым (лишь в воображении) и названная «Офелией» адская машина — почти сознательная саркастическая пародия данного героя на этот образ. «Машина моя — это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся... Машина — подумайте — идол их, машина... и вдруг... И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой! Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния, — имя Офелии... Самое человеческое, самое трогательное...» (93—94).
Обращаясь к прозе Пушкина, Олеша открывает в ней и выстраивает для нее целую лестницу законов «литературной техники».
Оспаривая мнение о «сухости» языка прозы Пушкина, основанное на его же требовании для прозы «мыслей и мыслей» («блестящие выражения без мыслей ни к чему не служат»), Олеша, в доказательство своего утверждения, что Пушкин «охотно применяет в своей прозе» именно «блестящие выражения, в которых заключены мысли», приводит ряд фраз из «Арапа Петра Великого». «...он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности». «...французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей». «Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талья». И другие.
«Какая же это сухость?», — спрашивает Олеша. И с полным основанием утверждает: «Арап Петра Великого» весь в красках».28
Полагая, что мнение о «сухости» языка прозы Пушкина возникло в сравнении с языком Гоголя, его «орнаментом» («раскрашиванием» повествования не относящимися к нему предметами), он резонно замечает: «Подобного у Пушкина нет. Все элементы его прозы служат развитию повествования. Однако это вовсе не сухое изложение» (425).
- 214 -
Давая примеры «типичного для Пушкина стиля» «краткости и точности», что он считал «первыми достоинствами прозы» («Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор пришел»), — Олеша приводит и другие места из «Арапа», с фразами весьма пространными.
А говоря о богатстве пушкинских эпитетов (и в прозе, и в стихе), особенно в «определении эмоций и душевных качеств» его героев», Олеша находит, что именно здесь сильнее всего и сказываются те «первые достоинства прозы», которые Пушкин определял как «точность и краткость». Два примера. «Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму». «Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным... проводил дни однообразные, но деятельные» (425).
«Умение точно и кратко назвать переживание, чувство, душевное качество в Пушкине поразительно» (426), — заключит Олеша.
В то же время, и в прозе Пушкина он усматривает предвосхищение литературы и второй половины XIX-го века, и первой XX-го. Причем, не только в стиле.
В фразе Пушкина: «...хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года», — Олеша замечает «уже стиль «Войны и мира» (426).
Но не только черты стиля Л. Толстого открываются Олеше в пушкинской исторической прозе. В «подробности, расколдовывающей историю» («Когда «история на мгновение перестает быть прошлым», и «мы стоим рядом с историческим лицом»), — обнаруживает он «уже» толстовское мышление.
«Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораниенбауме? Вот он: представляю тебе его».
Великая княжна засмеялась и покраснела» (427).
В прозе Пушкина Олешей открываются и образы «в манере Чехова», и отрывки, из которых «родилась вся живость, прозрачность и юмор» «другого романа о той же эпохе, — «Петра I» Алексея Толстого» (427).
Художник ХХ-го века, эпохи машинизации и технизации не только промышленности, но и искусства, Олеша с интересом для себя отметит у Пушкина «первое в русской литературе сравнение
- 215 -
государства с заводом»: «Россия представлялась Ибрагиму огромной мастерской, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный определенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка» (425).
Но с «особенным вниманием», как признается Олеша, и не без пристрастия отнесется он к пушкинским сравнениям и метафорам, поскольку сам Пушкин «иронически отозвался о современных ему писателях, пытающихся оживить детскую прозу вялыми метафорами» (426).
Задаваясь вопросом, «как же сравнивал сам Пушкин», если он «так строго относился ко всему, что вводится в прозу для украшения», Олеша находит, что «прямых сравнений у Пушкина мало» (426). Перечисляя сравнения, поразившие его своей точностью, краткостью и выразительностью («Талья как стебель. С цветком сравнивает он также в «Пиковой даме» тройку. Там же есть замечательное сравнение семерки с готическими воротами» — 426), Олеша обращается к восхитившему его развернутому изображению «плавающего в воздухе монастыря», которым заканчивается «Путешествие в Арзрум».
«Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками».
Но в этом понравившемся ему сравнении — «Вот как сравнивал Пушкин!» — писатель находит одно слово — («перетягивались») — «неуклюжим».
Можно не согласиться с Олешей, но нельзя не сказать, что по отношению к Пушкину такое определение, даже одного слова, — дерзость немалая.
Но что интересно. Наличие «неуклюжего слова» в совершенном, гармоническом стиле Пушкина он объясняет тем, что «русский литературный язык еще не определился вполне в эпоху Пушкина. Он сам принимал участие в его формировании!»
«И тем более замечательно то, — выводит Олеша, — что в прозе Пушкина уже как бы подготовляется проза тех писателей, которые писали позже него» (426—427).
Любопытно, что после такого пассажа о прозе Пушкина (статья «Литературная техника»), в таком контексте и с такой мерой, Олеша
- 216 -
переходит к рассмотрению и анализу своих собственных приемов «литературной техники» (в контексте своего творческого процесса), более всего — метафор.
Сопоставляя рядом две своих метафоры: «Подошла цыганская девочка величиной с веник» (рассказ «Альдебаран») и «Тень как бы взмахивала бровями» (роман «Зависть»), писатель первую из них считает удачной.
Видя существо метафоры в «подсказке» художником «определения сходства, которое читателю и самому приходило на ум, но не оформилось»29, он считает, что «такая метафора имеет смысл, потому что она каждого делает поэтом, каждому возвращает свежее восприятие мира». «Читатель чувствовал, что данная вещь что-то ему напоминает, но не мог догадаться, что именно».
«И когда прохожему, ставшему читателем, говорят, что цыганская девочка похожа на веник, прохожий испытывает удовольствие от узнавания и смеется» (428).
Вторая же метафора («Тень как бы взмахивала бровями»), констатирует Олеша, хотя и «верно передает впечатление от раскачивающихся под ветром фонарей», но она недоступна, непонятна широкому читателю и потому «смысла не имеет» («согласится со мной только тот, у кого такой же, как у меня, профессионально видящий глаз — глаз писателя». — Там же).
Читатель должен испытывать «удовольствие от узнавания», заключает он.
Второе, что необходимо для творческого процесса — создаваемая вещь должна нравиться самому ее творцу. «Писать можно только тогда, когда испытываешь от писания приятность» («в процессе работы необходимо, чтобы вещь мне нравилась»).
Олеша так описывает процесс работы, «когда испытываешь от писания приятность»:
«Эта приятность слагается из целого ряда обстоятельств: например, здоровеешь физически, чувствуешь, что кровь движется правильнее, и даже начинаешь испытывать ощущение, похожее на гордость, — появляется чувство полноценности» (430).
— Чем не перефразировка в прозе пушкинского поэтического представления перед читателем творческого состояния к моменту прихода «вдохновения» (оно для Пушкина не есть восторг, не аффектация эмоций, а, напротив, собранность всего организма: «расположение
- 217 -
души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». — «Отрывки из писем, мысли и замечания»):
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).(«Осень»).
Такое состояние души и ума художника Олеша называет видением «середины вещей»: «Когда начинаешь видеть середину вещей, тогда сами собой приходят слова» (430):
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.(«Осень»).
«Настоящее творчество возможно только тогда, когда приходит понимание самого себя» (после «накопления впечатлений от фактов, лиц, встреч, событий, неисполнившихся надежд или надежд, которые исполнились») — «в разрезе целого ряда совершившихся фактов; когда начинаешь понимать, где ты был прав и где ошибался, когда знаешь, что такая-то ошибка хоть и была горестной, но ты ее совершил бы еще раз». (Ю. Олеша. Литературная техника. 430).
На поэтическом языке Пушкина это звучало так:
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.(«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»).
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.(«Воспоминание»).
- 218 -
Представленное Олешей читателю состояние истинного творчества противопоставляется им «сочинительству» нарочитому (когда исчезает «приятность», «когда начинаешь «сочинять»). «В данном случае под словом «сочинять» я разумею такую деятельность руки и мозга, когда писатель почувствовал исчерпанность собственного отношения к миру, начинает пользоваться готовыми, не прошедшими через собственную кровеносную систему образами. Когда оканчивается жизнь фразы. Когда гаснет свет слова» (430).
Таково состояние и описание творческого процесса писателем, который в своем отношении к миру жизни и к гению искусства, осветившему этот мир волшебным светом искусства, сам «всегда был (выражаясь его же метафорой. — Л. К.) на кончике луча», и в прямом смысле (луча солнечного, залога земной жизни), и в метафорическом (светлого, лучистого художественного мира Пушкина).
«Талант здоровый и оздоровляющий», — эти слова Горького о сути Пушкина и характере его влияния на все окружающее — справедливы и точны были как для Зощенко, так и для Олеши.
Андрей Платонов
Иным восприятием Пушкина, иным ощущением его художественного мира и пониманием роли и места в русской литературе отличались «зрение» и «слух» ряда других русских писателей ХХ-го века, создававших в своем творчестве, подобно Олеше и Зощенко, миры «сдвинутых вещей» и «смещенных понятий».
Сравнительно с тем, как понимали и осознавали Пушкина Зощенко и Олеша, учась у него мастерству, отчасти даже «подражая», или «поверяя» его искусством свои принципы, иными словами, вводя его так или иначе в свою творческую лабораторию, Андрей Платонов и мыслит о Пушкине, и видит его роль в ракурсе более широком и более содержательном. — Не столько и не только по линии формы, как великого ее мастера, сколько по его «пророческой», «мессианской» роли и назначению в русской литературе.
Что же это за фигура «нового Пушкина», приход которого в современности пророчествует Андрей Платонов? Она видится ему в контексте и на фоне Пушкина прежнего и его «наиболее совершенного и оригинального ученика», Горького, «в душе и творчестве»
- 219 -
которого боролись начала «пушкинские и антипушкинские» («его задачей было преодолеть антипушкинское, неразумное в действительности и в себе, куда неразумное проникло из той же действительности»).
Ставя вопрос перед читателем, был ли Горький равноценен Пушкину? — и сам отвечая на него отрицательно, Платонов так определяет их соотношения как художников мессианского типа: «Горький был наиболее совершенным и оригинальным учеником Пушкина, ушедшим в гуманитарном понимании литературы дальше своего учителя. Он дошел до пророческих вершин искусства...». Будучи «воспитателем пролетариата», Горький «сделал все возможное, чтобы новый Пушкин, Пушкин социализма, Пушкин всемирного света и пространства, сразу и безошибочно понял, что ему делать».30
В этом своем понимании смысла появления Пушкина в русской литературе и действительности Андрей Платонов невольно продолжает «пророческую» традицию Гоголя и Достоевского. Напомним их высказывания.
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».31
«Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое»; «появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание»; Пушкин в своем искусстве «проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание».32
Усматривая в самом факте появления Пушкина в русской литературе нечто «пророческое», «мессианское», каждый из них находил подкрепление своей концепции в пушкинском женском образе: Достоевский, как известно, в образе Татьяны Лариной, Андрей Платонов — в образе няни Татьяны. По его мысли, она послужила прообразом горьковской бабушки. «Образ Акулины Ивановны в «Детстве» — животворный, светлый и освещающий целый русский народ и его землю — всецело пушкинской природы». Если «говорить о первичном, пушкинском образе «бабушки»... — то это будет няня Татьяны из «Евгения Онегина».
Отдавая дань такому сверхвременному и сверхлитературному
- 220 -
толкованию фигуры Пушкина как мессии, пророка, — все же нельзя не соотнести его с собственным пушкинским пониманием и роли писателя, и смысла художественного творчества.
Сошлемся на яркие пушкинские высказывания о поэте и поэзии, на его «самохарактеристики» (по точному выражению Горького) в «Пророке», «Эхо», «Памятнике».
И еще напомним предостережение Белинского, которое уместно было бы начертать пред вратами пушкинской поэзии: В мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идеями, потому что «Пушкин доступен только глубокому чувству действительности».
И — что самое важное, самое веское в данном случае: насколько соотносятся приведенные выше суждения о «пророческой роли» Пушкина с его собственным, пушкинским отношением ко всякого рода «пророчествам»?
В этом контексте уместно вспомнить одно из многократно цитируемых пушкинских высказываний о внутренних пружинах хода истории. «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» (VII, 144. Курсив А. С. Пушкина).
Здесь еще важно вот что. Отвергая прерогативу ума человеческого в части предсказательности, пророчества (историк не астроном, провидение не алгебра), обратной стороной коих являлся фатализм («не говорите: иначе нельзя было быть»), отвергая то и другое как принципы «алгебры», которой хотят «поверить» историю, и как подход «астронома» на основе его наблюдений за почти неизменным ходом звезд, поэт выдвигает вместо них два других, столь же тесно связанных между собой (хотя на вид также противоположных) фактора: «угадывание» событий по «общему ходу вещей» и «выводимых из оных глубоких предположений», и — непредвиденный «случай», как «мощное, мгновенное орудие провидения». И свое понимание хода событий подкрепляет ссылкой на народное мышление, народное определение: «ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик».
- 221 -
И такое пушкинское понимание хода событий и их художественное воссоздание, органически укладывающееся в «простонародное определение» («ум человеческий... не пророк, а угадчик»), придавало его поэтическому мировосприятию и мировыражению ту особенную «свободу хода», о которой прекрасно сказал Плетнев (применительно к одному лишь стихотворению «Разговор с книгопродавцом»): «верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах: меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем — какая свобода в ходе!».
«Свобода в ходе» — одна из важнейших пружин авторского повествования у Пушкина. За этой свободой стоит народное качество человеческого ума как «угадчика». А в поэтическом мире Пушкина — многовариантности, иными словами, разных возможностей в жизни и судьбах героев.
Одно из частых и, видимо, любимых самим поэтом в этом плане проявлений «свободы хода» — авторские размышления и его разговоры с читателем (иногда и с самим собой) о возможности различных вариантов (кроме свершившихся) в судьбах героев (или даже в своей собственной жизни и судьбе). Достаточно вспомнить строки из «Евгения Онегина» о Ленском:
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял!..Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден...Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел...Или рассмотренные нами выше (в главе первой) авторские представления о весьма вероятном в недалеком будущем новом пути собственной лиры:
- 222 -
Быть может, волею небес
Я перестану быть поэтом...И другие.
В этой органической «свободе в ходе», заложенной самой природой поэтического искусства в его наивысшем выражении, начисто отсутствует какой бы ни было элемент «мученичества», так или иначе присущий фигуре и деяниям пророка, мессии. В литературе он появляется уже в послепушкинскую эпоху, на следующем этапе русской действительности.
Напомним строки из «Пророка» Лермонтова.
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи...Пророк же пушкинский (в его одноименном стихотворении) получает от посланника небес все необходимые ему не как «пророку», а как «угадчику» качества и атрибуты для земных действий (подробнее об этом было в главе первой). И потому лира его — уже по самой своей природе — лишена «мученического венца» мессии и пророка. И самому певцу нет нужды превращать ее в какое-либо из его, пророка или мессии, орудий воздействия на людей или на самого себя (кару, наказание, устрашение, испытание, предсказание и т. п.).
Пушкинская лира ведет поэта «дорогою свободной / ...куда влечет» «свободный ум. / Усовершенствуя плоды любимых дум, / Не требуя наград за подвиг благородный».
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
- 223 -
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.(«Поэту. Сонет». — III, 174)
Возвращаясь к Андрею Платонову, не станем подробно останавливаться на его творчестве.
За последние десятилетия этому писателю довелось быть рассмотренным и проанализированным в таких многочисленных и разнообразных ракурсах и соотношениях, в том числе и по нашей теме, что рассматривать или пересматривать заново его отношение к Пушкину нам не представляется необходимым.
Тем более, что в своих «Размышлениях читателя» Платонов, как никто, быть может, другой, с полной определенностью передал свое ощущение и высказал свое понимание Пушкина и для современной ему действительности («Пушкин — наш товарищ»), и для литературы настоящего и будущего (статья «Пушкин и Горький»).
Обратим лишь внимание на ряд важных для нашей темы наблюдений и соображений, сделанных исследователями Платонова. Основываясь на этих глубоких анализах, оговорим заранее возможность не во всем согласиться с ними в выводах.
В обширной главе о Платонове («Вещество существования». Выражение в прозе)», появившейся в период, когда его творчество — после многих лет забвения — только делалось предметом интереса и изучения, С. Г. Бочаров глубоко проникает в мир еще мало исследованной и плохо понимаемой прозы писателя, в содержание и смысл ее — через его фразу, язык, специфическую форму повествования.
Одна из последних на сегодня интерпретаций Платонова, работа А. В. Евдокимова: «Книга «Размышления читателя» в контексте творчества А. П. Платонова» — подходит к писателю с обратной стороны.
Но оба исследования, что немаловажно, и рассматривают, и анализируют писателя в единстве его взглядов и творчества.
Прослеживая развитие «в творческой мастерской Андрея Платонова пушкинской линии на всем ее протяжении — на уровне образов, сюжетных решений, символов», — А. В. Евдокимов, не без доказательной аргументации, усматривает в «трехчастной композиции» книги «Размышления читателя» попытку писателя создать в критике
- 224 -
«сложное философско-теологическое произведение, где представлена оригинальная версия пути эволюции отечественной литературы... отказавшись от «сущего ада» западного искусства, пройдя через своеобразное чистилище мук «советского Иова» — Николая Островского, она сумеет постичь истину, осознавая мессианскую роль «нового Пушкина», о пришествии которого уже возвестил А. М. Горький».33
Согласившись — в основном — с выводами автора из его монистического анализа «платоновской пушкинианы» («Мусорный ветер», «Счастливая Москва», «Епифанские шлюзы», «Ученик Лицея»), произведенного в разрезе платоновской концепции «Размышлений читателя», вернемся к работе С. Г. Бочарова.
Озаглавив статью специфически платоновским выражением — «Вещество существования», — исследователь чрезвычайно точно передал характер и смысл платоновского художественного мира и его выражения в слове. В «трудных выражениях» этого писателя «встречаются странно понятия разного плана, контекста, масштаба, как будто разной фактуры» («бедное, но необходимое наслаждение», «вещество существования», «жить нечаянно», «жестокая жалкая сила»), «и на внутренних перебоях в местах их встречи... и зацепляется наше внимание».34
Сопоставляя платоновскую фразу: «Но мать не вытерпела долго жить» (рассказ «Третий сын») и пушкинские строки: «...Блажен, кто вовремя созрел, / Кто постепенно жизни холод / С летами вытерпеть умел» (курсив мой. — Л. К.), С. Г. Бочаров так характеризует каждое из них.
«Не вытерпела» — «выговаривается... с каким-то мучением, передающим экспрессию самого содержания, самого терпения жить... центральное слово сгибается под особенным ударением, на него легла как будто чрезмерная смысловая нагрузка, само содержание этого слова усилено в таком выражении, психологическое состояние возводится в степень «идейного», характерно платоновского философического слова-понятия, заключающего в себе «идею жизни», которая у Платонова всегда определяет рассказываемую им жизнь (310—311).
В пушкинских же строках — «все слова на своем естественном месте в ясном соотношении образуют и вправду с летами переживаемую человеком истину. Вытерпеть жизни холод — холодно, но естественно, стороны этого опыта — слова у Пушкина — находятся
- 225 -
в равновесии, и «вытерпеть» в этом контексте появляется как единственно возможное точное слово» (310).
Исследователем тонко подмечено, что платоновская фраза, «полная терпеливого опыта и страдальческого итога жизни, по содержанию «старая», а по способу высказывания — какая-то «детская» (345).
В ней совмещено самое первое впечатление о мире (детское) с самым последним (терпеливым опытом и горьким итогом старости).
На наш взгляд, быть может, слишком субъективный и далеко не совпадающий с мыслью исследователя, выводимой им крайне бережно и осторожно по отношению к писателю, такое «совмещение» двух крайних сущностей в организме (и человеческом, и художественном), с выпадением куда-то в неизвестность его середины, центра, стержня (либо его сплющиванием, или полным исчезновением за ненадобностью), лишает организм самой существенной для его нормального функционирования части — сердцевины.
При таком «совмещении» из мира художественного исчезают, убираются автором все те незримые, невидимые, но весьма-таки ощутимые составные его — атмосфера, объемность, нити сложнейших связей, — что необходимы для правильного его функционирования.
И предметы, существа, явления оказываются уже не только «сдвинутыми» со своих мест, но и — «совмещенными», причем, не в порядке иерархии, а по принципу скорее замещения функций (за отсутствием полного состава всех необходимых частей его, когда, скажем, за неимением рук, их функции могут выполнять ноги, или — наоборот), и в частях организма художественного, подобно организму живому, происходит «замещение» или «совмещение».
Словом, предмет в произведении предстает не цельным в своей полноценности художественным организмом, а редуцированным; если говорить современным языком, секвестированным.
Говоря об «усилии выражения в складе платоновской фразы», С. Г. Бочаров называет последнюю очень точно: «Это «юродивая» фраза» (311). — Иными словами, это фраза, создаваемая человеком, словесное выражение которого не адекватно отражает мир жизни. В чем-то, быть может, оно даже глубже, чем у людей обычных. Но в целом, несомненно, ущербнее. Оттого, что в нем пропали естественные связи и переходы, нарушился порядок ступеней в иерархии предметов и явлений.
- 226 -
В пушкинском «Борисе Годунове» и образ Юродивого — живой и полнокровный — в своем роде — образ. Он «истину царям» открыто говорит. Его отказ в просьбе Бориса Годунова молиться за него — чрезвычайно логичный в русле общечеловеческих заповедей ответ: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит», — «выдает уши» поэта, по собственному признанию Пушкина, которые он «не смог спрятать под колпак юродивого. Торчат!»
Но такое «помещение» авторских мыслей под «колпак юродивого», возникшее в творчестве поэта, по-видимому, всего лишь единожды (при всем разнообразии и богатстве эманации образа автора, о чем речь шла в главе первой), в реальной жизни им не только не желалось для себя, но отвергалось самым решительным образом:
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад...(1833 г. — III, 266)
В «юродстве» платоновской фразы и мысли С. Г. Бочаров видит специфику его словесного мира как художника «слабой силы», а его героев как выразителей «тихих сил» — сочувствия, утешения, надежды, терпения». «Трепет этой жизни бедной» сохраняет материя платоновской прозы... Платонов так дорожит этой скромностью, хрупкостью, молчаливостью, всем этим «бедным богатством» (выражение Гоголя («Записки сумасшедшего»); «он наследник русских писателей, наполнявших эпитет «бедный» особым богатым смыслом» (318—319).
«Коллизию прозы Платонова» исследователь видит в противоречии «мягкому и чуткому, однако переходящему в рыхлое и слабое» — «сильного, твердого, точного, мощного». И автор, по его мнению, «не примет сильное, подавившее слабость, твердое, потерявшее мягкость» (320).
Если пытаться находить в специфике платоновской фразы, образов его героев и самого авторского мышления некие подобия из пушкинского мира, то это линия «тихих героев», вроде Евгения из «Медного всадника», строк песни Франца о «рыцаре бедном» в «Сценах из рыцарских времен»:
- 227 -
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и простой, —и другие немногочисленные пушкинские строки и образы. Но у Пушкина они — не самоценны и не доминантны, а всегда выступают в «гармонии контрастов» и в контексте иных сцен и образов; в «Медном всаднике» — темы Петра Первого, созданного им «града» и авторского отношения к ним обоим:
Люблю тебя, Петра творенье...
или
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...в «Сценах рыцарских времен» — второй песни Франца. В отличие от первой, романтической, она весьма по-житейски реалистична:
Воротился ночью мельник...
Женка! Что за сапоги?Говоря об ослаблении в платоновской метафоре самого «принципа метафоры», о его порой «буквальном», «опрощенном характере» («Платоновская метафоричность имеет характер, приближающий ее к первоначальной почве метафоры — вере в реальное превращение, метаморфозу» — 318), исследователь ссылается на почти «натуралистический образ сердца у Платонова в повести «Джан»: сердце «билось тяжело, как намокшее»; «это физиологическое представление душевного состояния (которое у читателя может вызвать и неприятное, и даже комическое впечатление)» (318).
Для сравнения напомним богатейшее «поведение» сердца у Пушкина в разных жизненных ситуациях, оттенки его «биения»: «Трепет сердца»; «И сердце бьется в упоенье»; «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит» и другие.
При «совмещении» в платоновской фразе (как и в самом мировидении и мировосприятии писателя) конечных граней предмета, явления, понятия («детскости» и «старости», духа и материи, конкретного и абстрактного и т. д.) — пропадает, сплющивается середина.
- 228 -
Из предмета, явления — уходит жизнь со всем богатством и многокрасочностью ее граней, связей, оттенков, поворотов. Сам предмет — редуцируется, секвестируется. Исчезает история жизни — жизнь в ее движении и объемности, с законами смен возрастов, поколений, времен года... «Совмещение» начальных и конечных граней ее делает и предметы, и явления жизни — плоскостными, сжатыми (точнее, зажатыми), одномерными.
Это — совсем обратное тому, чем, скажем, является в поэтике Пушкина симметричная композиция, схождение концов с началами, парность образов и другие принципы художественной гармонии, внутри которых сохраняется полнокровная жизненность пройденного, объемность и красочность предметов.
Такого типа изображение в прозе Платонова является русским вариантом воссоздания живой плоти предмета или явления в характерном для ХХ-го столетия ракурсе «сдвига», «совмещения», «замещения». Оно составляет, в этом плане, своеобразный pendant немецкому варианту в романе Т. Манна «Волшебная гора»: вместо полноценного портрета — рентгеновский «снимок» грудной клетки («внутренний портрет Клавдии», «ее безликое изображение»), подаренный мадам Шоша своему поклоннику, Гансу Касторпу.35
Говоря о платоновских параллелях жизни людей и природы («Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом...»), С. Г. Бочаров также находит в них «сдвиг, нарушение полного соответствия; Платонова более выражает такая фраза: «Радость их сердца наступит раньше тепла природы» (329).
Такая фраза, как и само описываемое в ней явление, — немыслимы для поэтики Пушкина. Даже любовь приходит к героям Пушкина по законам природы (человеческой, разумеется), тогда, когда «Пора пришла — она влюбилась» (Татьяна в «Евгении Онегине»). Не говоря уже о закономерно сменяющих друг друга временах года; если они задерживаются, поэт не преминет заметить:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе...Или — вещах сугубо прозаических, как сменяющие друг друга потребности организма —
- 229 -
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод...«Совмещение» предметов различных по своему существу и функциям или, что еще того хуже — «замещение» одних другими — представляется нам явлением для художественного творчества (и даже для жизни) далеко не безопасным. Тем более, что в современной литературе оно получило многократно утрированное продолжение, доводящее до логического конца линию «сдвигов», «смещений» и особенно «совмещений» и «замещений» (времени и пространства, духа и материи, героя и автора, одних частей человеческого организма другими и так далее). В такой форме видения и воспроизведения мира пропадает пушкинская «иерархия предметов», их «соразмерность и сообразность» как основа гармонии, сереют краски, теряется объемность. Словом, исчезает полнокровность мира жизни в действительности и в искусстве.
Подобная «операция» представляется нам губительной для художественного образа. И особенно губительной — для образа автора, в данном случае, образа Пушкина, каким он предстает у А. Платонова в «Размышлениях писателя».
Лишенное какой бы то ни было дистанции — временной, ценностно художественной, личностной — прямое введение поэта в текущую действительность как собрата, соратника, нашего современника («Пушкин — наш товарищ») если по намерениям автора и должно было приближать к нам великого поэта, делая его более близким и родственным, то совершало это слишком дорогой ценой: ценой утраты истинного Пушкина, с его гениальным, неповторимым поэтическим лицом и даром.
Аналогичное можно сказать и о противоположном, казалось бы, действии в отношении к Пушкину — провозглашении поэта «пророком», «мессией». Полный отрыв его от реальности также стирал истинные ориентиры художественной и исторической сути его поэтического творчества.
Если стилизация Зощенко, называемая им «Шестой повестью Белкина» («Талисман»), показала невозможность повторения Пушкина в прозе, если восприятие стихов великого поэта через метафору у Олеши дало возможность увидеть в Пушкине предтечу современной поэзии, если для Горького Пушкин навсегда стал живой и прямой
- 230 -
традицией и «вечным спутником», — то у Платонова Пушкин, одновременно и возвышенный, вознесенный донельзя (пророк, мессия), и — спущенный прямо в текущую действительность («наш товарищ»), — утрачивал и историческую, и ценностную дистанцию.
Думается, что такой подход к Пушкину, такое его ощущение и понимание — одновременно и более чем приземленное (поэт как бы «вдвинут» в современность, без какой бы ни было дистанции) и, вместе с тем, не менее удаленное от реальности, оторванное от земных корней и от литературных традиций (пророк, мессия) — в наибольшей степени отстоит, отходит, отлетает от реального облика Пушкина, и человеческого, и поэтического, «следы» пребывания которого в русской классике ХХ-го века, как и высказывания о «них» и о «нем», мы уже неоднократно приводили выше.
После сказанного и рассмотренного логично будет обратиться к одному из самых ярких, значительных, признанному бесспорно эпохальным произведению ХХ-го столетия, автор которого, говоря словами Белинского о Пушкине, в наибольшей степени «был доступен глубокому чувству действительности», или, пользуясь выражением исследователя нашего времени, «подлинная мудрость которого», подобно мудрости Пушкина, была «в доверии к объективному развитию живой действительности».36
———————————
1 Зощенко Мих. Избранное в двух томах. Том 1. Минск, 1983. С. 494. Далее ссылки на «Шестую повесть Белкина» даются по этому изданию в тексте, с указанием в скобках тома и страницы.
2 Федин К. Горький среди нас // Федин Конст. Собр. соч. в девяти томах. Том 9. М., 1962. С. 547, 546.
3 Горький М. и Роллан Р. Переписка (1916—1936). М., 1996. С. 37. Более полно, в контексте размышлений Горького о ситуации в послереволюционной России, опасениях за ее судьбу в это время и в аспекте понимания характера русского человека, мысль писателя звучит так: «Но — в нем (фокусе. — Л. К.) скрыт все тот же анархизм, все то же стремление от жизни, к безответственности, к покою.
Вот, дорогой друг мой, где скрыта великая мука моя, я боюсь за народ, — за огромное его ленивое тело, за его талантливую, но чуждую жизни душу. Народ этот еще не жил, не делал истории своими руками, своей волей, как это делали латинская и англосаксонская расы». «У нас мечтают о государстве
- 231 -
без власти над человеком, — эта утопическая мечта в крови, в природе народа» (там же).
4 Мережковский Д. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 157.
Мысль Д. Мережковского применительно к Предисловию М. Зощенко (к его повести «Талисман») приведена и развита в работе Н. Р. Скалона «Самое важное в жизни — слова...» (предмет в стиле М. Зощенко) // Скалон Н. Р. Советская философская проза. Алма-Ата. 1989.
5 Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М. — Л., 1936. С. 73.
Высказывание А. Блока в период, когда он «преодолевая декаденство, с отчаянной надеждой изучает классику», приведено в работе В. Д. Сквозникова «Стиль Пушкина» // Теория литературы. М., 1965. С. 68.
Дадим более полный контекст мысли исследователя стиля Пушкина, поскольку он связан с Предисловием М. Зощенко к «Шестой повести Белкина». «На фоне богатой юбилейной литературы 1937 года эти слова (о «погибели» «вместе с Пушкиным настоящей народной линии в русской литературе». — Л. К.) могли представиться несерьезной выходкой юмориста, вдруг взалкавшего глубокомыслия. Между тем это суждение, во многом неверное, серьезно. Мы не можем принять в нем мысль о якобы чуждости духу русского народа психологической прозы или о погибели вместе с Пушкиным настоящей народности (впрочем, и Зощенко говорит лишь: «иной раз казалось...»). Но самая мысль о завершении Пушкиным какой-то традиции заслуживает внимания; она вовсе, кстати, не «зощенковская», а более старая» (там же. С. 67). Далее исследователь приводит данную выше цитату из А. Блока.
6 Интересную интерпретацию как бы игры в «кошки-мышки» писателя с читателем в повестях Зощенко (в процессе «нащупывания» читателем у писателя «слова-доминанты») дает М. О. Чудакова: «Нам кажется, что главный эффект стиля повестей Зощенко — в этом напряженном нащупывании читателем слова-доминанты (М. Бахтин), прямого авторского слова, будто бы возникающего где-то между фраз, между слов, но тут же опровергаемого. Активный тон повествователя постоянно побуждает нас искать это слово, подозревать его присутствие — и наталкиваться на постоянное несоответствие объемной позиции автора и ущербного слова повествователя, авторского ощущения неполноты каждой своей реплики — и полноты ее для того голоса, который он на время заимствует. На время принимая сказанное этим голосом за доминанту, мы все время обманываемся или, вернее, все время не даем себя обмануть, распознавая это неполное отождествление автора с тем словом, которым он пользуется». Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 83.
Соглашаясь с замечанием М. О. Чудаковой по отношению к рассказам-повестям Зощенко в целом, заметим все же, что к финалу «Шестой повести Белкина» это «слово-доминанта» — было и найдено, и произнесено. О сути и
- 232 -
смысле его мы далее поведем речь в тексте данной главы. — Другое дело, насколько это слово вписывается в жанр «копии» с пушкинских «Повестей Белкина», — о чем речь также идет в нашем дальнейшем тексте.
7 Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. II. Петроград, 1919. С. 157.
Содержательный смысл гоголевских языковых выражений был раскрыт в работе С. Б. Бочарова «Как написана «Шинель» Гоголя».
8 «Я думаю, что ваше творчество критиковалось солидными умами, и думаю, что они нашли недостатки, но не все ли равно. Клянусь Вам, что Вы попадаете в самую точку мировоззрения советских граждан. Ваши рассказы любят все, потому что они заставляют смеяться чуть ли не до слез. И все рассказы насыщены советской прозой, жизнью, которой живут многие».
«Вам пишут простые рабочие люди (не в смысле «мы, рабочие»), интересующиеся вашими рассказами... краткими, общепонятными, без размазыванья и присюсюкиванья, без подделыванья под чужой язык, и дающими здоровое развлеченье, но, вместе с тем, обрисовывая живых типов из стоячего болота обывательщины...
Почему ваше имя знакомо всем, даже в среде с низким культурным уровнем, не говоря уже про более развитых рабочих и интеллигенцию?
Почему, даже меланхолический человек, при упоминании имени Зощенко, оживляется? Почему на человека, не слышавшего о вас смотрят с сожалением?
Объясняется это тем же простым стилем, общепонятностью и вообще тем, чего безуспешно добиваются современные авторы юмористических рассказов. Ведь иногда, читая ваш рассказ, смеешься не всему рассказу в целом, а одному удачно подобранному слову или фразе.
В этом-то и сила, это-то и заставляет внимательнейшим образом, следя за каждым словом, читать ваши рассказы.
Смешно читать некоторых авторов,.. которые, рабски копируя вас, не замечают того, что получается сплошная ерунда и сюсюканье, или же замечают, но думают, что «публика — дура, не поймет» — выражаясь вашей фразой. Но публика понимает, и каждый читающий вас определенно заявляет, что написано «под Зощенко».
Так же обидно становится, когда выступающий артист коверкает ваши рассказы, руководствуясь тем же непониманием публики-дуры, делая их топорными и лишая тончайшего юмора пошлой отсебятиной... Искренне приходится сожалеть, что нельзя им запретить делать это». Зощенко М. Письма к читателю // Зощенко Мих. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. Л.-М., 1931. С. 36—38, 176—177.
9 Быть может, порой и замечая, но не решаясь соотнести со столь высоким и недосягаемым образцом пушкинской прозы, с которого он лишь в зрелом своем творчестве решил попытаться сделать «копию». Об этом говорят его писательские объяснения в книге «Письма к читателю».
- 233 -
Приведем одно из них. «Обычно думают, что я искажаю «прекрасный русский язык», что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику.
Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица.
Я сделал это (в маленьких рассказах) не ради курьезов и не для того, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей.
Я говорю — временно, так как я и в самом деле пишу так временно и пародийно.
А уж дело других (пролетарских) писателей в дальнейшем приблизить литературу к читателям, сделать ее удобочитаемой и понятной массам.
И как бы судьба нашей страны ни обернулась, все равно поправка на легкий «народный» язык уже будет. Уже никогда не будут писать и говорить тем невыносимым суконным интеллигентским языком, на котором иногда еще пишут, вернее дописывают. Дописывают так, как будто бы в стране ничего не случилось...
А как говорит и думает улица, я, пожалуй, не ошибся. Это видно из моей книги, из этих писем, которые я ежедневно получаю». Зощенко Мих. Собр. соч. Том шестой. Л.-М., 1931. С. 60.
10 Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 3.
11 Бочаров С. Г. «Вещество существования». Выражение в прозе // Проблемы художественной формы социалистического реализма. В двух томах. Том 2. Внутренняя логика литературного произведения и художественная форма. М., 1971. С. 341—343.
Но далее С. Г. Бочаровым справедливо замечено, что Зощенко «уже не в коротких рассказах, а во всякой авторской речи своей... не порывает совсем с интонациями своего обывательского сказа. Он всякую речь свою помечает, с определенным надрывом, «ихними» красками и словечками. Тем самым с чисто художественной честностью он отмечает свою писательскую причастность и ограниченность, не отрекаясь от внутренней связи с излюбленным разработанным им, хотя и чужим, материалом. Поэтому даже в серьезной речи мы встретим «ихние», где надо сказать «их», и «морду», где надо лицо. И выражается в этом не что иное, как то, что нет у автора настоящего сердечного спокойствия и свободного дыхания, как он признается сам, но пародируя тут же и сами эти признания» (там же. С. 343—344).
12 Зощенко Мих. Собр. соч. в трех томах. Том 1. Л., 1986. С. 170. Далее цитаты из рассказов Зощенко приводятся по этому изданию, с указанием страницы в тексте.
13 Подробнее об этом см. у М. О. Чудаковой: «Зощенко теперь решает сам сыграть роль, ему, казалось бы, не свойственную... Искусство, пишет он
- 234 -
теперь, должно идти по пятам за жизнью, но еще лучше, если оно будет увлекать за собой. Оно должно формировать то, что еще в хаосе. И в отношении языка это формирование — почетная и трудная задача писателя нашего времени».
Зощенко берется за это формирование, берется за построение «образцового» языка литературы. «Искусство писателя и поэта... должно построить такой мир и такую речь, которые не то что были бы тождественны с подлинной жизнью, но были бы великолепными образцами, к которым следует стремиться». Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 148.
«...Зощенко, как когда-то Пушкина, занимает в эти годы реформа прозы в целом — ее жанров. Ее языка. При этом в работе Зощенко начиная с середины 30-х годов мы видим ту же осознанность или, точнее сказать, преднамеренность литературных поисков, что и у Пушкина (упрощенную, конечно, следованием образцу), одна из самых ранних статей которого, написанная задолго до появления его первых (из дошедших до нас) опытов художественной прозы, посвящена обоснованию необходимости новой прозы и формулированию основных ее качеств («Точность и краткость — вот первые достоинства прозы...» и т. д.).
Зощенковская критика современной прозы опирается на критерии, аналогичные пушкинским. «Ну что сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами?» (А. С. Пушкин. О прозе). Сравним... суждения Зощенко о том, что еще не так давно в литературе «считалось просто даже неприличным написать о чем-нибудь простым, обыкновенным языком», а также иронические рассуждения в повести «Сирень цветет»...» (Там же. С. 152—153).
14 Зощенко Михаил. Возвращенная молодость. Голубая книга. Перед восходом солнца. Л.. 1988. С. 159. Далее ссылки на эти произведения даются в тексте по указанному изданию.
15 Зощенко М. Из писем и дневниковых записей // «Новый мир», 1964. № 11. С. 215.
16 Скалон Н. Р. Цит. изд. С. 53—54.
17 Напомним полный текст записи Л. Толстого 1873 года о «важности» перечитывания и «изучения» пушкинских «Повестей Белкина»: «Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высшее есть один из камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но не гармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к
- 235 -
работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область, и если возбуждает к работе, то безошибочно».
18 В предисловии к изданию отдельной книгой «Ни дня без строчки» (М., «Советская Россия», 1965) Виктор Шкловский писал: «Среди разрозненных фрагментов и кусков надо было уловить замысел книги, понять последовательность частей и внутреннюю связь образов. Эту работу выполнил литературовед Михаил Громов».
В комментариях к книге: Юрий Олеша. Избранное. М., изд. «Правда», 1983 г., приведенные выше строки В. Шкловского дополнены следующей фразой автора примечаний В. Бадикова: «Для настоящего издания М. П. Громов проделал работу заново, просмотрел машинопись книги (хранится в архиве писателя), сделал ряд уточнений, дополнил книгу ранее не публиковавшимися фрагментами. Текст книги сверен с рукописями (эта работа осуществлена женой писателя О. Г. Суок-Олеша)» (С.630).
Сам Ю. Олеша в письме к матери в 1956 году сообщал: «Главная моя работа сейчас — это составление книги, которая будет называться «Воспоминания и размышления». Это книга о себе, о литературе, о жизни, о мире» (там же. С. 631).
Внутри книги Олеша не раз, и по-разному, определяет ее смысл и форму: «книга о моей собственной жизни» (329), «автобиографический роман» (330), «история моего времени», «попытка восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно» (359). Иногда он называл ее «свободой воспоминаний» (374), а то даже «сочинением отдельных строчек» (370). А иногда, как бы опровергая себя, писатель скажет: «Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она, так сказать, только лишь протяженна; нет, она закруглена; если хотите, это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не острю. Ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто меня показывают...» ( 487).
Далее цитаты из книги «Ни дня без строчки» приводятся в тексте по этому изданию (Олеша Юрий. Избранное. М., 1983); с указанием в скобках страницы; за исключением случаев, специально оговариваемых.
19 Следует заметить, что Олеша в своем отношении к Пушкину в частности (и к мировой классике вообще) не раз следует за Зощенко, идя как бы прямо по его «следу», хотя и не признаваясь в этом (быть может, сам того не замечая, или же следуя общепринятым в те годы приемам «учебы у классиков» в разного рода литературных группах и школах).
«Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать на особом листе — верней, листов понадобится несколько — все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня» (582) — перифраза
- 236 -
Олеши по отношению к одной из мыслей Зощенко в его предисловии «От автора» к «Шестой повести «Белкина». Напомним: «В классической литературе было несколько излюбленных сюжетов, на которые мне чрезвычайно хотелось бы написать. И я не переставал жалеть, что не я придумал их».
Как справедливо было замечено исследователями, художники новой эпохи (и не только поэты, в еще большей мере — прозаики), в первые ее десятилетия если «учились» у Пушкина, то чаще всего — его «мастерству», глубина пушкинского содержания оставалась пока закрытой, а сам Пушкин с этой стороны казался им — устаревшим.
20 «Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар — не знаю. Почему-то он нужен людям...
Мне кажется, что я только называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завертыватель порошков, скатыватель пилюль. Толстой, занятый моральными, или историческими, или экономическими рассуждениями, на ходу бросает краску. Я все направляю к краске» (572).
«Итак, я предполагал, что разбогатею на моих метафорах.
Однако, покупатели не покупали дорогих, главным образом покупались метафоры «бледный, как смерть» или «томительно шло время», а такие образы, как «стройная, как тополь», прямо-таки расхватывались. Но это был дешевый товар, и я даже не сводил концов с концами. Когда я заметил, что уже сам прибегаю к таким выражениям, как «сводить концы с концами», я решил закрыть лавку. В один прекрасный день я ее и закрыл, сняв вывеску, и с вывеской под мышкой пошел к художнику жаловаться на жизнь» (573—574).
21 Скалон Н. Р. Русская философская проза 20—30-х годов ХХ века. Д./д. Алма-Ата, 1995 г. С. 159. Далее ссылки на работу Н. Р. Скалона даются в тексте, с указанием страницы в скобках.
22 Н. Р. Скалон ссылается на работы ряда современных ученых (в частности, Б. Г. Кузнецова «Ценность познания», М., 1975 г.), где приводятся данные того, как «особенности поведения и бытия элементарных частиц отображают взаимодействие с космосом».
23 В данном случае Олеша имеет ввиду Достоевского, замечая, что в «Идиоте» «иногда Рогожин мыслит не менее «по-барски», чем Мышкин». И тогда у него «купеческое, простонародное исчезает» (529).
24 Олеша Ю. Литературная техника // Олеша Ю. Избранные сочинения. М., 1956. С. 435. Курсив Ю. Олеши.
25 Это внимательное «всматривание» и «счастливое прочтение» Олешей пушкинских строк так прокомментировал В. Д. Сквозников: «Можно возразить: это случайное совпадение. Вполне вероятно, что в том или ином случае это, действительно, только «случай». Но и в самом, казалось бы, непосредственном, идеально «простом» лирическом излиянии можно найти следы словесного
- 237 -
искусства — того, что часто несколько вульгарно называют «мастерством». Сквозников В. Д. Лирика // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 177.
26 Перцов В. Юрий Олеша // Вступительная статья к Избранным сочинениям Ю. Олеши. М., 1956. С. 18. Он же дает приведенные выше примеры.
27 О первых литературных увлечениях Ю. Олеши в юности («Были кружки. В них читали друг другу стихи. Названия кружков были связаны со стихами Пушкина») и о последующем, в годы молодости, «производственном освоении работы Пушкина» (в период пребывания в «Гудке» под псевдонимом «Зубило»), информирует В. Шкловский в своем предисловии к сочинениям Ю. Олеши (Избранное. М., 1983. С. 6, 7).
28 Олеша Ю. Избранные сочинения. М., 1956. С. 424—425. Далее ссылки на статью Ю. Олеши «Литературная техника» даются в тексте, с указанием в скобках страницы.
29 «Идет маленькая цыганка. У нее очень узкая талия, маленькая головка. На ней широкая, расходящаяся треугольником юбка до пят. Маленькие цыганки ходят очень быстро. Это их профессиональная походка, потому что им нужно догонять прохожего и забегать спереди. И цыганка метет при этом своей длинной юбкой и пылит. Стало быть, есть все данные, чтобы увидеть вместо цыганской девочки — веник» (428).
30 Платонов А. Пушкин и Горький // Платонов Андрей. Размышления читателя. М., 1980. С. 57.
31 Гоголь Н. В. Собр. соч. в шести томах. Том 6. М., 1959. С. 33.
32 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в десяти томах. Том 10. М., 1958. С. 442.
33 Евдокимов А. В. Книга «Размышления читателя» в контексте творчества А. Платонова. Автореферат к./д. М., 1997. С. 23.
34 Бочаров С. Г. «Вещество существования». Выражение в прозе // Проблемы художественной формы социалистического реализма. В двух томах. Том II. М., 1971. С. 344. Далее ссылки на данную работу С. Г. Бочарова даются в тексте, с указанием страницы в скобках. Курсив С. Г. Бочарова (иные случаи оговариваются).
35 Ганс Касторп «рухнул в свое кресло и вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок...в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть — внутренний портрет Клавдии, ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженный мягкими контурами призрачно-туманной плоти, и органы грудной полости». Томас Манн. Волшебная гора // Манн Томас. Собр. соч. в десяти томах. Том четвертый. М., 1959. С. 13.
36 Сквозников В. Д. Стиль Пушкина // Теория литературы. М., 1965. С. 63.
- 238 -
Глава третья
НЕОСОЗНАННЫЙ ПУШКИН
В «ТИХОМ ДОНЕ» ШОЛОХОВА
(Черты поэтики)
Психология гениальности, а отсюда и типология ее — интереснейшие научные проблемы... Литературная судьба Данте схожа с судьбой Шекспира и... в известной мере с судьбой Пушкина. «Илиада», «Божественная комедия», «Фауст» — имеют общую особенность, что вводит их в типологию гениальности.
Д. Д. Благой. Душа в заветной лире.
Автором «Тихого Дона», произведения, всемирно признанного вершинным романом XX-го столетия, Пушкин не был назван в числе своих любимых художников.
Более того, никогда Шолохов не числил великого классика среди своих учителей.
После выхода в свет первых двух книг «Тихого Дона» (1934 г.), получивших бесспорное признание критиков и читателей, на вопрос, о влиянии на него классиков, он ответил так: «Бесспорно, я люблю Толстого, поэтому, возможно есть и его влияние. Но больше всех на меня влияет Иван Бунин — этот большой мастер своего дела. Влияет на меня и Гамсун, и целый ряд западных писателей».1
Тремя годами позднее Шолохов, как бы подытоживая свое отношение к художественной традиции, сказал: «На меня влияют все хорошие писатели». И выделил среди них того, чье имя для «Тихого Дона» могло показаться далеко не первым и не главным в ряду «влияющих»: «Вот, например, Чехов, казалось бы, что общего между мною и Чеховым? Однако и Чехов влияет».2
- 239 -
Спустя двадцать лет, на пресс-конференции в Стокгольме, Шолохов вновь подтвердит свое равноустойчивое отношение к любой художественной традиции: «О творческом влиянии?.. Многие...и русские...и иностранные... Трудно ответить, сколько процентов от Толстого, сколько от Чехова, от любого другого... Я считаю полезным учиться у всех».3
Между тем, поэтика Шолохова, особенно его романа «Тихий Дон», оказывается наиболее близкой к поэтике Пушкина. Она изобилует элементами, даже, можно сказать, основами пушкинского синтеза и принципов его художественной гармонии.
Это заметно уже в отношении к художественной традиции, которую Шолохов называл общепринятыми в его время словами «влияние» и «учеба».
Для сравнения напомним, что Пушкин определял свое отношение к предшественникам принятыми в его время терминами «подражание» и «перевод», вводя зачастую эти термины в разряд жанра («Подражания Корану», «Подражания древним», «переводы» из Андрея Шенье и т. д.)
Он делал «перевод» и «подражание» одновременно и приемом, и методом, и жанром своего оригинального творения. И даже там, где зачастую не существовало указанного поэтом «подлинника», с которого им якобы делался «перевод» или которому он «подражал», отношение к традиции выносилось в название стихотворения в качестве жанрового признака.
Если открывать наугад разные страницы «Тихого Дона», отвлекшись от произведения как целого, можно только удивляться множественности гоголевских, толстовских, чеховских и других мест и приемов в нем, мотивов Сервантеса и Шекспира, эпитетов Гомера, не говоря уже о насыщенности фольклорными формами или приметами стиля прозы 20-х годов (в частности, орнаментальностью фразы или, напротив, ее «телеграфностью»).
Открывая же наугад страницы разных произведений Шолохова, можно снова удивляться бесконечности «перекрестных» переносов своих собственных стилевых фигур из одного в другое сочинение.
Но стоит начать читать каждое из шолоховских произведений по отдельности и от начала до конца, как эти «вводы» и «переносы» делаются невидимыми, их просто не замечаешь. В контексте иного
- 240 -
содержательно-структурного целого они приобретают всякий раз новый смысл и выполняют иные функции.
Вводимые в свои произведения «чужие» куски Шолохов не приближает искусственным путем к своему стилю, не подгоняет под него, впрочем, как и не отдаляет (утрированием, стилизацией, шаржированием и другими подобными приемами). Напротив, всякий раз он как бы «очищает» дорогие и нужные ему стили от инопримесей, содержащихся порой внутри них самих или напластовавшихся при последующем бытовании. Включая их в свою художественную систему на равных правах с приемами своего личностного стиля, он сохраняет при этом оригиналу его первозданность, а себе — органичность.
Потому так легко выделяемы гоголевские, толстовские, чеховские места и приемы у Шолохова, как, скажем, у Пушкина — державинские, карамзинские, байроновские и другие.
Если бы нужно было дать представление о художественных приемах того или иного классика, не имея под руками его текста, «Тихий Дон» Шолохова мог бы послужить необходимым к тому справочником.
Вот несколько примеров.
«Из этого после сделали подвиг...
...А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались нравственно искалеченные.
Это назвали подвигом».
Это — не отрывок из «Войны и мира» Л. Толстого, не его «срывание всех и всяческих масок».
Это — сцена из первой книги «Тихого Дона» Шолохова.4
В романе Шолохова мы встречаем почти полный набор стилевых приемов, характерных для Л. Толстого.
Это и толстовский психологический анализ с высветляющим его авторским проникновением в причинно-следственную связь размышлений героя, что выражается в структуре фразы, типа, «не только потому, но и», «если бы» и т. п. «Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью и свыкся с ней за шесть лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя виновным в ее
- 241 -
смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла детей и ушла жить к матери; если бы она умерла там, ожесточенная в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испытывал бы тяжесть утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно» (IV, 177—178).
Это и одна из форм проявления авторского всеведения — умения по лицу и внешнему поведению человека определить его внутреннее состояние: «Лицо ее (Дуняшки. — Л. К.), веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу» (I, 59).
Это и безмолвный разговор героев глазами и чувствами: «Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до высоких красивых ног... подумал: «Хороша», — и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд их словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня». — «Славная», — ответил Григорий глазами и улыбкой» (I, 85).
Это и показ моментального перелома чувств героев от наивного восторга неведения к осознанию реальной сложности положения, что так же, как и в приведенных выше случаях, прослоено шолоховской лексикой и образностью. Не нарушая структуры толстовского стиля в целом, яркая образность и лексика писателя XX-го века входит в него на равных с толстовской структурой правах: «Полковник выехал из-за угла казарменного корпуса, поставил лошадь перед строем. Адъютант достал платок, изящно оттопырив холеный мизинец, но высморкаться не успел. В застылую тишину полковник кинул:
— Казаки!.. — и властно привлек к себе общее внимание.
«Вот оно», — подумал каждый. Пружинилось волнение...
— ...Германия объявила нам войну.
По выровненным рядам — шелест, будто по полю вызревшего чернобылого ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна...
Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков — не шелк чужих знамен, шурша, клонился к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало, голосило:
- 242 -
жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы...» (I, 299—300).
В «Тихом Доне» можно встретить и чисто толстовские генерализации — перечисление реакций разных героев на одно и то же событие, завершающееся авторским выводом-оценкой, и выявление в героях фальшивых чувств, и авторское непримиримое отношение ко всяческим проявлениям лжи, и многое другое.
Подобные, не только отдельные примеры, но и целые «наборы» можно сделать у Шолохова из гоголевсикх, чеховских мест и приемов, из стилей других авторов, даже его современников.
Ему «всегда казалось, что, общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порой так и остается неуясненным. Он твердо верил, что если с любого человека соскоблить верхний покров, то вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью сердцевина. И поэтому ему всегда болезненно хотелось узнать, что кроется за грубой, суровой, бесстрашной, нахальной, благополучной, веселой внешностью разных людей» (II, 118).
Если бы в начале текста не стояла фамилия героя («Листницкому всегда казалось...»), не только читателю, но даже исследователю трудно было бы предположить, что речь идет не о горьковском Климе Самгине. Заподозрить же Шолохова в «учебе» у Горького, или прямом его «влиянии» в данном случае — невозможно: и «Тихий Дон», и «Жизнь Клима Самгина» и создавались, и выходили отдельными частями в свет почти одновременно.
Как можно убедиться из вышеприведенного, Шолохов, активно включая в свой стиль богатый художественный арсенал иных стилей, не нарушает их структуры и содержательности, а дополняет своей особенной лексикой, яркой образностью местного колорита, четко выраженной авторской интонацией. Все это позволяет автору «заглянуть» в характеры выводимых им героев и в существо показываемых событий через ретроспекцию стилевой памяти лучших ее классических образцов. На фоне ретроспективной глубины прошлых стилей автор столь же масштабно раскрывает характеры современных героев. Создается структура образа, близкая шекспировской и пушкинской — сжатая полнота изображения в ретро-, интро- и перспективе.
Не случайно сам образ «памяти» играет в «Тихом Доне» незаурядную
- 243 -
структурно-смысловую роль и выступает в самых разных видах и планах. «Память» у Шолохова — «воскрешающая», «подсовывающая», «упрямая», «услужливая» и тому подобная — даже больше, чем образ. Она становится, как увидим далее, одним из структурообразующих принципов шолоховского стиля, одним из главных его компонентов.
Такой подход к традиции, такое удивительно точное и чистое воспроизведение чужого текста, вводимого в свой текст на правах собственного, родного, может объяснить одна из рекомендаций Пушкина (в передаче одного из его современников), относимая им, несомненно, и к самому себе. «Как скоро при введении в употребление нового предмета не прибрано тотчас для него нового приличного названия — употребляйте чужестранное; употребляйте его до той поры, пока у кого-нибудь с языка не сорвется счастливое выражение, которое без натяжки, само собою, войдет в общее употребление».5
Пушкинская рекомендация имеет возможность быть понятой расширительно: ее можно отнести не только непосредственно к слову, но и к форме повествования, образам, мотивам, сюжету; а к слову не только «чужестранному» (то есть иностранному внутри русской речи), но и к любому «чужому» отрезку текста, введенному в свой текст.
Так было у самого Пушкина; подобным образом обстоит дело в «Тихом Доне» Шолохова, и не только в языке его, но и стиле, поэтике романа.
Тем не менее (а, может быть, именно потому), введенные слова и обороты, по удачному определению одного из современных критиков, «помнят» свое прежнее пребывание: слова Пушкина «помнят» свое пребывание, скажем, в стиле Ломоносова, Фонвизина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и др.»; как элементы художественного стиля они «включают в себя... тот смысл и окраску, какую они получили в стиле предшествующих и современных художников».6
Расширив предмет и смысл наблюдения, можно сказать: не только слова, но и мотивы, образы, сюжеты и другие компоненты художественного мира крупного художника «помнят о своем прежнем пребывании», хранят память о нем даже тогда, когда сам автор может и не помнить об этом (когда он еще не был знаком с «подлинником», с которого якобы делался «перевод», или подлинник
- 244 -
этот просто не существовал в мире поэтического искусства, появился на свет позднее самого якобы «перевода» с него).
В этом нет ни парадокса, ни сверхестественности — таково свойство художественной гениальности. «Помнить о своем пребывании в прежних стилях» — это выражение представляется нам чрезвычайно удачным для характеристики коренного свойства «большого стиля»7 — стиля Пушкина в целом, «Тихого Дона» Шолохова в частности.
Обычное включение классиков в контекст своего текста, и не только стилевой, но и проблемный, дает, как правило, эффект двойного освещения: современности — прошлым, прошлого — современностью. При этом выявляется как их общность, так и отличия, а также дополнительная сложность и противоречивость современности (в сравнении с обычно кажущейся большей простотой и ясностью прошлого). — Такова роль сознательных подражаний или пародирований, реминисценций, даже просто цитаций, явных или скрытых, характерных, скажем, для Лермонтова в его отношении к Пушкину, или для Т. Манна к его великим предшественникам (Гете и другим).
Шолоховское же включение в свой стиль «чужих» стилей не преследует этих общеизвестных и общепринятых целей, хотя, разумеется, в произведениях Шолохова встречаются и названные, и другие формы. Но они — незначительны, вернее, не существенны, и не они определяют характер использования им чужого текста.
Отношение Шолохова к стилевым традициям классики, русской и мировой, оказывается сродни пушкинскому активному и многостороннему включению в свой стиль стилей других писателей в максимально близком первоисточнику виде.
Стилевая пушкинская «всеохватность» не укладывалась в термины, какими принято в литературоведении определять различные формы освоения крупными художниками «чужих стилей»: «подражание», «перевод», «стилизация» и так далее. Даже то, что сам поэт называл у себя «переводом» или «подражанием», по сути дела ни тем, ни другим не являлось: оно сотворено по законам оригинала, «без подражательных затей». Сотворено так, как мог бы сотворить его сам «переводимый» Пушкиным художник, зачастую даже еще чище (освобождено от неорганичных для оригинала примесей) и еще ярче (без утративших смысл лишних мелочей).
Не случайно, Анна Ахматова, изучая до скрупулезности основные
- 245 -
виды пушкинских подражаний Андрею Шенье и переводов с него, находила их у Пушкина — к своему удивлению — там и тогда, где и когда оригинал явно отсутствовал (когда у Шенье не существовало произведения, с которого великим Пушкиным мог быть сделан «перевод»). По отношению же к ряду явных «переводов» и «подражаний», Ахматова нашла, что, пользуясь стихами Шенье, Пушкин «всегда сам делал лучше», «исправляя в своих стихах недостатки» оригинала.8 Изыскания свои она заключила так: пушкинские так называемые «заимствования» происходят «из могучего хозяйского самосознания гения, всюду находящего свое».9
Пушкинисты не раз отмечали, что ряд произведений поэта, имеющих ссылку на какой-либо источник, на самом деле — изначально оригинальны, являются творениями самого Пушкина (хотя и сделаны по законам «оригинала», то есть произведения, выдаваемого за оригинал, за подлинник). Так, исследователь пушкинского языка и стилистики, В. В. Виноградов, обратил внимание на так называемые «мистификации» поэта»: «...язык письма Татьяны, вопреки предварительным извинениям автора, — русский, непереводный. Он не предполагает стоящего за ним французского текста».10 Также «не предполагает стоящего за ним текста» «Скупой рыцарь», несмотря на ссылку поэта («Сцены из ченстоновой трагикомедии: The covetous knight»). Среди «Песен западных славян», как было установлено исследователями, три из них — сочинения самого Пушкина. В «Подражаниях Корану» Г. А. Гуковский видел «чисто пушкинское разрешение проблемы восточного стиля».11 Подобные случаи-примеры у Пушкина можно находить и продолжать очень долго.
Удивляя, подобно Пушкину, прямым и открытым «вводом» в свои произведения множества стилевых фигур других писателей (в виде отдельных фраз, отрезков речи, тем, мотивов, сюжетов), Шолохов удивляет также чистотой их воспроизведения (они сделаны по законам подлинника, без какого-либо специального приспособления и подгонки — стилизации, утрирования, шаржирования и т. п.), и — органичностью их включения в текст (при чтении шолоховского романа они незаметны, неощутимы и могут быть выявлены только при тщательном анализе).
Шолохов удивляет безграничностью ввода и органичностью включения в свой текст стилевых фигур не только своих предшественников или современников.
- 246 -
Подобно Пушкину, он удивляет столь же открытым и прямым переносом — из одного в другое место или другое произведение — своих собственных стилевых фигур.
Вл. Ходасевич, изучавший «поэтическое хозяйство Пушкина», отметил «обилие самоповторений в его стихах и прозе»: «Повторяются темы, приемы, образы, мысли, сопоставления, звуковые и ритмические ряды, эпитеты, рифмы и т. д.».12
А. Ахматова, сделав своего рода картотеку «самоповторений» Пушкина, заключила из нее: «не повторение себя, а многократное восхождение к одному и тому же источнику».
Пушкинские «автореминисценции», по Ходасевичу, не случайны: «Языком, сердцу внятным», они порой говорят о поэте больше, чем он сам бы хотел сказать о себе. Они обнаруживают подсознательные душевные и духовные процессы, как биение пульса обнаруживает скрытые процессы физического тела. Считать их — не пустое занятие: это — как считать пульс».13
Автор исследования «поэтического хозяйства Пушкина» видит в этом экономность великого поэта: «Он был иногда до мелочей экономен в своем поэтическом хозяйстве. Иногда одну строку, интонацию, прием берег подолгу — и умел-таки использовать» («Как ты шалишь», «Суровый Дант не презирал сонета», «Где Данте мрачный и суровый» и т. д.).
С мыслью Вл. Ходасевича о «самоповторениях» Пушкина» как примете «экономности его «поэтического хозяйства» корреспондирует наблюдение другого исследователя пушкинского стиля: Пушкин «сберегает черновики «впрок», потом дословно переносит целиком большие куски из одного жанра в другие, из писем в письма и нередко из писем в статьи».14
Шолоховское «поэтическое хозяйство», точнее сказать «хозяйство прозаическое», аналогично пушкинскому, также изобилует «самоповторениями». Мы наблюдаем у него постоянную «пульсацию» собственных стилевых фигур — образов, сравнений, эпитетов, фраз, психологических состояний героев и другого. Со временем, надо полагать, шолоховедами будет детально выявлена и обстоятельно изучена эта черта стиля писателя в ее глубокой традиции «многократного восхождения к одному и тому же источнику». Пока же, отметив это качество поэтики Шолохова, близкое поэтике Пушкина, обратим внимание на некоторые моменты его проявлений.
- 247 -
Шолоховым создаются словосочетания, эпитеты, глагольные формы, приобретающие характер постоянных: «янтарно-желтый полдень», «жгуче-белая молния», «аспидно-черное небо», «запененный конь», «многоскотинное хозяйство», «непередаваемо грустные краски вечера», «мартовский ноздреватый снег», «быстрилось», «прямился», «взбугрился», ««память вылепила», «память упрямо подсовывала», «память настойчиво воскрешала» и так далее. Не раз повторяемые в одном и том же произведении, они зачастую переносятся им и в другие.
Неоднократно повторяются у него и устойчивые образы. К примеру, «глаза, словно присыпанные пеплом».
Впервые этот образ в «Тихом Доне» возникает в отношении глаз Аксиньи: после встреч с Григорием и побоев Степана, «Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанных пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара» (I, 86. — Здесь и далее курсив в цитатах из произведений Шолохова мой. — Л. К.)
Подобные глаза, но теперь не «присыпанные», а «засыпанные пеплом», встречаются у другого героя этого же романа, Мирона Григорьевича Коршунова, в тот момент, когда его уводят за отказ выплатить контрибуцию. «Заплаканная Лукинична застегивала на своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым бабьим платком, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные глаза» (III, 169).
Изменение всего лишь приставки в причастии (вместо «при» — «за»), при ином смысловом контексте фразы, с другим героем и совершенно иным его психологическим состоянием, — кардинально меняет смысл того же словесного образа: не жизнь таится в глазах, «будто присыпанных пеплом страха» (как было у Аксиньи), а — неизбежность смерти («в потухших, будто пеплом засыпанных глазах» Мирона Григорьевича Коршунова).
Но в обоих случаях этот выразительный образ предвещает судьбу героя: для Аксиньи — дальнейший «пожар чувств» (от «чуть приметно тлевшего уголька»), для Коршунова — смерть («в потухших глазах»).
Большой силой трагизма обладает тот же образ применительно к герою рассказа Шолохова «Судьба человека»: «Я взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза,
- 248 -
словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника» (VII, 608—609).
Глаза Андрея Соколова, «словно присыпанные пеплом», «наполненные неизбывной смертной тоской», — символ выжженного войной нутра человека, потерявшего в ней все самое для него дорогое. Заметим, что внутри шолоховских строк здесь появляется одна из повествовательных фигур, не раз употребляемых Пушкиным-поэтом (прямое обращение к читателю с риторическим вопросом, позволяющим автору вовлечь читателя в свои переживания-размышления).15
При таком «самоповторении», повторении одного и того же образа в различных местах одного или разных произведений, применительно к различным героям, происходит «не повторение себя, а многократное восхождение к одному и тому же источнику». В данном конкретном случае у Шолохова общим «источником» этих «самоповторений» служит ключевое слово «пепел», в многовековой народной традиции его сути и смысла. Этот устойчивый для поэтики Шолохова образ («глаза, словно присыпанные пеплом») — одна из ярких художественных метаморфоз древнего обычая многих народов: посыпать голову пеплом (в знак траура; чтобы разделить судьбу близкого человека; чтобы дольше сохранить в себе то, что осталось от него; наконец, для продолжения и возрождения жизни, ибо пепел, не поддаваясь тлению, способствует росту новой жизни).
Словом, и в стиле Шолохова «самоповторения не случайны», они тоже «обнаруживают подсознательные душевные и духовные процессы», и «считать их — это как считать пульс». И природа «самоповторений» — «не повторение себя, а многократное восхождение к одному и тому же источнику».
Контрастную параллель к «глазам, словно присыпанным пеплом», составляет в поэтике Шолохова другой его постоянный образ-сравнение: «глаза, как небушко». Чаще всего образ этот возникает применительно к детским глазам (у Ванюшки, приемного сына Андрея Соколова из «Судьбы человека», у детей из «Донских рассказов»).
Но не только к ним. «Глаза, как небушко» и у Андрея Разметнова (из «Поднятой целины»), — человека, который не может принять морали классовой борьбы, отказывается «воевать с детишками».
- 249 -
Интересно, что Шолохов ни разу не вводит в этот образ цвета (прием, несколько отличающийся от толстовского: вспомним глаза Катюши Масловой — «черные, как мокрая смородина»). Представление о цвете глаз героев, у которых они «как небушко», возникает у читателя не от прямого называния цвета (в данном случае — голубого), а от сравнения с предметом, цвет которого сам по себе, казалось бы, изменчив, непостоянен; но в такой очень живой композиции образа, с уменьшительно-ласкательным суффиксом («небушко»), который может относиться только к небу ясному — не серому, не черному и т. п., а голубому, — цвет угадывается безошибочно.
В свойстве неба быть как чистые детские глаза (или как глаза нравственно чистого человека) — писателем выявляется и еще один момент сравнительности, делающий этот образ угадываемым не только в цвете: уменьшительно-ласкательный суффикс как бы утепляет цвет неба (просто голубое или синее — оно скорее холодное, а «как небушко» — теплое, родное и близкое, как встающий из теплой постели с улыбкой и потягиванием ребенок, как только что выпеченный хлеб, точнее, кусочек от него, «хлебушко»).
Уменьшительность-ласкательность по отношению к детям — устойчивое качество поэтики Шолохова. Детей в его произведениях зовут Гришатка, Мишатка, Полюшка, Дуняшка и т. д. И не только в обращении к ним взрослых героев, но и в прямом авторском повествовании, даже когда речь идет об именах нарицательных, героях собирательных, как, например, в авторском лирическом отступлении о судьбах молодых воинов, «куженков» («Семушек» и «Ванюшек»).
С другой стороны, в отношении к героям взрослым у Шолохова нередко обращение жесткое, с почти что уничижительным суффиксом «к» (Гришка, Мишка, Наташка и т. п.), и не только в общении их между собой, но и в речи автора. — Явление, конечно же, своего времени: внесение просторечия в литературный стиль, и оно имеется не только в назывании имен, но и в других компонентах художественного образа. — Чего почти не наблюдалось в эпоху Пушкина и, разумеется, у самого Пушкина в текстах литературных.
Но в личных письмах Пушкин весьма нередко называет своих детей — «Сашка, Машка, Гришка, Наташка», как и обращается к жене — «женка». И здесь это — не жесткость, не факт отрицательного в этот момент отношения автора к какому-либо поступку
- 250 -
своего адресата, а, напротив, свидетельство его особенной нежности, скрываемой за грубоватостью «домашнего» тона, родственной фамильярностью (как старшего в семье в отношении к своим подопечным младшим).
В творчестве Пушкина детские образы — в качестве героев — весьма редки, как редки и герои пожилого, старческого возраста, — чего не скажешь о персонажах Шолохова. — Возраст героев Пушкина, большей частью, зрелый (иногда предшествующий зрелости или сразу после нее).
И это тоже — одна из существеннейших черт поэтики Пушкина — та «золотая середина» жизни человека, которая является «золотой серединой» земной, природной жизни.
Эпоха Шолохова — время «выбивания» середины, и в отношениях между людьми, и в их чувствах, и в социальных, общественных, политических факторах и явлениях. Не удивительно, что один из самых самобытных и глубоких ее талантов в своем видении, открытии и художественном воссоздании действительности подходит к самым крайним границам художественного образа, в том числе и образа героя, границам, за переходом которых могла бы последовать, в первом случае — слащавость сентиментализма, во втором — вульгарность натурализма.
Но, как писатель эпохального таланта, чей «большой стиль» романа «Тихий Дон» «подходил к заветным границам художества всенародного», Шолохов не переходит за них.
В границах между этими двумя полюсами — в самой непосредственной близости от них обеих — и складывается поэтика художника XX-го века: его, шолоховское «снятие покровов с мира явлений», его «остранение» (говоря термином В. Шкловского применительно к одной из сцен в «Войне и мире» Л. Толстого), его «возвращение предметам и явлениям первозданной свежести» и даже его авторский «свободный ход» («крупный шаг», говоря его же определением походки главного героя «Тихого Дона») в движении от одного к другому полярному полюсу видовых, родовых и жанровых границ. В том числе, и между полюсами комического и трагического. «Хорошо, что веселый народ мы, казаки. Шутка у нас гостюет чаще, чем горе, а не дай бог делалось бы все всурьез — при такой жизни давно бы завеситься можно!» (IV, 428). — Эти слова Григория Мелехова (после очередной истинно комической сцены в романе-трагедии Шолохова) весьма точно отражают
- 251 -
как атмосферу произведения, так и диапазон авторского «шага» (или «хода») в нем.
Отсюда, при общих чертах поэтики Шолохова с поэтикой Пушкина (о чем шла речь выше и еще будет идти дальше) эта существенная грань различий — как черта разных эпох и еще более различных авторских ликов (обусловленных рядом и социальных, и сословных, и иных факторов), — безусловно, накладывает особенный отпечаток на атмосферу и тон произведений каждого.
Разнообразие смыслов внутри не раз повторяемого словесного выражения у Шолохова особенно наглядно, когда оно относится к одному герою в различные моменты его жизни, при разных его состояниях.
Так, в «Тихом Доне» не раз встречается образ «крупно зашагавшего Григория». При этом, крупный шаг героя не есть характерная черта его походки вообще, это скорее черта его поведения в определенной ситуации.
Первый раз Григорий «крупным шагом» уходит из Ягодного от Аксиньи, после того, как «проучил» Листницкого, узнав о его связи с ней: «На спуске с горы в хутор Татарский он, недоумевая, увидел в руках своих кнут, бросил его, крупно зашагал по проулку» (I, 412).
Так же, крупными шагами, уходит он и от мелких упреков Натальи, не желающей понимать его поведения в условиях «похитнувшейся жизни». «Григорий крупно зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной весенней тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвуки дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним» (III, 301).
Напомним, что в пушкинских строках с повторяющимся подряд пять раз «о» — «И пусть у гробового входа...» — Ю. Олеша услышал «эхо» от спуска «по ступенькам под своды, в склеп» (см. с. 207 данной работы).
В шолоховской звуковой аллитерации, имитирующей шаги по «деревянному настилу мостка» («др», «тл», «тк»), звучащие «в прозрачной весенней тишине» («о», «о», «е», «е», «е», «е»), явно слышен диссонанс между этими двумя парами ног идущих — «редких шагов» «крупно зашагавшего» Григория, и «дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним», а в нем и через него — диссонанс двух человеческих натур.
- 252 -
Абсолютный слух к звукам самой земной жизни и жизни человеческой, в их физических, духовных, душевных проявлениях, абсолютное зрение и видение красок жизни в их первозданности, абсолютное осязание, ощущение и чувствование — природные качества гениальности художественной натуры, основа ее и психологии, и типологии, о чем хорошо сказал Д. Д. Благой (см. эпиграф к данной главе).
Наконец, в финале «Тихого Дона» снова появляется образ «крупно зашагавшего» Григория. Но теперь — не уходящего из дома, а — возвращающегося в него. «Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.
Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому» (IV, 494).
Во всех приведенных случаях сохраняется словесная форма и общий смысл образа (стиль походки в момент решительного перелома судьбы героя), но всякий раз возникают дополнительные смысловые и интонационные оттенки (в зависимости от контекста фразы, состояния героя и обстоятельств).
«Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос, и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный...» — думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью» (I, 406).
«Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни» (IV, 270) — будет сказано о Григории к концу романа.16
В первом случае (книга первая) среди всех оттенков звучания преобладает удивление героя перед своей «диковинно сложившейся жизнью», как будто она сложилась сама собой, независимо от него, волею и силою обстоятельств.
Во втором (книга четвертая) — недовольство ею («нехорошо сложившейся»), следовательно, недовольство и самим собой, так ее «сложившим».
В широком плане всего романа это и еще одна из вариаций нередких в нем суждений героя о себе и своих поступках, начинающихся обычно с упреков жизни в том, что она его «виноватит», а кончающихся осознанием и своей вины: «неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый».
- 253 -
Такими значимыми и глубоко содержательными схождениями концов с началами, появлением при этом нового смысла и качества в одном и том же образе, пронизана вся структура «Тихого Дона».
О поэтике пушкинской гармонии, ее атрибутах, в частности, почти геометрической структуре «Бориса Годунова», его «кольцевой симметрии», «точном соответствии конца — началу», и так по всему произведению далее, — было сделано интересное наблюдение Д. Д. Благим («Мастерство Пушкина»). Современным пушкинистом это наблюдение над формой было углублено и спроецировано на содержание пушкинской трагедии: «Судьба народная» разворачивается в трагедии по тому же закону вращения, что и «судьба человеческая». Наиболее наглядно это в сопоставлениях экспозиции трагедии и ее финала. Они также зеркально обратны по отношению друг к другу... в финале все происходит как в экспозиции, но в обратном порядке: 1) от молчания к крику; 2) от крика к безмолвию».17
«Один и тот же источник», к которому в данном случае восходит «судьба человеческая» и «судьба народная» в трагедии Пушкина «Борис Годунов» и романе-трагедии Шолохова «Тихий Дон» — это одна из важнейших, коренных для человека и человечества проблем со времени пробуждения его сознания: проблема «вины» и «ответственности», и жизненных обстоятельств, и — личной.
С «Тихим Доном» Шолохова в русскую литературу XX-го века возвращаются коренные проблемы человеческого бытия, те, что составляли основу неразделенного для человека надвое мира (духовный и физический), а были цельным, единым миром его жизни, его культуры.
В свое время уход этих больших тем из литературы в послепушкинскую эпоху, а точнее, подмену их измельченными и переиначенными (успех, карьера, удачная женитьба, выгодная сделка, любовные интриги и прочее) болезненно-остро ощущал и переживал вступивший в литературу молодой Лев Толстой: «Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?18
Крупные явления человеческой жизни не просто возвращаются и далеко не мирно входят снова в литературу через художественный мир «Тихого Дона» Они, как это присуще писателю, заново выверяются
- 254 -
и проверяются им как в своем историческом развитии, так и в самом существе своем, начиная от современных форм их «одежды» и до снятия с них всякой одежды.
«Остранение» как прием, «снятие покровов с мира явлений» как метод, «возвращение утраченных свойств», «новорожденность» как принцип палитры красок художника по отношению к жизненным явлениям — совершается у Шолохова своим, особенным путем. Удерживая в себе почти в чистом виде очень многие художественные способы видения мира и формы его отображения, о чем шла речь в начале главы, шолоховское «остранение» и «снятие покровов» возвращает предмету и явлению «первозданность», «утраченную свежесть» тем и так, что в своем видении и отображении нисходит к самим «корням» явлений, а затем возвращается к «ветвям» и «листьям».
Это касается таких проблем и явлений, как жизнь и смерть, любовь, ненависть, месть, материнство-отцовство, выбор пути, вина и ответственность, судьба и других.19
«Нисхождение» к самим «корням» явлений начинается у Шолохова со слова.
Видя мир с глубины его первоистоков, в процессе как бы рождения слов для его выражения, писатель «выпускает» их на страницы романа в первозданном виде; подобно пушкинским, слова его — «новорожденные».
Но в этой новорожденности — и приметы своей эпохи, когда в литературу хлынули многие и разные голоса и речения, прежде не имевшие своего литературного, письменного выражения.
Представая в удивительном многообразии своих красок, жизнь у Шолохова, как и у Пушкина, являет их в чистоте и яркости как бы «первого дня творенья».
Краски земных явлений и предметов у Шолохова имеют подчеркнуто природный, естественный, чистый цвет, а сами явления и предметы выступают в своих характерных свойствах. Изменения в них происходят не путем переименования цвета и свойства, а посредством сгущения, интенсификации или, напротив, ослабления постоянного природного качества: «аспидно-черное небо», «янтарно-желтый полдень», «жгуче-белая молния», «бледно-желтые звезды», «грязно-бурый волк», «густо-зеленое оперенье» и т. д.
«Если небо на протяжении веков в литературе было синим, если
- 255 -
синим оно было в книгах эпигонов и графоманов, то самый простой способ вернуть ему «утраченную свежесть» — это назвать его «красным» или «белым». Но ведь летнее небо все равно синее. И большую смелость проявит тот художник, который своей страстью, волей, верой и мастерством вернет ему утраченную свежесть «изнутри», не меняя его окраски. У «банальности», «общего места» есть вторая сущность — «святая истина» (Е. Книпович).20
Открытие мира как бы заново, в прелести его естественных красок и свойств (после всех его метаморфроз в многочисленных литературных течениях и школах конца XIX-го начала XX-го вв.), вызывает к жизни у Шолохова слова очень простые, но особенные — и по звучанию, и по смыслу, и по принципам соединения: «желтопенная ромашка», «свежепорванная рубаха», «прижженная солнцегревом шея», «угрюмоглазый сынишка», «крутошеий Степан», «медноголосый тоскующий крик журавля», «свежеперевеянные звезды», «мокрогубое лицо», «мертвоглазые». Часто происхождение свое они ведут от сельской природы, сельскохозяйственного труда и казацкого образа жизни.
«Новорожденность» предметов и явлений в художественном мире Шолохова, благодаря возвращению им «утраченной свежести «изнутри», не меняя их окраски», в проявлении своих коренных свойств подобна пушкинской «новорожденности» и «первозданности» предметов и явлений. Если это буря, то она у Пушкина — «мглою небо кроет», если осень, октябрь, то — «роща отряхает / Последние листы с нагих своих ветвей. / Дохнул осенний хлад, дорога промерзает...», если «мороз и солнце» — то «день чудесный...» / «Под голубыми небесами великолепными коврами, / Блестя на солнце, снег лежит». Также и в человеческой природе, где и возрасту, и состоянию человека соответствует коренное для этого свойство: «Безумных лет угасшее веселье», «Бессмертный дух героя...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» и так далее.
Шолоховским необычным эпитетам (необычным для речи письменной) можно подыскать аналогии в устном народном творчестве, фольклоре казацко-донском и русском. По принципам соединения они также напоминают знаменитые гомеровские эпитеты, типа «пышноблестящие доспехи», «Аполлон среброрукий», «розовоперстая денница» и т. п.
В произведениях Пушкина, поэтика которых основана на фольклоре
- 256 -
(«Сказки», «Песни западных славян» и другие), эпитеты такого рода нередки («тридевятое царство, тридесятое государство», «златоглавыми церквами» и т. д.). Но в стиле Пушкина в целом, как известно, преобладают глагольные формы, и «первозданность», «новорожденность» предметов и явлений выступает у него всего более в действенном проявлении своих коренных, полученных от земной природы свойств и качеств.
Действенность шолоховских образов проявляет себя всего более в характернейшем виде его метафоры — образе, созданном существительным в творительном падеже. «Вся в румяном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню...»
Писатель не развертывает сравнения. Емкий, богатый образ, передающий и беспечность молодой девушки, еще подростка, и торопливость приятных для нее хлопот-приготовлений (сборы брата в военные лагеря), и многое другое возникает посредством лишь одного слова, определенным образом поставленного.
Напомним, как приятно удивлен был Ю. Олеша краткостью и точностью некоторых пушкинских образов, в частности, в «Арапе Петра Великого» («стриженая головка» молодого глупого щеголя Корсакова, которую он «всунул» в парик). Писатель XX-го века усматривал в этом предтечу толстовского умения создавать образ по выделению одной, решающей для характера героя черты, «вызывающей в нас краткое, мгновенное впечатление».
«Предтечей» шолоховскому типу образа, о котором идет речь, является и толстовский, и пушкинский образ, но оба «восходящие к одному и тому же источнику» — фольклорному, где метафора близка метаморфозе.
«Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку». И одно это «чертом» выражает одновременно, разом и гнев его, и вид, и возможные последствия для Аксиньи и Григория, чье поведение вызвало такую реакцию.
«На пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич». И теперь состояние Пантелея Прокофьевича грозит, как всякая туча, немедленно вылиться на окружающих, в частности на Григория. Но — вместе с тем — чувствуется и скоропроходящесть этого состояния как всякой буревой тучи.
«Сваты сплели бороды разномастным плетнем». В этом многоговорящем по смыслу образе обнявшихся людей разом обнажается
- 257 -
нежелаемая ими, но вынужденная обстоятельствами связь («разномастность»), в которой оказались оба героя, ставшие «сватами».
Образ создается не развернутым сравнением, а фактически одним словом, стягивающим в себя многие смыслы. Шолохов любит такой тип образа, и страницы «Тихого Дона» полны им.
Вот еще несколько:
«У казака, несмотря на его молодость, кучерявилась густейшая светло-русая борода, арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот...» (III, 254).
«Голубым солнечным днем проплывало в несвязных воспоминаниях детство...» (III, 276).
«Степным всепожирающим палом взбушевало восстание» (III, 277) и т. д.
Шолоховское слово-образ возвращает нас к самим истокам рождения художественного образа в литературе.
«Источник», к которому он «восходит» — сравнение посредством творительного падежа в фольклоре и образах древнерусской литературы («Гзак бежит серым волком», «Вступил девою на землю Трояню», «Полечу, рече, зегзицею по Дунаеви» и т. д. в «Слове о полку Игореве»).
Но, в отличие от них, у Шолохова нет полного уподобления человеческих действий — миру животных; иными словами, метафора не возвращается к метаморфозе, от которой она в древности и вела свое начало. Но и в отличие от формы и роли метафоры в прозе второй половины XIX-го века, где образ развертывался порой на многие страницы, иногда на целое произведение («Хаджи-Мурат»), — перед нами вновь образ, заключенный в одно-два слова, полнящихся богатым смыслом.
В «Тихом Доне» мы встречаемся и с особенным шолоховским словообразованием — созданием слов на полной свободе сочетаний, взаимной раскованности.
«Ты вот женись... а посля узнаешь, скучают ай нет по дружечке», — не по дружку, не по дружочку, а — по «дружечке». Это слово в такой особенной форме не имеет рода, что говорит о более крепкой связи людей близких.
«...оттуда уже тянуло горьковатым, плесневелым душком нежили». — Слово, удивительное с точки зрения литературных норм образования.
- 258 -
«Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью». — Не «звездочкой, а «вызвездью» — особенное словообразование.
У Пантелея Прокофьевича «заскорузлые клешнятые пальцы». У Григория — «вислый коршунячий нос». — Не «как у коршуна», или «похожий на нос коршуна», а — «коршунячий», что придает этому сходству смысл не столько прямого сравнения, сколько обратного (коршуна с человеком).
«Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу, как ты ездишь...» Это говорит Аксинья Григорию в первую их встречу у Дона. И это «чертяка» звучит не столько гневно, сколько ласково, маняще, как бы устанавливая пока еще невидимую связь между ними.
«Жалкуем об тебе, Мелехов» (IV, 150).
У Григория, после того, как он в горячке боя зарубил четырех матросов, «сердце пришло в смятению» (III, 289).
«Пропади ты, разнелюбая! — Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги». Это не по правилам образованное слово выражает высшую степень неприязни (нелюбви) в настоящий момент Григория к Наталье. — Нечто подобное мы встречаем у Пушкина, но применительно к назойливому насекомому («распроклятая ты мошка!» в «Сказке о царе Салтане»), и из уст героев далеко не симпатичных.
Уходя от Натальи, Григорий слышит ее «вскрик»: «Гриша! — кинулся от ворот тоскующий Натальин «вскрик». Не раздался вслед, а «кинулся», и не «оклик» от человека, желающего вернуть уходящего, а «вскрик», где соединяется и оклик, и крик от сознания, что все уже кончено.
Не часто, но встречается в литературе «вскрик» птицы; «вскрик» же человека (который сам «кинулся») — это предел и душевной тоски, и физической боли, боли как бы насмерть раненого животного.
«Аксинья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю». Не нахлынувших, как принято говорить о слезах человека, а «прихлынувших».
«Там о заре прихлынут волны» — читаем мы у Пушкина в «Сказке о царе Салтане». В отношении к волнам, как явлению стихийному, силам природы, это закономерно. «Прихлынувшие слезы» — сочетание не типичное для проявления человеческих чувств, хотя оно и очень точно выражает стихийность чувства Аксиньи, неподвластного ее воле.
- 259 -
Отмеченные у Шолохова моменты — явления для прозы не частые. Другое дело поэзия, где особое, нетипичное словоупотребление вызвано, большей частью, законами поэтической формы (необходимостью соблюдения рифмы, ритма и т. д.).
Образность «Тихого Дона», состоящая из предметов непосредственно окружающих человека в его жизни на миру и связанная с его жизнью сердечными узами, резко меняет свой облик в сценах военных. «Украденные» войной у человека орудия его труда и приспособленные ею для хозяйничанья в его доме и мире, они насильственны для человеческой природы, чужды его телу и душе, несовместимы с ними.
«Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой... ...на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции. Тяжелые солдатские сапоги трамбовали дороги, щебнили шоссе, взмешивали августовскую грязь.
Там, где шли бои, хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды; ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали. По ночам за горизонтом тянулись к небу рукастые алые зарева, зарницами полыхали деревни, местечки, городки...
...К исходу клонился август. В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья — в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью» (I, 313—314).
Так выглядит мир природы в главе, где Григорий — после того, как «зря срубил человека», — «захворал душой» сам и наблюдал, как «захворали душой» и его товарищи по сотне.
И каждому из «захворавших» ею — и природе, и человеку, — окружающий мир представляется больным; все его прежние краски, звуки, предметы видятся в искаженном, перевернутом виде: «...неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, дотлевает на небе дымный костер Стожаров, Большая Медведица лежит сбоку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает Полярная Звезда» (II, 46).
У героев романа, людей разных возрастов и различных социальных групп, «болезнь» от бацилл войны принимает особенно кризисный характер, целиком завладевая их телами и душами. «Степным
- 260 -
всепожирающим палом взбушевало восстание. Вокруг непокорных станиц сомкнулось стальное кольцо фронтов. Тень обреченности тавром лежала на людях. Казаки играли в жизнь, как в орлянку, и немалому числу выпадала «решка»...» (III, 277).
Но земная природа — в эпических сценах «Тихого Дона» — при всей своей внешней беззащитности, оказывается крепче человека, выносливее и мудрее его; она больше заготавливает впрок «семян» своих и заранее, всяческими способами стремится распространить их по миру: прячет в земле, развеевает по ветру и т. д. И в картинах природы «Тихого Дона», «захворавшей» от войны одновременно с человеком и даже сильнее его, раньше начинается самовосстановление.
«А весна в тот год сияла невиданными красками. Прозрачные, как выстекленные, и погожие стояли в апреле дни. По недоступному разливу небес плыли, плыли, уплывали на север, обгоняя облака, ватаги казарок, станицы медноголосых журавлей. На бледно-зеленом покрове степи возле прудов рассыпанным жемчугом искрились присевшие на попас лебеди. Возле Дона в займищах стон стоял от птичьего гогота и крика. По затопленным лугам, на грядинах и рынках незалитой земли перекликались, готовясь к отлету, гуси, в талах неумолчно шипели охваченные любовным экстазом селезни. На вербах зеленели сережки, липкой духовитой почкой набухал тополь. Несказанным очарованием была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запахом оттаявшего чернозема и вечно юным — молодой травы» (III, 277—278).
Вот в этих границах — между «древним запахом чернозема и вечно юным — молодой травы» — и развивается, и удерживается поэтика Шолохова, наполненная — подобно пушкинской, но иначе, по-своему — также «несказанным очарованием».
Можно сказать (воспользовавшись высказыванием одного из пушкинистов), что подлинная мудрость Шолохова-художника, подобно «подлинной «мудрости Пушкина» — в доверии к объективному развитию живой действительности, а не в мнимом смирении с каждым данным ее состоянием, далеко не гармоничным». И что для Шолохова, как и «для Пушкина стиль выступает не безразличным средством передачи содержания, но и сферой, где во многом непосредственно «материализуется» идеал, не нарушая жизненной правды».21
- 261 -
Появляющийся в «Тихом Доне» контраст в сценах между природой человеческой (трагически замкнутом кольцом судьбы своей, близким самоуничтожению) и земной, вырвавшейся к новой жизни природой (ее самовозрождением) некоторые исследователи характеризуют как факт эпического равнодушия природы (благо, что сами художники зачастую употребляют это слово. Пушкин: «...у гробового входа / Младая будет жизнь играть / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»).
«Равнодушие природы» считается непременным признаком эпоса.
Но в данном случае не замечается и потому не принимается в расчет одна маленькая, но важная, ключевая деталь: одушевление природы человеческим хотением, желанием, волей, что в языке выражается повелительным наклонением: «И пусть...»
Это — как бы «вызывание» художником «духа» природы, чтобы осталась живой «душа» человека, тело которого уже отжило свой век, мертво.
Чтобы «сеанс» этот состоялся, необходимо выполнение определенных условий: у Пушкина — наличие рядом со старой (и в ее продолжение) «младой жизни», живой, «играющей» и наличие воли, желания-хотения художника («И пусть...»); у Шолохова — при трагической картине «палом взбушевавшегося восстания» (почти роковой обреченности героев) — эпическая картина возрождения жизни (при самых трагических обстоятельствах жизни человека); чаще всего у него это образ весны, «сияющей невиданными красками».
Образы природных стихий у Пушкина созвучны образам человеческой природы. Ср.: «Нева металась, как больной / В своей постеле беспокойной» («Медный всадник»). «То как зверь она завоет, / То заплачет как дитя» (буря). «Дни поздней осени» нравятся поэту, «как, вероятно, вам чахоточная дева». Или хрестоматийный пример: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным» («Капитанская дочка»); сцена метели в «Метели» (из «Повестей Белкина») и т. д.
У Шолохова, как мы видели, как бы наоборот: человеческие чувства (и даже коллективные действия людей) проявляют себя подобно природным стихиям («Степным всепожирающим палом взбушевало восстание» и т. д.). Образы Шолохова, при этом, нередко как бы ошарашивают читателя возникающим, в таких случаях, эффектом
- 262 -
«зеркала, поставленного на перекрестке» (как в романе Ю. Олеши «Зависть»): его действием (будто предметы движутся на человека), его красками («точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо»).
Но, при всем этом, в «Тихом Доне» Шолохова, как и у Пушкина, «правит бал» — жизнь. Жизнь во всех ее проявлениях и формах. Точкой зрения жизни земной определяется развитие характеров героев, сюжет произведения. И сам «Тихий Дон», по сути, являет собой «книгу бытия» XX-го столетия, книгу ее сложной жизни (как «Евгений Онегин» — «энциклопедию русской жизни», по справедливому выражению Белинского).
Каждая из восьми частей «Тихого Дона» оканчивается, в конечном счете, победой жизни. Даже финал романа Шолохова завершают на равных два образа — Григория и Мишатки, два сюжета — отжившей жизни и только что начинающейся, два мотива — «холодного солнца» (для Григория) и — ранней весны (для Мишатки). — Своеобразный аналог «счастливым концам» пушкинских прозаических произведений, но в соответствии с обстоятельствами жизни героев в XX-м веке, где ведущую роль играет при этом не «случай», как «мощное орудие провидения», а жизнь в неукоснительном ходе необходимости своего продолжения.
Жизнь в романе Шолохова выступает в разнообразнейших своих проявлениях. «Кружилась», «пенилась», «невеселая», «заплесневелая», «сонная до одури», она может «выездить» героя, может «порушить» весь его мир, быть «нерадостной», «ненарядной», или — напротив.
«Образ жизни», как и все проявления жизни, создаются у Шолохова всеми существующими в русском языке частями речи: глаголом, существительным, наречием, прилагательным и другими. «А жизнь в Татарском была не очень-то нарядная» (IV, 340—341). «Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, мельчает настолько, что видно ее поганенькую россыпь, — завтра идет она полноводная, богатая...» (I, 372). И так далее.
Жизнь в «образе жизни» в романе Шолохова наделена всеми возможными чертами живых существ и природных явлений.
- 263 -
Больше того. Даже такие отвлеченно обобщенные понятия, как, например, «правда», полны в «Тихом Доне» живой жизни с ее осязаемыми земными приметами. Так, мечтая о справедливости, Григорий думает о том, что нет на свете «правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий» (III, 199). Понятие из области разума — правда — полно у Шолохова жизненного тепла. Оно предстает чем-то вроде доброй, заботливой наседки, равно обогревающей своих птенцов теплом своего тела.
В «Тихом Доне» перед нами постоянно проходит жизнь природы (трав, степи, растений, леса, реки) при разных общественных и социальных состояниях — мира и войны, в разные времена года, наблюдаемая различными героями, или данная сама по себе, также как и жизнь животных (птиц, зверей, домашних животных), жизнь человека на всех отрезках его пути-дороги.
«...и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые годы кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы...
...Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной первородной жизнью» (IV, 17).
Можно с уверенностью сказать, что такой яркой лучезарности красок жизни, видов и форм ее проявлений, как в «Тихом Доне», само явление жизни и ее образ едва ли получал еще у кого-либо из писателей-прозаиков XX-го века (поэзия, конечно, исключение: Есенин здесь вровень с Шолоховым).
«Очарование нашим бедным миром» (Добролюбов о Пушкине) было «так сильно» и у Шолохова, что очарования этого не могли разрушить даже «противоречия, которые видит и воссоздает» художник. «Не только в образах и поступках людей из народа, не
- 264 -
только в объективированном лирическом образе своих переживаний, но и самим стилем» Шолохов, подобно Пушкину, «создает красоту, утверждающую то, «что есть хорошего на земле», что должно восторжествовать в жизни как результат преодоления разорванности и дисгармонии общественного бытия».22
В послереволюционные годы, когда всколыхнувшееся в русской действительности море голосов, речений, говоров нагрянуло в литературу и возникла проблема борьбы за чистоту языка, А. Н. Толстой, не усматривая в этом большой беды, а, напротив, видя своего рода особую преемственность, писал: «Пушкин первый производит революцию словесности. Он ломает четыре столетия и врывается своим гением в стихию народного языка. Но социально-политические условия не дали возможности полностью этой литературной революции. С 50-х годов начинается... — возврат к 400-летним традициям. Пушкин не мог в то время стать достоянием масс и быть ими поддержан. Литература снова погружается в дворянско-чиновничью и затем в интеллигентскую среду. Литературный язык стремится к «гладкости», к «приятности», к европейскому синтаксису... Октябрьская революция до основания и навсегда разрушила те условия, в которых развивался условный литературный язык. Не напрасно за нынешние годы литература полным лицом повернулась к Пушкину. Это был революционный инстинкт. Ничто не порождается без преемственности. Преемственность послеоктябрьской литературы — Пушкин».23
И он же, А. Н. Толстой, приветствуя вхождение в литературу Шолохова, предполагал, что тот, «быть может, начинает новую народную прозу, скрепляя ее со старшими богатырями».24
И то, и другое, сказанное в те годы одним из самых чистокровных писателей «дворянско-интеллигентской среды», ярко характеризует эпоху с ее прогнозами и ожиданиями, которые теперь, в конце эпохи, могут быть сравнены с результатами, не всегда с ними, мягко говоря, совпадающими.
Но уловленное истинным литератором качество крепкой нити, связующей творчество Шолохова «со старшими богатырями» (самый «старший» из которых безусловно — Пушкин) — несомненно почувствовано и определено точно: народность мышления и языка.
Тем значительнее возрастание близости прозы Шолохова к
- 265 -
«старшим богатырям» русской литературы, уже не только по «народности языка», но и по складу и ладу речи, иными словами, по поэтике.
Но вернемся к тексту.
«Повторения» и «самоповторения» стилевых фигур у Шолохова, с их живой жизнью («пульсацией») и «многократным восхождением к одному и тому же источнику», как и у Пушкина — явление глубоко значительное и принципиальное, и для содержательности произведения, и для структуры его.
Характеризуя мир писателя в целом, они в конечном итоге являются одной из важнейших основ художественной гармонии.
На этом фоне значительным выглядит и другое качество поэтики Шолохова, также восходящее к поэтике Пушкина.
В «Тихом Доне» большое структурно содержательное значение приобретают мотивы «памяти» — повторность аналогичных ситуаций с разными исходами из них, самое широкое и разнообразное соотнесение «концов» с «началами», «парность» случаев.
Повторяются отдельные, наиболее важные обстоятельства в жизни главного героя.
Снова и опять Григорий оказывается перед выбором пути, опять и снова меняет этот выбор. И каждый раз в этих «снова» появляются свои мотивировки, новые оценки автора, самого героя, других персонажей, иные последствия и итоги.
Дважды Наталья приходит к Аксинье, надеясь вернуть себе Григория. Две сходные ситуации с одними и теми же героями, но — и различные, как различно поведение в них каждого.
В повторяющихся сценах встреч Григория и Степана, этих двух соперников-противников, герои и те, и уже — не те. Сцена рукопашной сменяется сценой угроз со стороны Степана, затем — спасением Григорием Степана, раненого и потерявшего коня, наконец, неожиданной встречей в доме тетки Аксиньи, что в глазах посторонних, знающих об их отношениях, вызывает страх и изумление, но кончается вполне благородно со стороны обоих.
«Повторы», аналогичные случаи и коллизии, что разрешаются всякий раз по-новому, соотнесения «концов» с «началами» — принципиальны для структуры шолоховских произведений. В новой цельности стиля в них выступает «соединение времен», «прогнозирование»
- 266 -
судьбы того или иного героя на основе ретроспективного высвечивания его прошлого, и — наоборот.
Это — как бы шолоховский тип пушкинской многовариантности судеб героев. Вернее, авторской предсказательности их судеб на основе различных выходов героев из аналогичных ситуаций.
Так, в плане структуры романа и логичного завершения судьбы Евгения Листницкого сцена «мести» Григория в конце первой части является как бы «прообразом» той справедливой исторической кары, которую несет этому герою Шолохова сама судьба. Знаменателен конец Листницкого, о нем мы узнаем из слов Прохора Зыкова: «его супруга связалась с генералом Покровским, ну, он и не стерпел, застрелился от неудовольствия» (IV, 381).
Не то, что не выдержал от тяжести переживаний, а — «не стерпел от неудовольствия».
Знаменательна и реакция Григория на это сообщение: «Ну, и черт с ними, — равнодушно сказал Григорий. — Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих и горевать некому» (там же).
Народная оценка антинародной сущности героя содержит в себе присущую даже отдельному выражению полноту смысла, проясняющую одновременно и существо данного героя, и характер его в целом, и естественность именно такого конца для героя, исповедующего и в мыслях, и в поступках теорию «вседозволенности» и насилия, оборачивающуюся теперь против него же самого, и — равнодушное, без тени жалости, но и без злобы к нему отношение.
В данном случае перед нами «начало» является как бы прообразом «конца», «первый акт» предвещает «последний».
В «Тихом Доне» мы встречаемся и с явлениями обратными, когда в как будто неузнаваемо изменившемся открывается и восстанавливается прежнее, изначальное, что оказывается перспективным и определяющим для данного характера героя и данного хода событий.
В судьбах героев «Тихого Дона», в развитии его сюжета мы постоянно встречаемся с регулярной, до ритмичности, «повторностью» ситуаций и коллизий (при различных выходах и исходах из них), с разнообразными формами соотнесения «концов» и «начал» (черта, типичнейшая для поэтики Пушкина, о чем в свое время писал Д. Д. Благой), с «парностью» случаев и положений, как неожиданных, так и предопределенных, с восстановлением в неузнаваемо изменившемся — прежнего, изначального.
- 267 -
Так, портрет «неузнаваемо изменившегося» Григория Мелехова дается в «Тихом Доне» неоднократно, начиная со второй книги романа и до финала его. Появляясь в различных ситуациях, герой похоже видится глазами людей самых разных: и матери Григория, Ильиничны («— Ну, как же так можно?.. зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди-кось, сердце как волчиное исделалось» — III, 332), и Аксиньи («Что-то суровое, почти жестокое было в поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах» — IV, 485), и хуторян, и автора, и даже самого героя («Какими неумелыми казались черные руки отца, обнимавшие их. И до чего чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции» — IV, 69).
И параллельно этому портрету «неузнаваемо изменившегося» героя, а порою и в нем самом, тут же, — открываются черты иного Григория, прежнего, давнего.
«И диковинно: ...перед глазами ее (Аксиньи. — Л. К.) возникал не теперешний Григорий... много испытавший казачина с усталым прищуром глаз, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу.., — а тот прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ» (IV, 14).
«...«младшенький» вставал в памяти (Ильиничны. — Л. К.) с предельной, почти осязательной яркостью... Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала: — Гришенька! Родненький мой!» (IV, 330—331).
Материнская «память» о Григории и «память» Аксиньи о нем, как и авторские в тексте «напоминания», и собственные о себе самом суждения и размышления героя, — это не только воспоминания прошлого, но и предвестия будущего: своеобразная подготовка читателя к возвращению героя, возвращению в самом широком и глубоком смысле — и домой, к родному порогу, и к прежнему своему облику.
Напомним лишь один случай аналогичного явления в романе «Евгений Онегин».
- 268 -
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести...Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине...
Та девочка, которой он пренебрегал...Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!..О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!..«Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте...».(V, 174, 178, 186, 188)
Восстановление в неузнаваемо изменившемся герое — прежнего, изначального его облика важно для воссоздания цельности характера героя. Вместе с тем, оно говорит и о философии произведения, и о его поэтике.
Известно, сколь велика в «Евгении Онегине» роль — и не только сюжетная, но и структурная — «парных» писем героев, Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне, многообразных «перекличек» в них (как бы «обратной связи»: обмена и словесными выражениями, и душевными состояниями); сколь значительна для смысла и формы пушкинского романа в стихах «повторность» ситуаций (два бала, у Лариных и в высшем свете, два объяснения героев, с авторским комментированием, «повторность» авторских бесед с читателем и т. д.)
Выделив эту линию отношений в художественном мире «Евгения Онегина» как «роман героев», С. Г. Бочаров обратил внимание на особый мир чувств и отношений в нем, полный внутренней, не сразу заметной читателю согласованности действий героев и внутренней ответности их чувств (при явной, видимой, поочередной «отповеди» друг другу).25
Аналогичные черты поэтики гармонии в большом стиле «Тихого Дона» достигают наибольшей художественной выразительности также
- 269 -
в романе главных героев, Григория и Аксиньи. Даже разведенные судьбой, они удивительно контактируют друг с другом, очень согласно реагируя на сходные явления в сходных ситуациях.
Так, оба — хотя и порознь, и независимо один от другого, но почти одновременно — начинают чувствовать свою вину, Григорий перед Натальей, Аксинья перед Степаном. Новое для Аксиньи чувство к нелюбимому ею мужу — она начинает понимать его и по-своему жалеть — раскрывается в сцене ее добровольного прихода к нему, прихода не по принуждению (раньше она в подобных случаях не побоялась бы не придти), а по долгу нового чувства. И у Григория появляется новое для него чувство к нелюбимой прежде Наталье. «Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо... носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него... Могучая волна нежности залила сердце Григория» (IV, 74—75).
Вина Григория усугубляется смертью Натальи, и Аксинья внутренне разделяет с ним эту общую для них обоих вину-беду, хотя и не ими непосредственно спровоцированную.
Даже разведенные судьбой, Григорий и Аксинья удивительно «контактируют» друг с другом, очень согласно поступают в схожих положениях и обстоятельствах. Григорий, после встречи с Аксиньей и последующей близости, восстановивших нарушенную событиями внутреннюю связь характеров, уже настолько «в плену» чувств к ней, что совсем иначе реагирует на случайные встречи. Заигрывавшей с ним «зовутке» он откровенно скажет: «Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад...» (IV, 361). Аксинья в первой сцене четвертой книги, сцене в лесу, находясь в состоянии душевной раскованности, тем не менее дает отпор очень ласково обратившемуся к ней казаку. А пришедшей к ней «дознаться» Наталье, упрекнувшей ее в «беспутстве», с гневом ответит: «Я, хоть ты и назвала меня гулящей, — не ваша Дашка, такими делами я сроду не шутковала» (IV, 155). — Ответит с таким же чувством возмущения к людям, не умеющим отличать разные явления, и с осознанием своей полной противоположности Дарье, — с каким Григорий отвечал на упреки Михаила Кошевого, обвинявшего его в «приверженности к белым» и сравнивавшего по этой «приверженности» с Кирюшкой Громовым и Митькой Коршуновым: «Ты меня с ними не равняй!» (IV, 371).
- 270 -
Перед обоими — после одинаковой болезни (тиф), постигшей каждого в разное время, — по-новому «обольстительным» встает мир: «Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимы он как будто еще никогда не видел» (IV, 239). — «Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею (Аксиньей. — Л. К.) мир... ...все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками...» (IV, 298).
А повторная, непроизвольно случайная встреча героев у Дона, после нескольких лет разлуки, по-новому воспроизводит ситуацию первой их встречи.
Она и дается автором (и воспринимается героями) как напоминание о той, первой, определившей тогда судьбы обоих.
В ней значительно все: и неожиданное, как бы помимо воли героев движение навстречу друг другу («Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг, и за короткую минуту, пока подошел к Аксинье вплотную, светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним...»); и со свистом промчавшаяся над их головами, «как кинутая тетевой, чирковая утка», как бы вновь соединившая их судьбы; и состояние самих героев — женская гордость Аксиньи, пытающейся скрыть вновь вспыхнувшее чувство («На лице ее — несомненно притворное — выразилось удивление»), но не сразу могущей это сделать («но радость от встречи, но давняя боль выдали ее»), однако сумевшей овладеть собой: «на похолодевшем лице ее уже не дрогнул ни единый мускул, когда она отвечала Григорию».
И сама форма разговора, этого обращенного к прошлому диалога двух героев, звучащего как единый, отдающийся эхом монолог:
— Здравствуй, Аксинья дорогая!
— Здравствуй…
— Давно мы с тобой не гутарили...
— Давно.
— Я уж и голос твой позабыл...
— Скоро!
— А скоро ли?
Удивительна здесь и внутренняя согласованность внешних жестов героев, и ответность чувств. «Она улыбнулась такой жалкой, растерянной
- 271 -
улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, он придержал коня, сказал...».
Прозвучавшие в ответе Аксиньи, ее тихом голосе оттенки самых чужеродных чувств — «и удивления, и ласки, и горечи» — вызывают ответную реакцию и в Григории. «С легкой досадой и огорчением» он спрашивает: «...Что же?.. Неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?»
А прорвавшееся чувство Григория — «А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропастью легли... А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю донынче» — дает волю памяти чувства и в Аксинье: «Я тоже... Мне тоже надо идтить... Загутарились мы...».
Напоминание о повторности встречи («никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась»), пробуждает в самой Аксинье ответ не только прежнему чувству, но и прежним отношениям. Она называет его по имени: «Григорий, помнишь?» — первый раз за все время встречи-разговора. А ее «окрепший голос», в котором вдруг зазвучали «веселые нотки», вызывает решительный ответ Григория — «Все помню!» (III, 324—326).
«Память» восстанавливает нарушенную гармонию чувств героев, которая до этой встречи уже частично восстанавливалась в воспоминаниях каждого из них по раздельности. Она возвращает читателя к первому свиданию героев у Дона, соединившему их судьбы и положившему начало любви, сила которой воспринималась тогда обоими как какое-то волшебство, что-то прорывавшееся помимо их желания («Шею его крутила неведомая сила, поворачивая в сторону Степанова гумна». «Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну... пройдет мимо база, а у меня аж сердце закипает... упала б наземь, следы б его целовала... Может, присушил чем?.. Пособи, бабунюшка!» — I, 144; I, 75—76).
Вторая сцена свидания Григория и Аксиньи у Дона возвращает нас к началу романа и в другом его плане. Она напоминает о самом первом в романе варианте счастливой любви, любви деда Григория, Прокофия Мелехова, и турчанки, от которых и повелся род «диковато-красивых казаков Мелеховых», но которая окончилась
- 272 -
столь печально по вине обстоятельств (предубеждений, предрассудков, темного сознания народа).
Представление о художественной гармонии в «Тихом Доне», содержательной и структурной, было бы не только неполным, но и лишенным ядра, центра, оказавшись просто набором отдельных элементов, если оставить в стороне доминантную роль повествователя в нем, позицию автора в сюжете и композиции произведения.
Разумеется, ничего близкого неповторимому пушкинскому лику автора, иными словами, поэтической эманация образа автора (о чем была речь в первой главе данной работы) — в шолоховской прозе, как и в любой другой, даже очень крупного художника, нет и быть не может.
Но в эпохальном романе Шолохова находит свое самобытное продолжение удивительное пушкинское разнообразие авторских ликов.
Автор «Тихого Дона» выступает (от себя лично) во многих видовых и родовых формах словесного искусства: и как эпик (примеры чему приводились выше), и как лирик (всем памятные картины степи), и как художник драматического жанра.
Не менее разносторонен автор и в роли повествователя; мы видим его в постоянной смене, точно «пробах» разных способов рассказывания.
Так, начало первой и второй частей (в книге первой) он ведет как повествователь исторический. Неторопливо и, вместе с тем, концентрированно, с выделением главных деталей, чреватых последующим развертыванием заключенного в них смысла, дается предыстория двух семейств.
В первом случае — казаков Мелеховых.
«Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона...
В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину...
Прокофий обстроился скоро...» (I, 19).
- 273 -
Во втором — купца Мохова.
«Сергей Платонович Мохов издалека ведет свою родословную.
В годы царствования Петра I шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем...
...Лет десять спустя на том месте, где раньше дымились курени Чигонацкой станицы, поселились пришлые казаки и те, что уцелели от разгрома...
С той-то поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз — мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной, необходимой в казачьем обиходе рухлядью: черенками для ножей, табаком, кремнями; скупал и продавал краденое и два раза в год ездил в Воронеж, будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице пока-де спокойно и казаки нового злодейства не умышляют.
От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и вросли в станицу, как бурьян-копытник: рви — не вырвешь...» (I, 123—124).
Но что — интересно: эта явная контрастная параллель двух семейств нисколько не свяжет автора в дальнейшем и не обяжет его ни к соединению их в фабуле романа, ни к даже равной значимости для сюжета.
Подобно Пушкину, Шолохов «свободен в ходе» романа. Он оставляет эту линию без продолжения (как и ряд других, также поданных как бы для дальнейшей связи). Членов семейства Мелеховых, выдвинувшихся в ходе сюжета на первый план, он свяжет с другими фамилиями (с Коршуновыми, с Михаилом Кошевым), а фигуру купца Мохова оставит в основном как социально значимый для хутора Татарского экспонат (богатый купец); линии жизни его детей, дочери Лизы и сына, также намеченные во второй части, вскоре и совсем сойдут на нет, исчезнут из романа.
— Качество, немыслимое для повествователя второй половины XIX-го века: ни для Чехова (если в первой сцене на стене висит ружье, во второй оно должно выстрелить25а), ни для Л. Толстого, с его всенепременной логикой и аргументацией связи героев и событий; ни, тем более, для Тургенева, считающего своим авторским долгом объяснять читателю и ход событий, и причины поведения героев; и даже для Достоевского, у которого «разбросанные» (по
- 274 -
видимости) в ходе повествования детали характеров героев или предметов всегда неожиданно («неожиданно» лишь по видимости) — «срабатывают».
Иногда автор строит повествование как драматург или киносценарист, одними назывными предложениями:
«Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим мхом. Впереди проволочные заграждения. В окопах холодная слякоть. Меркло блестит мокрый щит наблюдателя. В землянках редкие огни» (II, 9).
Иногда в этих предложениях передается ход времени, движение предметов:
«На путях предостерегающе трезво ревел, набирая пары, паровоз.
***
Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны несчетно!
По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь» (I, 300—301).
Такая констатация — своего рода pendant: и «телеграфному» стилю прозы 20-х годов, и — пушкинской точности и краткости в описаниях, его «иллюзии подлинного движения».26
Порою, самоустранившись внешне, автор как бы передоверяет повествование самому ходу времени, предмету или явлению, к которому подошло сюжетное развитие.
Хроникер, документалист и даже чистый публицист (там, где речь идет о политических событиях страны, ее руководителях и прочем), автор не стесняется выступить и как лирик (в сценах описания степи и других картинах природы), и как романтик.
Автор «Тихого Дона» не боится ослабить интерес читателя преждевременным сообщением о том, что случится с героем вскоре, когда-либо, или в конце его жизни (о чем речь ниже), и даже поделиться с читателем своими горькими прогнозами о судьбах героев гипотетических («Ванюшек» и «Семушек»).27
Не боится автор и разорвать повествование так называемыми «вставными» эпизодами, стоящими как бы вне фабулы, ни прямо, ни косвенно не вплетенными в романно-сюжетные линии (дневник казака, подобранный Григорием Мелеховым; молитвы, переписываемые казаками от дедушки; всевозможные истории, рассказываемые Авдеичем
- 275 -
(Брехом), Прохором Зыковым, дедом Гришакой и другие). — Черта, характерная для романов до XIX-го века, например, в «Дон Кихоте». И еще — несомненный pendant авторской «болтовне» в «Евгении Онегине» о предметах самых разных.
Неожиданно вниманием автора на целую главу (или даже несколько глав) завладевают лица абсолютно «проходные», до этого ни разу не упомянутые и после того сразу исчезающие со страниц романа (старуха с хутора Синягина, с которой приключился «детский грех»; Анисья, чей муж не вернулся с войны и чьей судьбой озабочен повествователь, и многие другие).
В то же время, автор может ничего не сказать, или сказать косвенно и бегло, устами третьего лица, о большом и значительном периоде в жизни своих главных героев. Так, о новой полосе жизни Григория (уходе от белых и переходе к красным) мы узнаем лишь из слов его ординарца, Прохора Зыкова (IV, 310—311).
Им же рассказано Аксинье и о свадьбе сестры Григория, Дуняшки, чья жизнь в последних частях «Тихого Дона» занимает далеко не второстепенное место. «— Ну, девка, и свадьба была!.. Поглядел бы Григорий Пантелевич, как сеструшку его просватали!.. За голову взялся бы! Нет, девка, шабаш! Я теперича на эти новые свадьбы не ходок» (IV, 325).
Вскользь, и от третьего лица, становится известно об отъезде Степана Астахова (в Крым на пароходе). О судьбе Гаранжи, сыгравшего немалую роль в жизни Григория, о Шамилях и других односельчанах Григория, о которых в первых частях романа было рассказано со многими подробностями, и вовсе ничего не сообщено.
Внутри той структуры повествования, которая складывается во многом на иных основах, чем романные принципы второй половины XIX-го века, автор также свободно оперирует пространственно-временными измерениями.
Так, главы вторая, третья и четвертая первой части романа подробно, чуть ли не час за часом, с раннего утра и до позднего вечера, прослеживают два дня из жизни семей Мелеховых и Астаховых.
В остальных главах всего романа мы не встретим такого подробного описания даже одного дня. Часто оно заменяется собирательными фразами, вроде следующих: «Это — днями, а ночью...»; «И еще:..»
Столь же свободен и волен автор в своем отношении к основным, главным своим героям. Он может вступить в спор с кем-либо
- 276 -
из них, не соглашаясь с его оценкой событий и своих поступков. Григорию кажется, что он «добрым казаком ушел на фронт... не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу». Но так кажется герою; автор же судит об этом иначе: «Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой» (II, 48, 47).
Страницы «Тихого Дона» полны и прямыми авторскими оценками событий и поведения героев, их поступков, мыслей.
«Вероломный и лукавый ход жизни», «слепая ненависть Григория», «бесславная война против русского народа потомков вольных казаков», «все чужое, неродное в этом скучном, пронизанном сквозняком приморском городе», «поганенькое выжиданьице» и т. д. — таковы резкие, открытые, прямые оценки автором самых разных моментов и сторон жизни и поведения героев.
Значительную структурно-содержательную нагрузку в авторском повествовании играют предвестия, предчувствия, предсказания. В них автор как бы приоткрывает герою его судьбу, которую он может изменить, а может и искалечить, или остаться к ней нейтрально-равнодушным, пассивным.
Напомним у Пушкина: «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» (VII, 144).
Поэтика своеобразных «повторов» и «предвестий» одна из важных основ шолоховской структуры образа и цельности его стиля.
Предчувствия, предсказания, предвестия у Шолохова многочисленны и разнообразны.
Это и прямое авторское предвидение, предупреждение событий. «И с этой болью ему не скоро расстаться». «Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпиным». «Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях,
- 277 -
где нашли себе приют их отцы и деды...».
Это и интуитивные ощущения героев, порою печально оправдывающиеся. «Никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро. Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра».
И в этой же сцене — совсем маленькая, как будто незначительная деталь, намекающая на будущее событие (смерть Натальи) и оправдывающая «неясные предчувствия» Григория и его «гнетушую тревогу и тоску» при отъезде — черная траурная косынка в руках Натальи, последний раз провожающей Григория. «На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку». И многое другое.
Во всех этих предчувствиях и предвестиях, важных для судеб героев и значимых для повествования, у Шолохова нет ни фатальной предопределенности, ни рокового колорита. В них жизнь как бы дает возможность герою «заглянуть» в свою собственную судьбу (а автор — читателю), подобно тому, как это было в сценах сна Татьяны в «Евгении Онегине» и других у Пушкина.
Порой в этих сценах появляется добрая авторская усмешка, чуть заметная или почти скрытая за столь же доброй усмешкой героя.
В одну из последних встреч с Аксиньей, Григорий, чувствуя на себе ее особенный взгляд, открывает глаза:
— Чего смотришь? — спрашивал Григорий.
— Хочу наглядеться досыта... Убьют тебя, сердце мне вещует.
— Ну, уж раз вещует — гляди, — улыбался Григорий.
Но предчувствие Аксиньи все же сбывается — это действительно одна из последних ее встреч с Григорием. Но сбывается, печально перепутываясь: погибает не Григорий, а Аксинья, от «непредвиденного случая, этого мгновенного, мощного орудия провидения» — от случайной шальной пули, настигшей ее тогда, когда она, счастливая, вместе с Григорием покидала хутор («Григорий снова был с нею! Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность...» — IV, 485).
Все вместе взятое говорит об авторской «свободе в ходе» повествования, свободе, которая, надо полагать, имеет в глубине себя связь более крепкую, чем логика событий и характеров героев.
- 278 -
Разумеется, отдельные черты не могли создать цельной и целостной поэтики.
Без самобытности таланта, его «самостоянья», говоря пушкинским термином, «лица необщего выраженья» — это целое состояться не могло.
Что же создает его в «Тихом Доне» Шолохова?
Забегая вперед, скажем: все «облики» повествователя — и хроникера, и лирика, и трезвого реалиста, судящего героя или переживающего за него, как и многоразличные голоса героев романа, — синтезированы в «Тихом Доне» в особенной форме несобственно-прямой речи, которая является и высшей формой повествовательного искусства романа. Среди многих голосов и мнений, в том числе и авторских, решающий голос и ведущая роль в ней принадлежит голосу высшей исторической правды; ею, в конечном счете, и создается «большой стиль» этого романа-трагедии XX-го столетия как стиль гармонический.
Разговор о гармоническом стиле применительно к «Тихому Дону» может показаться парадоксальным, если не сказать резче.
В самом деле, не кощунственно ли даже ставить вопрос о гармоническом стиле эпохального произведения XX-го века, с наибольшей силой и полнотой отразившего все его «кричащие противоречия»?
Думается, что нет. Отмеченные нами выше в художественном мире «Тихого Дона» некоторые пушкинские черты поэтики — именно приметы явления, называемого гармоническим стилем.
Отсюда, не удивительно, что стиль «Тихого Дона» — и особенно последнего его тома — поражает гармоничностью и завершенностью своих глав, каждой в отдельности и произведения в целом. — Хотя по количеству происшедших с героями событий (и по их значимости для жизни героев) он намного превосходит любой из первых трех, а, может быть, и все их вместе взятые. Здесь более всего метаний Григория: командование дивизией, потом сотней у белых; переход в Красную Армию, демобилизация, уход в банду Фомина, разрыв с ней. Здесь умирают Наталья, Дарья, Пантелей Прокофьевич, Ильинична, Аксинья; Дуняшка выходит замуж, Прохор Зыков теряет руку и т. д.
Но все эти, казалось бы, очень важные, решающие для жизни
- 279 -
героев факты проходят как бы вторым планом, — не как в первых трех томах, где каждый факт, каждое событие, гораздо менее значительное, заявляло о себе и несравнимо большим количеством страниц, и, главное, шло на первом плане, вело сюжет. Здесь же события, факты теряют свою былую абсолютную весомость, — на первый план выступают глубинные связи человека с миром, с историей, с жизнью, связи, непосредственно определяющие судьбу героя.
Независимо от того, кто из героев является перед нами, Григорий ли, Аксинья, Ильинична, Пантелей Прокофьевич и другие, и начинается ли глава авторским описанием или внутренним монологом героя, диалогом действующих лиц, развернутым образом-сравнением, — независимо от этого и от того, чем она кончается, все ее нити стягиваются к особенной форме несобственно-прямой речи.
Условно названная нами «хоровой»28 , она как бы собирает, синтезирует отдельные настроения, мысли и чувства героя в единое целое («Что ж, стара, видн, стала Аксинья...». «Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания...». «Нет, нет, Григорий положительно стал не тот». «Что ж, все произошло так, как и должно было произойти»).
В этот «хор» свободно входят и автор, и герой, и другие голоса и мнения. Он представляет собой такую живую связь всеобъемлющей формы их соединения, что трудно даже определить его составные элементы.
«Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетанье.
Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его, — как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции...
Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы... Раза три он не ответил на вопросы отца, и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки.
- 280 -
Нет, нет! Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный бьется колокольчик...» (IV, 69).
«Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?» (IV, 241).
Несомненно, это думает о себе сам герой, но не он один; очевидно, так думает и автор, и другие очевидцы, и вообще — сама жизнь: это ее суждение о человеке.
Подключение «хорового» мнения к переживаниям героя укрупняет его характер, внося в личные чувства и мысли — народный общечеловеческий опыт, и с его точки зрения объясняя и толкуя поступки и мысли героя.
«Хор» в «Тихом Доне» нередко звучит как голос социальной среды, объясняющий поведение того или иного героя в определенной обстановке самому же герою и другим, окружающим его: «А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать... В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком, да и что толку было бы от его согласия, коли этот чертов жених мотался где-то на фронте..? То же самое и с Григорием: не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на астаховский баз и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось» (IV, 124).
Иногда он не только объясняет, но и почти осуждает героя с точки зрения современной истории и политики, или, во всяком случае, разъясняет, за что он вынужден его осудить: «Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые грехи сполна?» (IV, 374).
- 281 -
Подчас в «хоре» слышится голос как бы самой человеческой природы, с грустью глядящей на человека, «потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...» (II, 188).
Словом, «хор» в «Тихом Доне» — это и голос истории, и голос природы, и голос определенной социальной среды, и народный приговор.
Он одновременно и осуждает героя, и сочувствует ему, и даже оберегает его, как, например, в последних строках романа, где сопутствующий авторскому повествованию «хор» явно встает на защиту Григория перед лицом «этого огромного, сияющего под холодным солнцем мира».
Хоровое начало вносит в повествование народное толкование, общечеловеческий и исторический опыт, в конечном итоге, точку зрения жизни в оценку событий и поступков героя (и как человека, и как героя). Оно ставит действия героя и характер его не только в ряд конкретных событий, происходящих на страницах романа, но и в ряд земной человеческой истории вообще, и в этом разрезе освещает и судит их.
Видение современной истории в ее проникновении до народных начал жизни — лежит в основе «Тихого Дона», вызывая и формируя присущую ему «хоровую форму» стиля.
Хоровым началом и создается, и определяется художественный мир романа Шолохова, начиная от мира предметного, который написан так, будто сама жизнь выпушена художником на страницы романа, и кончая миром связей и соотношений героев — друг с другом, с самим собой, природой, животным миром, словом, с жизнью.
Иногда оно сжимается до скупого обобщения — формально авторского, по существу передающего народное представление о жизни, точнее говоря, как бы взгляд самой земной жизни на жизнь человеческую.
Стекали неторопливые годы. Старое, как водится, старилось; молодое росло зеленями.
Беда в одиночку сроду не ходит...
Падко бабье сердце на жалость, на ласку...
Свои неписаные законы диктует людям жизнь...
- 282 -
Травой зарастают могилы — давностью зарастает боль.
Молодое счастье всегда незряче....
В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив.
В таком своем виде оно напоминает нам толстовские «генерализации», хотя и предельно укороченные.
Напоминает оно и пушкинские авторские афоризмы в «Евгении Онегине».
О люди, все похожи вы
На прародительницу Еву...Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей...Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел...В то же время, здесь особенно заметно различие форм повествования у Пушкина и Шолохова, характерность каждого — и личностная, и эпохальная: у Пушкина всеохватная авторская форма — всецело монологическая; у Шолохова она — хоровая.
Порою же, напротив, хоровое начало как бы растворяется в характерах и событиях, «уходя» в судьбы героев.
И тогда уже не звучит голосом истории, народа, самой жизни, а проступает как своего рода неизбежность, «судьба» данного героя.
Именно так предстает оно в описании смерти Ильиничны. В романе смерть ее представляется неизбежной, искомой ею самой: жизнь ее исчерпана, ее предназначение — жены, матери, бабушки — выполнено, на земле ей больше делать нечего: «Сама жизнь стала ей в тягость» (IV, 326).
То, что в «Тихом Доне» мы назвали хоровым началом — это художественное открытие новой формы повествования (в пополнение к двум существующим: монологической и диалогической); и не только повествования, но и видения мира, его чувствования, осознания и оценки.
Потому хоровому началу, понимаемому в самом широком смысле (как форме мышления о мире и форме его созидания, будь то мир художественный или жизненный) принадлежит, по нашему мнению,
- 283 -
одно из самых значительных мест и прав в продолжении пушкинских традиций: пальма первенства в «подхвате» и развитии пушкинских традиций пушкинским же способом — художественным открытием эпохального уровня и значения. За ним будущее еще и потому, что корнями своими оно уходит в прошлое. Шолохов, «быть может начинает новую народную прозу, скрепляя ее со старшими богатырями».
Шолоховское хоровое начало — это художественное открытие своей эпохи, совершенное, в значительной мере, на путях и принципах пушкинской гармонии и с общим «восхождением к одному и тому же источнику». Это новое качество народности художника XX-го века, как оно выразилось в его стиле: подход вплотную «к заветным границам художества всенародного».
Роман Шолохова — по-новому и на новом историческом этапе — как бы «возобновляет» и, возобновив, заново, по-своему «открывает» для новой эпохи структурные основы пушкинской художественной гармонии.
В основе пушкинской гармонии была историческая эпоха, выдвинувшая Пушкина: Отечественная война 1812-го года и прокатившаяся волна освободительных движений в Европе и России, приоткрывшая завесу над далеким будущим; в литературе и искусстве — такая же «волна» предшествующих реализму Пушкина художественных стилей и методов (классицизм и многочисленные разновидности романтизма); в самой писательской натуре Пушкина — полнота и многогранность человеческих чувств и мыслей при активной избирательной направленности на «чувства добрые» и устремленности к народному идеалу нераздельности красоты, добра и истины.
В основе шолоховской стилевой гармонии было мощное в истории освободительных движений человечества событие — Октябрьская революция и гражданская война; в литературе и искусстве — период 20-х и начала 30-х годов, тоже своего рода мощное освободительно преобразовательное движение в стиле; в писательской натуре автора «Тихого Дона» — пристрастная, избирательная направленность на выявление правдой художественной — правды исторической.
Возникая в эпоху мировых войн и революций, порождаемых тотальным разрушением прежних связей, на которых зиждилась целостность миров (художественных и жизненных), и — как следствие,
- 284 -
выход на мировую арену взаимоисключающих друг друга антитез, — хоровое начало явило собою чудо постройки нового художественного мира на нетипичных для своего века, но типичных для продолжения пушкинских традиций, основах: не разрушения, уничтожения прежних связей, а их расширения и пополнения.
———————————
1 «Ленинец», 1934, 11 октября (цит. по кн.: Якименко Л. Творчество М. А. Шолохова. М., 1977. С. 357).
2 «Известия», 1937, 31 декабря.
О том, как «Чехов влияет» на Шолохова см. в работе Н. Драгомирецкой «М. А. Шолохов и чеховские традиции». «У Шолохова с Чеховым отдаленная, но несомненная близость образов, мотивов, форм. В известном смысле можно сказать, что Шолохов, писатель XX века, выявляет и «продлевает» возможности, заложенные в методе Чехова, в открытых Чеховым формах» // Шолохов Михаил. Статьи и исследования. Издание второе, дополненное. М., 1980. С. 154.
3 Впервые приведено в указанной выше книге Л. Якименко.
4 Шолохов Михаил. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1980. Том I. С. 312—313. Далее ссылки на «Тихий Дон» и другие произведения М. А. Шолохова приводятся по этому изданию в тексте, с указанием тома — римской цифрой, страницы — арабской.
5 Кожинов В. В. Становление классического стиля в русской литературе // Теория литературных стилей. М., 1976. С. 75.
6 Там же. С. 82, 81.
7 «Первое и легчайшее достижение для дарования самобытного есть обретение своеобразной манеры и собственного, ему одному отличительно свойственного тона...
Второе достижение есть обретение художественного лица...
Манера непосредственна; стиль опосредован: он достигается преодолением тождества между личностью и творцом, — объективацией ее субъективного содержания.
Художник, в строгом смысле, и начинается только с этого мгновения, отмеченного победою стиля...
Дальнейшее и еще высшее обретение, увенчивающее художника последним венцом, — есть большой стиль...
Величие Пушкина сказалось в том, что, не довольствуясь стилем, он стремился и порою подходил к заветным границам художества всенародного...
Большой стиль и стиль, приближающийся к большому, не знает... размежевки и разделения на «твое» и «мое». Будучи всеобщим, он объемлет каждый
- 285 -
частный круг. И кроме того, он так ориентирован по отношению к общенародному сознанию, что вселенская норма представляет собою его ось и проходит через центр, совпадая, таким образом, неизбежно с осью сознания всенародного». Иванов Вяч. Манера, лицо и стиль // Иванов Вяч. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. М., Мусагет, 1916. С. 169—171. Разрядка Вячеслава Иванова.
8 Ранние пушкинские штудии Анны Ахматовой (по материалам архива П. Лукницкого) // «Вопросы литературы», 1978, № 1. С. 188.
9 Там же. С. 215 (из послесловия В. Непомнящего).
10 Виноградов В. В. Язык Пушкина. М. — Л., 1935. С. 222.
11 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. Л., 1965. С. 288.
12 Ходасевич Владислав. Поэтическое хозяйство Пушкина. Книга первая. Л., 1924. С. 3.
13 Там же. С. 21.
14 Сквозников В. Д. Границы пушкинского стиля // Теория литературных стилей. М., 1976. С. 150.
15 Напомним строки из пушкинского стихотворения «Певец»:
Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?16 Подробнее об этом см.: Кургинян М. Концепция человека в творчестве Шолохова (Нравственный аспект характеристики персонажа) // Шолохов Михаил. Статьи и исследования. М., 1975. С. 79—85.
17 Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1983. С. 229.
18 Толстой Л. ПСС (юбилейное издание). Том 4. М., 1935. С. 24.
19 Подробнее об этом см. в моих работах: К характеристике стиля «Тихого Дона» // Шолохов Михаил. Статьи и исследования. Издание второе, дополненное. М., 1980. С. 111—152; Мотивы жизни и смерти в «Тихом Доне» Шолохова // Вечные темы и образы в советской литературе. Грозный. 1989. С. 62—76.
20 «Знамя», 1946, № 3. С. 159.
21 Сквозников В. Д. Стиль Пушкина // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1965. С. 63—64.
22 Там же. С. 97.
23 Толстой А. Н. О литературе. Статьи, выступления, письма. М., 1956. С. 58, 59.
24 Цит. по статье: А. Н. Толстой о «Тихом Доне». Сообщение В. В. Гуры // Шолохов Михаил. Сб. статей. Л., 1956. С. 271.
- 286 -
25 Бочаров С. Г. Форма плана // «Вопросы литературы». 1967, № 12.
25а Из воспоминаний Вл. И. Немировича-Данченко:
«Чехов сказал:
— Публика не любит, чтобы в конце акта перед нею поставили заряженное ружье.
— Совершенно верно, — ответил я, — но надо, чтоб потом оно выстрелило, а не было просто убрано в антракте.
Кажется, впоследствии Чехов не раз повторял это выражение» // Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 368.
26 «Скорость перечисления, выработанная Пушкиным, особенно в прозе и «Евгении Онегине» (таков прославленный въезд Лариных в Москву — иллюзия подлинного движения от окраины к центру, — подобного которому литература, вероятно, не знает), оказывается содержательным поэтическим приемом, воссоздающим многообразие жизни, ее явлений, их динамики на самом ограниченном поле». Сквозников В. Д. Стиль Пушкина // Теория литературы. М., 1965. С. 92.
27 «И до тех пор «куженок» смотрит на окружающий его мир войны изумленным, птичьим взглядом, до тех пор подымает голову и высматривает из окопчика, сгорая от любопытства, пытаясь рассмотреть «красных», пока не щелкнет его красноармейская пуля. Ежели — насмерть, вытянется такой шестнадцатилетний «воин», и ни за что не дашь ему его коротеньких шестнадцати лет. Лежит этакое большое дитя с мальчишески крупными руками, с оттопыренными ушами и зачатком кадыка на тонкой, невозмужалой шее. Отвезут его на родной хутор схоронить на могилках, где его деды и прадеды истлели, встретит его мать, всплеснув руками, и долго будет голосить по мертвому, рвать из седой головы космы волос. А потом, когда похоронят и засохнет глина на могилке, станет, состарившаяся, пригнутая к земле материнским неусыпным горем, ходить в церковь, поминать своего «убиенного» Ванюшку либо Семушку.
Доведется же так, что не до смерти кусанет пуля какого-нибудь Ванюшку или Семушку, — тут только познает он нещадную суровость войны. Дрогнут у него обметанные темным пухом губы, покривятся. Крикнет «воин» заячьим, похожим на детский, криком: «Родимая моя мамунюшка!» — и дробные слезы сыпанут у него из глаз. Будет санитарная бричка потряхивать его на бездорожных ухабах, бередить рану. Будет бывалый сотенный фельдшер промывать пулевой или осколочный надрез и, посмеиваясь, утешать, как дитятю...
Но ежели заживет рана и снова попадет он в сотню, то уж тут-то научится окончательно понимать войну. Неделю-две пробудет в строю, в боях и стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая в сторону, подражая какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать ломающимся баском:
- 287 -
— Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты ить, небось, коммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество, — «казацкую лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на донской земле, воюя за Советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн. И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын «погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и капиталистов...» — запричитает, заплачет... Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной Донщине...» (III, 291—293).
28 См.: Киселева Л. Ф. О стиле Шолохова // Теория литературы. М., 1965. С. 176—180.
- 288 -
Глава четвертая
ПУШКИНСКИЕ ИДЕАЛЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗАМЫСЛАХ ФАДЕЕВАПУШКИНСКИЕ РЕАЛИИ
В «МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ» БУЛГАКОВА
Александр Фадеев.
21 апреля 1935 года Фадеев делает в дневнике запись:
«Прочел «Повести Белкина».
Исключительно хорошо по языку — просто, экономно, прозрачно. Но мало мысли. Именно — не ума, а мысли. Родственно Мериме...».1
Спустя девять лет он уточнит и конкретизирует прежнюю запись. «Она (проза Пушкина. — Л. К.) обаятельна своей простотой, краткостью, выразительностью мысли. Она умна. Но в ней нет господствующей мысли. Это особенно видно, когда знакомишься с отрывками неоконченных вещей, — слишком разбросанный интерес, «без царя в голове», при исключительной наблюдательности, искусстве деталей и блеске отдельных замечаний» (5, 232).2
Поправка — существенная. Фадеев говорит теперь не об отсутствии мысли в прозе Пушкина (напротив, она «обаятельна выразительностью мысли»), а об отсутствии «господствующей мысли» («слишком разбросанном интересе» при «исключительной наблюдательности, искусстве деталей и блеске отдельных замечаний»).
Напомним, что веком ранее Л. Толстым в дневнике 1853 года была сделана такая запись:
«Я читал «Капитанскую дочку» и, увы! должен сознаться, что
- 289 -
теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то...».3
Некоторая общность в восприятии прозы Пушкина молодым Толстым и зрелым Фадеевым (при определенном различии: для одного она «гола как-то», для другого — «в ней нет господствующей мысли») объясняется острым ощущением каждого из них иного «интереса» в «новом направлении» литературы своего времени.
Для Толстого — это становление психологизма на многие десятилетия как тотального, общего для литературы явления («интерес подробностей чувства», который заменит прежний «интерес самых событий»).
Для Фадеева — необходимость большей обобщенности (для содержания — «господствующей мысли», для стиля — «синтетичности»).
Говоря о «недостатке» в современной литературе «большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли» («а между тем крупнейшие произведения художников прошлого отличались почти физической силой мышления» — 4, 194), Фадеев прообразом своей мечты считает искусство эпохи Возрождения, «особенно скульптуру и живопись, где большое содержание дано монументально, целостно».
Вторая половина 30-х годов — время, когда в русской отечественной литературе остро ощущается и активно проявляется тенденция, которую Фадеев обозначит как поиски синтетической формы (стремление выразить «большое содержание» — «всеобъемлющую, всечеловеческую мысль» — «в целостной, обобщенной форме»).
«Мне кажется, что у нас сейчас целый ряд советских писателей подошел к тому, чтобы шагнуть на очень большую высоту обобщения, типизации, но сил пока не хватает...
...забивают детали, образы героев не перерастают в типические, расползаются...
Это... испытывают многие...
...В нашей литературе сейчас много прекрасных деталей, но мало синтеза» (4, 137).
В лучших своих вариантах тенденция к синтезу воплотится в крупнейших произведениях «большого стиля» («Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита»), а позднее — в
- 290 -
«Докторе Живаго» Б. Пастернака, «Пирамиде» Л. Леонова (в худших — породит на несколько десятилетий целую серию романов-лжеэпопей).
В зрелые годы творчества, уже будучи автором «Войны и мира», Л. Толстой станет говорить о необходимости «изучать и изучать» прозу Пушкина, с ее «соразмерностью и сообразностью», где «гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства».
А к концу жизни, уже «по сути завершив свою деятельность величайшего прозаика нового времени, Толстой... утверждает, что «лучше всего у Пушкина его проза». И то, что прежде Толстым воспринималось как «голость» в прозе Пушкина, теперь, напротив, предстанет перед ним как крайне необходимая «бодрость, ясность, незапутанность».4
У Фадеева, подобно Толстому, отношение к прозе Пушкина и ее понимание существенно менялось, углубляясь с годами, с поворотами в собственном творчестве и в литературном процессе (при смене «интереса» в «новом направлении»).
Развивая мысль о необходимости для современного искусства «большого исторического синтеза», Фадеев значительно расширяет свое понимание «синтеза» в литературе (вводя в это понятие не только «многосторонность», но и «целостность»). А в плеяду художников «искусства больших обобщений» включает теперь не одних представителей европейского Возрождения: «Шекспир, Гете, Бальзак, Пушкин, Свифт, Данте, Толстой, в наше время Горький потому так высоко стоят над общим уровнем литературы, что их искусство — искусство большого исторического синтеза» (4, 143—144).
И тут же — как это было присуще и его натуре, и его положению руководителя Союза писателей, принимающего на себя ответственность за общий ход литературного движения, — он преломляет свои мысли к современному литературному процессу: «Задача синтеза стоит как важнейшая и перед искусством эпохи социализма (4, 144).
А о себе скажет так: «Что касается моей собственной литературной работы, то я уже, очевидно, никогда не смогу изменить свою манеру, отправляющуюся от бытовой детали, но в этом смысле хотелось бы достичь большей экономности, лаконичности, фигурально
- 291 -
выражаясь — отойти от прозы «толстовского типа» к прозе «пушкинского типа» (4, 138).
И в 50-е годы, в несколько иных выражениях, он повторит ту же мысль.
«Лично у меня смолоду выработалась привычка к довольно усложненной фразе — условно говоря, «толстовского» типа, — пишет А. Фадеев А. Упиту 18 ноября 1953 года. — Я часто жалею о том, что моя литературная «походка» так мало родственна соответственной «походке» Тургенева (я имею в виду только стиль) или Пушкина в прозе. И когда мне приходится беседовать на эту тему с молодежью, я всегда рекомендую им в качестве образцов в области стиля... — Пушкина, Тургенева, Чехова. Об этом я неоднократно высказывался и в печати» (5, 480—481).
Сожаление Фадеева о «выработавшейся смолоду привычке к довольно усложненной фразе» и его рекомендация «в качестве образцов стиля» писателей фразы простой, прозрачной, экономной, — весьма сродни признанию Пушкина в письме к Вяземскому о силе над писателем привычки («Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе» (8, 48). О власти привычки над человеком говорят и строки из «Евгения Онегина»: «Привычка свыше нам дана: / Замена счастию она»).
Заметим, однако, что «привычка к усложненной фразе», «условно говоря, «толстовского типа», не сразу установилась у Фадеева. Она стала укореняться в процессе работы над вторым его крупным произведениям, романом «Последний из удэге», когда писатель переходил от замысла к реальному его воплощению.
Первый роман писателя «Разгром» (1927 г.), удивительно дружно одобренный критиками самых разных и противоположных групп и направлений и принесший ему, можно сказать, мировую известность5, при наличии «следов» от многих и разных творческих манер (и прошлого, и современности) — произведение, между тем, удивительное по цельности стиля, «гармонической правильности распределения предметов» (в данном случае, образов героев и событий), их «соразмерности и сообразности», хотя создавался он без всякой «проекции» или «ориентации» на прозу Пушкина.
- 292 -
Маленькое произведение отличается поразительной выверенностью и внутренней согласованностью своих художественных компонентов, начиная от характеров героев, развития фабулы, сюжета, плана композиции, кончая стилем и языком. Исследователи обращали внимание на закономерное чередование в нем глав по героям, на последовательную смену психологизма — действием, сцен эпических — драматическими и т. п. Да и сам автор, хотя и называл впоследствии свой первый роман «камерным» произведением, но, сравнивая его с «Удэге», где «при общем углублении... много психологических излишеств», считал, что «Разгром» в этом отношении был идеален — там почти все соподчинено основным социально-индивидуальным характеристикам — основной идее».6
И композицией, и сюжетом — их складыванием и ходом — «руководил» в «Разгроме» авторский идеал. Он художественно заявлял о себе весьма реалистически и вполне конкретно: образом нового человека как цельной, гармонической, духовно богатой и физически привлекательной личности человека. И заявлял в своеобразной форме разделенно-согласованного единства: человеческого разума (именно разума, а не голого рассудка), значительно опережающего свое время (Левинсон с его «нездешними глазами»); физической силы и внешней красоты как результата естественной цельности натуры (Бакланов, Гончаренко, Дубов); народного мировосприятия, преимущественно чувствами, освобождающимися от дурных привычек, низменных инстинктов, хаотической бессознательности (Морозка).
Художественная гармония романа, рождающаяся, в первую очередь, от авторского идеала, авторских представлений о гармонии социальных сил и мечты о новой, цельной, гармонической личности, создает в нем новый тип художественной диалектики: не раздваивающей характер (как мы привыкли наблюдать в реалистической классике второй половины XIX-го века), а скрепляющей, цементирующей, «синтезирующей» его.
И каждый элемент художественности, будь то черта характера героя, или момент сюжетного развития романа, несет в себе эту живую форму диалектики современного синтеза, создавая очень разные, интересные и неожиданные позиции героев в композиции произведения, своеобразную «парность» образов по контрастному сходству (своего рода современная форма pendant,а к пушкинской «гармонии контрастов»).
- 293 -
Так, шахтер Морозка, с его презрением к «мужику» и деревне («Не люблю я их, мужиков, душа не лежит... кровь другая: скупые, хитрые они...» — 1, 96) и гордостью за свое «угольное племя», в мечтах о «земле обетованной» помещает себя фактически — в мир деревни, в мужицкий быт («...он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и солнцем» — 1, 140). Тот же Морозка, привыкший жить стихией чувств, поступать бездумно, бессознательно, в ответственных ситуациях вдруг действует совсем как Левинсон (на переправе останавливает панику; в дозоре, обнаружив засаду, ценой жизни предупреждает отряд об опасности). А слабый физически и сильный трезвым умом Левинсон в ситуации экстремальной способен на почти безрассудный поступок — гатить непроходимое болото, когда враг наступает буквально «на пятки», и действует при этом как герой романтический (с факелом в руках выводит отряд из болота). И он же, не склонный к эмоциям, привыкший скрывать свои слабости перед подопечными, плачет на глазах отряда, когда видит, что потерял большую и лучшую его часть; но тут же, вслед, переходит к трезвой оценке случившегося, ибо «нужно было жить и исполнять свои обязанности».
Автор «Разгрома» полностью «свободен в ходе» своего произведения. Свободен он и в плане «допуска», «разрешения» войти в произведение, близящееся уже к финалу, лицу, нужному совсем не для сюжета романа, а для реального воплощения в нем авторского идеала. Так, «вдруг», неожиданно для самого писателя, вырастает в фигуру одного из главных героев романа лицо, намеченное первоначально «как самая десятистепененая фигура одного из взводных командиров». «Я не мог писать дальше... по плану, задуманному мною, получалось нехорошо»; потребовался новый образ «для полноты изображения идеального характера» (4, 106).
Свободен автор «Разгрома» и в проявлении авторских чувств. Об этом свидетельствует, в частности, фраза, вдруг «вклинившаяся» в размышления Левинсона в сцене ночной проверки им караула. «Он шел, уже не разбирая дороги, и холодные росистые ветви освежали его лицо, он чувствовал прилив каких-то необыкновенных
- 294 -
сил, как бы вздымавших его над родимой оболочкой (не к новому ли человеку, которого он жаждал всеми силами души?)...» (курсив мой. — Л. К.).7
Слова эти — явно авторские (так называемое авторское лирическое отступление). Но они весьма уместны как эмоционально-лирический «вывод» автора за героя, не склонного к такого рода выражениям (в «Молодой гвардии» это станет уже определенным содержательно-структурным приемом, «вторым планом» в своем роде; иначе говоря, ретроспективной параллелью от дня прошедшего — авторской юности — к чувствам, мыслям и деяниям поколения дня настоящего).
Первый роман Фадеева остается тем произведением, в котором классически выразился художественный идеал нового человека и новых человеческих взаимоотношений, и выразился не как прагматическая или утопическая модель, а как состоявшаяся в художественном мире романа возможность.
Ситуация связи мира художественного, создаваемого писателем в проекции на свой идеал, с миром реальным, с действительностью, оказалась близка той, в которой находился Пушкин.
Разумеется, мы имеем в виду лишь похожесть ситуации связи и соотношения произведения с жизнью, но ни в коей мере не «похожесть» талантов (как по самим поэтическим качествам натуры, так, конечно же, и по силе очарования). Повторить Пушкина, его поэтическую натуру и созданный им художественный мир — невозможно, да и не нужно. Бог в мире искусства так же неповторим, как и в мире земной жизни.
С такой, надеюсь, правильно понятой оговоркой, думаю, не будет кощунственным для лучшего объяснения своей мысли (о Фадееве) выразить ее продуманными и хорошо сказанными словами (о Пушкине) одного из наших глубоких ценителей и тонких исследователей отечественной литературы в целом и Пушкина в частности (да простит он меня!). Это позволит дополнительно ощутить не единожды бывавшую (и могущую еще не раз повториться в развитии отечественной литературы на ее разных исторических этапах) отдаленную схожесть ситуаций различных ее художников. Схожесть ситуаций, которая порождает и схожесть художественных задач и путей в их решении.
- 295 -
По мысли исследователя, пушкинское творчество «обнаруживает особенность, которая на последующих исторических этапах литературы XIX-го века уже не играет столь заметной роли: Пушкин утверждает свой идеал гармонического человека и гармонически слаженной жизни, свое устремление к этому идеалу не только содержанием (тема, проблематика и т. п.), но и непосредственно самим стилем».
У писателей второй половины XIX-го века стиль уже «выступает посредником, часто внешней формой, более нейтрально «облекающей» содержание»: «для Гоголя, Достоевского, Толстого — стиль не был уже столь ответственной сферой воплощения гуманистического идеала; на первый план выдвигалось психологическое раскрытие характера или социально заостренное описание быта».
«А пушкинский метод во многом как бы доверяет именно стилю раскрытие больших содержательных задач».
Такое положение объясняется тем, что «пушкинская эпоха еще не обнаружила кричащей нестерпимости тех запутанных противоречий, которые с особенной силой сказались в русской действительности второй половины XIX-го в. Эти противоречия тогда еще не определились как особый предмет художественного исследования». Потому пушкинские противоречия — «просты и четки».
«Художественное открытие глубочайшего социального антагонизма жизни, как известно, — заслуга критического реализма, «натуральной школы» Гоголя и Белинского».8
«Однако момент известного исторически обусловленного «незнания» играл и некоторую положительную роль в формировании тех совершенных художественных «миров», в которых Пушкиным достигнута правда жизни в ее сокровенных, «чистых» тонах, в которых выражена жажда гармонической красоты человеческого существования и даны вечные образцы той в конечном счете достижимой гармонии».
Говоря, что в мировосприятии Пушкина «еще не было разрыва между идеалом «всеобщего братства» и ощущением слабости отдельной личности, «одинокости», как у Лермонтова»; что художественный мир поэта «еще не раздирается той неутихающей болью по поводу распавшихся сторон жизни, которой искажено лицо музы Некрасова», исследователь напоминает высказывание А. И. Герцена: видя противоречия русской действительности и не сглаживая их,
- 296 -
Пушкин «еще не смущается ими», и хотя «ему были ведомы все страдания цивилизованного человека», «он обладает инстинктивной верой» в конечную правоту хода истории».9
Вышесказанное бросает свет и на творческую судьбу Фадеева, многое проясняя в ней.
В период создания «Разгрома» Фадеев, «видя противоречия русской действительности» (советского периода) и не сглаживая их, «еще не смущался ими»; и хотя ему «были ведомы все страдания цивилизованного человека» (о чем говорит ряд сцен романа, когда любимые герои писателя вынуждены поступать вопреки своей натуре), «он обладал инстинктивной верой» в конечную правоту хода истории».
«Смущаться» противоречиями» Фадеев начал с периода работы над «Последним из удэге». Со времени, когда его новый масштабный план-замысел («всеобъемлющая, всечеловеческая мысль», говоря словами автора), который должен был показать и утвердить «конечную правоту хода истории» (то есть, установление нового, справедливого строя, мира гармонических отношений «свободы, равенства и братства»), не смог обретать (если сказать точнее, противодействовал обретению) желаемого, искомого автором, необходимого ему для столь грандиозного замысла «синтетического стиля», несмотря на его гигантские усилия в этом направлении.
Для Фадеева-писателя новая историческая задача тоже решалась прежде всего — стилем, именно — стилем, точнее, поисками «синтетического стиля», который — по его мысли — и мог, и должен был соответствовать эпохе и посредством которого художник и желал, и надеялся воплотить свой замысел.
А именно: «сомкнуть позавчерашний и завтрашний день человечества» в дне настоящем, — «эта тема на всю жизнь осталась предметом вдохновения для Саши» (Ю. Либединский).10 Иными словами, через разные людские судьбы в период гражданской войны на Дальнем Востоке, героев, принадлежащих к различным общественно-экономическим укладам (доклассовому, классовому, а в будущем бесклассовому) — дать историю человечества как бы в разрезе и, одновременно, в зримой и достижимой перспективе — справедливого устройства человеческого общества, с утверждением в нем давних, многовековых общечеловеческих идеалов.
- 297 -
Устремление к «новому человеку» и новому миру, образу гармонического человека и гуманистическому мироустройству выступало у Фадеева как художественная задача его творчества (а в его деятельности сначала как партийного работника, затем как руководителя Союза писателей она выступала, соответственно, как задача сначала политическая, потом общелитературная).
Но при ее художественном решении в «Последнем из удэге» «позавчерашний и завтрашний день человечества» не столько «сомкнулись», сколько столкнулись — и в идее, и в структуре, и в стиле. (А при реализации в политической и литературно-общественной деятельности натолкнулись на такие внешние препятствия и внутренние «рифы», которые, говоря словами Маяковского, «разбили» о реальность фадеевскую «лодку» с несомыми ею идеалами. Об этом говорит предсмертное письмо писателя, которое сочли возможным обнародовать спустя лишь сорок лет после его смерти).
Незаконченный роман Фадеева, над которым автор работал многие годы, считая его «главной книгой», «любимым произведением», со всей пронзительностью запечатлел в своей поэтике глобальную трагическую ситуацию советской действительности и советского искусства, все резче обнаруживающую себя с годами: нарастание непоправимого разрыва между мечтой и действительностью. Между устремлением Фадеева как художника и человека к наилучшему социальному устройству общества и к личности гармонического человека и — невозможностью этого осуществления, по крайней мере, в то время и теми средствами, что имелись в арсенале как многовековой истории человечества, так и истории искусства слова.
«Последний из удэге» был начат писателем в форме жизнеподобия, детализации, подробнейшего психологического анализа чувств и дум героев, словом, в стиле и духе прозы «толстовского типа»; он начат был и продолжен «толстовской походкой» (первая и вторая части).
Сам же писатель не был доволен этой излишней конкретизацией и психологизмом. Ему казалось, что они отвлекают от масштабности его замысла. «В «Последнем из удэге» мне хотелось взять большую идею, сделать нечто синтетическое, но работа идет туго, медленно: забивают детали, образы героев не перерастают в типические, расползаются...» (4, 137); «при общем углублении» в характеры героев
- 298 -
появляется «много психологических излишеств», а «психологизм сам по себе — это, вообще говоря, скука» (VII, 44, 45).
Снимая или сжимая многочисленные описания чувств и размышлений героев («психологические излишества»), Фадеев оставляет, большей частью, лишь факт, анализ переводит в синтез, субъективное состояние героя выводит в объективное, показывая, как выглядел тот в момент переживаний и предоставляя читателю возможность самому по ним догадываться о глубине и полноте чувств и мыслей героя.
Интересно, что в период наступившего в результате всех этих сложностей почти двухлетнего перерыва в работе над романом (1933—1934 гг.) Фадеев, можно сказать, «живет» в атмосфере и материале пушкинского творчества.
Прибыв с делегацией писателей на Дальний Восток и надолго оставшись там, он пишет С. М. Эйзенштейну: «Вчера Павленко уехал в Москву, а я рассердился и решил не уезжать отсюда, пока не добью до конца «Последний из удэге», если для этого потребуется даже больше года...
...Моя личная жизнь прекрасно изображена Пушкиным: «Онегин жил анахоретом»... Живу я на 19-й версте под Владивостоком, в громадной и теплой даче — совершенно один. Так расписался, что больше ничем и заниматься не хочется. Возможно, пишу плохо, но такие вещи выясняются впоследствии» (16 января 1935 года. — 5, 327—328).
20 мая 1935 года Фадеев пишет П. А. Павленко: «При всем одиночестве, которое я испытываю, изменить перспективу своего бытия я не собираюсь, да и не могу: и по работе как-то так лучше выходит, да уже и привык я (даже к одиночеству)... Закончил я третью часть «Удэге» (худо-бедно, а десять листов все-таки) и, благословясь, кряхтя и стеная, принялся за четвертую».
Коснувшись далее некоторых моментов своей прошлой личной жизни, бытовых обстоятельств жизни настоящей, а также приморской природы и погоды («Приморская весна уже закончилась, и наступило типичное здешнее лето: туманы, ветры, дожди... Правда, и здесь, при плохой погоде, много прелести — такая буйная прет листва и трава, и море шумит, шумит...»), Фадеев заканчивает письмо пушкинским восьмистишием из «Цыган», не делая никаких
- 299 -
дополнительных пояснений. Видимо, оно выражает его теперешнее настроение и состояние (связанное и с обстоятельствами порушенной личной жизни, и с бытом и нравами людей в этом родном для него с детства крае):
Но счастья нет и между вами,
Природы вольные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет...(VII, 94)11
Вынужденный по служебным писательским делам не раз прерывать свою творческую работу, Фадеев, вновь вернувшись к ней, сообщает Э. И. Шуб: «...в основном, я уже теперь пишу. Первое время не писалось никак. Не то поездка в Чехословакию и последующая московская суетня выбили из колеи, не то просто устал. В связи с этим и настроение было отвратительное. Сейчас все более или менее «наоборот»... Что ты читаешь сейчас? Весь твой Бальзак с надписями из Пушкина со мной» (20 декабря 1935 года. — 5, 336).12
А в конце февраля 1936 года, в письме к ней же, работающей над фильмом о Пушкине, объясняется, не без шутливости, строками пушкинского стихотворения лицейского периода: «Очень жалею, что... не могу прислать тебе роз! В середине февраля прошли морозы и снег: последние розы поблекли и погибли... «Увяла роза, дитя зари; не говори — так вянет младость...». И сообщив, что не сможет приехать раньше конца марта — начала апреля, просит прислать ему сценарий о Пушкине: «я сделаю ему полный разбор по своему усмотрению и по своей совести. Очень желал бы тебе большого успеха» (VII, 102—103).
Объясняя (ей же) в следующем письме долгое свое молчание («я все гоню и гоню вперед четвертую часть и совершенно осатанел от работы... а конца части все не вижу, хотя кажется — вот-вот») и плохое настроение из-за пребывания в это время на Кавказе с делегацией писателей («Я уже не могу дольше сидеть здесь (в отличие
- 300 -
от дальневосточной — здешняя жизнь моя, если бы не писания, совершенно бессмысленна»), Фадеев делится впечатлением от книги Ю. Тынянова о Пушкине (вышедших первых двух ее частей).
«С огромным трудом и скукой осилил тыняновского Пушкина. Не потому, что плохо написано — написано хорошо, а потому, что нет пока что в романе движущего противоречия, все описательно-статично, однообразно-иронический тон, и даже в языке есть какая-то одноообразная назойливая ритмичность (хотя язык как будто не плох — в меру архаичен и в меру прост). А главное, когда прочел — понял, что все это уже давно известно.
Но много хорошего и даже прекрасного: Василий Львович и Сергей Львович — это очень тонкая работа, поразительно чувствуется, что они разные и братья; старик Аннибал. Много конкретно-осязаемого, бытового, что в применении к историческому роману является безусловным достоинством. Не плох был Сперанский, пока читал, а сейчас, когда роман отодвинулся, толстовский Сперанский заслоняет, а тыняновского не вижу.
В отношении самого Пушкина: только в главе «Лицей» начинает чувствоваться характер, а в «Детстве» — нет. Это не хорошо. Это главный недостаток. Дети вообще имеют индивидуальное лицо, а гениальные дети особенно».
Этот весьма детальный критический разбор сочинения своего собрата по профессии Фадеев, как было присуще его натуре порядочного и самокритичного человека, кончает так: «Но в общем это вещь, конечно, значительная и вся, очевидно, еще впереди. Что же касается скуки, то я сам ею грешу» (7 апреля 1936 года. — VII, 104—105).
А завершает «пушкинскую тему» своего письма он почти лирическим отступлением, вкрапливая в него пушкинскую цитату элегического тона: «Что с вашим Пушкиным? Здорова ли ты, друг мой? Так хотелось бы повидать тебя. Когда подумаю, что раньше середины мая, очевидно, не кончу (несмотря на то, что конец давно уже казался «так близко, так возможно!») — волосы седеют и крупные коровьи слезы капают в пивную кружку» (VII, 105).
Результатом работы и жизни Фадеева на Дальнем Востоке «анахоретом» явились две последующие части «Удэге», третья и четвертая.
- 301 -
«Превосходно и хоть сейчас в хрестоматию», — писала об отдельных сценах и образах третьей части «Удэге» М. Шагинян.13
И действительно, ряд картин и сцен, многие портреты героев и пейзажи третьей и четвертой частей романа Фадеева получились истинно классичны в своем выразительном лаконизме и прозрачности (в том числе, и лаконичном психологизме).
В них примечательна почти «пушкинская» краткость — сравнительно с «толстовскими» длиннотами в первых частях романа, где портрет героя, вырастая из детальнейшего и разветвленнейшего психологического анализа, порой тянулся на целую главу, как и картины природы, даваемые через их переживание героем.14
Не менее примечательно развившееся в «Последнем из удэге» (сравнительно с «Разгромом») лирическое начало, которое, правда, от автора переходит здесь больше к героям.
В том, что лирическое начало у Фадеева выявилось в этот период (а в последующий весьма широко реализовалось в его творчестве), кроме жизненно-творческих обстоятельств сыграл роль, по всей видимости, и Пушкин.
В дни, когда отмечалось столетие со дня смерти великого поэта, Фадеев выступает в «Литературной газете» со статьей под заглавием «Светлый разум» (10 февраля 1937 года).15
И этим определением своим (вот уж поистине «обобщенно синтетическим», при том, что и очень «точным, прозрачным и лаконичным»), и всем последующим разъяснением своего отношения и понимания Пушкина — и для себя лично, и для литературы, русской и мировой, и для каждого читателя, — Фадеев выразит не столько юбилейно официальное, сколько любовно эмоциональное, крайне подкупающее в своем откровении чувствование и понимание: чем очаровывает Пушкин, чем он близок каждой человеческой натуре и потому вечен и общечеловечен.
«Я думаю, не будет претенциозностью сказать, что я всю жизнь любил Пушкина, тем более если я оговорюсь, что большую часть своей жизни я любил Пушкина не полного, то есть не настоящего, и любил его в достаточной степени неосмысленно.
Писателей-моралистов, то есть писателей, рассматривающих мысли, дела и чувства людей с точки зрения «хорошего» или «дурного», таких писателей, как Диккенс, Толстой (а немного позже для меня и Стендаль), я научился понимать довольно рано, и особенно тогда,
- 302 -
когда мне стало уже доступно историческое, социальное понимание моральных вопросов. А Пушкин, несмотря на кажущуюся его простоту, долгое время был для меня недоступен...
В детстве, например, я очень любил сказки Пушкина, но я любил их просто за то, что это хорошие детские сказки. В отрочестве я увлекался «Полтавой», «Капитанской дочкой», «Дубровским» и отчасти «Борисом Годуновым», но, как я теперь понимаю, увлекался только элементами героического в них.
В юности мне открылся «Евгений Онегин» и на всю жизнь стал для меня одним из самых любимых произведений мировой литературы. Но, как я теперь понимаю, «Евгений Онегин» пленил меня тем же, чем пленяли произведения Толстого: здесь мысли, дела и чувства людей также рассматриваются с точки зрения «хорошего» и «дурного».
Позже всего открылась мне лирика Пушкина. Она помогла мне по-новому осмыслить и все его творчество...» (4, 179).
Не без иронии по отношении к себе и возрастающего преклонения перед Пушкиным Фадеев добавляет: «хотя, конечно, я не настолько стар, чтобы утверждать, что постиг Пушкина до конца» (4, 179).
«Что же пленило меня в лирике Пушкина? Это — полная свобода, естественность выражения всех человеческих эмоций, всего многообразия мыслей и чувств человека и утверждение их, этих чувств и мыслей, как совершенно естественных, закономерных и правомерных проявлений человеческого духа. Пушкин мало анализирует — хорошо это переживание или дурно. Даже когда его грызет раскаяние, он «не смывает печальных строк». Он утверждает все как ценное и законное. Характерно, что Толстой, любимым стихотворением которого было «Воспоминание» (я использую здесь еще не опубликованную работу т. Дурылина «Чтецы Пушкина», — пусть он извинит меня), читал последнюю строку так:
Но строк постыдных не смываю...
Между тем у Пушкина сказано «печальных». Потому что само раскаяние, даже отвращение к прошлому было для Пушкина важно как естественное, человеческое переживание. Этого было достаточно, чтобы поделиться с человечеством» (4, 180).
Фадеев заключает: «На лирической палитре Пушкина свободно
- 303 -
умещались большие политические страсти и самые интимные и тонкие личные переживания.
И никогда нет ощущения, что это создано разными людьми: всегда это он — великий, цельный Пушкин» (4, 181).
Как видим, к этому времени Фадеев начинает ценить Пушкина не только за его стилевую «походку», «краткость, точность, прозрачность» его слога, но и за «полную свободу выражения всех человеческих эмоций, всего многообразия мыслей и чувств человека и утверждение их как совершенно естественных, закономерных и правомерных проявлений человеческого духа».
Он начинает остро ощущать цельность поэтической натуры Пушкина, особенно в связи с трудностями, которые испытывает в работе над «Удэге».
«Очень трудно писать, когда уже стал «искушенным»... трудно потому, что на более высшей зрелой основе надо приобрести бесстрашие (в мыслях, чувствах) юности, снова — на почве ума и знания — найти какую-то наивность» (VII, 109). — Так начинает свою откровенно-беспощадную исповедь Фадеев в письме к П. А. Павленко (24 октября 1936 года). Явившись своего рода прелюдией к статье «Светлый разум», письмо это предваряет и смысл ее, и тон.
Свое «творческое поведение» Фадеев анализирует на примере поведения жизненного. «Когда я почти мальчишкой пошел на фронт, я совершенно непосредственно и до конца ничего не боялся — до первого боя. Если продолжать образ до конца, я уже до первого боя начал свою военную биографию и начал прекрасно, — меня в пример ставили».
Но первый же бой, говорит Фадеев, произвел на него «ужасное впечатление». «Только самолюбие помогло мне не показать другим, что я просто до ужаса испуган. И началось долгое «дранманже», как говорят почтово-телеграфные чиновники, пока, в силу привычки (а в нашем деле — профессионального навыка), а главное в силу приобретенной мудрости, что ли, и постоянных усилий воли — не появилось новое отношение к себе, к смерти и революции...».
Переходя к «поведению творческому», к работе над «Последним из удэге», писатель считает, что здесь он находится пока еще «на середине пути»: «От юности («Разгрома») ушел, «навыки» приобретаю, приближаюсь к какой-то самой большой и важной ясности,
- 304 -
но что-то еще тормозит, пугает, сковывает, и то вырвешься на подлинную, как кажется, высоту, то вдруг чувствуешь себя немым» (VII, 109).
«Я абсолютно уверен, что и для тебя, и для меня... не только дело в знании жизни, — ведь мы чертовски много видели и знаем! — а все дело в подлинном правдивом выражении своих мыслей и чувств от самых высоких до самых низменных, — и здесь мы не достигли еще «бесстрашия», здесь что-то нас еще пугает и сковывает».
«А перечитай сейчас Маяковского! И ни черта он не «наступал на горло собственной песне»!.. Наоборот, — когда прочтешь его с начала до конца — что я недавно и сделал, — благоговейно снимешь шляпу... Потому что это — правда о нас, о революции, о времени, о коммунизме».
«В этом смысле лучшим поэтом мира был Пушкин. Ни Шекспир, ни Гете, ни Байрон, как они ни велики, не достигали такой предельной искренности, простоты и многообразия чувств и мыслей. Человек сумел даже половой акт написать откровенно и целомудренно («О нет, не дорожу мятежным наслажденьем...»16) В нем умещались —
И с отвращением, читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю...И —
Что смолкнул веселия глас!..
....................
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори......Я мог бы писать об этом в письме бесконечно. Но в романе я еще не достиг этого» (VII, 110—111).
Желание изменить собственную «походку», перейти «от прозы толстовского типа» «к прозе пушкинского типа», как и полная естественность в проявлении чувств и переживаний («утверждение их как совершенно естественных и правомерных проявлений человеческого духа») — Фадееву-писателю в его собственном творчестве давалось нелегко.
- 305 -
Страница рукописи письма А. А. Фадеева П. А. Павленко.
РГАЛИ. Ф. 2199, оп. 3, ед. хр. 181, л. 20.
- 306 -
Нелегко в значительной мере и потому, что, как он сам, видимо, понимал, традиция «писателей-моралистов» («Что дурно, что хорошо? Что нужно любить, что ненавидеть?»), которая и вызывала соответственный стиль, — являлась для него не просто традицией в это время, но и вторым, внутренним планом замысла его романа.
Характеры героев, образы природы, описания событий действительно выливались в «Последнем из удэге» в классически завершенные («хоть сейчас в хрестоматию»). Но они — в отличие от пушкинских, где в портрете или пейзаже уже совершался «свободный ход» сюжета, — замыкались каждый в себе, плохо поддаваясь общему движению сюжета и искомому Фадеевым стилевому синтезу.
Писатель думал строить роман с главной движущей идеей — историей человечества в разрезе и перспективе — и в форме «синтетической» («сомкнуть позавчерашний и завтрашний день человечества» в сегодняшнем). Замысел же реально выливался в серию отдельных романов об отдельных героях, выполненных каждый в своем стиле (жизнеподобном, на бытовой основе — в частях первой и второй; почти условном — в сценах видения мира Леной Костенецкой; романтическом — в третьей части, образах Алеши Маленького и Петра Суркова).
Для объединения героев и событий в началах и концах частей и глав Фадеев применяет «скрепы»: и толстовские, причинно-соединительные («В тот самый день», «В то время, как», «Так начинался день, когда»), и общепринятые (многократно повторяемые союзы «и», «а»). Ими, как правило, начинаются и кончаются главы и делаются переходы от одного героя к другому; ими же автор «стягивает» судьбы героев, далеко разошедшиеся в сюжете и фабуле романа.
И наряду с этими разными приемами соединительно-объединительной связи, начало его предпоследней части (по замыслу — пятой) неожиданно открывается фразой, которая и по своей содержательности, и по своей структурной композиции оказывается весьма близка искомому долгие годы автором «историческому и стилевому синтезу». Фразой, где, говоря словами его письма к Павленко, несмотря на большую авторскую «искушенность» и «зрелость», вновь обретается «бесстрашие юности (в мыслях, чувствах)», вновь появляется (но теперь уже «на почве ума и знания») «наивность».
- 307 -
«В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия»,.. когда зачиналось декабристское движение, зарождался либерализм в Европе и кончался ампир и Наполеон еще был жив на острове святой Елены,.. — в эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры, мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гялондика» (1, 623—624).
Интересное сопоставление этой фразы из «Последнего из удэге» с фразой из «Двух гусаров» Л. Толстого сделано Н. К. Геем.17 Им же, на анализе текста из «Евгения Онегина (въезд Лариных в Москву: «Мелькают мимо будки, бабы, / Мальчишки, лавки, фонари...»; выход Онегина из театра: «Еще амуры, черти, змеи / На сцене скачут и шумят; / Еще усталые лакеи / На шубах у подъезда спят...») отмечено особое качество художественного мира Пушкина: «В нем предмет изображения и идея предмета оказываются глубоко сопряженными в самой своей сущности». «Полтора десятка обозначений различного рода действий и столько же реальных объектов и предметов «втиснуты» в считанные строки, живущие поэтической жизнью». Пушкинская фраза «поражает не только динамикой действия, но и динамикой мысли. В ней «событие» и «мысль» родственны в структурно-повествовательном бытии».18
Данная нами в сокращении фадеевская фраза из «Удэге»19, с «втиснутостью» в нее не одного десятка событий и явлений одного года, где «события и мысль родственны в структурно-повествовательном бытии», а «предмет изображения и идея предмета глубоко сопряжены в самой своей сущности», напрашивается на сопоставление не только с толстовским началом «Двух гусаров», но и с пушкинскими местами «Евгения Онегина».
Больше того. Фадеевский синтез, и стилевой, и содержательный, с равноправностью включенных в «тот самый год» разнороднейших явлений и событий (и плана «большого» — исторического, государственного, всемирного по своему значению; и «малого» — семейно-домашнего, к тому же у людей, отъединенных
- 308 -
от всего мира), еще ближе другому произведению Пушкина, и не отдельной картине в нем, а духу произведения в целом — поэме «Медный всадник».20
Начало пятой части, удивительно быстро вылившееся у писателя на бумаге (оно не имеет такого огромного количества вариантов, как большинство других), оказывается удивительно «пушкинским»: и по равноценности в нем разных планов, в том числе мира «большой Европы» и «маленького» события у малой народности; и по «свободе хода», точнее, «перехода» в нем от одного к другому факту или событию «того самого года» (и у разных стран и народов, и в различнейших областях человеческой деятельности: политике, экономике, технике, искусстве); и даже по «загадке», как бы невзначай, случайно-непроизвольно заданной автором — читателю: какой же это год, в котором так много всего происходило? («Не надобно все высказывать — это есть тайна занимательности». А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому. — X, 56). — Дата событий — 1818 год — была снята, «спрятана» автором в окончательном варианте.21
И хотя линия удэге в романе Фадеева — в силу «местного колорита» — наводит на воспоминание о пушкинских цыганах, горцах у Лермонтова и Толстого, героях раннего романтического периода Горького, а также, конечно, на Ф. Купера и В. Скотта, но — атмосфера, стиль, лиризм и характер синтеза («разностная полнота», «собирание» под одну «шапку» «того самого года» явлений многих и разных, но для писателя равно ценных), все это — наряду с перечисленными разнообразнейшими традициями — далеко не в последнюю очередь — пушкинское. И не столько периода его романтических поэм, с акцентом на местный колорит («Цыганы», «Кавказский пленник»), сколько времени пушкинских сказок (с их одновременной «мудростью» и «наивностью»).
«Околдованность» в это время лирикой Пушкина, той естественностью и чистотой ее чувств и мыслей, о которой Фадеев говорил в статье «Светлый разум», «очарованность» свободой их выражения — органически рождает у него совершенно особенный стиль всех первых глав пятой части.
«Из всех прекрасных осеней в этой стране эта была самая прекрасная. Солнце так долго грело, что казалось, совсем не будет зимы. Лист долго не опадал, зеленая хвоя стояла среди красной листвы. По утрам ударял морозец, деревья, сухая трава и мох были
- 309 -
точно в розовой шерсти. Утром солнце сквозило через морозную дымку, а потом грело все сильней, сильней — и все оттаивало и мокро сияло вокруг» (1, 632—633).
«Масенда шел пять дней и четыре ночи и к вечеру пятого дня увидел внизу, в долине, в медленно плывущем дыму, продолговатые юрты, похожие на рыб, уснувших в воде» (1, 633). И т.д.
Это стиль не сказовый (точнее сказать, не совсем сказовый); но он неопределим и понятиями «романтический» или «реалистический». В нем скорее чувствуется атмосфера (очень светлая), тон (очень чистый) и слог (ясный и простой, без «психологических излишеств»), идущий от пушкинских поэм и сказок, всего более «Руслана и Людмилы» и «Сказки о царе Салтане». — Атмосфера «преданья старины глубокой», — но не в преданьи, а в самой жизни, и если «старины», то не для данных героев, и не в прямом смысле (для них это время не прошедшее, а настоящее: они в нем живут), а в смысле нарицательном, и для всего человечества: каким оно было (или могло быть) в его прошлом. Иными словами, атмосфера образа жизни людей первобытного общества, не знающего классовых, расовых и прочих видов противоречий и антагонизмов.
В человеке первобытно общинного строя Фадеев находил качество, выгодно отличающее его от людей последующих социальных устройств: естественную гармонию с природой («сердечность уз»), с животным миром («родственное внимание» М. Пришвин), понимание и соблюдение законов земной жизни, что воспитывало в нем истинно человеческие качества — любовь и уважение ко всему окружающему миру.
«Любовь Актана ко всему живущему. Ничто не должно быть загублено зря: если не использует человек, пусть использует зверь» (5, 117).
«Невеста Актана... Мягкосердечие. «Ведь зверю так же дорога жизнь, как и нам?» — говорила она» (5, 109).
«Очеловечение природы, однако без овеществления богов» (5, 118). — Такие записи к героям романа делает Фадеев в дневнике.
Отсюда у него, с одной стороны, спор с Пржевальским, который, по его мнению, «совершенно не понял удэгейцев», ибо «не мог и подозревать, что имеет дело с первобытными коммунистами» (5, 208—209).
А с другой — отстаивание права на творческий вымысел. «Если
- 310 -
подойти с точки зрения чисто этнографической, — об этом мне даже писал Тан-Богораз — знаток этих народов, — у меня огромное количество «ошибок». Но это — не от незнания. Наоборот, я использовал все то, что мог прочесть о туземцах, населявших земной шар...». Но «таких туземцев, как мои удэгейцы, на Дальнем Востоке не было и нет, и вообще таких туземцев, какие мною созданы, нет на свете». «... я стремился к тому, чтобы создать образ человека первобытного коммунизма, однако меня очень мало интересовал вопрос — будет ли это именно дальневосточный туземец».22
Идеал и герой, чаемое и должное, романтизм и реализм, факт и вымысел — эти явления художественного творчества (именно — явления: живые, связанные с жизнью и, одновременно, вытекающие из процесса художественного творчества; проблемами они становятся уже в размышлениях литературно-критического толка) волнуют Фадеева в связи с творчеством (и собственным, и товарищей по перу), и в проекции на классиков, в первую очередь русских, и в значительной мере — на Пушкина.
Не случайно, сталкиваясь с ними вскоре (в работе над «Молодой гвардией»), Фадеев вновь апеллирует к Пушкину.
«Итак, мой роман построен на фактах. Вместе с тем, конечно, это и не история, это, часто, подлинные факты, и все-таки в них много художественного вымысла... ... Значит, это и действительная история и в то же время художественный вымысел. Это — роман» (4, 399—400).
«На читательских конференциях мне иногда говорят, что я даю молодежь «идеализированную»... один студент говорил: «Я долго уже живу на свете,.. много вижу недостатков и в себе и в товарищах... Мне кажется, что вы молодых людей идеализируете, я таких не нахожу».
Он сильно ошибается...
...как вы знаете, живая жизнь бывает «запятнана» многими пустяками и случайностями... Их вовсе не обязан показывать художник, совершенно не обязан...
Я студенту задал вопрос: «А скажите, какие недостатки были у Татьяны Лариной?» Он сказал мне: «Трудно назвать». А у Наташи Ростовой? А у тургеневских девушек? То, что они дворянского происхождения? Так это в то время не считалось недостатком!..
Значит, дело не в идеализации, а в способе изображения человека.
- 311 -
Когда хотите изобразить человека с любовью, показать его настоящие, подлинные черты,.. способ изображения должен быть такой, когда недостатки не мешают читателю любить этого человека.
Поэтому я бы не сказал, что я идеализировал своих молодогвардейцев» (4, 400).
С такими аргументами выступает Фадеев на встрече с читателями в 1947 году.
В самой же «Молодой гвардии» пушкинский «фон» и «свет» — и для героев, и для автора — весьма значительны.
«Сердечно любя» «героев своего романа», настоящее которых оказалось близко прошлому автора, и не только обстоятельствами жизни (партизанская юность), но и нравственными убеждениями, идеалами, — автор, подобно Пушкину, «свободен в ходе» своего романа. Пронизывая и перемежая повествование о современных событиях и героях воспоминаниями о своей юности, обращениями к друзьям и другими так называемыми «лирическими отступлениями», он «волен» и в иных романных «нововведениях» (соотношении факта и вымысла, реального и воображаемого и прочих).
Для героев же романа Фадеева сам Пушкин, его поэзия — спасительный свет маяка в зверских обстоятельствах жизни, надежное духовное укрытие, и — очищение души от скверны, столь же основательное, как очищение тела русской баней. Одна из выразительных сцен в этом плане — приход Сережки Тюленина, после его «расправы» над предателем Фоминым, к Ване Земнухову. Понимая состояние друга, тот «очищает» его и душу, и тело: встречает сердечным разговором о Пушкине в Михайловском в период ссылки, читает стихи «Бурая мглою небо кроет...» и устраивает ему — насколько это возможно в тех условиях — баньку по-русски.
«...мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Сережка Тюленин, продрогший, в одной насквозь влажной рубашке, с залубеневшими от грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову.
С опущенным на окно затемнением, при свете коптилки, они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник, — Ваня решил-таки вымыть друга горячей водой, — и Сережка, поджав босые ноги, жался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окно мириадами росинок, и их множественный шелест и напор ветра, даже здесь, на кухне, чуть колебавший
- 312 -
пламя коптилки, говорили друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи и как хорошо вдвоем в теплой кухоньке.
Ваня, в очках, босой, говорил своим глуховатым баском:
— Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке, кругом воет метель, а с ним только няня Арина Родионовна... Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чуствую, я сам из деревни... ...Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей... Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал... его друг... А то сидят они себе с няней; где-то далеко заметенная снегом деревня, без огней, ведь тогда лучину жгли... Помнишь «Буря мглою небо кроет...»? Ты, наверно, помнишь. Меня всегда волнует это место...
И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел:
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...Сережка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпятив свои подпухшие губы; в глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка, и вода весело забулькала, зашипела.
— Довольно стихов! — Ваня точно очнулся. — Раздягайся! Я, брат, тебя вымою по первому разряду, — весело сказал он. — Нет, брат, совсем, совсем, чего стесняться! Я и мочалку припас» (2, 364—365).
А в дневнике, уже для себя, 3 марта 1953 года Фадеев пишет:
«В этом поистине самом реалистическом романе Пушкина («Евгений Онегин». — Л. К.) так ясно звучит должное, желаемое, мечтаемое. В моральной области — это, прежде всего, образ Татьяны, в которой воплощены лучшие черты самого Пушкина, его неосуществленная жизненная мечта, и в то же время собирательный образ русской женщины».
- 313 -
И — делает для себя вывод: «В живой жизни можно было видеть рассеянные черты такой Татьяны, — образ Татьяны обобщенный, собранный из этих разрозненных черт в единый идеализированный образ русской девушки и женщины, есть величайшая победа реализма, который без мечты, без должного, то есть без романтики, не есть реализм. Пушкин сам говорит: «А та, с которой образован Татьяны милый идеал...» Немножко раньше он говорит о Татьяне: «мой верный идеал» (5, 231—232).
О пушкинском романтизме он здесь же скажет: «Пушкин правильно понимал романтизм, вопреки распространенному представлению о романтизме. Стихи Ленского перед дуэлью Пушкин так комментирует: «Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут нимало не вижу я...».
Живя и работая в атмосфере пушкинских стихов и прозы, Фадеев и свои впечатления в дневниках неоднократно выражает его образами и словами.
Так, находясь в январе 1946 года в Чкалове (в прошлом и настоящем — Оренбург), и попав в снежный буран, он вслед своему описанию метели («По улицам метет буран так, что глаза режет,... темнеют в мутном вихре голые стволы и ветви... а за рощей крутит так, что уж и не видно ничего. Ветер дудит, и свистит, и сбивает с ног»), записывает: «Вспомнилось в «Капитанской дочке»: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным» (5, 188).
Перечитывая европейскую классику в разрезе интересующей его проблемы (соотношения реальности и мечты, действительного и — «должного, желаемого»), делая в записных книжках тонкие замечания о каждом из крупных ее художников, Фадеев постоянно соотносит их по этой линии с классикой русской, и более всего — с Пушкиным. «Только Флобер мог сказать такое: «Глубокие чувства похожи на порядочных женщин; они страшатся, как бы их не обнаружили, и проходят через жизнь с опущенными глазами» («Воспитание чувств»).
Находя эту фразу вдвойне «замечательной» («Так г-жа Арну с ее нравственным обликом охарактеризована через глубокое чувство (Фредерика к ней. — Л. К.) и сама является как бы физическим, живым воплощением этого чувства,.. редким в окружающем пошлом обществе, как редки в этом обществе глубокие чувства»), Фадеев
- 314 -
тут же добавит: «И все же куда как далеко г-же Арну... до пушкинской Татьяны!» (5, 254).
С признательностью отвечая на письма друга своей юности А. Ф. Колесниковой («Ты не знаешь, какое духовное наслаждение доставляют мне твои письма!.. если бы их не стало, в жизни моей образовалась бы существенная брешь»), Фадеев скрыто, вторым планом, «крадя чудесное пушкинское определение» (говоря его же словами), передает через него свое настроение, в надежде, что педагогу-словеснику даже два пушкинских слова объяснят невысказанное им от себя и о себе, но «досказанное» Пушкиным: «Теперь их (писем А. Ф. Колесниковой. — Л. К.) у меня так много, что, если бы не только я, знающий тебя с детства, а любой другой человек «с душой и талантом» (я краду здесь чудесное пушкинское определение)23, прочел их с начала до конца, он мог бы составить полное представление о моральном облике твоем, а учитывая и твои фото с девических лет по наши дни, и о твоем облике физическом» (VII, 364).
В качестве критика, призванного осмысливать явление в его историческом и теоретическом плане и преломлять в ракурсе литературного процесса, Фадеев далее будет уточнять, развивать и обосновывать во многих статьях и выступлениях свою мысль о романтизме и реализме, как «пушкинском», так и русской литературы XIX-го и XX-го вв.
«В русской литературе первой половины XIX-го века реализм и романтизм, как течения, были почти слиты в творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя. А если говорить о романтике в том смысле, как мы употребляем это слово..., то начиная с Пушкина и до Горького включительно, этого рода романтика выступает, можно сказать, как характерная черта русского критического реализма». Находя, что «это было порождено великими освободительными народными движениями в России, с их поисками счастья и справедливости», Фадеев заключит: «Гений Пушкина — это продукт того возросшего национального самосознания, которое заявило о себе в победоносной, справедливой Отечественной войне 1812 года и породило движение декабристов...» («Задачи литературной теории и критики» — 4, 415—416).
Оговариваясь, что далеко не все писатели были на стороне революционно-демократического
- 315 -
движения, Фадеев подчеркивает, что, тем не менее, все крупные писатели «верили в возможность торжества справедливости на земле и, каждый по-своему, стремились воплотить, утвердить свои идеалы в положительных образах, наряду с беспощадной критикой существующего строя.
Пушкин дал не только Татьяну Ларину. Пушкин увидел в Емельяне Пугачеве крупный исторический характер» (4, 415—416).
Утверждая преемственность идеалов и критериев художественности (советской литературы с русской классикой XIX-го века), Фадееву приходилось неоднократно «отбрыкиваться» как от «левых» догматиков, так и от «правых».
«И если Н. Грибачев сегодня пристает к горлу с ножом и требует: читай только меня и Недогонова — это социалистический реализм, а все, что не похоже на это, это даже не романтизм, а просто формализм, и все это от лукавого, — то современный человек вправе ответить ему: «Идите вы к черту с таким социалистическим реализмом, тогда лучше давайте старый реализм и старый романтизм, там моей душе просторнее!» (5, 277).
Развивая соображения по ряду явлений и проблем истории и теории литературы, Фадеев, по сути дела, создает концепцию исторической преемственности русской литературы XIX-го и XX-го вв., начиная ее родословную, как и Горький, с Пушкина.
Но в эту концепцию он вносит немало своих уточнений и дополнений.
«...он (Пушкин. — Л. К.) — истинный родоначальник русской прозы... В нем зародыши всего, что развилось в русской прозе XIX-го века. В «Гробовщике», в «Станционном смотрителе», «Пиковой даме» — Гоголь и Достоевский, а «История села Горюхина» — это Щедрин. И это Достоевский — по языку. Тургенев, Чехов — от Пушкина. Лесков — его побочный сын.
Указывают на связь прозы Л. Толстого с лермонтовской. Но манера изображения светского общества у Лермонтова и Толстого — от Пушкина, особенно от его неоконченных светских вещей, — Пушкин уже видел в этом обществе все то, что было так ненавистно Лермонтову и Толстому».
И — сделает вывод: «Пушкин наметил почти все, что разрабатывали в прозе после него, в силу гениальности своей. Возможно, он слишком рано умер для прозаика» (5, 232—233).
- 316 -
В отличие от общего мнения, что пушкинская проза не имела преемников, Фадеев видит развитие и продолжение ее линии у Тургенева.
«По характеру своей прозы он непосредственный продолжатель Пушкина. В частности, два эти ранние его рассказа («Три портрета», «Три встречи». — Л. К.) — пушкинские, даже и в том смысле, что они также «без царя в голове». Впрочем, — заметит Фадеев, — «это свойство только самых ранних рассказов Тургенева» (5, 233).
Бросая взгляд на русских классиков послепушкинского периода, Фадеев почти в каждом из них находит пушкинский «исток»: «При всей гениальности Гоголя, он, Гоголь, слишком «особенный». А его линия, которая получила развитие в Достоевском, тоже имеет своим истоком Пушкина, — это кажется парадоксальным, ибо никто так не противопоказан друг другу, как Пушкин и Достоевский. Это два разных жизненных начала, если учесть каждого в основе, но Пушкин вместил в себя все. Достоевский тоже из него, через Гоголя и — непосредственно».
Но лишь Тургенева считает Фадеев прямым продолжателем Пушкина в прозе: «А Тургенев — прямой наследник Пушкина (менее десятка лет разделяет конец деятельности Пушкина и начало — Тургенева) — он в самой основной и в самой прекрасной линии развития русской прозы». Но «Тургенев в прозе эмоциональнее Пушкина, потому что он менее объективен, больше вкладывает самого себя» (5, 234, 233).
Наибольшее продолжение и развитие Тургеневым «линии прозы Пушкина» Фадеев видит в образах его героев (особенно в т. н. «тургеневских девушках», о чем говорилось выше), портретах природы («Природа у него русская до конца, она кротка и таинственна в своей поэтичности, она точна до осязаемости и лирически одухотворена») и в языке героев из народа.
Он находит, что Тургенев едва ли не единственный «продолжает и развивает здесь линию Пушкина»: «У Гоголя этот народный язык... по-украински стилизован. Толстой слишком стремился воспроизвести говор народа и грешил «тае-тае». У всех остальных, даже у Чехова (при всем том должном, что необходимо отдать особенно Чехову, но и Лескову и Бунину), язык крестьян или грешит «натурализмом», или слишком «интеллигентен».
- 317 -
«У Тургенева язык народа — язык чисто русский, отборный, природно мудрый (без горьковского подчас «мудрствования»), естественный, меткий, выражающий естественно, без претенциозности и без прибеднения, все самые сложные понятия» (5, 233—234).
Приведенные выше размышления и соображения Фадеева из его Записных книжек набрасывались им для себя, и для печати ранее не предназначались. Незадолго до смерти, согласившись на их публикацию и готовя к ней, писатель дал им название «Субъективные заметки».
Тем не менее, в этих «субъективных заметках», как мы видели, помимо интересных и тонких наблюдений, есть немало и объективного (в части улавливания «хода» в продолжении и развитии «линий» пушкинской прозы).
Кроме рассмотрения глобальной проблемы — исторической роли Пушкина для русской литературы — Фадеев зорко подмечает ряд особенностей его поэтики.
Так, размышляя о классиках словацкой литературы, в частности, о создателе словацкого языка, Фадеев замечает: «Очень любопытно, что Штур в своем «упрощении», то есть по сути дела — раскрепощении языка, приближении его к народному говору, взял за основу язык центральной Словакии, подобно тому, как Пушкин — язык московский» (5, 260).
Как и Ахматова, он обращает внимание на «счастливые концы» в пушкинской прозе, но по-своему их представляет и интерпретирует: как желание поэта «не заострять противоречия» («в «Выстреле» стреляет в картину; дочь станционного смотрителя приезжает на могилу отца, богатая, с детьми; Лиза в «Пиковой даме» выходит замуж за состоятельного человека; Дубровский не совершает мести и сам спасается за границу; в «Барышне-крестьянке» они женятся, потому что их отцы-помещики примирились, и т. п.» — 5, 232).
Не соглашаясь с В. Кирпотиным, что Пушкин «был в начале пути на крестьянских позициях» и называя его мысль «бездоказательной», Фадеев дает такое понимание этого вопроса: «... боясь Пугачева (то есть не приветствуя «бунта бессмысленного и беспощадного». — Л. К.), Пушкин был достаточно бесстрашен, чтобы показать его человеком незаурядным и обаятельным. Он первый
- 318 -
подсмотрел в народных низах цельные, деятельные характеры, — правда, главным образом «разбойные» (Пугачев, мужики в «Дубровском», Кирджали)» (5, 233).
Но главное, что вносит нового Фадеев в тему исторической роли Пушкина для русского искусства и русской действительности, это «поверка» современности высокими принципами ее гениального родоначальника.
Своего рода «Школа Пушкина», «Уроки Пушкина» — тема эта, важная и лично для него как писателя иной, новой эпохи, и для всех его современников, — не сходит с фадеевских страниц, будь то проблемы глобальные или локальные.
Так, говоря о необходимости для современных писателей откликаться и на текущий день, Фадеев обращается к примеру пушкинского творчества. «Палитра Пушкина обладала исключительным богатством красок. Творец «Евгения Онегина» прекрасно владел и тем, что мы, по-современному, называем «газетным» стихом, откликавшимся на текущую злобу дня. Но и эти стихи его остались как вечно живущие творения» (4, 270).
«Лучшие, гениальные художники прошлого, как, например, Пушкин, наш гениальный русский классик, вмещали в этом смысле все. Пушкин написал «Евгения Онегина» и написал «Клеветникам России», он писал злободневные стихи и работал над большими, широкими полотнами, требующими много времени, большой затраты труда. Но гениальность его сказалась в том, что как одно, так и другое стало бессмертным. И в том и в другом были схвачены существенные стороны действительности того времени.
Вот мы и хотим и ждем от наших художников, художников социализма, чтобы они, обладая этой многосторонностью, умели откликаться и на злобу дня, служить своим пером как его сегодняшним насущным потребностям, так и более глубоким интересам общества, потому что и в том и в другом можно показать жизнь во всей силе и полноте» (4, 311—312).
«Народ, создавший Пушкина, Льва Толстого, Горького, не может удовлетвориться низким художественным качеством книги, даже если такая книга совпадает с политическим настроением. Народ требует от литераторов совершенных, высоких, законченных художественных форм. Но он требует форм ясных, простых, выразительных, доступных миллионам людей... искусство формы ради формы, искусство,
- 319 -
лишенное больших идей, не может иметь успеха в нашей стране» (4, 222).
Ожидая «от наших художников социализма» пушкинской «многосторонности» в темах, Фадеев призывает их и к пушкинской «свободе», «раскрепощенности» в формах выражения. «Внутреннее закрепощение, отсутствие ощущения своей свободы, полноты своего голоса лежит еще путами на наших поэтах... Еще до сих пор поэта может запугать вопрос относительно того, можно ли употреблять глагольную рифму или нет. А ведь это вздорный вопрос. Как над этим издевался Пушкин в своем «Домике в Коломне»!»24
В этом плане он замечает о Маяковском (1940 год): «Маяковский действительно произвел в русском стихе целую революцию, сломав канонические ритмы, внеся в поэтический словарь массовый городской фольклор и говор, словообразования, вызванные революцией. Благодаря этой ломке для Маяковского уже не стало слов, которые нельзя было бы вставить в стих по условиям ритма или произношения слова. Он порвал со словарем «высоким» и «низким». Все для него одинаково достойно поэтического внимания» (4, 288).
И вместе с тем Маяковский, как и Пушкин, «очень русский поэт. Он использовал огромные возможности именно русской речи, в частности использовал старинный русский лубок».
«Так же неверно было бы думать, что он стоит вне классической преемственности. Он является закономерным продолжением развития русской поэзии от Пушкина через Лермонтова — Тютчева — Некрасова — Блока. Этих поэтов, особенно Пушкина, как величайшего новатора в русской поэзии, Маяковский очень любил. В его ниспровержении классиков в юные годы было много от озорства, но в то же время он учился у них, отталкиваясь, стараясь не потерять поэтическую самостоятельность. К тому же он ненавидел тот официальный, казенный, хрестоматийный глянец, который столь характерен был для старого официального русского общества» (4, 288).
Не раз возвращаясь к мысли о необходимости использования всего богатства форм, Фадеев снова сближает (в качестве примера) два имени: «Величайший пример тому в прошлом нашей поэзии дал великий Пушкин. И все мы хорошо знаем, каким богатством форм поэтического выражения обладал Владимир Маяковский» (4, 696).
Умение увидеть и запечатлеть «в сегодняшнем вечно живущее,
- 320 -
непреходящее» — качество поэтики Пушкина. «Да ведь этим велик был и Маяковский» (4, 299).
Пристально наблюдая за развитием современной советской поэзии, Фадеев обнаруживает в ней «пушкинскую линию», «пушкинское начало».
«Конечно, у нас нет Пушкина. К сожалению, наш Пушкин еще не родился, но в нашей критике и литературоведении существует ложное представление, что будто бы в развитии советской поэзии вообще отсутствует, собственно говоря, самая генеральная линия великой русской поэзии — линия Пушкина.
Обычно наши современные творческие направления делят в зависимости от того, идут ли они от русского символизма, от французского символизма, от акмеизма, от Некрасова и т.д. И находится много таких линий. Создается впечатление, что в развитии современной советской поэзии вообще нет самой главной линии — пушкинской линии. А стоит посмотреть на всех наших поэтов под этим углом зрения, как мы сразу увидим: нет, у нас есть пушкинская линия, у нас только Пушкина нет еще пока» (V, 468).
«Светлое и прозрачное пушкинское начало» Фадеев находит в стихотворениях Маршака, и всего более в его переводах. «Маршаку решительно все, к чему бы ни прикоснулись его руки, хочется сделать очень ясным, светлым, прозрачным, гармоничным». «Эта черта одна из замечательных черт и сторон пушкинского гения» (V, 467).
«И пусть это парадоксальное мое утверждение не будет вами понято в том смысле — а что похожего у него на «Полтаву», или на «Я помню чудное мгновенье»? Пусть это будет понято в том прямом, и в то же время сокровенном смысле, в каком я сказал: творчеству Маршака присуща пушкинская ясность стиха, прозрачность, отсутствие литературщины, принятие стиха только тогда, когда он может с такой же ясностью и прозрачностью дойти до любого читателя» (469).
Делясь своим впечатлением о вышедших в свет отдельных главах поэмы А. Т. Твардовского «За далью даль» («Мне они очень понравились»), Фадеев прозревает в них пушкинскую линию и в плане, и в форме: «Мне кажется, что я угадываю его замысел. Это будет свободная поэма «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», сцементированная тем, что эти размышления ума и заметы сердца будут как бы посвящены нашему движению к коммунизму со
- 321 -
все открывающимися новыми «далями». Физически герой поэмы, автор, «я», движется на восток, на восход солнца, духовно он движется также от прошлого, от того, что его породило, от своего отца, среды своего детства — к будущему, где открываются эти новые дали» ... («две дали», как говорит он в одной из глав»). «Он в каждой главе буквально возвращается к прошлому и бросается в будущее...»
«По форме же это (если откинуть кое-где длинноты) исключительно смело и свежо — особенно в том смысле, что давно уже никто не осмеливался так откровенно, почти нахально воспользоваться пушкинским ямбом, наполнив его, этот ямб, абсолютно своей, твардовской интонацией».
И — по-фадеевски — он заключает: «Таким образом, я доволен за Трифоныча — «ни пуха ему, ни пера!..»25
«Пример» Пушкина во многих отношениях (как «другим наука») Фадеев считает поучительным не только для русской литературы, но и для всей многонациональной советской, и для братской славянской.
И в этом «примере» значителен и учет им «обратной связи», которую в свое время наметил сам великий поэт, предсказавший: «и назовет меня всяк сущий в ней язык».
В своей речи «Певец чешского народа», посвященной 150-летию со дня рождения Яна Коллара, Фадеев, отмечая «печать изумительного благородства» на всех его высказываниях, приводит ряд примеров этой «печати» («Коллар в гордых словах воспел мощь русского народа, раскинувшегося от града Петрова до стен Китая, от лютого Севера до палящего Юга. Он воспел военный гений Суворова. Он воспел Ломоносова, Жуковского»).
И среди них — такой: «На гибель Пушкина он откликнулся сонетом, полным печали и гнева. И в последующих изданиях «Дочери Славы», в той ее части, которая написана по мотивам Дантова «Ада», он среди прочих врагов славянства поместил в аду Дантеса» (4, 348—349).
А говоря о главном герое романа «Абай» казахского писателя, Мухтара Ауэзова, Фадеев с нежностью заметит: «Он перевел отрывки из поэмы Пушкина «Евгений Онегин», и весь народ запел письмо Татьяны к Онегину, превратив его в казахскую народную песню» (4, 526).
Одной из самых «заветных» мыслей и тем Фадеева, извлекаемых
- 322 -
им из «уроков», даваемых Пушкиным всем последующим поколениям «пиитов», была важнейшая и для самого поэта (его натуры, его творчества, начиная с лицейских времен) — тема «дружества» (у Фадеева, и для поколения XX-го века это — тема «товарищества»).
«История дает нам изумительные примеры глубочайшего уважения и правдивости по отношению к своим современникам у величайших художников прошлого... Способность требовательно относиться и в то же время радоваться успеху, достижению другого, чистое отношение к своей и чужой работе, — как это важно в развитии искусства, какой это великий моральный стимул подлинного творчества!»
Указывая на пример такого отношения к своим товарищам «у гениального Пушкина», Фадеев напоминает его стихотворение «Художнику»:
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь. Мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!..Вот Зевс громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник,
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!Назвав это стихотворение «изумительным» («Пушкин относится с восхищением к ваятелю и грустит об умершем поэте — «друге и советнике художников», — как бы и тот радовался и гордился!» «Признание высокого, чистого, честного отношения товарища к труду, высокого качества его труда — есть основа радости, уважения и благодарности. И какой это благородный стимул в работе!» — 4, 184), Фадеев, перенося свою мысль на современность, скажет: «...может быть, никто из лучших советских писателей не достиг совершенства, — его не было и у Дельвига. И, однако, Пушкин вспомнил о нем. Каждый из нас может воскресить в памяти лучших «друзей и советников», сыгравших эту благородную роль в нашем развитии своей способностью радоваться, которая неотрывна от неподкупной
- 323 -
требовательности» (4, 184). — Близкое фадеевскому ощущению и осознанию пушкинского чувства «дружества» можно было видеть и в рассмотренном (во второй главе) рассказе Ю. Олеши «Друзья».
Воплощенный Пушкиным в его жизни и творчестве идеал «дружества», «святого братства» был чрезвычайно близок натуре Фадеева — и человеческой, и писательской, — о чем говорят широко известные на эту тему строки из художественных произведений писателя, его писем, статей и воспоминаний о нем товарищей.
Эта «пушкинская» тема, как и остальные, находила у Фадеева свое преломление к современности.
«В наши дни, когда вполне справедливо и с пользой для литературы пишут о влиянии тех или иных классиков на нашего брата, напрасно забывают о преемственности поколений советских писателей», — обращается Александр Фадеев к Всеволоду Иванову в день его шестидесятилетия (март 1955 года). — «Но мы-то не Иваны, не помнящие родства! Да, мы учились у первых советских писателей, предшествовавших нам, — мы вас любили, увлекались, зачитывались вами».
Открывая юбиляру тайну, как он, «студент того легендарного времени... ходил из комнаты в комнату по общежитию и читал вслух Всеволода Иванова очень звонким голосом», Фадеев, с присущим ему мягким (но не без остроты) юмором, «признается»: «Помимо всего прочего, это оказалось и выгодным во времена, когда студенческий паек состоял в основном из ржавой селедки. Упоенные, как и я, слушатели и слушательницы родом из деревни охотно делились со мной хлебом и салом».
«Ученье молодого писателя у писателя более старшего — это не школьное ученье, оно проходит в борении. И это прекрасно, когда это — чисто, принципиально, лишено побочных соображений, осенено возвышенным отношением к литературе нового общества.
И сегодня, благодарный и счастливый, я обнимаю тебя, как одного из первых своих учителей» (5, 524—525).
Отдав немало сил на создание атмосферы товарищества в руководимом им долгие годы Союзе Советских писателей, атмосферы «высокого, чистого, честного отношения» к труду своих товарищей по перу, Фадеев с грустной горечью пишет в мае 1952 года О. Д. Форш: «Но я все время чудовищно задавлен работой, — даже
- 324 -
когда получил отпуск от Союза писателей, о котором, к сожалению, нельзя сказать словами Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (5, 438).
***
Ощущение живой связи Пушкина с современной литературой, «агитация» и «пропаганда» «уроков» Пушкина для современных писателей — это то новое, что было внесено Фадеевым в утверждение роли Пушкина для современности.
Оно связано было как с чувством ответственности за руководимый им (после смерти М. Горького) Союз писателей, так и с пониманием преемственности литературы нового этапа (своей, в том числе) с русской классикой XIX-го века, и особенно с ее родоначальником.
В этом плане для Фадеева особенно важны были темы пушкинского «дружества» — высокого, истинного товарищества в среде писателей, — и художественного идеала (то есть вся совокупность проблем, относящихся к понятиям романтизма и реализма).
Не менее значительным было и открытие Фадеевым тайны пушкинского поэтического очарования — «полная свобода, естественность выражения всех человеческих эмоций, всего многообразия мыслей и чувств человека и утверждение их, этих чувств и мыслей, как совершенно естественных, закономерных и правомерных проявлений человеческого духа»; «подлинное, правдивое выражение своих мыслей и чувств от самых высоких до самых низменных».
***
Как видим, многие русские классики советского периода сожалели, что русская проза не пошла по линии прозы Пушкина, с ее «ясностью, прозрачностью, лаконизмом», а продолжала путь «излишнего психологизма» и вытекающей из него стилевой усложненности. И не только сожалели. Призывая учиться у Пушкина, пытались сами, в своем творчестве преодолеть и этот «излишний психологизм», и «трудную, усложненную фразу».
Но, видимо, за «уходом» от пушкинской фразы и слога стоял не только отказ от простоты и ясности стиля, но и отказ от определенного миросозерцания, от восприятии мира как данности.
- 325 -
Если Шолохов соотносился с Пушкиным в поэтике, иначе, элементами осуществленной формы, то Фадеев, как мы видели, соотносился с Пушкиным больше идеалами и замыслами, которые желал и пытался осуществить в стилевом синтезе.
Интересную линию соотношений с художественным миром Пушкина можно наблюдать у Михаила Булгакова.
Михаил Булгаков
Пушкин для Булгакова был своеобразным «камертоном» всего его творчества.
Он «отзывался» как в темах, мотивах писателя (художник и власть в «Жизни господина де Мольера»; мир семьи, дома, женщины в «Белой гвардии»26), так и во многих компонентах формы: в неожиданности сюжетных ходов и поворотов («Ханский огонь»), в метаморфозах героев («Иван Васильевич», «Собачье сердце»), их многоликости.
А в созданной к столетней годовщине со дня смерти Пушкина драме «Пушкин» (в постановке МХАТ,а — «Последние дни») великий поэт своим отсутствием «присутствует» (разумеется, по-разному) почти в каждом ее персонаже.
В романе «Мастер и Маргарита» почти все герои первого плана (и некоторые плана второго), подобно Лизе из «Барышни-крестьянки», Дуне из «Станционного смотрителя», Дубровскому, или даже Григорию Отрепьеву («Борис Годунов»), — но, конечно же, на свой манер, — способны не только к смене своей «одежды» (и в прямом, и в переносном смысле), но и к сбрасыванию всякой одежды (также в обоих смыслах), к полной смене облика при сохранении цельности своей натуры.
Мастер, в прошлом историк, затем писатель, позднее больной за № 118, — снова вроде бы мастер, но в ином качестве и ином мире. Маргарита, прежде Маргарита Николаевна, жена крупного советского специалиста, затем возлюбленная мастера (просто Маргарита), потом «ведьма», как сказано о ней; она же «Маргарита-королева» на балу у Сатаны. Иван Николаевич Понырев, первоначально поэт под псевдонимом Бездомный, затем больной под № 117 (сосед мастера в больнице, Иванушка), в конце романа — историк.
- 326 -
Многоликостью обладают в романе не только лица реальные.
«Неизвестный», «иностранец» (в глазах Бездомного и Берлиоза), «профессор черной магии» (как он представляет себя им), «дьявол», «главный мессир», «сатана», он же «Князь тьмы» и «Великий Воланд». «Маг, регент, чародей, переводчик или черт его знает кто на самом деле — словом, Коровьев», — так аттестует одного из свиты Воланда («клетчатого») автор.
Приведенный к Понтию Пилату в качестве «арестанта» и «бродяги», Иешуа, в ходе разговора с ним, принимается Пилатом то за философа, то за врача. Ученик же Иешуа и проповедник его учения, Левий Матвей, в прошлом — сборщик податей.
В этих множащихся ликах каждого из героев — метаморфозы и облика героя, и его профессии. Но здесь еще и особый характер соотнесенности героев друг с другом. Прямые и косвенные, отдаленные и сближенные ассоциации-диссоциации в поступках, поведении и даже судьбах героев обнаруживают их «неожиданное сродство». Появление в клинике профессора Стравинского (лица реального) напоминает Ивану торжественный выход Понтия Пилата (из романа мастера): «Впереди всех шел тщательно, по-актерски выбритый человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его поэтому получился очень торжественный. «Как Понтий Пилат!» — подумалось Ивану.
Да, это был, несомненно, главный». Но «главный», выход которого тоже был «очень торжественным», он же «профессор», и также явившийся в сопровождении «свиты», оказывавшей ему «знаки внимания и уважения», — это и Воланд, каким он предстает перед публикой в театре Варьете.
Но это далеко не все. Профессор Стравинский оказывается у Булгакова сопоставленным не только с Понтием Пилатом и с Воландом, но и — как это ни покажется странным и неожиданным — с Иешуа. Все четверо по-своему — «главные»; каждый «сопровождается свитой» (разумеется, своей); в своем роде каждый из них — «маг» и «врач»: в их действиях над людьми варьируется тема «снятия боли», освобождения человека от человеческого страдания, но, разумеется, различными для каждого приемами и средствами, в соответствии со своей «профессией» и убеждениями, отчего различны и результаты.
- 327 -
Профессор Стравинский обещает Ивану: «Вам здесь помогут». И ему действительно «помогают»: Иван освобождается от мук совести за произошедший на его глазах случай с Берлиозом. Иешуа снимает у Понтия Пилата головную боль и, одновременно, ценой собственной жизни пробуждает в нем совесть. Понтий Пилат, не будучи в силах помочь Иешуа, поручает спасти его тело и убить продавшего его Иуду. Воланд выручает мастера и Маргариту, восстанавливает их роман; по своим понятиям — помогает героям, по понятиям человеческим — умертвляет их, лишая жизни и уводя в «царство покоя».
Сложно варьируются, будучи одновременно и сопоставлены и — противопоставлены, и близки и — различны, и контрастны и — аналогичны, не только отдельные черты облика и характеров героев. Варьируются и похожие ситуации, поступки и даже судьбы героев. Судьба Ивана Бездомного (в некотором роде, хотя и на обратный манер) — вариация судьбы мастера: оба «страдают» из-за Понтия Пилата, оба попадают в клинику Стравинского, хотя один по своей охоте, другой — против желания. С появлением в клинике Ивана мастер освобождается из нее. Они «обмениваются» и профессиями: Иван из поэта делается историком, мастер (в прошлом историк)— становится писателем.
Основные герои романа, как и его непосредственный автор, сами создают «романы»: Иван Бездомный — поэму об Иисусе, мастер — роман о Понтии Пилате и Иешуа; Воланд — в буквальном смысле слова романа не пишет, но фактически — творит его на живых людях: он вершит их судьбами и сам при этом является автором своих действ.
Перед нами особый вид диалектики художественного образа.
Это — не раздвоение характеров героев, имеющее традицией Гоголя и Достоевского (хотя в главе «Раздвоение Ивана» имеется и этот элемент); это — своеобразное «разукрупнение» образа для будущего воссоздания его цельности, но на иных, новых основах.
Более подробно остановимся лишь на одном моменте пушкинского «отзыва» в творчестве Булгакова. Момент этот представляется нам чрезвычайно важным и значительным и для самого писателя, и для всей русской литературы XX-го века.
В «закатном романе» М. Булгакова, его «итоговом» произведении «Мастер и Маргарита», в котором критики справедливо усматривали «следы» традиций почти всей русской классики XIX-го века (и не только русской, и не
- 328 -
только века XIX-го), к финалу автор начинает вести в нем пушкинскую тему. И вести ее совершенно по-пушкински. Добро и зло, бог и дьявол, свет и тьма — эти две вечные силы истории жизни на земле, соответственно, и жизни человеческой — сходятся на решении судеб героев.
Может показаться удивительным и даже парадоксальным, что на всем протяжении романа эти фигуры ни разу друг с другом непосредственно не сталкивались и не встречались. Каждый действовал в своем сюжете: Иешуа — в романе мастера (о нем и Понтии Пилате), Воланд — в романе героев (мастера и Маргариты), в судьбе поэта Ивана Бездомного, критика Михаила Берлиоза и в жестоком романе о Москве и москвичах. Каждый из них находился в определенном отрезке времени: Воланд — в настоящем (30-е годы нашего столетия), Иешуа в отдаленном прошлом (библейские времена правления в Иудее римского прокуратора Понтия Пилата).
Существуя в произведении на разных временных и пространственных параллелях, Иешуа и Воланд — по законам сюжетостроения и логики характеров — вправе были друг с другом не встречаться, а если и соотноситься, то косвенно, ассоциативно (в авторском повествовании, представлениях героев, в читательском воображении).
Между тем стержнем «Мастера и Маргариты» как единого цельного произведения является сквозной скрытый диалог между Воландом и Иешуа.
Формы этого непрямого, а поначалу и вовсе скрытого диалога — необычны (чаще всего он совершается через посредников: Левия Матвея, Понтия Пилата и других).
Содержание — разносторонне (оно касается и решения судеб героев: Пилата, мастера, Маргариты; и методов исправления людских нравов; и таких важных явлений, как смерть и бессмертие; понятий об истине и справедливости и многих других).
А способы ведения — всякий раз оригинальны: диалог происходит, большей частью, косвенным путем — противостоянием позиций, мнений, высказываний, различными реакциями и акциями в отношении судеб людских и дел земных, и даже своих собственных, «ведомственных». На поверхность он выходит лишь к финалу произведения, становясь прямым и открытым в сцене прихода Левия Матвея к Воланду с просьбой-решением Иешуа относительно судьбы мастера и Маргариты. И завершается сложным перекрестным
- 329 -
согласованием мнений (по судьбам главных героев в двух главных сюжетах), где окончательное решение одной стороны находится в непосредственной зависимости от высказываний и действий другой.
Диалог двух противоположных сил возникает с первых строк произведения, в ходе его романных завязок.
В конкретный разговор главного редактора журнала Михаила Берлиоза с поэтом Иваном Бездомным о личности героя его поэмы (Иисуса Христа) в буквальном смысле вклинивается его антипод, претендующий — судя по всему — на не меньшую роль в истории человечества (соответственно, и в романе), чем обсуждаемая личность. Во всяком случае, он подключается для выяснения взглядов поэта и критика не только на Христа и на вопрос о том, был ли он или не был.
«Иностранец», «иноземец», «историк», «путешественник», «профессор», «специалист по черной магии» — эти сведения о незнакомце, даваемые в ходе беседы им самим или автором, дополняются всяческими предположениями Бездомного и Берлиоза.
«Немец», — подумал Берлиоз.
«Англичанин, — подумал Бездомный, — ишь и не жарко ему в перчатках...»
«Нет, скорее француз...» — подумал Берлиоз.
«Поляк?..» — подумал Бездомный ...
«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где же это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!»27
Аналогичному обсуждению и с аналогичной целью — выяснить и установить личность незнакомца — подвергается с первых строк романа мастера о Понтии Пилате и личность Иешуа, но в разговоре открытом. «Обвиняемый», «нищий проповедник», «бродяга», «оборванец», «путешествующий», «арестант», «врач», «философ» — этими определениями награждается Иешуа в сценах с Понтием Пилатом.
Ни поэту Бездомному, ни редактору Берлиозу невдомек, что они оказались втянутыми в обсуждение двойного вопроса: о Христе и о Сатане. Для Воланда же это — само собой разумеется: раз зашел разговор об Иисусе, значит должен идти и о нем. И если оба «убежденных атеиста» отрицают существование Христа и не признают бога, значит, они не признают и существования дьявола, и его
- 330 -
роли в земной жизни. Не случайно, в главе «Извлечение мастера», Воланд, не без доли иронического смущения, говорит мастеру о его бывшем соседе: «...он едва не свел меня с ума, доказывая, что меня нету! Но вы-то верите, что это действительно я?» (278). В отрицании реальности Иисуса Христа и роли бога в истории он увидел угрозу и своему существованию, покушение на свою персону.
В предфинальной сцене «романа героев» устами Воланда закрепляется это его неколебимое мнение о неразрывной связи своего существования с существованием Христа и о своей роли в человеческой истории. Когда посланец от Иешуа, Левий Матвей, вздумал было — подобно «двум «убежденным атеистам» — не признать очевидной, по мнению Воланда, истины: роли духа зла на земле, и не поздоровался с ним («не хочу, чтобы ты здравствовал»), Воланд назвал это «нелепостью». И в назидание Левию разразился тирадой: «Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей... Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» (349—350).
Но что при этом важно и — неожиданно: Воланда интересует мнение своего антипода относительно «предметов и людей», чья судьба до этих пор была целиком в его власти (дьяволу Маргарита заложила душу, чтобы узнать, что с мастером, где он, а, начиная со сцены бала, заложила и тело, чтобы вызволить его из больницы).
Больше того. Воланд считается с просьбой, фактически даже решением Иешуа в отношении своих героев: «Ну, говори кратко, не утомляй меня, зачем появился?
— Он прислал меня... Он прочитал сочинение мастера... и просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем...
— Передай, что будет сделано... и покинь меня немедленно...
— Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже...
— Без тебя бы мы никак не догадались об этом», — отвечает Воланд с саркастическим раздражением. — «Уходи» (350).
Эта предфинальная для «романа героев» сцена в «Мастере и Маргарите» является ключевой в диалоге двух высших сил. К ней
- 331 -
мы обратимся ниже. А пока вернемся к исходным данным диалога высших сил в романе, к его завязке в начальных сценах.
Напомним, что в первой главе Воланд так подводил черту под разговором на Патриарших прудах о личности Христа: «Имейте в виду, что Иисус существовал» (19). Этим он как бы закрывал обсуждение вопроса в плоскости дискуссионных предположений (Да был ли?) и переводил его в план истории, реальной и художественной (каким он был). А затем тут же убеждал двух «убежденных атеистов» в существовании исторической личности сценой из художественного произведения (романа мастера).
И вслед, столь же наглядно, но уже не художественными картинами из прошлого, преподносимыми как сон наяву, а реальным случаем из настоящего — предсказанием смерти Берлиозу и факта ее свершения (то есть демонстрацией своей злой силы в духе сложившихся людских представлений о дьяволе) — Воланд являл перед ними несомненность и своего собственного существования.
Таким же способом и методами действует Воланд не только для убеждения неверующих в бога и дьявола, и в то, что они управляют судьбами людей, но и для исправления людских нравов, искоренения в них грехов и пороков в бытовых сценах сюжета о Москве и москвичах, будь то сцены в Варьете, торгсине, доме Грибоедова, квартире на Садовой и других местах.
Наказывая, как правило, не главных героев романа за человеческие прегрешения и мелкие пороки (пьянство, скупость, сребролюбие, вранье и другое прочее) и препоручая это свите, Воланд действует согласно своей роли, сходной с ролью дьявола в классических сюжетах.
Изречение Мефистофеля, под флагом которого и выступает в романе Воланд (эпиграф к «Мастеру и Маргарите»:
...Так кто ж ты наконец? —
Я — часть той силы, что вечно
Хочет зла и вечно совершает
Благо) —как и поступки его, оспариваются Иешуа, его представлениями о людях, уверенностью в том, что по природе своей «все люди добрые» («злых людей нет на свете (29), лишь обстоятельства делают их такими) и верой в то, что на земле «настанет царство истины и справедливости» (33).
- 332 -
Причем, понятие «истины» у Иешуа не носит характера отвлеченного представления, оно — наглядно действенно и практически конкретно. Когда Понтий Пилат, раздраженный тем, что «нищий проповедник» рассуждает о высоких материях, обращается к нему: «Зачем ты, бродяга, на базарной площади смущал народ, рассказывая про истину, о которой не имеешь представления?», — Иешуа метко парирует его выпад: «...истина прежде всего в том, что у тебя болит голова... Но мучения твои сейчас кончатся» (26). Это заставляет Понтия Пилата заподозрить, что он имеет дело с целителен высокого ранга, вдвойне облегчившем его мучения (снял головную боль и разрешил мучивший его вопрос: кто он, этот «арестант»?).
«Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?» И хотя Иешуа отрицает это («Нет, прокуратор, я не врач»), Пилат имеет основание ему не верить: «Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне, держи» (28).
«А-а! Вы историк?» — с уважением и большим облегчением (полагая, что найдена наконец разгадка странному поведению и еще более странному разговору «иностранца») спросил Берлиоз у Воланда, после того, как тот объяснил причину своего появления («Тут в государственной библиотеке обнаружены рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист» — 19).
Обратим внимание на контрастный параллелизм позиций Воланда и Иешуа в долго длящемся разгадывании их личностей. Являясь внутренней пружиной событий романа в целом, параллелизм этот ширится и углубляется в ходе развития сюжетных линий, далеко не сразу открываясь читательскому взору.
Подтверждая догадку Берлиоза, что он — «историк», Воланд не отличается скромностью: «Я единственный в мире специалист». — В отличие от Иешуа, отрицающего предположение Понтия Пилата, что он «великий врач».
Не стесняется Воланд и в выборе средств для доказательства своей «профессии» (предсказание и осуществление смерти Берлиоза под колесами трамвая): «Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу, ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история» (29). Организация «интересной истории» для Воланда — удобный случай демонстрации своей силы.
У Иешуа же за приземлением понятия об истине стоит понятая
- 333 -
им причина поведения человека (сильная головная боль) и желание избавить его от нее.
Сквозной, скрытый, внутренний диалог Воланда и Иешуа по ходу развития «романов в романе» (таков жанр «Мастера и Маргариты») становится все извилистее и сложнее. Порой он настолько потаен, а реплики и реакции каждого на сходные явления и события настолько далеко отстоят друг от друга, что внешние следы этого виртуозного до виртуальности диалога как бы теряются в перипетиях сюжета.
«Да, человек смертен», — соглашается Воланд с Берлиозом, продолжая выяснение взглядов своих собеседников на вопрос: «Кто же управляет человеческой жизнью?». А получив ответ Бездомного («Сам же человек и управляет»), делает свой комментарий: «... но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» (16).
Утверждению Воланда с его последующей жестокой демонстрацией «фокуса» (на Берлиозе) — противостоит в романе противоположное убеждение Иешуа: «... смерти нет» (319).
Это одна из обрывочных записей Левия Матвея за Иешуа; ее с трудом прочитывает Понтий Пилат, пожелавший ознакомиться лично с хартией Иешуа. Далее в записях следует фраза, приземляющая высокое понятие бессмертия малой земной радостью: «Вчера мы ели сладкие весенние банкуроты» (наподобие того, как приземлялось, делаясь ближе к человеческим представлениям, понятие истины указанием Иешуа на ее конкретное проявление).
Столь же неординарен по смыслу, сложен и потаен по форме тайный спор между Иешуа и Воландом по поводу веры в силу слова, убеждения. «Если бы с ним поговорить,.. я уверен, что он резко изменился бы» (29), — произносит Иешуа перед Понтием Пилатом о своем истязателе, Марке Крысобое.
Веря в силу только факта («Все теории стоят одна другой»), Воланд применяет любые приемы для убеждения в этом, вплоть до самых жестоких: «Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы (Берлиоза. — Л. К.), — голова отрезана женщиной. Заседание не состоялось. И я живу в вашей квартире. Это факт. А факты — самая упрямая в мире вещь» (265).
Даже доказательство существования своего антипода Воланд осуществляет демонстрацией факта, используя его для выказывания
- 334 -
своего презрения к любым точкам зрения, теориям, доказательствам:
«А не надо никаких точек зрения!.. просто он (Иисус. — Л. К.) существовал и больше ничего.
— Но требуется же какое-нибудь доказательство... — начал Берлиоз.
— И доказательств никаких не требуется... — Все просто: в белом плаще...» (19).
Но «фокус» Воланда состоит в том, что, жонглируя фразами Берлиоза, он использует в качестве мишени не столько его схоластику, сколько убеждения Иешуа, основанные на глубокой вере в силу слова; и таким, почти иезуитским способом, он демонстрирует свое к нему уважение. «— Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается... Он... уходит в небытие», — ведет Воланд свой диалог с отрезанной головой Берлиоза. И тут же, приемом фокусника («впрочем, все теории стоят одна другой»), подменяет его — стрелой в адрес Иешуа, как бы продолжая скрытый диалог с ним: «Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере». И, совершив подмену, использует средства своего антипода — для своих же целей: «Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие» (265).
Подобно Воланду, но не демонстративно, а скорее к случаю, раскрывает Иешуа в первых сценах появления в сюжете истинную свою суть как силу добра, действующую способами и методами ей присущими: проповедует свое учение людям ему чуждым, оскорбляющим его и — добивается успеха (сборщик податей бросает свою профессию и идет за ним, становясь последователем его учения). Совершает доброе дело для жестокого прокуратора, избавив его от мучительной головной боли. Считает и называет всех «добрыми людьми», даже палача своего, видя причину его жестокости не в нем самом, а в зло обошедшихся с ним обстоятельствах («несчастный человек... изуродовали его, он стал жесток и черств» — 29).
Такой взгляд на природу человека, следовательно, и на задачи высших сил в обстоятельствах земной жизни, которые должны, по его мнению, способствовать пробуждению и выявлению в человеке лучших человеческих качеств, Иешуа открыто излагает при первом же своем появлении в романе. Нимало не смущаясь тем, перед кем
- 335 -
он все это проповедует, он даже к прокуратору обращается со словами «добрый человек», чем, естественно, раздражает и его, и его окружение.
И убеждения, и поведение Иешуа, утверждающие для человека и человечества возможность иной перспективы, спорят с позицией Воланда, заявленной словами Мефистофеля в эпиграфе к роману (версией рождения добра силой и руками зла). В них содержится представление о коренной изначальности добра в человеке и человеческом мире, а, главное, о его потенциальных возможностях, способности к саморазвитию и самоочищению без помощи и подстегивания злом.
«Мы увидим чистую реку воды жизни»; «Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл». Эти фразы вычитывает Понтий Пилат из хартии Иешуа.
В свете сегодняшнего дня и слова, и убеждения Иешуа могут показаться одной из иллюзий, характерных для русской литературы (и действительности) 30-х годов.
Но не следует забывать двух важных моментов. Изречение Иешуа почти дословно воспроизводит текст Нового завета («И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл...» — Откр. 22, 1), и в таком случае является не большей утопией, чем учение Христа в целом, к которому весьма активно обратилось общественное мнение нашего отечества сегодня. К тому же высказывания Иешуа (возникающие к середине романа) капитально подкреплены до этого его делами в начале романа (пробуждение совести у жестокого в прошлом прокуратора Иудеи, превращение сборщика податей в верного ученика). Это выгодно отличает его позицию от притязаний Воланда, безапелляционно заявленных еще до начала событий, в эпиграфе к роману.
Немаловажно и другое.
Герои, подвергшиеся воздействию сил добра, очищаются от человеческих пороков и недостатков естественным путем, а не насильственно, по собственному желанию и достойным для человека способом (искренним раскаянием и желанием исправить содеянное).
Герои же, насильственно исправляемые Воландом от своих грехов и пороков, фактически оказываются вывернутыми наизнанку. Пострадавший за свои человеческие слабости, любовь к женщинам и вину, директор Варьете Степан Лиходеев «перестал пить портвейн и
- 336 -
пьет только водку... стал молчалив и сторонится женщин» (378); конферансье Жорж Бенгальский «утратил значительную дозу своей веселости, которая столь необходима при его профессии» и потому вынужден был уйти из Варьете; черствый прежде к людским просьбам администратор Варенуха страдает теперь от излишней своей мягкости и деликатности. И так далее.
Тем значительнее предфинальная сцена романа.
После всей контрастной полярности этих двух противоположных сил, явленной их внутренним, скрытым, сквозным диалогом, длящимся на протяжении всего произведения, они сходятся здесь — при решении судеб главных героев — на согласовании своих позиций.
И тем важнее всеразрешающий финал романа.
Сопровождая мастера и Маргариту в «царство покоя» (как просил Воланда Иешуа через своего посланца Левия Матвея), Князь Тьмы не спешит выполнить его просьбу: прежде чем наградить героев покоем и для того, чтобы выбрать форму этого покоя, Воланд — уже в совместном полете «на покой» — как бы невзначай, попутно ставит героев перед последним испытанием-проверкой. Он предлагает мастеру завершить судьбу Понтия Пилата.
«— Ваш роман прочитали, — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, — и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя» (369).
Форма множественного числа здесь («прочитали и сказали») позволяет уверенно предположить, что суждение о романе («не окончен») принадлежит не только Воланду, даже не столько ему, сколько Иешуа.
Хотя решения участи Понтия Пилата мастером ожидают оба, и Иешуа, и Воланд, но последний заинтересован в нем, надо думать, лично: речь идет о судьбе человека, чья роль на земле в некотором отношении была сходна с ролью Воланда в космосе:
«— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания.
— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же, он говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность... Он утверждает, что он охотно бы поменялся своей участью с оборванцем Левием Матвеем» (369—370).
- 337 -
Но «плохая должность», как известно, и у Воланда. Его «должность» в космосе составляет определенную параллель «должности» Понтия Пилата на земле. А в координатах образной системы романа, в ряду его сложнейших ассоциаций-диссоциаций, Понтий Пилат и Воланд были автором основательно сближены: оба в своем роде «главные», появление обоих сопровождалось «свитой», оба вынуждены были обстоятельствами совершать то, чего им, быть может, не хотелось бы.
Воланд не без задней мысли напоминает мастеру о незавершенности судьбы его героя. Не окончен и «роман героев», мастера и Маргариты, который надлежит кончать самому Воланду; он связан в этом окончании двойным поручением: и логикой развития сюжета в «романе героев» (Воланду Маргарита заложила душу, чтобы выручить мастера), и просьбой-решением Иешуа (взять его с собой и наградить покоем).
Показав мастеру его героя («Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница»), Воланд возвращается к своим героям. Финал решения судеб всех троих предварен его очень четко построенным умозаключением, в котором, незаметно для внешнего взгляда, но очень прочно, единой линией взаимозависимости связываются судьбы главных действующих лиц, и решение одной проступает через высказывание о решении другой.
«— Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, — (принимает Воланд это допущение, не раз идущее от Иешуа, и — делает логичный вывод от себя. — Л. К.) — то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственно, чего боялся храбрый пес, — это грозы».
Читателю ясно, что под «верным псом» (в таком обороте мысли) подразумевается Маргарита (в ее отношении к мастеру) — И — заключает: «— Ну, что ж, тот, кто любит, должен разделить участь того, кого он любит» (369).
Как видим, Воланд признает то, что лично ему — не было близко, черту, которая ему, как представителю сил высших, бессмертных, не имеющих дела с таким земным понятием, как смерть, надо полагать, чужда. — Впрочем, как и Иешуа, который всей своей жизнью и поступками доказал отсутствие чувства страха, которое у людей при определенных обстоятельствах может перерасти (зачастую и перерастает) в порок (трусость).
- 338 -
Но у Иешуа высказывание о трусости как одном из главных человеческих пороков соседствовало непосредственно с прощением («никого не виню»). Оно предварялось пониманием этого порока как человеческой слабости, которая могла появиться в человеке совсем не по его собственной вине: человек создан смертным, следовательно, он может бояться смерти, — в отличие от сил высших, которые — вечны, смерти не знают.
У Воланда утверждение это, существуя в качестве допущения («Если верно, что...»), соседствует непосредственно с заключением: каким бы бесстрашным в таком случае ни был второй член этого союза, он «должен разделить участь того, кого любит».
Умозаключение Воланда по форме — как бы развернутая реплика в сторону, сжатый внутренний монолог, хотя произносится он при двух свидетелях (мастере и Маргарите). По смыслу — подведение черты под окончательным решением судеб героев.
Но Воланд, подведя своим умозаключением черту под «романом героев», все же ждет от мастера окончания его романа — решения судьбы Понтия Пилата. Но и мастер не спешит: он произносит его лишь после того, как узнает от Воланда, что Понтий Пилат прощен тем, кого он отправил на казнь (Иешуа).
В этой финальной сцене всех опережает Маргарита. Видя мучения Понтия Пилата, она первая взывает о прощении.
«— Отпустите его, — вдруг пронзительно крикнула Маргарита... — Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много?».
Интересно, что успокаивая ее («но, Маргарита, здесь не тревожьте себя»), Воланд произносит теперь сентенцию совсем в духе Иешуа: «Все будет правильно, на этом построен мир».
И только после того, как мастер отпускает своего героя, Понтия Пилата: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» — Воланд, в чьих руках оказываются последние нити судеб главных героев, завершает «роман героев», и завершает его не только в соответствии с собственным решением, но и с просьбой Иешуа («то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас»). Причем, наилучшим для обоих способом: сочинению мастера он предрекает долгую жизнь («Ваш роман принесет еще вам сюрпризы»), а самих героев, сопровождая в «царство покоя», дважды поправляет во время пути (первый раз, когда мастер устремляется за Понтием Пилатом:
- 339 -
«— Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер... — Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?»); второй раз, когда тот повернулся в сторону покинутого ими города («— ...что делать вам в подвальчике?» — 371).
Два предфинала двух важнейших сюжетов романа сведены к финалу воедино.
Стремлением понять человека и помочь ему избавиться от пороков и прегрешений и завершаются две важнейшие сюжетные линии «Мастера и Маргариты» (роман мастера о Понтии Пилате и «роман героев», мастера и Маргариты).
И не только они.
Этим же своеобразным альянсом, желанием найти общий язык в решении людских судеб заканчивается и сквозной скрытый диалог между Иешуа и Воландом, их диалог о человеке (тем самым и о самих себе, своих ролях в их судьбах), что проходил через все произведение Булгакова в качестве основного его внутреннего стержня.
Перед нами — пушкинская ситуация, разумеется, применительно к XX-му веку, в одном из сложнейших вопросов человеческой жизни: соотношении сил добра и зла, их участии в судьбах героев. Ситуация, которую относительно Пушкина так выразил В. Ходасевич: «И добро, и зло были для Пушкина составными частями того прекрасного, что зовется миром».28
В своем «закатном романе» Булгаков как бы восстанавливает — по отношению к двум кардинальнейшим для человека и человечества силам, добра и зла, — то редчайшее даже для мировой литературы качество, что характеризовало творчество лишь нескольких художников (Пушкина в русской литературе, Гете в немецкой, Шекспира в английской, Данте в итальянской, Сервантеса в испанской). Ситуацию равновеликого и равнозначимого участия каждой из сил в судьбах героев (но действующих, разумеется, сообразно своим методам и средствам).
Для убедительности напомним одну из сцен в «Фаусте» Гете, — небольшой, но решающий для этой трагедии момент, который часто не принимается исследователями во внимание. Между тем, для гетевской трагедии он является ключевым, а к роману Булгакова,
- 340 -
который открывается эпиграфом из «Фауста» («...Так кто ж ты, наконец?..»), он составляет многозначительную смысловую параллель.
Мы имеем в виду своеобразный разговор-договор Господа и Мефистофеля о судьбе человека (конкретно — Фауста) в «Прологе на небе» (третьей завязке гетевского «Фауста»). Он предшествует — и это очень важно — договору Мефистофеля с Фаустом уже в ходе самой трагедии.
В этом диалоге Мефистофеля с Господом важен не только сам факт договора о Фаусте. Важна и форма их беседы. А в ней — существенно все: и честное недовольство положением людей, высказываемое чертом творцу вселенной прямо в глаза.
— Я расскажу, как люди бьются, маясь.
Божок вселенной, человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.29
И — объясненье, зачем и как он оказался «в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услуженье»: «К тебе попал я, боже, на прием, / Чтоб доложить о нашем положенье».
Впрочем, Мефистофель, как ему и положено природой, не может удержаться от того, чтобы попутно ни задеть насмешкой свиту Господа («состоящих в услуженье») и тем самым выгодно отличить себя, при этом еще и апеллируя — не без лукавства — к господнему пониманию, в надежде на тайное одобрение им своей позиции:
Но если б я произносил тирады,
Как ангелов высокопарный лик,
Тебя бы насмешил я до упаду,
Когда бы ты смеяться не отвык.(135)
Зная и в этом меру, Мефистофель переходит сразу к сути дела: он выступает перед Господом ходатаем за судьбу человека, попутно даже выказывая вроде бы смущение от миссии, им же самим на себя возложенной, и от того, как может посмотреть на это Господь.
- 341 -
Я о планетах говорить стесняюсь,
Я расскажу, как люди бьются, маясь.(Там же)
Неоднозначной оказывается и реакция Господа на слова духа зла. Он начинает почти с выговора ему:
— И это все? Опять ты за свое?
Лишь жалобы да вечное нытье?
Так на земле все для тебя не так? —и получает в ответ не менее резонную реплику:
— Да, Господи, там беспросветный мрак.
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда.(136)
«Лукавый дух» вынуждает Господа — в качестве противовеса обрисованному им положению человека на земле — назвать имя хотя бы одного из достойных этого званья.
— Ты знаешь Фауста?
— Он доктор?
— Он мой раб.(Там же)
Подвергая сомненью это утверждение вседержителя вселенной («Да, странно этот эскулап / Справляет вам повинность божью»), Мефистофель сподвигает Господа заключить с ним пари.
— Он служит мне, и это налицо.
И выбьется из мрака мне в угоду.
— Поспоримте! Увидите воочью,
У вас я сумасброда отобью,
Немного взявши в выучку свою.(136—137)
Диалог Мефистофеля с Господом переходит в договор:
— Но дайте мне на это полномочья.
— Они тебе даны. Ты можешь гнать,
Пока он жив, его по всем уступам.
Кто ищет — вынужден блуждать…
- 342 -
Он отдан под твою опеку!
И, если можешь, низведи
В такую бездну человека,
Чтоб он тащился позади.
Ты проиграл наверняка.
Чутьем, по собственной охоте
Он вырвется из тупика.(137)
А завершается эта беседа-договор Мефистофеля с Господом совсем по-братски:
Господь
Таким, как ты, я никогда не враг.
Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи, и беспокой,
И раздражай его своей горячкой.Мефистофель (один)
Как речь его спокойна и мягка!
Мы ладим, отношений с ним не портя.
Прекрасная черта у старика
Так человечно думать и о черте(137—138)
Мы остановились на важной для нашего предмета сцене «Пролога» из «Фауста» в ее переводе Б. Пастернаком. — У Н. А. Холодковского, на чьем переводе базировался Булгаков, беря эпиграфом к роману слова Мефистофеля (в это время перевода Б. Пастернака еще не существовало), заключительные строки «Пролога на небе» звучали так:
Охотно старика я вижу иногда,
Хоть и держу язык; приятно убедиться,
Что даже важные такие господа
Умеют вежливо и с чертом обходиться!30
- 343 -
Смысл «Пролога» и существо договора между Мефистофелем и Господом из такого перевода делались совсем иными.
Зададимся на минуту вопросом: как могло бы строиться произведение Булгакова, если бы уже существовал пастернаковский перевод гетевского «Фауста»? Могли ли стать бы эпиграфом к «Мастеру и Маргарите» слова Мефистофеля, переведенные Пастернаком так:
— Ты кто?
— Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.(172)
Не явилось ли бы перед нами совсем иное творение, с иными героями, другим ходом развития сюжета?.. С иным даже авторским замыслом и, соответственно, другим бы его исполнением?..
Но что — интересно. Взяв эпиграфом слова Мефистофеля в переводе Холодковского
...Так кто ж ты, наконец?
— Я — часть той силы,
Что вечно хочет
Зла и вечно совершает
Благо, —Булгаков, тем не менее, всем ходом развития сюжетных линий романа подводит к пастернаковскому смыслу в понимании и показе соотношения этих двух сил.
Это, быть может, происходит оттого, что оба художника — и прозаик Булгаков, и поэт Пастернак, создавая каждый свое произведение в разное время и независимо один от другого (и один — оригинальное, второй — перевод из Гете), находились, между тем, в близкой ситуации, условно говоря, в ситуации пушкинско-гетевской. И один из них в конце своего творчества и в финале произведения подошел к тому, с чего второй начал свой перевод.
Но если в искусстве слова крупнейшие произведения русской литературы конца 30-х годов выходили на пушкинскую ситуацию, то в жизни этого периода, к великому сожалению и великой горести людей, совершалось нечто совсем обратное. Вместо пушкинской ситуации
- 344 -
гармонии, понимания и уважения одной епархии к другой, их альянса на решении судьбы человеческой, наступала ситуация, прогнозируемая в свое время Достоевским с его миром дисгармонии, темой «бесов» (в «Бесах») и «Легендой о великом Инквизиторе» (в «Братьях Карамазовых»).
———————————
1 Фадеев А. Собр. соч. в пяти томах. Том 5. М., 1961. С. 136. Далее ссылки на сочинения А. Фадеева даются по этому изданию в тексте, с указанием в скобках тома и страницы. Иные случаи оговариваются особо. Курсив в цитатах принадлежит Фадееву.
2 Близкое такому восприятию пушкинских строк, но уже не прозы, а поэзии и еще совсем раннего, лицейского периода, можно наблюдать у художника совершенно иного склада, чем Фадеев. «Меня всегда удивляло, как мало обращено внимания на то, что я вам сейчас напомню, как никогда об этом не говорилось», — писал Б. Пастернак В. Вс. Иванову 1 июля 1958 года, делясь с ним своим наблюдением: «Как иногда внутренне пуст и технически блестящ Пушкин-лицеист, как обгоняют, как опережают его средства выражения действительную надобность в них. Он уже может говорить обо всем, а говорить ему еще не о чем». Пастернак Борис. Собр. соч. в пяти томах. Том 5. М., 1992. С. 566.
Это свидетельствует если и не о доле объективности по отношению к Пушкину, то, во всяком случае, о некоторой общности взгляда у писателей «века нынешнего», с его сложнейшими вопросами и проблемами, на «век минувший».
3 Толстой Л. Н. ПСС (юбилейное издание). Том 46. М. — Л., 1934. С. 187—188.
4 Цит. по работе: Сквозников В. Д. Стиль Пушкина // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1965. С. 83, 82.
5 «...очень талантливо сделана книга Фадеева» (М. Горький) / «В нашей литературно-художественной жизни это событие (выход «Разгрома». — Л. К.) — значительное» (В. Фриче) / «В «Разгроме» совершен первый (и пока единственный) выход художника, принадлежащего к РАПП, из мира штампа и голого показа действительности в мир эстетического ее претворения, в идеальный мир Галатеи» (Д. Горбов). Критик видит в романе Фадеева «цельную, законченную систему, все части которой объединены и согласованы эстетическим замыслом автора».
Критики самых разных воззрений и убеждений сходятся в том, что «Разгром» Фадеева «одно из немногих художественных произведений, по которому будут изучать в будущем нашу эпоху».
- 345 -
Впервые вышедший в 1927 году отдельным изданием, уже в 1928 «Разгром» переводится на немецкий язык, а в 1929 — на английский, французский, испанский, чешский и японский.
«В конце двадцатых годов мы в Германии получили его первый роман — «Девятнадцать» (под таким названием «Разгром» был переведен на немецкий язык. — Л. К.)... какой сильный новый голос... Он продолжает великую традицию русской литературы» (И. Бехер).
6 Фадеев А. А. Собр. соч. в семи томах. Том VII. М., 1971. С. 45. Далее при цитировании по этому изданию ссылки даются в тексте, том — римской цифрой, страница арабской.
Здесь и далее курсив в цитатах Фадеева принадлежит писателю. Иные случаи оговариваются.
7 Фадеев А. «Разгром». Изд. 2. «Прибой». Л., 1929. С. 153.
В переизданиях романа «Разгром» в Собраниях сочинений Фадеева эта фраза не воспроизводится.
8 «...когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!». Гоголь Н. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» // Гоголь Н. В. Собр. соч. в шести томах. Том 6. М., 1959. С. 153.
9 Сквозников В. Д. Стиль Пушкина // Теория литературы. М., 1965. С. 69, 60, 61, 62.
10 Либединский Ю. Современники. М., 1958. С. 228.
11 Фадеевское «вольные сыны» (вместо пушкинского «бедные сыны») передает его личное восприятие людей и природы Дальнего Востока (свободных, «вольных»).
12 Речь идет, видимо, о записях Э. И. Шуб, связанных с ее замыслом документального фильма о Пушкине. Совместно с Ю. Тыняновым и В. Шкловским она в эти годы работала над фильмом о Пушкине. «Я решила попытаться сделать документальный фильм о Пушкине. Виктор Шкловский советует мне повидаться с Юрием Тыняновым...
И вот мы ходим с Юрием Николаевичем по взморью. Он говорит о Пушкине...
Его устраивает, что я хорошо знаю биографию, поэзию Пушкина, хорошо знаю поэтов пушкинской плеяды... Его интересовали возможности документального кино в создании такого биографического фильма. К концу дня я получаю его согласие писать сценарий...
По существу, это сценарий о родине. Тынянов хочет показать, как видел ее Пушкин в своей вынужденной скитальческой судьбе, как относился к ней, как отобразил ее в поэзии. Скитаясь, Пушкин впервые открыл для себя масштабы
- 346 -
России... Тынянов хотел... показать великолепную культуру, на которой был воспитан Пушкин. Кроме стихов поэта, Тынянов пытался использовать народные песни казаков, нищих, слепых, которые Пушкин записывал на сохранившемся еще до наших дней базаре. Грузинские, цыганские, татарские песни.
Пушкин был великим поэтом, но он был и великим гражданином своей родины. В изложении Ю. Н. Тынянова замысел был так интересен, что план был утвержден и договор подписан...
Работа двигалась... Сценарий начинал приобретать зримую форму...
И вдруг я неожиданно получаю письмо от Юрия Николаевича: «...я очень серьезно болен...».
...Все же мы не оставили мысли об этой теме. Решили осуществить сценарий по плану Тынянова. Сценарий был поручен Виктору Шкловскому... но сроки откладывались, и фильм этот так и не был сделан мною». Шуб Э. И. Жизнь моя — кинематограф. М., 1972. С. 217—220.
13 Шагинян М. Об искусстве и литературе. 1933—1957. Статьи и речи. М., 1958. С. 244.
14 Подробнее об этом см. в моих работах: Творческие искания А. Фадеева. М., 1965. С. 109—139; Художественный замысел и его воплощение (Фадеев в работе над рукописями романа «Последний из удэге») // Фадеев Александр. Материалы и исследования. Выпуск 2. М., 1984. С. 269—310.
15 В последующие издания (сборник «За тридцать лет», Собрания сочинений в пяти и семи томах) статья эта включалась под названием «О Пушкине». Быть может, потому, что следующее юбилейное выступление Фадеева о Пушкине (речь по случаю 150-летия со дня его рождения, произнесенная на торжественном заседании в Большом театре 6 июня 1949 года), печаталась под заглавием «Светлый и всеобъемлющий гений» («Литературная газета», 8 июня 1949 года).
16 У Пушкина — «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» (III, 390).
17 Гей Н. К. Об индивидуальной и типологической характеристике стиля // «Русская литература», 1970, № 4. С. 11—13.
18 Гей Н. К. Художественный синтез в стиле Пушкина // Теория литературных стилей. М., 1976. С. 142, 134, 131.
19 Вот полный текст фразы. «В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия», и в воздухе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои «шесть актов о заживании рта», а Шелли — «Песнь к защитникам свободы», в году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу, а Виктор Гюго получил почетный
- 347 -
отзыв французской академии за юношеские стихи, — в те времена, когда английский капитал завоевывал Австралию и Индию и Канаду и проникал в Китай, а доктрина Монро о невмешательстве европейцев в дела Западного полушария только вызревала, когда самыми большими рабовладельцами были графы Шереметьевы — хозяева почти ста тысяч ревизских душ и родоначальник миллионеров Морозовых — крепостной Савва откупился от помещика Рюмина за семнадцать тысяч рублей ассигнациями, когда зачиналось декабристское движение, зарождался либерализм в Европе и кончался ампир и Наполеон еще был жив на острове святой Елены, времена промышленного переворота, банков, английской политической экономии, утопического социализма, гегельянства, времена Вандербильта Первого, Роберта Оуэна, Бетховена, Грибоедова, Дениса Давыдова, «Руслана и Людмилы», — в эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры, мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гялондика» (1, 623—624).
20 Целостный анализ поэмы «Медный всадник» см. в книге: Борев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки. Опыт прочтения «Медного всадника». М., 1981.
21 В первых вариантах фадеевская фраза начиналась не с событий мирового плана, а с Масенды, точного указания на его возраст:
«Масенда жил так долго, что давно потерял счет годам, оставшимся за его плечами.
Этой осенью ему должно было исполниться ровно 101 год».
А после этого уже шел разворот событий «того самого года», когда родился Масенда. И начинался он не с Аахенского конгресса, а с прямой контрастной герою параллели: «Он родился в том самом году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу».
Мысль автора при выборе года первоначально вращалась вокруг двух важнейших для начала прошлого века событий: восстания декабристов и войны с Наполеоном, и Фадеев не раз фиксировал на бумаге эти даты: «1826» (казнь декабристов) и «1814» (победа над Наполеоном). Будучи уже связан 1919 годом (ходом происходящих в предшествующих частях романа событий), Фадеев не раз, соответственно одной из двух указанных дат, менял возраст героя («93» года, «105» лет), пока ни остановился на дате всех происходящих событий — «1818 год». Но в последних вариантах начала пятой части писатель снимает и эту дату, заменяя ее собирательной фразой: «В том самом году, когда...».
Факт внезапного «умолчания» точной даты событий, на поиск которой был затрачен немалый труд, сознательное неназывание года, столь знаменательного огромным количеством важнейших для мира событий, играет тройную роль. Оно максимально соответствует мышлению людей, еще не знавших
- 348 -
цифровых обозначений в современном их виде, а производящих счет годам по наиболее ярким, оставшимся в памяти народа событиям («Это было в год белок»; «Это случилось в год тигров» — будет сказано далее в повествовании); делает форму авторского повествования более обобщенной, а для читателя к тому же — интригующей, требующей для ее разгадки дополнительного напряжения и знаний.
22 Фадеев А. Выступление на всесоюзном совещании по оборонной художественной литературе (2 июня 1934 г.) // Фадеев Александр. Материалы и исследования. М., 1977. С. 27.
23 «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом! Весело, нечего сказать» (А. С. Пушкин. — 8, 392).
24 Фадеев А. О задачах советской литературы (5 августа 1934 г.) // Фадеев Александр. Материалы и исследования. М., 1977. С. 37.
Фадеев имел в виду пушкинские строки, открывающие «Домик в Коломне»:
I
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.II
А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.
К чему? скажите; уж и так мы голы.
Отныне в рифмы буду брать глаголы.III
Не стану их надменно браковать,
Как рекрутов, добившихся увечья,
Иль как коней, за их плохую стать, —
А подбирать союзы да наречья;
Из мелкой сволочи вербую рать.
- 349 -
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.(IV, 325—326)
25 А. А. Фадеев — К. Н. Стрельченко (1 августа 1953 г.) / Фадеев Александр. Письма. 1916—1956. М., 1967. С. 453—454.
26 См.: Григорай И. В. Проблема традиции и взгляды на художника, искусство и историю М. А. Булгакова-драматурга в 30-е годы («Кабала святош», «Последние дни», «Дон Кихот»). К/д. Л., 1982.
27 Булгаков М. А. Собр. соч. в пяти томах. Том 5. М., 1990. С. 17. Далее роман «Мастер и Маргарита» цитируется по этому изданию, с указанием в тексте страницы.
28 Ходасевич В. «Четыре звездочки взошли на небосклон...»: (Речь о Пушкине) // «Знамя», 1989. № 3. С. 203.
29 Гете. Фауст. (Перевод Б. Пастернака) // Гете Иоганн Вольфганг. Избранные произведения в двух томах. Том II. М., 1985. С. 136. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.
30 Гете. Собр. соч. в тринадцати томах. Юбил. изд. Том V. М., 1947. С. 60.
- 350 -
Вместо заключения
Когда-то мнимо неоспоримое влияние Байрона на Пушкина я считал действием на Пушкина самой английской формы… Я ошибался... ...Английская литература есть по преимуществу шекспировская, как всякая русская есть пушкинская. ...и во всех присутствует и через все говорит.
Б. Пастернак.
В 1927 году, когда русская литература стала поворачиваться «лицом к классике», к реализму (после «разливанного моря» всевозможнейших методов и стилей), редакция журнала «На литературном посту» обратилась к ряду писателей, в том числе и Б. Пастернаку, с просьбой ответить на следующие вопросы анкеты:
«1. Что вы подразумеваете под понятием «классическая литература»?
2. Знакомы ли вы с классической литературой?
3. Влияют ли классики на ваше творчество? Кто из классиков влияет?
4. Художественный метод какого классика вы считаете наиболее соответствующим отображением нашей современности?»
На эти вопросы Б. Пастернак ответил так:
«Под классиком я разумею писателя, который в своем творчестве дает пластическое подобие цельного мировоззрения. Классическая же литература есть совокупность таких произведений и тенденций, которые впоследствии принимаются за мировоззрение эпохи.
- 351 -
Читал классиков с детства.
В своей работе я чувствую влияние Пушкина. Пушкинская эстетика так широка и эластична, что допускает разные толкования в разном возрасте. Порывистая изобразительность Пушкина позволяет понимать его и импрессионистически, как я и понимал его лет пятнадцать назад, в соответствии с собственными вкусами и царившими тогда течениями в литературе. Сейчас это понимание у меня расширилось, и в него вошли элементы нравственного характера.
Возможности художественного метода не черпаются никогда из изучения современности. Каждый из нас связан с нею функционально... Мне кажется, что в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться от пушкинской эстетики. Под эстетикой же художника я понимаю его представление о природе искусства. О роли искусства в истории и о его собственной ответственности перед нею».1
Позднее, в «Заметках о Шекспире» (1940—1942 гг.), Пастернак сделал такую запись: «1. Пушкин — Борис Годунов, — общее влиянье Шекспировских начал одного направления с влиянием Арины Родионовны. Естественность, реалистическая полнота изображенья, разговорный язык. Дух простоты и правды» (4, 693).
В Отзыве на «Антологию английской поэзии» (1943 г.; строки из него приведены в эпиграфе) Пастернак развивал свою мысль так: «Когда-то мнимо неоспоримое влияние Байрона на Пушкина я считал действием на Пушкина самой английской формы. Встречался ли я с гением Китса или блеском Суинберна, за любой английской индивидуальностью мне мерещился чудодейственный повторяющийся придаток, который казался главной и скрытою причиной их притягательности, независимою от их различий. Это явление я относил к действию самой английской речи. Я ошибался.
Шекспир — величина слишком ошеломляющая, чтобы не служить объяснением любой странности, происходящей в его соседстве или в далекой преемственности. Английская литература есть по преимуществу шекспировская, как всякая русская есть пушкинская. Таинственный возбудитель, составляющий придаточную прелесть всякой английской строки, называется не ямб или пятистопник, а Вильям Шекспир и во всех присутствует и через все говорит.
Несущественно, что русское ответвление этой стихии, протянувшееся через Жуковского, Лермонтова, Аполлона Григорьева, Блока
- 352 -
и нескольких новейших, зарождено Байроном, подобно тому как Гейне был проводником германских влияний. Вместе с Байроном названный побег вышел из старого шекспировского ствола» (4, 700).
Не касаясь многочисленных в прозе второй половины XX-го века, особенно последних ее трех десятилетий, «приспособлений» Пушкина для себя и под себя (наш материал — проза классиков), бросим взгляд на два явления в ней, с нашей точки зрения, крупных и знаменательных и самих по себе, и в плане нашей темы.
«Эпос лирического стихотворения» (Д. С. Лихачев) — так очень точно был назван жанр романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».
В истории отечественной литературы, в истории жанра романа и в истории соотношений и связей с родоначальником русской литературы, Александром Сергеевичем Пушкиным, — это произведение играет роль своеобразного «переключателя»2 от первой половины XX-го века ко второй, от начал эпохи к ее концам.
Отсюда — особый знак, лежащий на всей его поэтике, знак, который условно можно назвать «пережитостью». Впрочем, сам писатель определил его и точнее, и поэтичнее:
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.«Пережитостью» живет художественный мир «Доктора Живаго», начиная с названия произведения и кончая его образностью, фабульными линиями, характерами и судьбами героев.
Фамилию главного героя, как замечено исследователями, можно рассматривать и как форму родительного падежа от слова «живой» в древнерусской литературе (живаго).3 Можно видеть в ней и прямую параллель с гетевским Фаустом4, или, напротив, своего рода оспаривание фаустовской темы (но не в гетевском произведении, а в «Докторе Фаусте» Т. Манна).5 Не исключена и косвенная ассоциация с символической фразой из «Кола Брюньона» («Жив курилка!»).
«Роман героев», Юрия и Лары, разворачивается и как напоминание о давних любовных линиях в классических сюжетах («Дафнис и Хлоя», «Ромео и Джульетта»), а отчасти и как отрицание, непроизвольное
- 353 -
оспаривание вариантов этих сюжетов в произведениях современников Пастернака (отношений Аксиньи и Григория в «Тихом Доне», мастера и Маргариты у Булгакова и других).
Образ и характер Павла Антипова, ставшего Стрельниковым (в народе прозванного «Расстрельниковым»), заставляет вспомнить одновременно и Павку Корчагина из романа Н. Островского, и Михаила Кошевого из «Тихого Дона». Фигура Комаровского, соблазнителя Лары, всей своей дешевой «маскарадностью» вызывает в памяти читателя фальшивый облик фон Мандро (он же «богушка», «папочка», Эдуард Эдуардович из трилогии А. Белого «Москва).
Стихийное явление природы — метель, образ которой в русской литературе принято всего более связывать с поэзией А. Блока (особенно в поэме «Двенадцать»), где она является синонимом свежего ветра, благих перемен, несущих — при всей своей стихийности — неминуемое, долгожданное обновление, или с пушкинской метелью в повести одноименного названия, перепутавшей случайно ситуацию (пушкинское «вдруг», «случай»), а также с метелью в «Капитанской дочке», — в отличие от такого рода ее художественных смыслов и как бы в их завершение — награждается автором многозначительным эпитетом «заблудившаяся». — Это очень точно и выразительно определяет характер «бытования» в современной жизни одной из самых ярких природных стихий.
К природе и среде, непосредственно окружающей героев, в которой проходит их жизнь, не раз прилагается характеристика «замусоренная».
Аналогично этим образам жизни органической определяются в романе и образы жизни социальной: война и революция, в атмосфере которых оказываются вынужденными жить герои, без конца попадают в тупиковые ситуации, как и сами герои и их судьбы.
Поступки и судьбы главных героев романа поистине тупиковы для сюжета и необъяснимы для них самих. Лара, снова поверив Комаровскому, натура и поведение которого ей были давно ясны и чужды, уезжает с ним, оставив любимого ею человека; Юрий, проведя последние годы жизни в новой своей семье, возникшей случайно, не по его желанию и воле, попадает и в столь же случайную ситуацию своей смерти, которая случается далеко не при героических обстоятельствах, а как бы в плену «замусоренной жизни» — в переполненном пассажирами трамвае.
- 354 -
И даже неожиданное появление в конце романа нового персонажа — Тани Безочередевой, которая оказывается дочерью Юры и Лары (от тех счастливых дней в Варыкино) — несет на себе печать «пережитости» и в буквальном, и в переносном смысле.6
Будучи поистине «переключателем» внутри эпохи от первой ее половины ко второй, «Доктор Живаго» в своей поэтике оказывается и «концом начала», и «началом конца».
Не случайно современному читателю может показаться, что произведение это написано не столько о революции 1917 года и сопровождавшей ее гражданской войне (по классической литературе первой половины века мы привыкли, большей частью, воспринимать эти события хотя и со знаком трагическим, печатью трагизма, но и как своего рода неизбежность исторического обновления жизни), сколько о дне сегодняшнем, второй русской революции в этом столетии и постперестроечной поре.
Широко понятая форма «пережитости», как доведение художественной традиции до конца, может вызвать ощущение, будто Пастернак своим произведением закрывает целую художественную эпоху. Тем более, что сам писатель в процессе работы над романом остро чувствовал и осознавал эту свою завершительную миссию (желание и необходимость «начать договаривать все до конца» — 3, 650).
Тупиковые ситуации судеб героев, замусоренная жизнь и природа, заблудившийся ход истории, маскарадность одних персонажей и резкая смена обликов других — все это создает впечатление, будто автор и вправду предугадал конечную судьбу описываемых явлений, поистине, «уловил в далеком отголоске», «что случилось на его веку». Что поэтикой своего произведения он завершил возможность художественно воссоздавать такие судьбы, таких героев, в таким образом складывающихся обстоятельствах (мировых войн и революций, глобальных катаклизмов, характеризовавших XX век в целом).
Именно такой, несколько художественно герметичной, может показаться поэтика «Доктора Живаго», если сосредоточиться в основном на сюжете его текста прозаического, а «Стихи Юрия Живаго», вынесенные автором в конец, считать своего рода приложением или своеобразным послесловием.
Но, видимо, не случайно стихи вынесены в конец романа, и не
- 355 -
случайно они образуют отдельную главу — последнюю, заключительную, семнадцатую часть романа (в «Докторе Живаго» главы называются «частями»).
Выполняя роль своеобразного эпилога к судьбе главного героя, продлевая ему «жизнь после жизни» и являясь одновременно послесловием к сюжету текста прозаического, «Стихи Юрия Живаго» играют для романа, вместе с тем, роль и более значительную, и более оригинальную.
Накладываясь в восприятии читателя на основной текст, подобно переводным картинкам, они совершают чудо преображения: открывают мир живых красок в мире «пережитости». Благодаря им форма «пережитости», как бы «окунувшись» в истоки романного жанра — в поэзию, лирику — и наполнившись там лирическим переживанием, преображается, обретает характер первичности (не будем забывать, что роман и в русской литературе, и в мировой возникал, «выходил» из рода лирического, проза рождалась из поэзии).
Сюжеты, мотивы, образы мировой литературы, сфокусированные в стихах Юрия Живаго и преломленные через него, выступают как личное переживание героем всего того, что случалось и продолжает случаться в человеческой истории.
Если прозаический текст «Доктора Живаго», подобно мертвой воде в русских народных сказках, как бы соединяет, сращивает ставшие неживыми, полуумершие части поэтики романного тела, то стихи Юрия Живаго, подобно живой воде из этих же сказок, воскрешают этот мир земной жизни. Внося «чувство первичности» в «ощущение действительности как попранной сказки» (3, 655), лирика восстанавливает и налаживает в романе (и для прозы в целом) живую, личную связь с поэтикой мировой литературы, ее глубоким, разносторонним арсеналом художественных средств. Создавая художественный мир, по собственному выражению, «в размере мировом», автор получает возможность «договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях» (3, 650).
Подобная мысль, но уже не по отношению к лирике, а к авторской позиции как «композиционному центру произведения» (А. Н. Толстой), возникает в ходе чтения другого крупного романа второй половины XX-го века, уже не столько «переключающего» ее поэтику от первой
- 356 -
половины века ко второй, сколько завершающего ее в XX-м веке. Мы говорим о «Пирамиде» Л. Леонова.
Леонида Леонова не случайно называют летописцем нашей эпохи. Единственный из классиков русской литературы советского времени, прошедший все его этапы, весь путь, он запечатлел в своем творчестве ситуации, конфликты, образы современников всех этих этапов в их характерности.
Высоко оценив его роман «Соть» («написана вкуснейшим, крепким, ясным языком», «слова у Леонова светятся», а действительность изображена с таким знанием, «как будто сам ее делал»), Горький в свое время определил позицию ее создателя как «вторжение подлинного искусства в подлинную действительность».7
Сам писатель назвал это эффектом «вольтовой дуги»: «Старое культурное наследие и те чрезвычайно поразительные вещи, свидетелями и прямыми участниками которых мы становились, были как бы двумя электродами. Получилось нечто воде вольтовой дуги...».8
А в центре этой «вольтовой дуги» оказывался сам автор.
Все ранее пройденные и осуществленные им в других своих произведениях авторские роли и позиции («очевидец», «гончар», «толмач», «ваятель», «следователь», «следователь по особо важным поручениям» — так определял их сам автор) — выступают в его последнем произведении в удивительном единстве. Не в слиянии, не в синтезе, не в поглощении новой формой, а в целокупности и цельности (что при таком обширнейшем материале, каковым является «Пирамида» в своих количественных и качественных размерах, весьма не просто). И дополняются еще одной позицией, возникающей как ответ автора на современность: «предостеречь средствами моего ремесла»; провозглашенная непосредственно в тексте произведения, она скрепляет произведение и сюжетно, и композиционно.
Автор в «Пирамиде» — добрый знакомый своего героя, Никанора Шамина, от которого он получает необходимые для ведения повествования сведения. Он же — очевидец всех необыкновенных событий в Старо-Федосееве, порой даже гость у своих героев, его особенно интересующих; некоторым из них он открыто симпатизирует, к другим, напротив, испытывает неприязнь, о третьих тревожится и переживает, — и обо всем этом он открыто делится с читателями.
В конечном итоге, позицию автора в сюжете и композиции последнего романа Л. Леонова можно определить как пушкинскую.
- 357 -
Имея в виду не Пушкина-прозаика, где он, как автор, непосредственно от своего имени не появлялся, а выступал в виде объективного повествователя («Капитанская дочка»), либо передоверял свои функции рассказчикам («Повести Белкина»), — а его роман в стихах «Евгений Онегин», где автор, подобно его героям, живет непосредственно в художественном мире своего произведения.
Словом, позиция автора в композиции «Пирамиды», произведения, жанр которого трудно определить, назвав его только романом (настолько он выходит за рамки этого явления), оказывается сходственной с той, в которой присутствовал автор «Евгения Онегина» в художественном мире созданного им произведения.
Это тем более интересно, что Л. Леонов в своих прямых высказываниях о великих русских писателях гораздо реже касался Пушкина, чем, скажем, Гоголя, Л. Толстого, Чехова, Достоевского, от которых он и вел, и выстраивал свою писательскую «родословную».
Более того. Написанная в год 100-летней годовщины со дня смерти Пушкина драма Л. Леонова «Метель», самим названием, казалось, так или иначе «наводя» на ассоциацию с пушкинской «Метелью» из «Повестей Белкина», была настолько безотносительна к ней — по сюжету, фабуле, героям, — что могла даже представляться вызовом общественному мнению, — чего, разумеется, у Л. Леонова ни в какой мере быть не могло.
«Как часто приходится доказывать, что личность автора всегда важнее темы его творения!.. Любая личность, но не любого художника» (10, 530), — говорил Л. Леонов, отстаивая право на свободу творчества.
Сложнейшая по теме, ходу сюжета, структуре и композиции «Пирамида» внутри каждого значительного фабульного отрезка завершается по-пушкински неожиданно.
А финал произведения, переполненного в ходе своего движения фантастической чертовщиной перипетий действительной истории самой действительности (за все ее десятилетия), разрешается совсем как в пушкинском «Гробовщике»: все химеры сюжета переводятся в мир реальной жизни. Ангел Дымков улетает туда, откуда и прилетел; режиссера Сорокина жизнь в буквальном смысле вытряхивает и приземляет на землю. Даже судьба Дуни, существа почти неземного, далекого от реальной жизни (по народному определению — «не от мира сего»), с которой связаны были основные фабульные линии
- 358 -
романа и из-за непроизвольных поступков которой и совершались многие фантастические происшествия в нем, кончается — сверх всякого ожидания (весьма подготовленного автором к катастрофическому финалу) — вполне благополучно и по-земному реалистично. Как можно заключить из «разговоров» (автора с Никанором Шаминым, родителей Дуни между собой), она будет и «верная супруга, и добродетельная мать» в глазах «не ожидавшего от нее этого» автора (но, в отличие от автора «Онегина», ничуть этим не удивленного, лишь сообщившего читателю, не без доли мягкой иронии: «Дуня стала полноценной передовой женщиной, супругой видного профессора и матерью его многочисленных мальчиков и девочек»9).
Не удивленного, поскольку «парадоксальность парадоксальной пушкинской Татьяны», иными словами, «парадоксальность объективности», как выражался Б. Пастернак, «перевернулась на другой бок».
«Когда Пушкин сказал... «а знаете, Татьяна моя собирается замуж», то в его времена это было, вероятно, новым, свежим выраженьем этого чувства.
Захватывающая парадоксальность ощущенья была гениально скопирована высказанным парадоксом. Но именно этот-то парадокс и прокурен и облит вином на Сивцевом Вражке и издолблен в лепешку по гимназиям.
Может быть, только оттого парадоксальность объективности перевернулась в наши (мои и твои) дни на другой бок.
Он менее парадоксален. Для выраженья того чувства, о котором я говорю, Пушкин должен был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю, кто ее написал. Как поэт он выше меня» (5, 175).
Свои «парадоксальные» мысли, но очень точно выражающие современный поворот пушкинской линии, Б. Пастернак в письме к Марине Цветаевой (откуда и приведена цитата) завершает так: «Все упомянутое и занесенное, дорогое и памятное стоит как поставили и самоуправничает в жизненности, как его парадоксальная Татьяна, — но тут нельзя останавливаться и надо прибавить: и ты вечно со всем этим, там, среди этого всего, в этом Пражском притоне или на мосту, с которого бросаются матери с незаконорожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше себя: что ты там, в произведеньи, а не в авторстве.
- 359 -
Потому что твоим гощеньем в произведеньи эмпирика поставлена на голову. Дни идут и не уходят и не сменяются. Ты одновременно в разных местах» (там же).
«Смерти не будет» — одно из предполагаемых первоначальных названий последнего романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (3, 652) — может быть самым непосредственным образом переадресовано пушкинской линии в русской литературе, на какой бы «бок» она ни «повернулась» в связи с новыми обстоятельствами.
———————————
1 Пастернак Борис. Собр. соч. в пяти томах. Том четвертый. М., 1991. С. 622. Далее цитаты из сочинений Б. Пастернака даются по этому изданию в тексте, с указанием в скобках тома и страницы. Курсив в цитатах принадлежит писателю.
2 Удачно примененное к Чехову слово в работе Н. В. Драгомирецкой «М. А. Шолохов и чеховские традиции». По мысли исследовательницы, «В стилевом процессе русской литературы Чехов выполняет роль не выказывающего себя, но незаменимого «переключателя», который стилевую проблематику XIX века трансформирует в стилевую проблематику века ХХ. У Шолохова с Чеховым отдаленная, но несомненная близость образов, мотивов, форм. В известном смысле можно сказать, что Шолохов, писатель ХХ века, выявляет и «продлевает» возможности, заложенные в методе Чехова, в открытых Чеховым формах» // Шолохов Михаил. Статьи и исследования. М., 1975. С. 145—146.
3 В таком контексте шли авторские поиски имени главного героя, свидетельством чему — сохранившийся черновой фрагмент с зачеркнутым названием: «Записки Живульта», где налицо близость «тождественных по смыслу имен-эмблем» (3, 645).
4 Среди первоначальных рабочих названий романа было и такое: «Опыт русского Фауста»; отброшенное автором в качестве заглавия, оно сохранилось внутри его смысла (3, 659).
5 Вряд ли следует абсолютно исключать и отдаленный контраст к многосерийной детективной истории далеко не профессионального писателя («Тайна профессора Бураго»), истории, весьма популярной в годы работы Б. Пастернака над его романом и, как всякий детектив, могущей своей назойливой навязчивостью (в момент его бытования) отдаленно отложиться в памяти и столь же быстро забыться (сразу после схода со сцены).
6 Данная ей фамилия («варварская, безобразная кличка» — 3, 501), ее облик; история ее безродной жизни, которую она поведала другу умершего
- 360 -
Юрия Живаго; народная присказка в ее рассказе («Ой, батюшки светы»), тут же дополняемая современным обращением («дорогие товарищи»), — все это несомненные приметы «конца эпохи», ее тоже «безочередности» в исторической череде веков и предвестие начала новой.
И появляется это «безотчее» дитя своего времени — почти как в детективном жанре; а если посмотреть со стороны классических традиций — то как «deus ex machina» в современном варианте, ибо появление ее разрешает тупиковую ситуацию сюжета и открывает перспективу в финале сюжета. — Черта, наиболее присущая русскому роману второй половины XIX и ХХ вв. (можно вспомнить Николеньку, сына князя Андрея в «Войне и мире»; сестру Лизы Калитиной, Леночку, в «Дворянском гнезде»; Колю Красоткина в «Братьях Карамазовых»; Мишатку, сына Григория Мелехова в «Тихом Доне», Ванюшку из «Судьбы человека» и многих других).
7 Горький М. Собр. соч. в тридцати томах. Том 30. М., 1955. С. 186.
8 Леонов Л. Собр. соч. в десяти томах. Том 10. М., 1985. С. 37. Далее ссылки на сочинения Л. Леонова даются по этому изданию в тексте, с указанием тома и страницы. Разрядка принадлежит Л. Леонову.
9 Леонов Леонид. Пирамида. Роман-наваждение в трех частях. 2. М., 1994. С. 524.
- 361 -
Оглавление
Введение
5
Глава первая
Горький и Пушкин
(Связь времен. Свет поэзии в прозе)11
Глава вторая
Пушкин в мире прозы «сдвинутых
вещей», «смещенных понятий»
(Зощенко, Олеша, Платонов)162
Глава третья
Неосознанный Пушкин
в «Тихом Доне» Шолохова
(Черты поэтики)238
Глава четвертая
Пушкинские идеалы
в художественных замыслах ФадееваПушкинские реалии
в «Мастере и Маргарите» Булгакова288
Вместо заключения
350
- 362 -
Научное издание
Л. Ф. Киселева
Пушкин в мире русской прозы XX века
Технический редактор Т. А. Заика
Оригинал-макет изготовлен в компьютерном зале
ИМЛИ им. А. М. Горького РАНЛР № 020961 от 17.02.95
Формат 60х84 1/16. Гарнитура академическая. Печать офсетная.
Печ. л. 23.00. Тираж 1000 экз.Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, «Наследие»
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а.Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6. Заказ №636
<Список иллюстраций
1.
2.
С. 27. Горький А. М. Предисловие к сочинениям А. С. Пушкина для американских читателей [1926]. Архив А. М. Горького. ПрГ 2-6-1, л. 3.
3.
С. 86. Пометы А. М. Горького в 3-м томе «Сочинений и писем А. С. Пушкина» (1903 г., под ред. П. О. Морозова). Музей А. М. Горького. ОЛБГ № 2680.
4.
С. 97. Горький А. М. История русской литературы [1908—1909]. Архив А. М. Горького. ЛСГ 2-17-1, л. 113.
5.
С. 127. Пометы А. М. Горького в 3-м томе «Сочинений и писем А. С. Пушкина» (1903 г., под ред. П. О. Морозова). Музей А. М. Горького. ОЛБГ № 2680.
6.
С. 305. Страница рукописи письма А. А. Фадеева П. А. Павленко. РГАЛИ. Ф. 2199, оп. 3, ед. хр. 181, л. 20.>