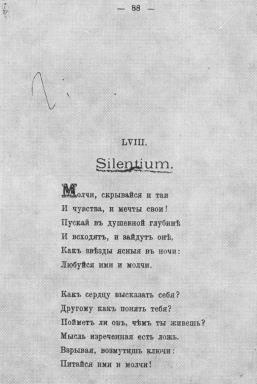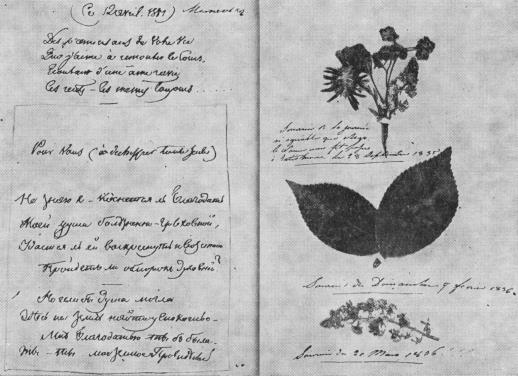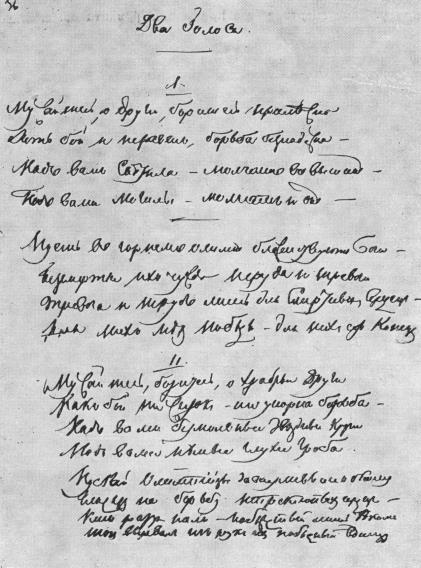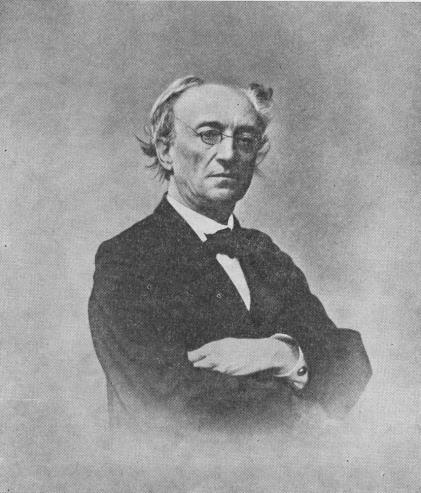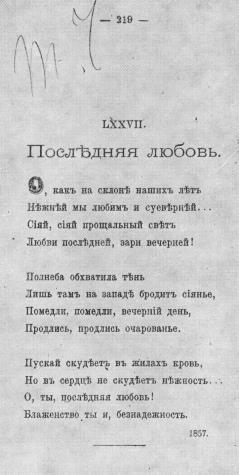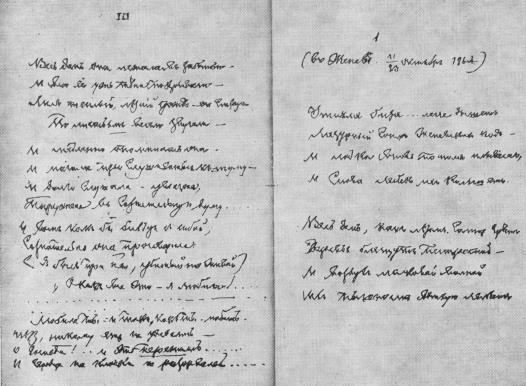- 13 -
МИР, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК
В ЛИРИКЕ ТЮТЧЕВАСтатья И. В. Петровой
Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.Пушкин
Гёте как-то обронил фразу, ставшую крылатой: «Wer den Dichter will verstehen // Muss in Dichters Lande gehen»*. Тютчевская страна необычна — то залита солнечным светом, то покрыта сумрачными тенями; ее легко обойти, но трудно измерить. Раздумья поэта о мире, жизни, человеке глубоки, часто горестны и всегда согреты чувством, осердечены.
Тютчев, несомненно, великий трагический поэт. Стихи Тютчева — великолепный по точности и тонкости камертон, отзывавшийся на глубинные процессы жизни. Свет и тени в его поэзии отражают свет и тени самой действительности, столь богатой событиями, столь сложной и противоречивой. Трагические ноты усиливаются у него в 1850—1870-е годы, и это вполне объяснимо как фактами биографии, так и фактами истории, по-своему отразившимися в сердце и сознании художника. «Когда в воздухе собирается гроза, то великие поэты чувствуют эту грозу»1, — эти слова, сказанные художником, внутренне близким Тютчеву, многое объясняют и в его поэзии. Тютчев мог страшиться социальных бурь, но он остро чувствовал и художественно-гениально показал разложение, распад старого, устойчивого, «спокойного» мира, показал, не столько воспроизведя самую действительность, сколько отобразив чувства, ощущения, мысли человека, рожденные этой действительностью. Покоя нет, уюта нет — этой прославленной поэтической формулой можно определить внутреннюю, то скрыто, то явно выступающую центральную тему тютчевской поэзии, с такой страстной силой зазвучавшую в начале XX столетия в творчестве Блока.
В лирике Тютчева мы обнаруживаем и тему столкновения личности и общества, одну из важнейших тем всей передовой русской литературы. Перенеся социальный, в сущности, конфликт в план этико-философский, Тютчев, тем не менее, достигает большой силы в осуждении и отрицании бесчеловечных моральных законов, господствовавших в обществе. Реальная жизнь со всей ее сложностью и болью отразилась в его лирике.
В сознании либерально-народнической критики Тютчев был «старейшим жрецом чистого искусства»2. Со своей стороны, русские модернисты авторитетом Тютчева «не только поэта, но и пророка, учителя жизни» пытались оправдать свою воинствующую безобщественность, свое бегство из современности в «сияющие твердыни духа». Вместе с тем уже современники Тютчева, наиболее тонко и глубоко воспринимавшие его поэзию, находили в ней правду человеческих переживаний и поисков, отзвук эпохи, «отпечаток русского ума, русской души»3, «глубокую думу», возбужденную «вопросами нравственными, интересами общественной жизни»4.
Увидеть в этой поэзии то, что связывает ее со временем, — совсем не значит низвести лирические обобщения поэта до плоскостных и преходящих сентенций, вызванных «злобой дня». Время по-своему оживает в творчестве каждого художника. Именно боль времени, как и своеобразная «проекция во времени», делают такими напряженными и такими волнующими раздумья Тютчева. Но вопрос писатель и время имеет всегда еще один аспект: что́ писатель оставит человечеству,
- 14 -
что́ в творчестве художника переживет его время и станет достоянием других эпох?
Иллюстрация:
АЛЬМАНАХ «СЕВЕРНАЯ ЛИРА НА 1827 ГОД»
Издатели С. Е. Раич и Д. П. Ознобишин. М., 1827
Здесь было опубликовано семь стихотворений Тютчева, присланных им Раичу из Мюнхена
Обложка (гравюра В. Скотникова) и страница со стихотворением «С чужой стороны»
В тютчевской поэзии мы не найдем характерного для большинства поэтов XIX века стремления определить свое место в русской литературе, отгадать свою поэтическую судьбу. Поэт рассказал «историю своей души», но в этой рассказанной им истории не только правда времени, в ней заключены громадные ценности человеческого духа — могучий интеллект, отзывчивость и страстность сердца, тонкое чувство природы, неуспокоенность и несмиренность души.
Мотивы безысходного страдания, отчаянья и одиночества, какое бы значительное место они ни занимали в поэзии Тютчева, далеко не исчерпывают собой всего творчества. Восторг перед вечно живой красотой земли, буйство чувств, упоение жизнью даже «и бездны мрачной на краю», свет и добро обновляющегося весеннего мира также составляют существенную сторону его поэзии. Можно даже сказать, что чувство жизни становится в стихотворениях позднего Тютчева особенно острым, он словно пытается продлить прекрасное мгновение, насладиться и мимолетным очарованием радуги, и колдовской прелестью летних дней, и последней любовью. «Блаженство и безнадежность» — в сущности, эти знаменитые тютчевские слова определяют самое ощущение жизни в произведениях последних десятилетий.
Разумеется, мировоззрение писателя во многом определило решение ряда проблем; человек в его поэзии, при всей своей любви к жизни, приходит в конце концов к мысли о гибели, бесследном исчезновении всего, чем он «дышал и жил». В поэзии Тютчева переплетаются самые, казалось бы, противостоящие друг другу картины, чувства, образы, но его поэтический мир по-своему
- 15 -
целен; эта своеобразная сцементированность его «лирической мозаики» ощутима уже в 1820—1830-е годы.
Иллюстрация:
ЖУРНАЛ «ГАЛАТЕЯ»
1830, часть XVI, № 27В этом журнале (издатель С. Е. Раич) в 1829—1830 гг. было опубликовано 20 стихотворений Тютчева,
присланных им Раичу из МюнхенаТитульный лист и страница со стихотворением «Сны»
Тютчев-поэт стремится показать прежде всего мир человеческой души, где с огромной разрушительной силой действуют противоборствующие страсти и желания. В его поэзии человек, личность, собственно, в центре всего. Причем мы найдем у Тютчева утверждение реальной ценности человека, наделенного великим даром мысли, чувства, познания прекрасного, хотя сам поэт не раз говорил о бессилии человека, о темной стороне его психики и сознания. В его поэзии жива формула «Двух голосов» — этого своеобразного гимна борющимся и не смирившимся. Тютчев славит борьбу, «вечный бой» как наиболее живое, естественное проявление человеческой природы. Мятежная в существе своем стихия человеческой души волнует и привлекает поэта, и для поэтического воссоздания ее он находит строгие и сумрачные образы, полные трагического напряжения и вызова.
Чуткость к самому движению истории, протест против жестокости и лицемерия моральных законов, по которым живет общество, высота нравственных требований к человеку роднят Тютчева с самыми ищущими, «неспокойными» художниками русской литературы — Достоевским, Л. Толстым, Блоком. Его поэзия, столь оригинальная и необычная, со своим кругом тем и образов, находилась на магистральной линии развития русской литературы XIX столетия.
- 16 -
1
Рассматривая поэзию Тютчева лишь как поэзию «философскую», мы не поймем ни ее своеобразия, ни ее прелести. Этот поэт, говорящий с нами часто высоким слогом оратора и пророка, был менее всего рассудочным поэтом, склонным к изложению философских сентенций. Особенность его мышления, его своеобразного постижения мира заключалась в стремлении охватить предмет в целом, увидеть связи и внутренние закономерности как больших мировых явлений, так и человеческих судеб. Вероятнее всего, именно это вызывало его интерес к определенным философским системам, пытающимся нарисовать грандиозную и целостную картину мира. Юность Тютчева протекала в то время, когда еще достаточно ощутимо было влияние Шеллинга. Ему рукоплескали не только немецкие романтики. Яркий, дерзкий, «он широко раскрыл двери философствования, и в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы; теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них все дремлющие силы» — так охарактеризовал молодого Шеллинга Энгельс5. Природа оказалась живой, таинственной, великолепной поэмой, «откровением более древним, чем все писанные откровения»6. Великий художник, Гёте разделял шеллинговскую идею «живой связи и единства всех естественных вещей, развития <...> постоянной метаморфозы»7.
Сквозь нагромождение странных примеров и фантастических утверждений в натурфилософских работах Шеллинга пробивалась идея движения; закон дуализма и полярности утверждался как основной закон природы. Отголоски несомненного знакомства с Шеллингом, как не раз указывали исследователи творчества Тютчева, чувствуются во многих (особенно ранних) произведениях поэта, хотя его отношение к знаменитому философу было лишено какого бы то ни было безоговорочного пиетета. Тютчева нельзя назвать просто «шеллингианцем»; он был самостоятельным и глубоким мыслителем, а главное — поэтом; за привычными романтическими конструкциями стояли собственное ви́дение мира, свои раздумья, надежды и своя боль. Так, мысль Тютчева о полярности идет не столько от Шеллинга, сколько от его собственного восприятия живой и противоречивой действительности, от его собственного понимания и осмысления исторических событий, наконец, от его натуры, его психического склада. И как бы ни были интересны для поэта философские системы Шеллинга, Гегеля, а возможно, и Шопенгауэра, — не от них он будет идти к жизни и не ими будет мерить свою поэзию. Поиски обязательного и конкретного «философского адреса» чаще всего могут лишь увести нас от глубинной сути его поэтических раздумий8.
Для тютчевского миропостижения уже в первые десятилетия творчества поэта характерно ощущение бесконечных «концов» и «начал», из которых и состоит движение Истории. Драматически напряженные «взрывы», «катаклизмы» оказываются включенными в общий поток Истории. «Взрыв», «хаос перед новым творением» не становятся лишь неоправданным отклонением в ходе мировой истории. Не случайно И. С. Аксаков, первый биограф поэта, всей системой своих убеждений и всем складом своей личности враждебный как раз «хаосу» и «катаклизмам», счел нужным пояснить отношение Тютчева к революции как к чему-то, имеющему «логическую, законную причинность»; поэт, по мнению Аксакова, в революции «как в зеркале наблюдал отражение минувших и грядущих явлений»9. В сознании Тютчева порой самым волнующим и оказывается то состояние, которое ведет от мира сущего к миру грядущему. С этим связана у Тютчева и особая (иной раз почти болезненная) острота восприятия времени. Так, например, несколько неожиданными представляются слова двадцатипятилетнего поэта о «погребальном голосе» часов, который он слышит пугающе-отчетливо: «А нас, друзья, и наше время // Давно забвеньем занесло!» (I, 182*; «занесло», а не «заносит», настоящее уже оказывается прошлым). Проще
- 17 -
всего было бы в стихотворении «Бессоница» (1829) увидеть одну из вариаций на привычную и у русских, и у европейских романтиков тему ускользающего времени. Но тютчевское стихотворение очень серьезно, а главное — мысли и образы его отзовутся впоследствии во многих произведениях поэта. «Пророчески-прощальный глас» времени соединяет в себе и то, что уходит, и то, что будет: «И наша жизнь стоит пред нами, // Как призрак, на краю земли <...> // И новое, младое племя // Меж тем на солнце расцвело» (I, 18; курсив мой. — И. П.); поэтическая формула оказывается необычайно емкой и диалектически сложной. Уже в эти годы настоящее не ощущается поэтом как нечто прочное, устойчивое, долговечное10. Он словно пытается вырваться из одномерности времени: настоящее представляется прошлым, человек как бы одновременно существует в двух временны́х отрезках. Даже в тех произведениях, где время словно остановилось, ибо наступил апокалипсический «конец света», нет в полном смысле ощущения «конца»11. В метафизически-зыбком образе, завершающем «Последний катаклизм» («Все зримое опять покроют воды, // И Божий лик изобразится в них» (1, 22), есть чувство своеобразного равновесия между первоначальной стихией и «личностным» началом, способным дать толчок жизни. Но дело, конечно, не в подобных позднедеистических представлениях поэта, а в сознании бесконечности, безграничности миросуществования. И это своеобразная «подпочва», которую можно обнаружить в самых безотрадных пророчествах поэта.
В работах о Тютчеве неоднократно — и совершенно справедливо — отмечалось свойственное поэту противопоставление «вечного» и «мгновенного», возрождающейся жизни природы и обреченного на неминуемый конец человеческого существования. У Тютчева мы найдем бесчисленные вариации на эту тему — то горестные, даже отчаянно-протестующие, то равнодушно-усталые. «Мгновенное» и «вечное» необыкновенно интересно сопоставлено (и противопоставлено) поэтом в стихотворении 1830-х годов «Сижу задумчив и один», его антитетические ряды очень сложны и многослойны. Поэт, как и в «Бессонице», вначале своеобразно сдвигает временны́е моменты; упорядоченность и связность временно́й структуры оказывается по-своему нарушенной: «Былое — были ли когда? // Что ныне — будет ли всегда?.. // И снова будет всё, что есть» (I, 70; курсив мой. — И. П.).
В литературе о Тютчеве не раз связывались имена Державина и Тютчева. И это стихотворение также дает основание соотнести их имена — близость некоторых строк очевидна, вплоть до повторения отдельных образов: «вечности жерлом пожрется» (Державин) — «И канет в темное жерло» (Тютчев). Но эта сопоставимость внешняя. У Державина («Река времен в своем стремленьи...») весь образный строй стихотворения утверждает абсолютность «ужасного приговора», который время вершит над человеком и всем человеческим («уносит»... «топит»... «пожрется»... «общей не уйдет судьбы»)12; у Тютчева — не просто результат, а процесс, движение, смена одних явлений другими. Этот процесс возникает то как абсолютная повторяемость («И снова будет всё, что есть»), то как возрождение близких явлений («... с новым летом новый злак // И лист иной»). У двух поэтов не столько разные решения одной темы, сколько разные типы художественного мышления13.
В стихотворении «Сижу задумчив и один...» есть свойственная Тютчеву тревожность (не только не ушедшая из его поэзии в 1850—1860-е годы, но и ставшая эмоциональной и психологической атмосферой большинства произведений последних десятилетий жизни поэта). Вопросы, как ступени, по которым скользит, падает мысль в заповедные, смущающие душу глубины. И кого вопрошает поэт? Вечность? Свое бедное сердце, потрясенное призрачностью прекрасного былого, зыбкостью настоящего и ужасной определенностью будущего, беспощадного к отдельному человеку и его личностным ценностям? Тревожная пульсация строк-вопросов и усталая безнадежность ответов (с употреблением ритмически укороченной двухударной и даже одноударной «жесткой» строки: «Былое — было ли когда? Что ныне — будет ли всегда?.. // Оно пройдет
- 18 -
<...> // Но ты, мой бедный, бледный цвет, // Тебе уж возрожденья нет, // Не расцветешь!» — I, 70—71) составляют неповторимую эмоциональную атмосферу этого стихотворения «о пределе» и бесконечности, о движении времени.
Законы отдельного человеческого бытия нередко соотнесены у Тютчева с Историей (что само по себе было чрезвычайно плодотворным). И в этом двуединстве (Человек — История) тема «концов — начал» особенно существенна, хотя конкретные проявления исторического процесса представляются поэту часто трагическими, а порой и непонятными. Ощущение соотнесенности «малого» с «большим», человека с мировой жизнью — одна из характернейших особенностей Тютчева-поэта. В этом плане интересно рассмотреть ряд его произведений 1820—1830-х годов, внешне мало, а то и совсем не связанных друг с другом: «14-ое декабря 1825» — отклик на восстание декабристов, «Цицерон» — стихотворение, вероятно, вызванное революционными событиями во Франции 1830 г., и «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834).
Пути истории величавы и трагичны, люди, пытающиеся диктовать ей свои условия, обречены — так понимает Тютчев декабризм. Однако и в этом стихотворении, где, казалось бы, настолько определенно выражено отрицательное и негодующее отношение к первым русским революционерам и настолько (по сравнению с тем же Пушкиным) антиисторична оценка их деятельности, начинает звучать высокая нота, с тех пор характерная для тютчевского понимания Истории: он называет погибших «жертвами» (хотя бы и «мысли безрассудной»); их пролитая кровь, дымясь (как на жертвеннике!), сверкнула на «вековой громаде льдов». И дело не только в том, что свое отечество он представляет «царством льдов». Как бы Тютчев ни осуждал декабристов, они у него — не случайные «пасынки» эпохи, их подвигли на бунт «самовластье», определенный «порядок вещей», господствующий в обществе («Вас развратило Самовластье» — II, 58), хотя кара и представляется поэту оправданной14.
В «Цицероне» — сама творящая История, ее «роковые», «кровавые» моменты. Интересно поставить вопрос, почему Тютчев взял для воплощения своей мысли римский «рубеж». (Разумеется, современных «рубежей» касаться было опасно, но история предоставляла много других примеров.) Вероятно, с малых лет известные русскому образованному человеку события римской истории (в том числе воспринятые и через русскую поэзию) делали историческую символику понятной, помогали своеобразной «проекции» во времени. Тютчева волновало не одно конкретное историческое событие (даже такое значительное, например, как французская революция 1830 г.), а определенная повторяемость событий, их закономерность: «средь бурь гражданских и тревоги» (I, 36) жил человек в глубокой древности, эти же бури отмечают и современную поэту жизнь (в стихотворении 1850 г. «Поэзия» общественное бытие характеризуется словами, заставляющими вспомнить «Цицерона»: человек живет «среди громов, среди огней, // Среди клокочущих страстей, // В стихийном, пламенном раздоре» — I, 119). Причем Тютчева интересует момент «меж настоящим и грядущим», когда в сумятице, крови и бурях свершается историческое миротворение15. Отсюда диалектика образов и оценок поэта. Конец одной исторической эпохи («... прощаясь с римской славой, // С Капитолийской высоты // Во всем величьи видел ты // Закат звезды ее кровавой»), скорбь человека, чей мир ушел (выражено это с подлинной гениальностью: «Я поздно встал — и на дороге // Застигнут ночью Рима был!»), сочетаются не с понятием «предел», а с утверждением величия «высоких зрелищ». В самой структуре стихотворения скорбящее «Я» «оратора римского» сменяется объективированным (хотя и не выступающим прямо) «Я» поэта с его решительным: «Блажен, кто посетил сей мир // В его минуты роковые!» (I, 36). Антитетический принцип композиции, воплощенный в самом строфическом делении (в первой строфе определяющими оказываются лексические значения слов «ночь», «закат», во втором — «пир», «бессмертие»), в конечном итоге как бы снимается, и перед нами вновь «миг движения», неостановимого и неудержимого16. Приобщение человека к истории воспринимается в «Цицероне» не трагически, а скорее празднично, причем элемент созерцания,
- 19 -
неучастия не имеет характера абсолюта, ибо «высоких зрелищ зритель» был допущен «на пир», прикоснулся к историческому миротворению. В этом поэтическом контексте слово «зритель» теряет свой прямой смысл и может быть понято и как созерцатель, и как соучастник. Мысль, воплощенная в «Цицероне», останется в самой глубине и поздних исторических раздумий поэта. Даже в период работы над оставшимся незавершенным трактатом «Россия и Запад», замысел которого возник (что тоже характерно!) в связи с раздумьями над все теми же революционными потрясениями, Тютчев будет писать о революции слогом «Цицерона»: он скажет о ее «грозном господстве над Вселенной», и сам ход мировых событий будет освещен в сознании поэта ее «неумолимым светом». Да и прямой поэтический отклик Тютчева на европейские революционные события 1848 года («Море и утес») поражает не только своеобразным восторгом перед мощью взбунтовавшейся стихии, но и ощущением гнетущей мертвенной неподвижности того, что ей противостоит:
Иллюстрация:
«ДЕННИЦА. АЛЬМАНАХ НА 1831 ГОД»
Издатель М. А. Максимович. М., 1831
Здесь было опубликовано три стихотворения Тютчева
Титульный лист и страница со стихотворением «Цицерон»
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
< ...........>
И без вою, и без бою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...(I, 104)17
- 20 -
С годами станут трагичнее раздумья поэта, безнадежнее прогнозы, но отношение к революции, как хотя и враждебному, но великому событию, останется неизменным.
В общую систему представлений о человеке, о его судьбе, характерную для творчества Тютчева 1820—1830-х годов, своеобразно вписывается и стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834)18. Тютчевские строки на первый взгляд кажутся неожиданными. Действительно, откуда у молодого Тютчева, вполне равнодушного в эти годы к религиозным системам, скорее «язычника» в своей поэзии, нежели христианина, такой интерес к судьбе «высокого учения» лютеран. Двумя годами позже в стихотворении «И гроб опущен уж в могилу...» протестантский пастор будет изображен поэтом с явным оттенком иронии, а самая проповедь («Вещает бренность человечью, // Грехопаденье, кровь Христа» — I, 63) оставит ощущение откровенного лицедейства. И не дала ли «храмина пустая» лютеран лишь толчок работе поэтической мысли?
Вот эти строки:
Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.(I, 53)
Стихотворение поражает своей строгой графичностью: в нем нет красок — есть линии, есть ощущение пространства, пустоты и молчания. Внешняя скудость и бедность образов, вернее освобожденность их от всего как язычески-пышного, так и цепко-житейского, свидетельствуют об аскезе и подвижничестве, о «высокости» «чистого», «духовного» начала: «Сих голых стен, сей храмины пустой // Понятно мне высокое ученье» (курсив мой. — И. П.). Определенное явление духовной жизни людей (здесь «вера» — понятие многозначное) взято в его последнем напряжении («Но час настал, пробил...»), опять, как и в «Цицероне», последняя черта, «порог»: «Еще она (вера. — И. П.) не перешла порогу, // Но дом ее уж пуст и гол стоит, — // Еще она не перешла порогу, // Еще за ней не затворилась дверь...» Сама конструкция фразы, повторенная дважды, говорит об этом последнем драматическом мгновении. В анафорическом строении поэтических фраз, в лексическом усилении значений близких слов (не просто «настал», но «пробил») — грозное ожидание конца, своеобразного катаклизма, за которым — неизведанное: «Молитесь богу, // В последний раз вы молитесь теперь». Мир оказывается вновь «в дороге, а не у пристани» — и это то, что несла с собой, что утверждала тревожная муза поэта.
Так по видимости далекие друг другу стихотворения соединены, сцементированы общностью основных исходных представлений Тютчева о мире в его динамике и вечных превращениях.
Неслучайным оказывается и пристрастие поэта к переходным явлениям и в природе, ко всему, что несет с собой изменение, что в конечном итоге связано с понятием «движение»19.
В ранней лирике Тютчева человек включен в «мировой ритм», он чувствует родственную близость ко всем стихиям (воды, воздуха, огня), ко всему, что составляет мир матери-Земли. Этот мир величав, торжествен, словно в первый день творенья:
Душой весны природа ожила,
И блещет все в торжественном покое:
Лазурь небес, и море голубое,
И дивная гробница, и скала!(«Могила Наполеона» — I, 13)
Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.(«Летний вечер» — I, 16)
- 21 -
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.(«Видение» — I, 17)
Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сонм горит.(«Как сладко дремлет сад темнозеленый...» — I, 74)
Грандиозность изображаемого мира определит во многом и своеобразное восприятие человека в тютчевской лирике первых десятилетий. Он принадлежит и «дневной», и «ночной» стихиям мира («родимым» оказывается не только Хаос, но и космос, «все звуки жизни благодатной»); он сознает себя сопричастным беспредельности мира.
Человек одновременно ощущает и малость, и колоссальность своего индивидуального бытия: «... не дано ничтожной пыли // Дышать божественным огнем», «Я, царь земли, прирос к земли», но: «По высям творенья, как бог, я шагал // И мир подо мною недвижный сиял» (I, 10, 77, 51).
Жизнь человека на грани «двух миров», во власти двух стихий, возможно, и объясняет такое пристрастие к поэтическому образу — символу сна, сновидения. Сон становится своеобразной формой существования, в котором грани, отделяющие Хаос от сияющего лика «дневного» мира, зыбки, подвижны, порой неуловимы.
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.(I, 29)
В этом прославленном стихотворении сны и стихия Хаоса оказываются понятиями одного смыслового ряда. Сны освобождают человека от сковывающей упорядоченности «дневного» бытия и уносят его в «неизмеримость темных волн».
Очень близкая мысль и в стихотворении «Как сладко дремлет сад темнозеленый...»:
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул...Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..I, 74)
Но «сны» у Тютчева соотнесены и с гармоническим, светлым миром. Сон в его поэзии бывает и «благодатным», и «волшебным», и «младенчески-прекрасным», и всеохватным — «всезрящим». Позднее Тютчев с образом «сна» будет чаще связывать ощущение благодатного покоя:
Сны играют на просторе
Под магической луной —
И баюкает их море
Тихоструйною волной.(«По равнине вод лазурной...» — I, 110)
В одном из самых значительных стихотворений конца 1820-х — начала 1830-х годов («Сон на море») «сон» не имеет четких эмоционально-смысловых границ. «Болезненно-яркий, волшебно-немой», он и противостоит одновременно стихии, грохоту «пучины морской», и не может оторвать человека от реального грозного мира (здесь сон скорее «всезрящий», соединивший «две беспредельности»,
- 22 -
своевольно играющие человеком). Образы-символы стихотворения не только говорят о существовании человека на грани сна и яви, покоя и бури, но и как бы бесконечно раздвигают возможности человека, показывают огромность его места в мировой жизни. В звучащей, живой, грозной природе он не потерян, не раздавлен, он, «как бог». Отзвуки этого безмерного удивления перед мощью человека будут живы и в его поздней, порой такой горькой, лирике. Интересно отметить еще одну сторону этого удивительного стихотворения: Тютчев — романтик — своеобразный романтик! — «область видений и снов» делает болезненной («в лучах огневицы развил он (сон. — И. П.) свой мир»), не только не подменяющей реальную жизнь, но отступающей перед ее великой первородностью:
Но все грёзы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.(I, 51; курсив мой. — И. П.)
Если в творчестве Тютчева 1820—1830-х годов человек соотнесен с историей и многоаспектно — с природой, то понятия «общество» в его социально-исторической конкретности в первые десятилетия творчества у Тютчева, по существу, нет. Сетования на «бесчувственную толпу», понимание «большого света» как чего-то враждебного, строки о «нескромном шуме» людских толп и потерянности человека, чуждого «суесловью», — все это весьма характерно для лирического «реквизита» поэта-романтика. Но дело не в известной тематике, а в ее конкретном, поэтическом воплощении. В границах привычных романтических коллизий заключен, замкнут непривычный, необычайно глубокий мир человеческой личности.
Отъединенность человека от «толпы» в стихотворениях первых десятилетий творчества — как правило, акт свободной воли. Сам человек испытывает потребность ухода, разрыва, и жизнь еще представляет ему право выбора:
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..(«Silentium!» — I, 46)
Как осуществляется категорический императив поэта («Молчи, скрывайся и таи» — I, 46), свидетельствует написанное несколько лет спустя стихотворение «Душа моя — Элизиум теней...». Некрасову стихотворение «чрезвычайно» понравилось, но показалось непонятным и даже загадочным («странное по содержанию, но производящее на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета»)20. И случилось это, конечно, не потому, что мир романтических образов был чужд Некрасову: он сам прошел через своеобразный романтический «искус». Совершенная поэтическая миниатюра Тютчева была действительно необычна, и понять ее смысл можно, лишь включив этот «фрагмент» (по известной терминологии Ю. Н. Тынянова) в общую систему мыслей и образов поэта. Внешний, так сказать, верхний «слой» поэтической мысли как раз обычен: отчужденность человека от суетного общества, от пошлой и «бесчувственной» толпы — это то, что романтическая поэзия — и русская, и европейская — положила в основу романтического мироощущения вообще. И сам образ «Элизия», и его поэтическое употребление были привычны как для европейского, так и для русского читателя. В. А. Жуковский еще в 1812 г. переводит стихотворение Матиссона «Элизиум», придав некую «сладостную» зыбкость образу (владения «доброго гения смерти» там, «где источника журчанье, // Как далекий отзыв лир, // Где печаль, забыв роптанье,
- 23 -
// Обретает сладкий мир»)21. В это же примерно время пишет свой «Элизий» К. Н. Батюшков. В противовес Жуковскому, «мир усопших» у Батюшкова весьма полнокровен, пластичен и упоителен («... бог любви прелестной // Проведет нас по цветам // В тот Элизий, где все тает // Чувством неги и любви, // Где любовник воскресает // С новым пламенем в крови»)22. В начале 1830-х годов появляется «Мой Элизий» Е. А. Баратынского. Со всей определенностью уже в первых строках поэт пишет:
Иллюстрация:
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Картина С. Ф. Щедрина (масло), 1828
Третьяковская галерея, Москва
Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.При всей внешней близости образа (память — Элизий, душа — Элизиум) Баратынскому оказываются чужды признания, подобные тютчевским («Душа моя — Элизиум теней, // Что общего меж жизнью и тобою...»), ибо сам «мир теней» в памяти этого поэта — «мир живой»:
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты23.Интересно, что в эти же годы и Лермонтов в «Элизийские поля» хочет перенести всю силу и напряженность земной страсти.
У Тютчева привычное сцепление образов: живое — мертвое своеобразно разомкнуто, изменено: живая душа оказывается «Элизием» — царством мертвых, обиталищем бесплотных теней. «Есть целый мир в душе твоей // Таинственно-волшебных дум», — утверждал поэт в «Silentium!» — и этот «целый мир» — «Элизиум»:
- 24 -
Иллюстрация:
ЗИМНЯЯ ДОРОГА
Картина А. К. Саврасова (масло), 1870-е годы
Художественный музей Белорусской ССР, Минск
Душа моя — Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных.(I, 66)
И все эти ни (ни помыслам... ни радостям... ни горю) естественно приводят к утверждению полной чуждости души «живой жизни»: «что общего меж жизнью и тобою» — меж тем, что ушло, умерло «призраки минувших, лучших дней»), и бытием толпы. Обычное противопоставление (герой — толпа) обретает в плоти художественного образа многогранность и драматизм. Гармонически-стройное, «беспечальное» стихотворение «Душа моя — Элизиум теней...», включенное в систему лирических образов и представлений Тютчева, обнаруживает свой глубинный — и, несомненно, скорбный — смысл, ибо в его поэтическом мире полное отчуждение от «живой жизни» не есть спасение, благо (когда «пророчески-печальный глас» станет для Тютчева не метафорой, а ужасающей реальностью, с какой безнадежностью он скажет: «Живая жизнь давно уж позади» — I, 224; курсив мой — И. П.)24. Он был навек повенчан с жизнью и с праздничной победительной силой воспел мир земной красоты:
Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!
Духо́в бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.Что пред тобой утеха рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая
Румяный свет, златые сны?..(I, 73)
Несомненно, и в прославленном «Silentium!», и в строках «Душа моя — Элизиум теней...» противопоставление «Я» — «не-Я», т. е. другим, жизни, объективно воспринимается как человеческая трагедия, причем трагедия, несущая на себе печать времени. Не случайно, например, исследователи сопоставляли
- 25 -
«Silentium!» с кругом лермонтовских идей и образов, хотя этот «уход души в свои глубины» и заявлен, что было отмечено выше, как акт свободной воли26.
Если представить мир в поэзии Тютчева 1820—1830-х годов в его основных, общих очертаниях, то бросается в глаза укрупненность всего, что «есть он». Это — небо, земля, горы, это — мирозданье, а рядом с ним — человек.
Когда же поэт соотносит человека с Историей, он чаще всего берет общие — и опять колоссальные — явления, обычно в достаточной степени абстрагированные от конкретных событий — взрывы и движение мировой Истории.
Мир позднего Тютчева имеет несколько иные очертания; мы из просторов мироздания попадаем на землю; ее грешный шум, боль и разлад ее сынов, прослеженные в отдельной человеческой судьбе, составляют основное содержание его поэтических откровений последних лет.
Между 1830-ми и 1850-ми годами пролегло десятилетие, полное исторических «катаклизмов», политических пророчеств и страстного самоубеждения. Начинаются годы пристального «всматривания» в русскую действительность: здесь и тоскливая скука путешествий в родной Овстуг, и бьющая в глаза убогость деревень, и пустынные дороги, и административная глупость, и подлость правительственной России, трагедия общего, трагедия частного — все это определит характер его поэтических раздумий. Такого детального, психологически-конкретного изображения отдельной человеческой судьбы, как в «денисьевском цикле», не было у раннего Тютчева. Но и в его позднем творчестве мы обнаружим ту же резкую полярность восприятий. Чем труднее, чем обреченнее живет человек, тем сильнее, сладостнее любит он землю. Сияющий зеленый мир появляется у него даже в трагичнейшем из стихотворений о смерти («Весь день она лежала в забытьи...»). Его краски то чисты и звонки, то грустно-нежны. И именно поздний Тютчев разлад и смуту человеческой души противопоставит «согласью полному в природе».
2
Мир в поэзии Тютчева предстает перед нами в контрастном освещении, причем контрастен и его внешний, переданный в красках и звуках облик, контрастны и те внутренние ощущения, которые рождают в читателе созданные поэтом образы. Все вместе составляет одну целостную картину, сцепленную из резко различных элементов. Иногда эти контрасты как бы снимаются поэтом, грань между явлениями стирается; красота начинает источать зло и смерть, а обаяние любви представляется таким же неотразимо прекрасным, как и ужасное обаяние смерти. Контрастность останется существеннейшей особенностью в поэзии позднего Тютчева, меняется лишь характер контраста. Так, по существу в конце 1840-х годов и в последующие десятилетия будет развернуто намеченное еще в ранней лирике Тютчева сопоставление Юга и Севера. Именно в эти годы приобретает оно вполне конкретный исторический смысл. Тогда же появится противопоставление естественного чувства и безобразной противоестественной морали, господствующей в обществе. Да и в самом человеке, в той большой неповторимой личности, которая запечатлена в поэтических созданиях Тютчева, мы найдем все те же противоположные моменты: силу чувства и бессилие воли, способность не покоряться тому, что узаконено и принято большинством, и невозможность защитить все то, что дорого и свято.
Трагизм Тютчева сродни трагизму Достоевского, хотя у последнего он гораздо более социален. К поэзии Тютчева близок и высокий трагический пафос Блока26. Как бы ни была опутана душа «страхами и мглами», в какую бы бездну ни пришлось заглянуть человеку, он сохраняет способность мыслить, судить себя и мир, чувствовать красоту. Так и у Достоевского «из недр земли трагической» вырывается порой гимн жизни, величию человеческого разума и человеческой воли. Так и лирический герой поэта XX в. Александра Блока, падая и оступаясь, сохранит способность глубоко любить, верить, искать, ненавидеть.
- 26 -
Трагическое ощущение жизни, ее острых противоречий определяет и трагизм человеческой судьбы.
Интересно проследить, как реализуется у Тютчева и наполняется живым ощущением времени излюбленная антитеза Юг — Север. В этом противопоставлении, как всегда у Тютчева, много различных граней, тонких оттенков. Юг ассоциируется с самим понятием жизни, полноты и радости существования; с ним связано представление о молодости, расцвете человеческих чувств. В картинах «блаженного юга», возникающих в многочисленных стихотворениях поэта, варьируются устойчивые образные компоненты — пространственные и живописные: горы, светлые долины, лазурь небес и лазурь моря, лавры и кипарисы, золотые облака и золотистый виноград. В предельной светоносности многих картин есть что-то близкое праздничным итальянским зарисовкам и пейзажам К. Брюллова и С. Щедрина с их эффектной декоративностью27:
Лавров стройных колыханье
Зыблет воздух голубой,
Моря тихое дыханье
Провевает летний зной,Целый день на солнце зреет
Золотистый виноград,
Баснословной былью веет
Из-под мраморных аркад...(I, 111)
И хотя поэт признает, что этот «край иной» — «родимый край // Словно прадедов виною // Для сынов погибший рай», он смотрит на него часто как на прекрасное произведение искусства, радуясь, восхищаясь, но чувствуя себя здесь, «на золотом, на светлом юге», пришельцем.
Порой контраст Юг — Север обнажен, открыто выговорен поэтом («Давно ль, давно, о юг блаженный...», «Глядел я, стоя над Невою...», «Вновь твои я вижу очи...»). В первом из этих стихотворений Юг — синоним первозданной нерасчлененности «светлого мира», его прекрасной гармонии. Эта мысль была еще в раннем стихотворении «Утро в горах» с его ликующим праздничным «запевом»:
Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.(I, 19)
Поэт, «пришлец», в пении «великих Средиземных волн» слышит музыку природы, он ощущает всю прелесть и полноту бытия:
И песнь их, как во время оно,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла...Они все те же и поныне —
Все так же блещут и звучат;
По их лазоревой равнине
Святые призраки скользят.(I, 92)
И как мучительная, болезненная антитеза «светлому миру» — «свинцовый небосклон», готовый раздавить человека, ужас «царства вьюги», «рубежа земли». Этот антитетический образный ряд сохранится у Тютчева во всех произведениях, где есть прямая соотнесенность Юга и Севера.
Только в поздних трагических стихотворениях 1864-го года («Утихла биза... легче дышит...», «О этот юг, о эта Ницца...») «блаженный юг» — уже не прибежище и не отрада. Он остался таким же ослепительно-прекрасным, но человек в муке одиночества, в беспредельности своей потери и своего душевного сиротства видит только привычную повторяемость великолепных картин, потерявших свою целительную силу; блеск этого мира лишь тревожит сердце потрясенного человека. Однако привычное у Тютчева противопоставление Юга и Севера имеет еще один, внутренний — и очень важный — смысл: это два мира — это те же Европа и Россия, но только странно смещенные, сдвинутые с тех привычных мест, которые определил для них Тютчев-публицист. Это основные антиномии
- 27 -
Иллюстрация:
В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ
Литография К. Шультца по рисунку И. Мейера, 1850-е годы
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
его политической прозы, но уже парадоксально направленные против «пророческих» вещаний самого поэта. У молодого Тютчева с представлением о родном Севере мы столкнемся лишь дважды, но показан Север весьма характерно. В уже цитированном стихотворении «14-ое декабря 1825», давая оценку движению декабристов, Тютчев неожиданно заговорил на их языке или, во всяком случае, на языке, им понятном. «Вечный полюс» — так впервые представил он себе императорскую Россию. В 1830 г., в один из приездов на родину, он пишет коротенькое стихотворение, в котором скудость, бедность родной земли рождают чувство мертвенности, оцепенения, молчания («Здесь, где так вяло свод небесный...»). В середине 1840-х годов Тютчев возвращается на родину, исполненный веры в могущество «Великой империи», но странно, облик родного Севера не только не меняет своих очертаний, но и с еще большей болезненной резкостью напоминает поэту о «сне железном», о полном отсутствии живой деятельности. «Дело мнения» сталкивается с непосредственным поэтическим восприятием действительности, и вместо «земли обетованной» поэт встречает «страну слез». Ряд стихотворений связан у Тютчева с вполне конкретным образом современной поэту России. Эти стихотворения очень разные: исполненные пронзительно тоскующей любви строки «Эти бедные селенья...» и стихи, навеянные встречей с родным гнездом («Итак, опять увиделся я с вами...»), лирическое признание «Вновь твои я вижу очи...» и путевые зарисовки с их глубоким внутренним смыслом («На возвратном пути»). Это, наконец, стихотворения, посвященные любимому Царскому Селу («Осенней позднею порою...» — 1858, «Тихо в озере струится...» — 1866). Чаще всего Север безобразен, ибо безжизнен («сновиденьем безобразным скрылся Север роковой...» — I, 111; курсив мой. — И. П.), но в двух последних стихотворениях перед нами картина истинной красоты, тонкого очарования:
- 28 -
Осенней позднею порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою
Как бы дремотою объят,
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле...
И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени
Октябрьских ранних вечеров —
И сад темнеет, как дуброва,
И при звездах из тьмы ночной,
Как отблеск славного былого,Выходит купол золотой...
(I, 177)
Удивительно это стихотворение. Одно из самых «сладкозвучных», построенное на изысканно-мягких звукосочетаниях, выговоренное негромко, со своеобразным внутренним «распевом», оно рисует тихий, уснувший, «очарованный мир». Звуковой рисунок напевен и утончен. Слова, как части музыкальной фразы: ее еще долго слышишь, после того, как она отзвучала. Так «поется» вторая часть первой строфы, опорные звуки составляют своеобразную «песню без слов» для голоса, так они чисты, наполнены вольным и широким дыханием.
Не менее изысканны и чуть «размыты» краски: мягкое (ночное) сияние золотого, матово-серебристого, призрачно-белого. Застывшие воды озера неподвижны, напоминают поверхность стекла, и царскосельские лебеди («белокрылые виденья») не отражаются, а именно «коснеют» в полумгле. «Сумрачные тени» покрывают этот великолепный, таинственный, почти не реальный мир — говоря словами самого поэта, сказанными по другому поводу, — «мир волшебный, но отживший». Вся эта покорившая поэта красота им самим воспринимается как «отблеск славного былого». То же очарование былого и в стихотворении «Тихо в озере струится...». Недаром поэт несколько раз повторяет («много в озеро глядится // Достославностей былых»; «Здесь былое чудно веет // Обаянием своим»; «Здесь великое былое // Словно дышит в забытьи» — I, 208; курсив мой. — И. П.). Этому миру свойственны неподвижность, оцепенение, дремотность:
Дремлет сладко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимолетной
Лебединых голосов... (I, 208)Мир былого прекрасен, но призрачен; он рождает в душе печаль и сожаление.
Как же поэт ощущает современную ему Россию, что он видит в ней, какие мысли рождают у него ее просторы?
В 1844 г. он создает первое стихотворение, написанное после возвращения из-за границы, оно посвящено Петербургу: «Глядел я, стоя над Невой...». «Грустно-молчалив», пристально вглядывается поэт в открывшуюся перед ним картину города:
Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.<............>
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?(I, 101)
Перед нами «оледенелое», «заколдованное» царство («О Север, Север-чародей!»), противопоставленное тем странам, «где солнце греет». Но не только «мертвый лик» города рисует Тютчев. Главное в стихотворении не сам пейзаж, а его восприятие человеком, мучительное, тоскливое чувство обреченного на жизнь в «ледяном царстве» (Тютчев находит очень точное слово: «Иль в самом деле я прикован к гранитной полосе твоей?»). Здесь, действительно, контраст имеет «не только географическое и биографическое, но и политическое» значение28. Официальная императорская Россия в глубине души рождает странные для благонамеренного чиновника и уж совсем недопустимые для «идеолога» «Великой
- 29 -
империи», каким иногда ощущал себя Тютчев, чувства тоски и безнадежности.
Еще резче о Петербурге — императорской столице — он напишет четыре года спустя во французском стихотворении «Un ciel lourd que la nuit bien avant l’heure assiège...». Нависшее небо, застывшая ледяная глыба реки, нити снежной пыли на гранитных набережных — холод и смерть. «Le monde recule, // Le monde des vivants <...> // Et, bercée aux lueurs d’un vague crépuscule, // Le pôle attire à lui sa fidèle cité...»3* (II, 245).
С удивительной настойчивостью, из стихотворения в стихотворение переходят картины мертвенного покоя, мрака, холода, пустынного, безлюдного, а следовательно, и безжизненного простора («Русской женщине», «Итак, опять увиделся я с вами...», «На возвратном пути»)29. «Безлюдный» — один из постоянных эпитетов, который применяет Тютчев к родному краю. Нужно представить себе личность поэта, чтобы понять, какой смысл вложил он в это слово. Не было для него ничего мучительнее, тяжелее безлюдья. Путешествуя по дорогам России или наезжая в родной Овстуг, Тютчев испытывал болезненно-тягостное чувство затерянности. Подобное психологическое состояние, столь определенно отразившееся и в его письмах, и в его лирике, помимо всего уже отмеченного, вызвано было еще и неспособностью почувствовать «эти бедные селенья» чем-то бесконечно близким себе. Они воспринимаются им как бы со стороны. Тютчев искренно желал народу добра. В стихотворении «Над этой темною толпой...» открыто высказано отношение поэта к злу крепостного права, это же отрицание рабства во многом определило и высокую оценку им тургеневских «Записок охотника».
Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..(I, 169)
Слово «Свобода» не подлежит двузначному толкованию, но оно и никак не противоречит тому ожиданию освобождения народа, которое характерно было для части дворянского общества (и для непосредственного окружения поэта тоже).
Тютчев верил в высокое предназначение своего отечества (как бы он ни ошибался при этом в конкретном толковании подобного «предназначения»). Истинным и глубоким патриотизмом продиктованы строки поэта:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.(I, 210)
В его знаменитом стихотворении «Эти бедные селенья...» есть и любовь, и печаль, и вера:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.(I, 161)
Не случайно оно так взволновало Шевченко30, а Чернышевский назвал его «прекрасным»31. И все же Тютчев — поэт и мыслитель — видел прежде всего
- 30 -
скудость родной земли и «долготерпенье» русского народа. Его современник Некрасов писал:
Иллюстрация:
ДЕРЕВНЯ
Картина Ф. А. Васильева (масло), 1869
Русский музей, ЛенинградСпасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!Этот простор для Некрасова был населен; он сроднился с ним — чувство, которое не суждено было испытать Тютчеву. Ему не дано было увидеть «сияющий лик» России. В его лирическом рассказе о ней есть и правда, и честность32. Пожалуй, с особенной яркостью это сказалось в «Русской женщине» и в диптихе «На возвратном пути» («Грустный вид и грустный час...» и «Родной ландшафт...»).
Эти на первый взгляд столь разные миниатюры Тютчева посвящены судьбе человека в его отечестве. Восприятие русской действительности в «Русской женщине» близко всем тем, кто задыхался в стране «кнута и казармы», кто мучился в «николаевской тюрьме». В этом стихотворении нет определенного социального адреса, как, например, в близкой по мысли некрасовской «Тройке»33, хотя оба поэта говорят о тяжелой участи русской женщины («бесполезно угасшая сила и никем не согретая грудь»). Просто перед нами кусочек жизни со всей ее мучительной правдой. Исполнен сочувствия и печали голос поэта:
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...
- 31 -
Он предрекает женщине, что ее жизнь пройдет бесцельно и бесследно,
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле.(I, 115)
Есть здесь в самой мелодии звуков, в словесных повторах, в обилии близких определений (близких и семантически, и музыкально) какая-то страдальческая, горестная покорность. Трижды со все усиливающейся нотой безнадежности звучит тютчевское вдали (вдали от солнца... от света... от жизни), отделяя резкой чертой мир радости от мира скорби; завораживающая тоскливая пустынность в повторяющихся звуках, в тончайших смысловых оттенках поставленных рядом слов (в краю безлюдном, безымянном, // на незамеченной земле, // на небе тусклом и туманном).
Добролюбова поразили тютчевские строки; он увидел в них отражение определенных, типических явлений николаевской эпохи: «безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России»34.
В 1859 г. те же образы возникают в стихотворении «Родной ландшафт... Под дымчатым навесом...» (из диптиха «На возвратном пути»). Десятилетие, разделяющее эти два стихотворения, было очень емким для Тютчева. Он пережил события Крымской войны и связанное с этой войной сильнейшее разочарование в правительственных верхах. И теперь, в годы подготовки крестьянской реформы, появляется это глубоко-печальное стихотворение. Оно может служить своеобразным поэтическим комментарием к его письмам того времени, где так много скептицизма и неверия в наступившую с новым царствованием «оттепель».
Молодую же Россию, Россию демократическую, революционную, Тютчев знал плохо и был ей враждебен. Картина земли —«родного ландшафта» — с угрюмыми лесами «под дымчатым навесом огромной тучи снеговой», с редкими пятнами «стоячих вод, покрытых первым льдом», органически переходит в раздумья о жизни человека здесь, в «пусто-необъятном» краю, где все так голо, так уныло, где даже романтический месяц, это непременное украшение пейзажа, воспринимается как «призрак гробовой» в затерянной, «безлюдной» пустыне. И так же, как в «Русской женщине» (еще резче!), подчеркнуты безжизненность, мертвенность, оцепенение, охватывающее душу человека («Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья — жизнь отошла...»). Человек подчинился невеселой судьбе, он почти нереален («... покорясь судьбе, // В каком-то забытьи изнеможенья, // Здесь человек лишь снится сам себе»). И как прекрасное видение опять возникает далекая «страна молодости», где осталась частица души поэта, — «...края, где радужные горы // В лазурные глядятся озера» (I, 178—179).
Этим же ощущением проникнуто прекрасное стихотворение Тютчева о людском горе, людских слезах, часто безвестных и незримых (опять тот же образ, отнесенный уже непосредственно к страдающему человеку). Осенний дождь заставил поэта почувствовать бесконечность и беспросветность человеческих страданий. Совершенная образная структура стихотворения с характерными для Тютчева смысловыми и звуковыми повторами, единая стиховая «вязь» строк делают пугающе ощутимыми эти «безвестные», «неисчислимые» слезы — символ горестного удела человека.
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые, —
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.(I, 112)
- 32 -
Разумеется, в душе Тютчева жил, не мог не жить иной образ Родины. Ведь как ни общи его посвященные природе стихотворения, многие из них навеяны прелестью родных полей, очарованием прохладной русской осени, блеском красок «чародейной» русской зимы. Но нами были взяты те стихотворения, в которых не только воспроизведены глазом увиденные картины, но дано также очень определенное ощущение современной поэту жизни. Ощущение это было безрадостным. Так большая правда времени вошла в его поэзию, и к тем проклятиям николаевскому царствованию, которые мы найдем в произведениях наиболее передовых и гуманных умов России XIX века, должны быть присоединены и эти стихотворения поэта. В них характерное, типическое; правдивый рассказ о том, что чувствовал незаурядный русский человек, как воспринимал он жизнь в «христианской империи» — «святом ковчеге» — величие и благодетельность которой он тщился доказать в своих политических статьях35. Это очень своеобразная и сильная страница тютчевской поэзии.
3
Молодой Тютчев тревожно и жадно прислушивался к шуму ночного ветра: «О чем ты воешь, ветр ночной? // О чем так сетуешь безумно?..»; он умолял «стихию» не трогать своим «буйством» душу, заранее уверенный в бесполезности мольбы: «О, страшных песен сих не пой // Про древний хаос, про родимый <...> // О, бурь заснувших не буди — // Под ними хаос шевелится!» (I, 57). В этом родстве для Тютчева был свой глубокий и таинственный смысл. Хаос, бурная, слепая, разрушительная и созидающая сила в творящей природе, и та же темная, роковая сила в человеческой душе. Потом эта параллель потеряет всю свою напряженную страстность, странно истает, и на смену придет усталое и равнодушное признание:
Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь — в заключении, там — на просторе, —
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.(I, 137)
Как уже отмечалось, Тютчев удивительно остро чувствовал и красоту бытия, и ужас действительности с ее противоречиями. Может быть, основной, все другое определяющий контраст его поэзии и заключается в этом: в ощущении многоцветной, сияющей, торжествующей прелести земли, радости познания, глубины чувства и мысли, с одной стороны, и в утверждении призрачности, хрупкости жизни, болезненно-сложных, «роковых» сторон человеческого существования — с другой. Это два полюса, между которыми как бы заключена его поэзия. Причем в своем упоении жизнью Тютчев самозабвенен:
Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурьИ опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!(I, 140)
Поэт откликается на все голоса жизни, и в этом есть что-то от пушкинского восприятия бытия. «Огни и грозы» горят в поэзии Тютчева неугасимо, не ослабленные, не уничтоженные мукой и болью. Но не менее сильным (особенно у позднего Тютчева) становится сознание жизненного трагизма: однажды Тютчев назвал мир «одичалым» («...все гуще сходят тени // На одичалый мир земной» — II, 234). Картины жизни в его творчестве — это прежде всего то, что он видел, почувствовал, пережил сам. Разумеется, вопрос о связи поэта с его
- 33 -
временем решается по-разному. Судьба, характер, взгляды — все отразится, отстоится в рассказе «о времени и о себе».
В послании к поэту Н. Ф. Щербине Тютчев писал:
Вполне понятно мне значенье
Твоей болезненной мечты,
Твоя борьба, твое стремленье,
Твое тревожное служенье
Пред идеалом красоты...(I, 168)
Это очень характерное, очень «тютчевское» стихотворение. Поэтический мир Щербины, этого даровитого стихотворца, пытающегося чувствовать, думать подобно гармоническому человеку Эллады, осознается Тютчевым как попытка уйти от слишком тяжких впечатлений бытия, от «скифской вьюги снеговой», укрыться в стране, где царствует «свобода золотая», в стране мечты. Для Тютчева в этом есть нечто очень понятное, объяснимое, но болезненное (недаром: «... понятно мне значенье // Твоей болезненной мечты»), тревожное, какой-то надрыв и в сущности — безнадежность. А ведь сам Щербина как раз пытался жить в мире гармонии и душевного здоровья. Может быть, в восприятие антологической поэзии Щербины Тютчев внес нечто от самого себя: жить в мире иллюзий — пусть красивых, заманчивых и тешивших воображение — он не мог36.
Время по-разному диктует свои условия художнику, облагораживает его или казнит. Мы знаем воинствующую демократическую позицию Некрасова, видевшего истинное назначение поэзии в служении тем благородным задачам, которые выдвигало время. Больше того, именно в таком служении времени он усматривал подлинное бессмертие поэзии.
Было и демонстративное «бегство от времени», желание отбросить прочь все, что «не вечно», что связывает поэта с его эпохой, ее бедами, болезнями, стремлениями. Но в этом случае урезанная, обделенная поэзия мстила сама за себя.
Очень даровитый Ап. Майков, один из наиболее приверженных сторонников поэзии «вне времени», однажды признался:
Пишу, и бойкий стих и блещет, и поет.
Но он восторгу чужд и чужд душевной муки37.Поэзия Тютчева, ставившая, казалось бы общечеловеческие вопросы, «вся в настоящем разлита»; она отозвалась на самые сложные и сокровенные явления времени, отозвалась не прямыми декларациями (они у него немногочисленны и чаще всего лишены подлинной художественности), а тем внутренним духом, которым она пронизана, — трагизмом одинокого существования, раздвоенностью человеческой души, неверием, порой отчаянием, а вместе с тем непокорством и гордыней, беззаветностью любви и бесстрашием мысли.
Мир, видимый глазами поэта, предстает в различных аспектах, но, как уже не раз отмечали пишущие о Тютчеве, этот мир чаще всего напоен дыханием грозы, полон тревожных сверканий молний. Если пристально вглядеться в него, то бросится в глаза одна характерная особенность: человек в этом мире порой кажется странником, жизнь его потеряла устойчивость, определенность, он несется по миру, гонимый неутоленной тоской, жаждой рассеяния и забвенья. «Дивный мир» воспринимается часто как мир хоатичный, беспорядочный, в нем мечется одинокий человек со своими порывами, разрушительными и злыми страстями. Пытаясь проникнуть в тайны мироздания, человек и там не находит гармонии, видит один торжествующий Хаос: «И бездна нам обнажена // С своими страхами и мглами» (I, 98), «И человек, как сирота бездомный, // Стоит теперь, и немощен и гол, // Лицом к лицу пред пропастию темной» (I, 118). Мир «бездушный и бесстрастный» встречает и провожает человека. Жизнь, прожитая отдельным человеком и человечеством, кажется «подвигом бесполезным». Происходит по-своему парадоксальное явление. Слово «Хаос»
- 34 -
(как символ, знак) постепенно исчезает из лирики последних десятилетий, но понятие «Хаос» остается, оно наполняется конкретным социально-историческим содержанием. От Хаоса — первоосновы всего сущего, от Хаоса в его всеохватном, метафизическом смысле — к хаосу в душе человека, вызванному вполне определенными обстоятельствами, к хаосу в жизни общества.
Человек в поэзии Тютчева жаждет цельности и не находит ее. Мысли об одиночестве, отъединенности, мучительный процесс обособления личности, характерный для буржуазной эпохи, найдем мы и в тютчевской поэзии. Раздумья о человеческом одиночестве всегда у Тютчева соседствуют с утверждением непрочности, мимолетности жизни. Он говорит и об отъединенности человека от мира природы, о стремлении его слиться с ней и невозможности этого слияния (в «невозмутимый» строй «великого целого» он вносит смуту, тревогу, ропот, разлад), и о своеобразном (в поэзии позднего Тютчева) «разобществлении» человека. Рвутся привычные общественные, семейные связи, нет своего угла, своего дома, нет пристанища одинокой душе. Интересно, что самое понятие «общество» (у Тютчева: свет, толпа, суд людской), вошедшее в его лирику именно в 1850—1870-е годы, осознается не как нечто высокое и даже не как определенная нравственная сила, требующая служения себе во имя долга, а как сила безобразная и безнравственная.
Тема странничества, скитальчества («Из края в край, из града в град...») возникает еще у раннего Тютчева, но осмысление ее в разные годы различно. Интересно сравнить два стихотворения: «Странник» (1830) и «Пошли, господь, свою отраду» (1850). В первом тема странника, «угодного богам», раскрывается в плане типично романтическом. В единении с природой, в уходе от привычного мира («домашних очагов изгнанник, // Он гостем стал благих богов») — высшая радость, радость познания, прозрения, душевной гармонии. Совершается своеобразный акт очищения, просветления души, прикоснувшейся к сладким тайнам земли:
Сей дивный мир, их рук созданье,
С разнообразием своим,
Лежит развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье...Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога, —
Ему отверста вся земля,
Он видит все и славит Бога!..(I, 35)
В вариации на гейневское «Es treibt dich fort // von Ort zu Ort...» — странничество невольное, роковое, проявление слепого жестокого фатума:
Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он... Вперед, вперед!(I, 55)
Стихотворение «Пошли, Господь, свою отраду...», возвращая к мотивам «дороги», «жизненного пути», не соотносит человека с «дивным миром», а резко разделяет их. Самые понятия «мир», «красота» имеют в этих поэтических созданиях Тютчева разный смысл. В «Страннике» мир первозданно прекрасен, и бедный странник (эпитет «бедный» имеет здесь очень своеобразный смысловой ракурс: освобожденный от всего мелочно-бытового, житейского) — желанный гость этого мира. Все укрупнено, предельно обобщено поэтом («Чрез веси, грады и поля, // Светлея, стелется дорога»). В стихотворении «Пошли, Господь, свою отраду...» мир сужен, возникают, хотя и трактованные символически-многозначно, но реально представляемые «жаркая мостовая», «ограда», через которую лишь вскользь может заглянуть человек в этот запретный для него сад. Отторгнутость человека от прекрасного мира — не акт свободной воли, а следствие жизненной трагедии. И «красота» здесь скорее «роскошь», не бытие матери-природы, а быт, но изображенный в его внешних общих приметах (сад, «облак дымный» фонтана, «лазурный грот» в этом саду). И, несомненно, в самой глубине
- 35 -
поэтического микромира стихотворения содержится контраст роскоши и обездоленности, словом, все та же трагическая жизненная антиномия. Однако трактовать стихотворение в целом лишь как «социальную картину» нельзя. Это невольно разрушит многозначность поэтической мысли (включающей в себя и этот момент, но лишь как один из моментов). А между тем именно такое прочтение толкнуло в свое время талантливого поэта-сатирика Николая Ломана на создание едкой пародии. Ломан расценил стихотворение как ненавистную ему высокомерно-аристократическую филантропию, снисходительное сожаление о «меньшом брате»38. Образ человека, бредущего мучительной «жизненной тропой», у Тютчева, несомненно, символичен. Все стихотворение проникнуто истинным состраданием к людям, ограбленным жизнью, познавшим ужас «бездомности». Эту «бездомность», отъединенность от мира устойчиво-привычного поэт порой ощущал в самом себе со всей беспощадной определенностью.
Одиночество, невозможность «счастья вдвоем» связаны в поздних стихотворениях поэта не с извечными — «надмирными» — законами, а с безобразием людского суда, пошлостью и лицемерием, господствующими в обществе, и, наконец, со смертью. Тютчев повествует о «сиротстве» человеческой души, о беззащитности сердца перед этим жестоким сиротством. Тема разлуки, временной разобщенности, переходит в рассказ о мучительном и вечном разъединении. Боль разлуки — преодолимая, не истинная: «для сердца есть другая мука, невыносимей и больней» — мука вечной разлуки живого с живым (именно живого с живым!), невозможность «сдернуть покрывало», разъединяющее их.
Пора разлуки миновала,
И от нее в руках у нас
Одно осталось покрывало,
Полупрозрачное для глаз.И знаем мы: под этой дымкой
Все то, по чем душа болит,
Какой-то странной невидимкой
От нас таится — и молчит.<............>
Пора разлуки миновала,
И мы не смеем, в добрый час,
Задеть и сдернуть покрывало,
Столь ненавистное для нас!(I, 221)
Стихотворение Тютчева «Как нас ни угнетай разлука...» (1869) заставляет вспомнить «Silentium!». «Молчи, скрывайся и таи» — «От нас таится — и молчит» — эта перекличка слов-образов не случайна. Она возвращает читателя к столь, казалось бы, безукоризненной логике прославленных строк для того, чтобы усомниться в их спасительной непреложности. Разобщенность осознается поэтом как проклятие и мука многих. Отсюда не привычное обращение к лирическому субъекту, а сознательная «множественность» людских «Я», заключающих в себе и «мир двоих», и мир людской вообще.
Насколько эти тютчевские настроения были вызваны «болью времени», говорит и тот небезынтересный факт, что примерно в эти же годы мучительно думал о том же Лев Толстой. В августе 1871 г. он случайно встретился с Тютчевым. Сохранилось письмо писателя к Н. Н. Страхову, в котором рассказано об этой встрече. В письме есть любопытные признания. Толстой прямо говорит о поразительной близости своих мыслей и чувств тютчевским. По утверждению писателя, Тютчев — один из очень немногих людей, «с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил». В словах толстовского письма словно оживает голос поэта, ибо оно ведет нас в глубь трагических размышлений Тютчева: «Кто мы такие и зачем и что мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем, и сказать друг другу мы не можем... Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников»39. Сколько раз подобные вопросы, подобные образы возникали в произведениях Тютчева (вплоть до этого тютчевского, странного у Толстого, понятия «путешественники», прикрепленного к людскому племени). Толстой со своим страстным желанием (даже в эти годы) найти, обнаружить
- 36 -
корни, прикрепиться к земле (в прямом, а не философском смысле) начинает думать о вечном странничестве человека, «путешественника», чья жизнь — «пустынная дорога», только иногда освещаемая высокой радостью поэзии или теплом минутной близости и единения с себе подобными. Но если Толстой старается убедить себя в сладости самоуглубления (именно поэтому так дорого ему было тютчевское «Silentium!»), ищет уединения, то Тютчев не стремится уйти от людей, для него одинокое существование — мука, и никогда — спасение, выход. Более того, со всей определенностью Тютчев скажет о бессилии отъединенного, одинокого человека. Очень характерны для него строки:
ПОМЕТА Л. Н. ТОЛСТОГО НА ПОЛЯХ
СТИХОТВОРЕНИЯ «SILENTIUM!»:
«Г<ЛУБИНА>»В книге: «Сочинения Ф. И. Тютчева». СПб., 1886
Музей Л. Н. Толстого, Москва
«Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения» (Л. Н. Толстой)
На самого себя покинут он (т. е. человек. — И. П.) —
Упразднен ум, и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела....(«Святая ночь на небосклон взошла...» — I, 118)
«Упразднен ум, и мысль осиротела», — говорит поэт о человеке, покинутом на самого себя. Своеобразно в этом стихотворении употребление излюбленного тютчевского слова «бездна»: ушедший в себя человек уходит в бездну, откуда нет возврата.
Тютчев очень ценил в жизни и в человеке целостность, душевную гармонию. В большом стихотворении, посвященном памяти В. А. Жуковского, он как раз отмечает в его жизни и личности это стройное, гармоническое начало, восхищается им:
В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он все в себе мирил и совмещал.
<..............>
Он стройно жил, он стройно пел...(I, 150—151)
Однако поэт сознает для себя полную невозможность подобной душевной гармонии.
Распад в пореформенной России привычных форм жизни, появление взаимоисключающих тенденций в обществе, страх перед уничтожением и вечным исчезновением, разгул хищничества в сфере экономической и политической, отказ от прежних нравственных норм и торжество откровенного бесстыдства привели к расщеплению самой личности, к утере цельности, к раздвоенности. Процесс этот ужасал Тютчева; наблюдая разительные проявления его в жизни, в людях, в самом себе, он начинает писать о трагедии «двойного бытия».
В поэзии Тютчева (вспомним, что о ней писал И. С. Аксаков: «Его поэзия<...> субъективна, ее повод — всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она неспособна отрешиться от личности поэта»40) на очень личном, даже интимном
- 37 -
материале исследуется то, что становилось бедой многих высокоталантливых и даровитых русских людей. О своеобразном раздвоении художника писал еще Пушкин в своем известном стихотворении «Поэт» («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»). Но у Пушкина — это соединение, казалось бы, несоединимого в душе художника: творческого горения, художнических порывов, чистого и высокого рыцарства, поэтических «озарений» и мелкой житейской прозы, которая его окружает и которой он, увы, вынужден платить дань. Болезненное сомнение, душевное смятение, тревога, ранящие душу ядом скепсиса, иронии, безверия, — вот что пришло на смену поэтически целостному и, несмотря на сложность, глубину и тягостность раздумий, ясному миру пушкинского поэта. Явление двойничества было качественно иным, симптомы его одним из первых увидел Достоевский. Начиная с «Двойника» и завершая «Братьями Карамазовыми», он будет искать причины страшного раздвоения души и исследовать формы такого раздвоения41. Над этой мучительной напастью задумывались даже те из современников Достоевского и Тютчева, которые, казалось бы, более других были застрахованы от подобной беды.
В 1862 г. в журнале «Время» (№ 4) появилось любопытное стихотворение Я. П. Полонского «Двойник». Полонский пытается объяснить раздвоение вне социально-исторических причин, как определенное — хотя и тяжкое, и болезненное — состояние человеческой души, души художника:
— Что ты пророчишь мне, или зачем пугаешь?
Ты призрак иль обман фантазии больной?
— Ах! — отвечал двойник: — ты видеть мне мешаешь
И не даешь внимать гармонии ночной;
Ты хочешь отравить меня своим сомненьем,
Меня — живой родник поэзии твоей!..
И, не сводя с меня испуганных очей,
Двойник мой на меня глядел с таким смятеньем,
Как будто я к нему среди ночных теней —
Я, а не он ко мне — явился привиденьем42.«Зачем пугаешь?» — со страхом спрашивал Полонский. Чрезвычайно интересно в стихотворении Полонского ставится вопрос о «двух стихиях» человека искусства. Причем способность «внимать гармонии ночной», видеть мир целостным и прекрасным оказалась не основной, не определяющей особенностью художника: сомнение становится его уделом (отсюда странное смещение: двойник смотрит «с таким смятеньем, // Как будто я к нему среди ночных теней — // Я, а не он ко мне — явился привиденьем. — Курсив мой. — И. П.).
И даже Ап. Майков, который не раз повторял «я одиночества не знаю на земле», а поэтическую мысль воспринимал как некое торжественно-спокойное божество, несущее с собой прозрение и тишину, однажды обмолвился тревожными словами все о том же проклятом «двойнике»:
Все страшно в нем видеть свой образ, но только без сердца,
Без страсти и с вечно-холодной логической речью...43Мысль о раздвоенности личности в определенных социально-исторических условиях беспокоила многих. Она носилась в воздухе, жизнь давала этому слишком много подтверждений. Это явление станет особенно болезненно-острым в конце века. Перед ним будет беззащитен и Александр Блок. Бесчисленные вариации «Двойника» в его поэзии окрашены и отвращением, и ненавистью, и тоской, и покорным страданием44. Но в середине XIX в., пожалуй, только у двух художников — Тютчева и Достоевского — мысль о расщеплении человеческой личности и о глубочайшем страдании, вызванном этим расщеплением души, — занимает такое важное место, хотя и очень по-своему у каждого. Объясняется это, вероятно, помимо некоторой близости восприятия ряда явлений жизни, причинами субъективно-психологическими. О Тютчеве близкие его говорили как об одинокой «планете», как о человеке вне всяких привычных законов и
- 38 -
правил. «Он весь — воплощенный парадокс», — писала об отце А. Ф. Тютчева. Прекрасно знавший Тютчева, ценивший и любивший его И. С. Аксаков останавливается на странной особенности поэта, который поражал его то одним, то другим своими «ликами». Для Аксакова, натуры в достаточной степени цельной, фанатически преданной «идее», это казалось особенно тягостным: «Ум сильный и твердый — при слабодушии, при бессилии воли... Ум зоркий и трезвый — при чувствительности нервов самой тонкой... Ум деятельный, не знавший ни отдыха, ни истомы, — при совершенной неспособности к действию... дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялось живительным началом веры... В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе»45. В жизни и творчестве Тютчева очень многое объясняют написанные им строки:
О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...(I, 163)
«Вещая душа», «сердце, полное тревоги», «двойное бытие», на пороге которого «бьется» человеческая душа — «жилица двух миров» — это тончайший психологический самоанализ, но смысл этих строк шире и значительнее одного психологического портрета, хотя бы и такого, как тютчевский. Тютчев пишет о «разрыве чувств», о тревожных прозрениях, о болезненно-страстной, искалеченной душе. Причем это «двойное бытие» осознается как состояние неизбежное, неуничтожимое. Одним из первых попытался объяснить это стихотворение осторожный в выводах И. С. Аксаков. Он увидел в нем противоречия между «признаваемым, сочувственным его душе нравственным идеалом и жизнью, между возвышенными запросами и ответом»46. Для Аксакова — это, прежде всего, исповедь и трагедия самого поэта. Но тютчевские образы многомерны.
Можно бесконечно расширять формулу «двойного бытия», включив в нее все антиномии поэтического мира Тютчева, всю «двойную» символику его поэзии (что порой делалось и делается исследователями его творчества). В определенном смысле эта формула, действительно, универсальна, она — знак его поэзии. Но важно и другое: гениальный образ «двойного бытия» был обусловлен всем сложнейшим комплексом причин и обстоятельств — социально-исторических и психологических — середины 1850-х годов. Мучительная тревога, безотрадные пророчества «вещей души» («Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения...»), жизнь в ожидании неведомого («Твой день болезненный и страстный, // Твой сон пророчески-неясный, // Как откровение духов») — это та атмосфера, в которой жил Тютчев и многие из близких ему современников, это атмосфера его стихотворений и писем тех лет47. Последняя строка третьей строфы как будто бы предлагает человеку выход, но в сущности здесь говорится о желаемом, но невозможном. Это подчеркивается оригинальной структурой завершающего стихотворение четверостишия: « Пускай страдальческую грудь // Волнуют страсти роковые, — // Душа готова, как Мария, // К ногам Христа навек прильнуть» (I, 163). Какая странная фраза! Душа, готовая прильнуть, «как Мария, к ногам Христа», не только не надеется найти успокоение и освобождение, но сами «страсти роковые» понимаются как что-то неизбежно сопутствующее страдальческому земному уделу человека. В одном из своих интимнейших стихотворений Тютчев пишет об «обмороке духовном», который для него едва ли когда-нибудь кончится:
Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?(I, 133)
- 39 -
«НЕ ЗНАЮ Я, КОСНЕТСЯ ЛЬ БЛАГОДАТЬ...»
Автограф, <1851>. Перед текстом помета: «Pour vous (à déchiffrer toute seule)» («Для вас (чтобы прочесть наедине)»)
Стихотворение обращено ко второй жене поэта Эрнестине Федоровне. Тютчев вложил его в альбом-гербарий, куда в молодости она вклеивала цветы, сорванные на память о значительных событиях ее жизни. Лишь в 1875 г., через два года после смерти мужа, Эрнестина Федоровна обнаружила его стихи в своем альбоме. Под цветами подписи: «Souvenir de la journée si agréable que Mad<ame> <1 нрзб.> nous fit passer à Ratisbonnes. Le 28 Septembre 1835»; «Souvenir du Dimanche 7 Février 1836»; «Souvenir du 20 Mars 1836!!!» («Память о чудесном дне, который благодаря мад<ам> <1 нрзб.> мы провели в Ратисбонне 28 сентября 1835»; «Память о воскресенье 7 февраля 1836»; «Память о 20 марта 1836!!!»)
Собрание К. В. Пигарева, Москва
Это о тайном, о своем, это — о себе.
Но именно в 1850-е годы Тютчев начинает писать об утере цельности (в том числе и в сфере чувств), о раздвоении, терзающем человека, как о величайшем страдании своего современника. А незадолго до смерти, в стихотворении «Памяти М. К. Политковской» (1872), Тютчев напишет о раздвоении личности как о проклятии целого поколения. Он скажет о том «страшном раздвоеньи, // В котором жить нам суждено» (II, 234). Характерно, что здесь на смену «Я», «Мне» приходят «Мы», «Нам» — это уже определение болезни века.
Утеря целостности, вечные сомнения, посещающие человека, очень часто приводят к неспособности истинно верить. Вера — неверие — между ними бьется человеческий разум, неспособный как примкнуть к истинному берегу веры, так и успокоиться в «холодном отрицании», абсолютном, «страшном» безверии. Состояние это прямо или косвенно отражено во многих стихотворениях Тютчева, причем поэт стремится к объективизации пугающего его явления.
Так он создает «Наш век» (1851). Здесь уже сам поэт стремится рассказать о своем современнике, разобраться в наиболее болезненных явлениях века. Здесь и гордыня, и беззащитность, и отчаянная тоска, и бунт несмирившейся души. Самого себя поэт причисляет к тем, о ком пишет48 (отсюда и поэтическая формула, исключающая самое понятие своих и чужих, тех, других). Здесь вообще человек, современник, соотечественник:
- 40 -
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
< ................. >Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»(I, 136)
«Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!..» — эту формулу могли повторить все герои Достоевского и сам создатель их. Да и для Тютчева в этой фразе не было лишь наблюдаемое со стороны явление. Человек в тютчевской поэзии хотел бы избавиться от душевных тревог. Умиротворение и покой душе, по мнению Тютчева, могла бы дать вера. Но нарисованная Тютчевым-поэтом картина мира далека от религиозных представлений. В мире, трагически неустроенном, мучается, страдает, бьется человек, охваченный «страстями роковыми». Вот поэт наблюдает, как ранней весной «По склону вновь оживших вод, // Во всеобъемлющее море // За льдиной льдина вслед плывет», и в его душе растет ощущение «безразличной стихии», «бездны роковой». В этой бездне исчезает и «человеческое Я» («Смотри, как на речном просторе...» — I, 130).
С еще большей определенностью говорит об этом Тютчев в одном из последних своих стихотворений — «От жизни той, что бушевала здесь...» (1871). «Подвиг бесполезный» тяжкой и горестной человеческой жизни обрывается смертью: природа, бесконечная и равнодушная, приветствует своих детей «всепоглощающей и миротворной бездной» (I, 225). Любопытно, что один из поэтов-символистов, С. М. Соловьев, противопоставил Тютчева «христианскому провидцу» Вл. Соловьеву, не увидев в поэзии Тютчева христианского — «спасительного» — начала49.
В поэзии Тютчева мы можем порой обнаружить близкое древним греческим трагикам чувство Рока, но подлинный «свет», озаряющий и согревающий ее, — это свет «матери-природы». Усталый, он припадает к ее груди, и она несет ему успокоение и тишину. Ее красотой, всеми красками земного мира он упивался с буйной, языческой неуемностью. И в стихах его порой торжествовал древний языческий Пан.
Интересно отметить, что в позднем творчестве это «чувство природы» становится спокойнее, просветленнее; оно почти начисто лишается того ужаса перед хаосом, который был характерен для его поэзии 1820—1830-х годов; теперь не столько сравнивается хаос в душе человека и хаос в природе, сколько сопоставляются и противопоставляются боль и ужас человеческой судьбы и величавая гармоническая сила земли:
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе.(«Певучесть есть в морских волнах...» — I, 199)
Человек, по мысли поэта, существо эгоистическое и своевольное, отпавшее от единого целого и в великой гордыне утверждающее себя, не может не почувствовать разлада с природой. В стихотворении «Певучесть есть в морских волнах...» Тютчев говорит не о противопоставлении человека природе в шеллингианском смысле, а именно о разладе, возникшем вследствие самоутверждения и своеволия человеческой личности:
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.(I, 199; курсив мой. — И. П.)
И хотя поэт задает вопрос: «Откуда, как разлад возник?» — вопрос этот во многом риторический, ибо, по убеждению поэта, душа человеческая не способна «в общем хоре» звучать так же безмятежно и так же гармонически, «как море», именно потому, что «ропщет мыслящий тростник», ищет особой доли, бунтует, льет кровь свою и чужую во имя странных и страшных призраков. Человек,
- 41 -
«мыслящий тростник» (образ любимого Тютчевым Паскаля), не способен разрешить «стихийные споры» гармонией, ибо вся жизнь его лишена внутреннего созвучия, а ропот — такая же неотъемлемая его часть, как «невозмутимый строй» в природе. В ней поэт чаще всего видит не просто красоту, но и смысл. И здесь приходит на ум не только открытая, победоносная декларация, но также инвектива против «глухонемых» в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...»:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...(I, 81)
Вся система великолепного (до дерзости!) антропоморфизма поэта связана с его стремлением ощутить природу не в частных ее проявлениях, а в целом (даже порой «портретно»), как живое человеческое существо — и существо, бесконечно близкое и милое сердцу. Уже в раннем стихотворении «Летний вечер» поэт набрасывает такой своеобразный «портрет» природы: «Уж солнца раскаленный шар // С главы своей земля скатила», звезды «Небесный свод приподняли // Своими влажными главами», грудь земли «дышит легче и вольней». И, наконец, завершающий стихотворение образ:
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды50.(I, 16)
Отсюда, вероятно, идет и пристрастие поэта к такому чисто человеческому выражению радости, как смех, улыбка. Образ «улыбающейся», «смеющейся» земли пройдет через все творчество поэта как противовес — прежде всего, в ранней лирике — страшным песням «древнего хаоса» или человеческой нескладице и печали — в поздней («Лазурь небесная смеется» (I, 19), смеется «струя воды», «Сияет солнце, воды блещут // На всем улыбка, жизнь во всем» (I, 152). Улыбается пробуждающаяся земля: «Весну прослышала она // И ей невольно улыбнулась» (I, 83), но и в осенней природе поэт видит «кроткую улыбку увяданья», «когда, что так цвело и жило, // Теперь, так немощно и хило, // В последний улыбнется раз!» (I, 128). Лишь в особенно безотрадные минуты даже природа представляется ему царством пустоты и «вечного бессмыслия». «В сердце ли тесном, в безбрежном ли море» видит поэт тот же «все вечный прибой и отбой, // Тот же все призрак тревожно-пустой» («Волна и дума» — I, 137). И не такого ли рода откровения приводят в конце концов к странному афоризму, то ли насмешливому, то ли печальному:
Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.(I, 220)
Загадки нет, но есть сама — мать-Земля. Успокоиться в безотрадности Тютчев не мог. В горькой потерянности, в скорби одиночества вновь обращает человек свое лицо к ее блаженному, светлому миру.
Порой в связи с Тютчевым повторяется мысль, в сущности принадлежащая традиции, а не самому поэту, мысль о том, что природа в его поэзии способна исцелить и спасти человека. Вот характернейшее признание поэта:
В часы, когда бывает
Так тяжко на груди,
И сердце изнывает,
И тьма лишь впереди;Без сил и без движенья,
Мы так удручены,
Что даже утешенья
Друзей нам не смешны, —
- 42 -
Вдруг солнца луч приветный
Войдет украдкой к нам
И брызнет огнецветной
Струею по стенам;Уроков и советов
Они нам не несут,
И от судьбы наветов
Они нас не спасут.И с тверди благосклонной,
С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный
В окно на нас пахнет...Но силу их мы чуем,
Их слышим благодать,
И меньше мы тоскуем,
И легче нам дышать...(I, 172—173)
В этих поэтических строках не меньше любви и уж, во всяком случае, больше мужества, нежели в пасторальной невинности рецептов о всеизлечивающей природе. Несомненно другое: природа включена Тютчевым в тот круг истинных ценностей, без которых, по мысли поэта, невозможно человеческое существование.
4
Тютчевская поэзия часто предлагает нам действительно поразительные полярности. Один из характернейших мотивов его творчества, — не раз отмечавшийся исследователями, — мотив мимолетности, краткости, даже призрачности жизни. В молодости это сознание (а оно и тогда было достаточно острым) заставляло с особенной силой почувствовать — пусть недолгую, но такую чарующую — прелесть настоящего, молодости, красоты, чудесной свежести души:
И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.(«Я помню время золотое...» — I, 56)
С годами придет другое ощущение: поэт заговорит о смерти, отбрасывая всякие надежды на некое блаженство где-то там, по ту сторону жизни.
В ранней лирике, контрастируя счастливому «мигу», возникнет образ жизни — дыма, бесследно исчезающего в бездонной пустоте неба. В стихотворении «Как над горячею золой», написанном в 1830 г., жизнь сравнивается с дымом, потому что она однообразна, потому что она «грустно тлится». И поэт восклицает:
О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!(I, 47)
В конце 1840-х — начале 1850-х годов Тютчева все настойчивее начинает тревожить сознание «бесполезности», бессмысленности жизни. Сравнение с дымом станет устойчивым определением, своеобразным символом ее, касается ли поэт судьбы многих людей или собственной своей судьбы. Несомненно, это было вызвано и психологически-житейскими причинами и столь же несомненно — причинами социальными. Так хрупка, так беззащитна, так призрачна человеческая жизнь, что она кажется даже не дымом, а лишь «тенью, бегущею от дыма» («Как дымный столп светлеет в вышине!..»).
Та же мысль, но уже отнесенная к самому себе, в стихотворении «Другу моему Я. П. Полонскому». Образ ночного костра был навеян посланием Полонского (оно так и называлось: «Ночной костер зимой у перелеска...»). С грустноватой покорностью признается Полонский: «...огонь под сединами // Не греет юности, летящей с бубенцами», и «бедный пешеход» спешит к дружескому сердцу, к
- 43 -
«огню, что ты сберег на склоне бурных лет»51. Полнейшей безнадежностью звучат ответные тютчевские строки:
«ДВА ГОЛОСА»
Автограф, <1850>. В альбоме М. Ф. Тютчевой (Бирилевой), дочери поэта
Собрание К. В. Пигарева, Москва
Нет боле искр живых на голос твой приветный —
Во мне глухая ночь, и нет для ней утра́...
И скоро улетит — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с потухшего костра. (I, 200)И, наконец, за три года до смерти, оплакивая кончину брата, Тютчев скажет:
Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня, что нужды в том?
Все будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.(«Брат, столько лет сопутствовавший мне...» — I, 224)
- 44 -
Человека ожидает полное уничтожение и растворение в темной бесконечности природы. Тема смерти всегда привлекала романтиков: сколько страшных и радужных картин вышили они по этой вечной канве! Пожалуй, это покажется странным, но тема смерти сама по себе мало интересовала Тютчева. Смерть упоминается им всегда как ужасная противоположность жизни (за исключением разве «Mal’aria»). Его, собственно, никогда не мучила, не терзала «загадка смерти» еще и по той простой причине, что загадки этой для него не существовало: угасает, умирает сознание, распадается «естество» человеческое. Смерть страшна — и только. По ту сторону жизни — темнота. Жизнь, одна жизнь, грешная, сладостная и ужасающе краткая, почти мгновенная, наполняла восторгом и болью душу поэта52.
Уже «на роковой стоя́ очереди́?», вновь возвратится он к мысли о бесследном исчезновении человека, о бессмысленности его существования.
Но в противовес этому тютчевскому утверждению, странно контрастируя ему и странно сливаясь с ним, существует в его поэзии и другое, мужественное и определенное: жизнь ценна своим огнем (недаром еще в раннем стихотворении он писал: «Я просиял бы — и погас» — I, 47), значительностью человеческих страстей, дерзким вызовом враждебным человеку силам.
Насколько волновала поэта тема «неравного боя», свидетельствуют «Два голоса», произведение, безусловно, значительнейшее в его творчестве 1850—1870-х годов. Звучащее сурово и строго, подобно древнему гимну, оно определяет смысл и сущность человеческой жизни, ее реальную ценность. Оно настолько чуждо христианской философии, что еще в дореволюционной литературе была сделана попытка связать его с античным миросозерцанием. С. М. Соловьев писал: «Тютчев является трагиком в истинном смысле слова, как были трагиками Эсхил и Софокл. И у него над жизнью тяготеет беспощадный и неодолимый рок... Мрачность Тютчева — мрачность дохристианская, трагическая, мрачность Эсхила и Софокла, сказавшего, что всего лучше человеку не родиться»53. Представление об античности в этом любопытном замечании вполне отвечает духу русского модернизма, но попытка сблизить имена Софокла и Эсхила с Тютчевым интересна. То же по существу отмечал и Блок, который любил «Два голоса» и хотел поставить это стихотворение эпиграфом к своей драме «Роза и крест». Он увидел в нем «эллинское, до-Христово чувство Рока, трагическое»54.
Действительно, у Тютчева в стихотворении «Два голоса» существуют как бы три силы: Рок, владычествующий над всем, боги-олимпийцы, враждебные человеку, и люди, осужденные жить в мире жестоком и темном, беспощадном и безжалостном55. Такая «расстановка сил» как раз характерна для двух великих трагиков древности — Эсхила и Софокла. Поэтические формулы Тютчева («Пускай олимпийцы завистливым оком // Глядят на борьбу непреклонных сердец. // Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком, // Тот вырвал из рук их победный венец» — I, 129) отвечают духу древних трагедий. В них, как и в «Двух голосах», царит Судьба — Необходимость. В одной из известных сцен «Прикованного Прометея» об этом говорится со всей определенностью:
Прометей:
Не так судьба свершающая, страшная
Решила в сердце. Тысячами черных мук
И болью сломлен, я от кандалов уйду.
Слабее ум, чем власть Необходимости.Старшая Океанида:
Кто ж у руля стоит Необходимости?
Прометей:
Три мойры, Евмениды с долгой памятью.
Старшая Океанида:
Так значит, Зевс им уступает силою?
Прометей:
Что суждено, не избежит и Зевс того56.
- 45 -
Сближение как будто вполне оправдано, но все-таки оно представляется в таком виде чисто внешним. А вместе с тем Тютчев перекликается с древними певцами титанических героев, ставших для многих поколений людей символом мужественной непреклонности. Тютчеву равно оказались близкими обе грани миросозерцания древних. При всей «неразложимости сознания» древние умели чувствовать глубоко и сложно; им тоже по-своему были знакомы те «бездны духа», которым так много будет уделять внимания новейшая литература. Но у великих трагиков античности страшные, мучительные, искалеченные судьбы человеческие служили в конечном итоге не умалению, а возвышению человека. Смертный, эта Эфемера, эта жалкая Однодневка, ведет неустанную и упорную борьбу с бессмертными богами, с неумолимым Роком, с обстоятельствами, с враждебными стихиями. В борьбе он обнаруживает и силу ума, и благородство сердца, и громадную волю. И то, что Эсхил и Софокл верили в реальное существование Олимпа, в неумолимость Мойр, придавало особенное, трагическое напряжение великолепному, хотя и обреченному бунту человека. И Тютчев, поэт утонченных чувств, изощренного интеллекта, удивительно глубоко понял и воспринял мрачное величие этой борьбы. Правда, сознание ее безысходности у Тютчева порождено иными причинами; наивный и сверкающий Олимп для нашего поэта — только изящная сказка; в мире действуют иные, не менее жестокие и слепые силы, и, подобно грекам, он готов бросить человека в самый водоворот схватки, он говорит о законе человеческой жизни как законе борьбы, ибо вне этого жизнь теряет свой смысл, свое оправдание. Как в «Прикованном Прометее» могучий титан не может принять философию скорбящих Океанид: «Пред Неизбежным мудрые склоняются», — так и поэт «разорванного века» начинает проповедовать величие борьбы даже обреченных Неизбежности.
У древних греков власть Рока (власть в существе своем страшная, неумолимая) не может заставить героя отказаться от всяких усилий, стремлений, борьбы. Тютчеву оказалась близка мужественная мысль греков, близка философия тех художников и мыслителей, которые прославляли несмирившихся, трагических героев истории и культуры. Пусть он об этом сказал менее отчетливо, чем многие из них, но он отозвался на их голос. «А ведь, — как заметил советский поэт П. Г. Антокольский, — весь „Прометей“ Эсхила, вся музыка Бетховена — „об этом“». П. Г. Антокольский увидел в «Двух голосах» определение «сущности трагизма, имманентного человеку и его бытию»57. И с этим нельзя не согласиться. Тютчевское ощущение бытия человека — и личного, и исторического — трагично. Человек обречен и в более широком плане (как бы ни определить тяготеющую над ним силу: Рок, Всеобщая Необходимость или иногда у Тютчева даже Всеобщее Бессмыслие), и в более узком, личном (судьба, жребий отдельного человека). Отсюда сумрачность, своеобразная неумолимость образов. Тютчев заставляет услышать царящее в мире безмолвие. Поэт и раньше не раз прибегал к образу «всемирного молчанья» («Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья...» — I, 17; «Кто без тоски внимал из нас, // Среди всемирного молчанья // Глухие времени стенанья...» — I, 18). В этих стихотворениях, из которых взяты строки («Видение» и «Бессонница»), «всемирное молчанье» — не столько образ абсолютной — мертвой — тишины, сколько синоним безграничности пространства и неумолимости времени. Позднее образ «молчанья» станет более конкретным, будет связываться поэтом с определенным состоянием природы («Еще шумел весенний день...», «В душном воздухе молчанье...»). В «Двух голосах» он сложен, многопланов. Движение лексического ряда делает молчание всеохватным: бесконечность пространства и глубь земли (светила — звездные круги — могилы — гроба)58. Тютчев говорит и о пространстве, и о времени (возвращаясь, несомненно, к образу «всемирного молчанья» в ранних стихотворениях): то и другое взято в единой «форме существования» — в беспредельности. Стихотворение названо «Два голоса» и соответственно этому композиционно разделяется на две части. Но подлинное разделение дано, скорее, во внутреннем движении темы, складывается из внутреннего противоборства — великого противостояния человека и судьбы: равнодушная Вечность и гул борьбы, напряжение
- 46 -
боя; смерть и жизнь — борьба; вечное блаженство олимпийцев — труд и тревога «смертных сердец». Двучастность композиции способствует тому, что оба голоса звучат предельно резко, словно крик, рвущий оцепенение мертвого мира59. Трижды повторен «голос» безнадежности, как и «голос» борьбы вопреки всему, создавая исключительную напряженность, строгую собранность смертельного поединка («Над вами светила молчат в вышине, // Под вами могилы — молчат и оне»; «Для них нет победы, для них есть конец»; «Над вами безмолвные звездные круги, // Под вами немые, глухие гроба»; «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, // Хоть бой и неравен, борьба безнадежна»; «Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, // Как бой ни жесток, ни упорна борьба!»; «Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком, // Тот вырвал из рук их победный венец» — I, 129). Хрупкая, обреченная, беззащитная человеческая душа таит в себе гордыню и непокорность.
«Два голоса» Тютчева, несмотря на внутреннее движение, своеобразную диалектичность мыслей-образов, оставляют ощущение совершенной законченности, монолитности. Все стихотворение построено на анафорах, повторяющихся фразах и словах, но каждый раз они возникают в новых смысловых и эмоциональных ракурсах. Характерно, что самое понятие «бессмертие» в четвертой, заключительной строфе стихотворения связывается поэтом уже не с блаженствующими на Олимпе богами, а с земным — и конечным! — бытием человека, с борьбой «непреклонных сердец». Великолепны и чисто ритмическая, и звуковая организация стиха. «Два голоса» — образец тютчевского амфибрахия, размера, к которому он обращался нечасто. В «Двух голосах» совершенна мерность ритма, сосредоточенно-сурова интонация. Эта «интонационная монотония» оказывается чрезвычайно выразительной, отвечающей замыслу и образам стихотворения. Ритмическая завершенность, монолитность строф определяются еще и системой клаузул: все строфы завершаются ударными, мужскими окончаниями. Сурова, строга и звуковая «одежда» стихотворения. Тревога, труд и гул борьбы передаются естественным нарастанием резких, диссонирующих звуков: звуковой «наряд» слов «борьба», «боритесь» наиболее часто варьируется в этих строках:
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна! <...>
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!(I, 129; курсив мой. — И. П.)
Безмолвие, оцепенение, молчание переданы иначе: почти совершенно исчезает резкое Р, появляется множество М, Н, Л, открытых гласных (гулкое эхо пространства):
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.И вновь в последней строфе нарастают резкие и сильные звуки:
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.Все в этом стихотворении является словно само собой в удивительно строгой гармонии, подчиненное дару и прозрению гения.
Мотивы «Двух голосов» характерны для творчества позднего Тютчева. Это своеобразный смысловой ключ к его лирике 1850—1870-х годов60. Все чаще он будет связывать с образом человека образ борьбы, боя, но боя трагического, «рокового», «неравного», «отчаянного». Эту устойчивую поэтическую формулу мы встретим в самых различных тютчевских стихотворениях. Юная женщина, беспечно «играющая» с людьми и судьбой («Играй, покуда над тобою // Еще безоблачна лазурь...»), — для Тютчева «жизнь, назначенная к бою» (I, 187). «Не легкий жребий, не отрадный» вынут судьбой для его любимой старшей дочери — это «отчаянная борьба» с «жизнью беспощадной» (I, 188).
- 47 -
В «отчаянный», «неравный бой» с людским судом вступила и любимая поэтом женщина («денисьевский» цикл). Этот самый значительный цикл его поздней лирики свидетельствует о глубине и безотрадности его раздумий, о безоглядности чувств, о сложности его целостной в своей противоречивости поэзии.
5
Тютчев оставил цикл так называемых поздних любовных стихотворений, связанных с одним женским именем, столь самозабвенно и горестно им любимым. Образ Е. А. Денисьевой, прожившей недолгую и не очень счастливую жизнь, нашел гениальное художественное воплощение в посвященном ей поэтическом памятнике и, подобно прославленным и воспетым женским именам мировой литературы, победил время, остался жить в строках поэта «смерти вопреки»61. В этом цикле все — живая боль, все «горит и жжет», потрясает правдой и обнаженностью чувств. В «кружении сердца» были радость — страдание, блаженство — безнадежность, самозабвение. Вместе с тем интимнейшие стихотворения Тютчева не были рассказом только об одном трагическом жизненном явлении. Современник Тютчева и во многом его антипод, Герцен, рассказывая в «Былом и думах» о своей личной драме, осмыслил страницы эти не только как суд над собой, защиту, покаяние, вызов, но прежде всего — как сознательную и непримиримую борьбу со всем тем, что противоречило его понятиям о справедливости, истинной человечности. Сознательно Тютчев перед собой такой задачи не ставил и не мог поставить. Более того, в письме к А. И. Георгиевскому, думая о печатании стихотворений, посвященных Е. А. Денисьевой, он обронил фразу о своем отвращении к тем, кто выставляет напоказ свою душевную боль, ко всем этим «мнимопоэтическим профанациям внутреннего чувства», к «этой постыдной выставке напоказ своих язв сердечных»62. Но именно в глубоко личных стихотворениях Тютчев открыто осуждает все то, что стоит на пути истинной любви. Врагом оказывается общество с господствующей в нем лицемерней моралью, с узаконенной, торжествующей пошлостью. Заповеди благочестивых охранителей ощущаются поэтом как величайшая ложь, более того, как жестокость, как преступление против человечности. Причем это не изящное и легкое фрондерство, привычные разговоры о пустоте света. Кто их не вел после Лермонтова! Тютчев в своем безоговорочном осуждении и неприятии лицемерия и жестокости моральных законов общества, своим страстным живым протестом близок величайшему обличителю фальши господствующей морали Толстому, автору «Анны Карениной».
В поздней любовной лирике Тютчева, как уже отмечалось, не только по-своему отозвались тревожные мотивы его «Двух голосов», этой песни мужества и обреченности, но и с особенной остротой отразилось безобразие того мира, в котором он жил, с которым был связан и от которого никуда не мог уйти. В этой трудной «чиновнически-дипломатически-бродяжнической жизни»63 мы увидим отсветы, отблески большой чаадаевской трагедии, трагедии прозрений и безнадежности. Разумеется, в любовной повести, рассказанной поэтом, — не только надрыв, разлад и отчаяние, но и упоение жизнью, порой так победно звучавшее в поэзии Тютчева. И, наконец, в этом цикле, может быть, непосредственнее и сильнее, чем в других произведениях, отразилась личность поэта, необычная, иной раз казавшаяся странной («Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное»64), мятущаяся, прекрасная своим душевным непокоем, отвращением к «бессмертной пошлости людской», безоглядностью и глубиной чувства.
Лирика любви молодого Тютчева благоуханна, радостна, в ней все поет, переливается, светит. Даже в ритмах, звуках, их праздничном сочетании — восторг, благодать. Не нужно считать, что это лишь отражение счастливо-бездумного отношения к жизни, так понятного в юности. Уже в 1820-е годы Тютчев над очень многим задумывается. Он ощущает трагизм исторических свершений («14-ое декабря 1825»), говорит о «роковых» моментах в человеческой судьбе,
- 48 -
о покинутости человека («И мы, в борьбе, природой целой // Покинуты на нас самих» — I, 18). Но любовь осознается как прибежище, волшебный чертог, где свет и покой. Некоторая романтическая декларативность словесных формул, юношеская дань привычным поэтическим образцам не лишают их искренности. В них очень естественное, молодое, пылкое ожидание «праздника жизни»:
Но для меня сей взор благодеянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.(I, 11)
Очень грациозное стихотворение «Cache-Cache» все проникнуто атмосферой влюбленности, ощущением уже пришедшего, торжествующего, хотя и не выговоренного, не названного чувства. Поэтические детали подчеркивают его чистоту, свежесть (арфа в «обычайном углу», аромат роз, задремавший на полу солнечный луч, «лукавый» взгляд гвоздик). Женщины нет, но она — во всем, что прекрасно, что говорит о жизни: в солнечном луче, в звоне арфы, в беспечном полете мотылька. Поэт словно не может сдержать рвущегося из груди восторга:
Как пляшут пылинки в полдневных лучах,
Как искры живые в родимом огне!
Видал я сей пламень в знакомых очах,
Его упоенье известно и мне.(I, 14)
Полон «веселости беспечной» и образ «младой феи». Легкая, воздушная, осыпанная яблоневым цветом, освещенная лучами солнца, она возникает в стихотворении как олицетворение молодости («Я помню время золотое...»). С особенной бережной нежностью воссоздан облик юной девушки в стихотворении «Восток белел. Ладья катилась...». В нем и целомудренность, святость «причащения любви», и ее победительная сила (тот же миг совершенного счастья передан и в стихотворении «Сей день, я помню, для меня...»).
Как опрокинутое небо,
Под нами море трепетало...Восток алел. Она молилась,
С чела откинув покрывало, —
Дышала на устах молитва,
Во взорах небо ликовало...Разгорающийся «пожар» зари («Восток белел... Восток алел... Восток вспылал») — и охваченная этим огнем юная душа:
...Она склонилась,
Блестящая поникла выя, —
И по младенческим ланитам
Струились капли огневыя...(I, 64)
Тютчев написал рассказ о любви, сжатый до двенадцати поэтических строк. Необычность и тонкая прелесть его — в «невыговоренности»: все осталось в глубине, в «целомудренной бездне стиха»65.
Но уже в поэзии 1830-х годов мы встретим противопоставление светлой влюбленности «мятежному жару» грешной, запретной любви. Возникает образ женщины, узнавшей цену «тайным радостям»:
Стыдливости румянец невозвратный,
Он улетел с твоих младых ланит —
Так с юных роз Авроры луч бежит
С их чистою душою ароматной.(I, 21)
- 49 -
ТЮТЧЕВ
Фотография Г. И. Деньера. Петербург, май 1864 г.
Воспроизведена в книге: «Стихотворения Ф. Тютчева». М., 1868
Музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева
«Я перечитал собрание стихов его и долго не мог оторваться от приложенного к нему портрета. Что за обилие и какое разнообразие даров в этом милом лице» (Ю. Ф. Самарин)
Постепенно разрушая «светлый храм» любви, ворвутся в поэзию диссонансом трагические отзвуки «злой жизни», все уничтожающей угрюмой страсти («Итальянская villa», «Люблю глаза твои, мой друг...»). В стихотворении, написанном, вероятно, в конце 1837 г. («С какою негою, с какой тоской влюбленной...»), уже отчетливо определяется драматическая ситуация поздних любовных признаний поэта. Но, несомненно, тютчевская «философия любви» как рокового, «убийственного» чувства сложилась в 1850-е годы. События личной жизни, заставившие очень болезненно ощутить в себе «разорванность чувств», все чаще овладевавшее Тютчевым сознание отторгнутости от привычного мира, потерянности, обреченности сказываются в поэзии, определяя «музыкальный» тон его поздней лирики. Эта любовная лирика отмечена чертами резкой индивидуальности. У его предшественников и современников (пожалуй, кроме Ап. Григорьева и Достоевского) мы встретим иное понимание любви. Разнообразна и многоцветна пушкинская любовная лирика. Но основное в ней — восторженное любование красотой, истинная щедрость души, доброта, человечность.
- 50 -
Порой и у Тютчева мы найдем мотивы, созвучные Пушкину. Поэт, подобно Пушкину, останавливается, «благоговея богомольно перед святыней красоты», причем это упоение не строгой правильностью линий, холодным совершенством мраморной статуи, а восторг перед живой прелестью лица и души. В пушкинских и тютчевских стихах есть всегда очень тонкий, едва уловимый, но несомненно присутствующий момент духовности, так поднимающей и облагораживающей физическую красоту человека, неразрывно с нею слитый:
Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать...(I, 192)
Здесь тоже красота — святыня. Конкретно-зримого портрета женщины нет ее живая прелесть, земное очарование — для поэта «неразгаданная тайна» облик женщины вызывает чувство благоговейное, трепетно-тревожное.
В стихотворении «Я знал ее еще тогда, // В те баснословные года...» — тонкая духовность в сочетании с внешней прелестью и создает ощущение совершенства. Казалось бы, самыми простыми средствами, не прибегая ни к каким ухищрениям формы, простым сопоставлением, сближением понятий Тютчев достигает поразительного художественного эффекта:
И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда незрима, неслышна,
Роса ложится на цветы...(I, 186)
Спокойный, несколько замедленный ритм всей строфы, с паузой в середине четвертой строки («когда незрима, неслышна»), очень естественной, как дыхание, подчеркивающей мысль о душевной тишине, умиротворенности, удивительно соответствует всему прелестному, чуть грустному облику женщины, необыкновенно изящному и скромному. Красота, достигшая своего расцвета, уже несет в себе неизбежность ущерба, увядания. Отсюда и настроение тихой и светлой печали в тютчевском стихотворении. В нем совсем нет ни боли, ни сожаления. Поэт по-пушкински мудро вглядывается в вечный круговорот жизни:
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом.(I, 186)
Но он умеет находить тончайшее очарование в наступающем «вечере жизни», в красоте, чуть тронутой временем, но все еще полной благоухания и свежести (как неожиданна и прелестна, соотнесенная с обликом женщины, картина летней ночи, дорассветной темноты, ночного покоя, когда так тонко и нежно пахнут цветы, обрызганные росой!).
Пушкинская стихия по-своему ожила в одном из последних стихотворений Тютчева. «Я встретил вас — и все былое...». На нем — вечерний свет уже прощающегося с жизнью поэта. Оно ясно и благодарно, и очень близко и по мысли, и даже по форме (при всей его оригинальности и своеобразии) к знаменитому пушкинскому «К...» («Я помню чудное мгновенье...»).
В их основе одно и то же, причем глубоко личное событие: встреча после долгой разлуки с нежно любимой женщиной. Рожденные чистейшим прикосновением к жизни, остались они наиболее совершенным в русской поэзии воплощением благородных чувств большой гуманной души. В тютчевском стихотворении, отдаленном от пушкинского целой прожитой жизнью, вновь оживает пушкинский
- 51 -
«гений чистой красоты». Для Пушкина в «чудном мгновенье» встречи — надежда, упоение; для Тютчева — неожиданное возвращение «лет душевной полноты». Облик женщины и внушенное ею чувство способны разбудить душевные силы («... воскресли вновь // И божество, и вдохновенье, // И жизнь, и слезы, и любовь». — «И вот — слышнее стали звуки, // Не умолкавшие во мне... // Тут не одно воспоминанье, // Тут жизнь заговорила вновь»). Пушкинская поэтическая мысль и пушкинская же удивительная ясность в позднем стихотворении Тютчева, а вместе с тем оно не подражательно. Разве не узнается истинный Тютчев в этом сопоставлении природы и человеческой души, в привычной тютчевской аналогии, идущей от явлений природы к явлениям душевным (излюбленное «как ... так»):
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, —Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...(I, 223)
Да и в «денисьевском» цикле, где так много «не пушкинского», болезненно-страдальческого, разрушительного, порой мелькнет «улыбкой умиленья», душевной добротой пушкинский гений. Тютчев шел совершенно особой, своей дорогой в поэзии, но и для него Пушкин был «началом всех начал». Пушкинская традиция ощущается почти во всей русской любовной лирике XIX столетия.
Печать обреченности, сознание собственной скорой гибели своеобразно окрашивают лермонтовскую поэтическую исповедь. И все же в произведениях этого «бурного демона» нашей поэзии чувство в основе своей гуманно, его связь с Пушкиным в тончайшей области поэтического воспроизведения душевных движений несомненна.
Эта связь с Пушкиным присутствует и в произведениях романистов. Такой художник, как Тургенев, высоко ценимый Тютчевым, — певец глубокого и целомудренного чувства (Наталья Ласунская, Лиза, Елена, Джемма, Ася). В этой любви, даже если она безответна и ведет к тяжким разочарованиям и обидам, как у Натальи, Аси, Джеммы, или связана с потерями, смертью, как у Елены, много чистоты и свежести. Как ни сильна боль в душе Санина, героя поэтических «Вешних вод», как ни тяжело сознание одинокой, бесплодно прожитой жизни, прекрасный образ Джеммы и через тридцать лет светит ему. Тургенев чаще всего пишет о только что пробудившемся чувстве, поэтому так акварельно нежны и добры нарисованные им картины66.
В романах И. А. Гончарова, особенно у любимых его героинь, любовь требовательна, самоотверженна и строга. «Для меня любовь эта — все равно, что <...> жизнь, — говорит Ольга Обломову, — а жизнь — <...> долг, обязанность, следовательно, любовь — тоже долг <...> Да, и у меня, кажется, достанет сил прожить и пролюбить всю жизнь»; но и для героев Гончарова «свидания, разговоры — все это была одна песнь, одни звуки, один свет, который горел ярко, и только преломлялись и дробились лучи его на розовые, на зеленые, на палевые и трепетали в окружающей их атмосфере. Каждый день и час приносил новые звуки и лучи, но свет горел один, мотив звучал все тот же»67.
Целую «симфонию любви» найдем мы в романах Толстого; в рассказанных им историях много темного и даже страшного. Мучительно трудна любовь Анны68, осквернено чувство Катюши, тягостными заботами, ревнивыми обидами, внутренним одиночеством обернулась любовь для Долли. Очень близкий Толстому в своем неприятии лицемерия и фальши моральных законов общества, Тютчев далек от него в самом подходе к чувству, в понимании и изображении его. В чувствах героев Толстого много живой, естественной прелести, им, как правило, чужда изломанность, злое, разрушительное начало любви. Герои Толстого удивительно хороши, когда любят или предчувствуют любовь: Наташа и князь Андрей, княжна Марья, Левин, Кити, Пьер, юная Катюша. Любить — жить,
- 52 -
понятие «любовь» у Толстого соотнесено с жизнью, с обновлением земли, с ощущением полноты и радости существования.
«Дворянские поэты» 1860-х годов, с их сознательной установкой на отрешенную от действительности поэзию, «царство вечной юности и вечной красоты»69, много поэтического вдохновения отдали интимной лирике; мир сердца изучен и исследован этими поэтами, все сложнейшие оттенки человеческих чувств переданы ими с редкой бережностью. Среди них было много поэтов, «сочувственных» Тютчеву, но ни у одного из них поэзия так полно, так ярко не несет на себе примет «искалеченного века», как у Тютчева.
В очень неровном литературном наследии Я. П. Полонского много превосходных стихов интимно-лирического характера. Однако Полонский и в любви, как правило, обходит все, нарушающее равновесие, все грозное, неспокойное. У него мы найдем строки, которые никогда не могли бы появиться у Тютчева:
Мне было легче лицемерить,
Чем верить сердцу твоему70.Эта же боязнь любви, страх отдаться «чувству своевольному», привычка «страстей обуздывать язык» и во многих других стихотворениях Полонского:
Кто к лицемерию привык,
Тому нужна привычка к счастью71.Характерно, что этому своему стихотворению Полонский дал название «Холодная любовь». Поэт утверждает верность чувства, но чувства трезвого, спокойного. Это скорее дружба и привычка, чем любовь.
Любовь — благо, щит, опора, единственное (иногда поэзия, искусство), что может противостоять житейским бедам. Эту мысль, дорогую сердцу Полонского, мы найдем и в творчестве А. К. Толстого. Сам поэт неоднократно подчеркивал мажорный тон своих произведений, и в общем был прав72.
А. К. Толстой рассказал историю любви двух людей, жизнь которых протекает в основном в дворянской усадьбе. Влажное крыльцо старого дедовского дома, завораживающая прелесть потухающего камина, березовая роща, полная света и солнца, сладостный запах прелого листа в знакомом и дорогом до боли, запущенном саду — вот те поэтические аксессуары, которые так обильно рассеяны в стихотворениях Толстого. Как чрезвычайно резкий контраст Тютчеву возникает мысль об устойчивом существовании, привычном, сложившемся быте (хотя и здесь «жизнь бежит то круто, то отлого»). Чаще всего чувство у Толстого светло, радостно, оно обновляет душу:
Условий мелкий сор крутящимся столбом
Из мысли унесла живительная сила,
И током теплых слез, как благостным дождем,
Опустошенную мне душу оросила73.Говоря о поэзии середины и второй половины XIX в., разумеется, нельзя обойти А. А. Фета, нельзя не попытаться сравнить его лирику с тютчевской, тем более, что с одной стороны (фетовской) было прямое обожание («Мой обожаемый поэт <...> // Давно мечты твоей полет // Меня увлек волшебной силой. // Давно в груди моей живет // Твое чело, твой облик милый»)74, с другой (тютчевской) — весьма дружественное и сочувственное отношение. О любовной лирике Фета написано немало. Как правило, отмечалось умение Фета передать необычайно тонкие оттенки чувств ожидания, надежды, любовного томления, влюбленности. Фет поистине волшебен в передаче трепетных, почти не названных («О, если б без слова сказаться душой было можно...»), рождающихся в глубине души порывов и желаний. Здесь он был во многом открывателем, а может быть, и первооткрывателем в нашей поэзии. Томительное, сладостное до острой боли и слез предчувствие любви («Отчего со всеми я любезна...», «В темноте на треножнике ярком...», «В лунном сиянии...», «От огней, от толпы беспощадной...»), восторг первых признаний:
- 53 -
О, друг, как счастлив я, как счастлив я вполне,
Как жить мне хочется до нового свиданья, —глубокая нежность и печаль с уже мелькнувшей мыслью о мимолетности счастья; а рядом упоение счастливым мгновением до полного самозабвения:
Пей, отдавайся минутам счастливым, —
Трепет блаженства всю душу обнимет;
Пей — и не спрашивай взором пытливым,
Скоро ли сердце иссякнет, остынет75.Фет как бы намеренно отодвигает все трудное, тоскливое, дисгармоничное, расцвечивая чувство ликующе-праздничными красками. Здесь он, как и большинство близких ему поэтов, — антипод Тютчева. Но у Фета есть целый цикл стихотворений, причем цикл необычный еще и потому, что создавался он всю жизнь, отмеченный подлинным трагизмом, цикл, где есть характеры, люди, судьбы, а не только мимолетные и неясные ощущения. Жизненная предыстория этого цикла не менее трагична, чем жизненная ситуация, отразившаяся в поздней лирике Тютчева. Глубокая борозда, вероятно, навсегда осталась в сердце Фета, если уже стариком с неутихающей болью он вновь и вновь возвращался к дням своей молодости. В этих стихотворениях («Старые письма», «Ты отстрадала, я еще страдаю...», «Alter ego», «Страницы милые опять персты раскрыли...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...», «Долго снились мне вопли рыданий твоих...») мы найдем и сильнейшее чувство стыда, и отчаяние, и горестное сознание гибели большого чувства, канувшего в пустоту:
Горя огнем стыда, опять встречают взоры,
Одну доверчивость, надежду и любовь...(«Старые письма»)76
У любви есть слова, те слова не умрут,
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить.(«Alter ego» )77
Поэт нарисовал образ юной женщины, доверчиво, бескорыстно, самоотверженно любящей. Это — alter ego его души, самая чистая струна, замолкнувшая вместе с гибелью женщины. Остаются лишь воспоминания, рождающие восторг и муку.
Так же, как и в поздней лирике Тютчева, лирический герой Фета осознает себя «несчастным палачом» («Долго снились мне вопли рыданий твоих...»). Певец мимолетных ощущений, Фет поднимается в этих своих стихах до большой правды, правды очень сильных и глубоких чувств. Какой, например, щемяще-правдивой нотой заканчивается одно из последних стихотворений этого цикла:
Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?»
Чуть в глазах я заметил две капельки слез;
Эти искры в глазах и холодную дрожь
Я в бессонные ночи навек перенес.(«Долго снились мне вопли рыданий твоих...»)78
Но в этом поэтическом романе-воспоминании нет того, чем драгоценна любовная лирика Тютчева, — нет борения, нет напряжения всех душевных сил, нет вызова, брошенного людской пошлости и бесчеловечности. Герой твердит «о не нашей вине», но сам разрыв вызван, видимо, соображениями вполне житейскими, которые определенно не названы, но предполагаются, тогда как у Тютчева любовь отступает только перед смертью, ибо никакие житейские соображения над ней не властны.
Характерно, что Тютчев и Фет возвышают женщину, делают ее носительницей идеально-прекрасных качеств. В фетовском лирическом цикле — и глубина
- 54 -
страдания, и сила любви, и редкостная — почти невероятная — острота памяти, но и подчинение господствующим в обществе законам. Сколько, например, тягостной трезвости в обращении героя к несчастной возлюбленной:
Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
Что минувшие дни мы должны позабыть,
Что в грядущем цветут все права красоты, —
Мне и тут ничего не ответила ты79(курсив мой. — И. П.)
У Фета и Тютчева в интимно-лирической исповеди воссозданы трудные и мучительные события жизни — и главное — отражена стихия души, но души эти несоизмеримы80.
Поэта нельзя безнаказанно изъять из своего времени, из живого литературного процесса. Сравнение с художниками, казалось бы, близкими Тютчеву, неожиданно свидетельствует о том, насколько он был чужд им, и, наоборот, писатели, столь далекие, родственно перекликаются с ним (такая перекличка несомненна у Тютчева и Достоевского, у Тютчева и Ап. Григорьева, следует вспомнить здесь и «панаевский» цикл Н. А. Некрасова)81. Разумеется, каждый из них шел своим путем, у каждого были свои темы и образы, своя оркестровка стиха, свои художнические пристрастия. Да, собственно, иначе и не могло быть. Поэты, «сочувственные» Тютчеву, не были мелкими людьми, не были они и маленькими поэтами. Славой своей «серебряный век» поэзии русской во многом обязан им. Страстно защищаемая Майковым, Фетом, А. К. Толстым теория отрешенного от жизни искусства не сделала их в повседневной поэтической (не говоря уже о публицистической и житейской) практике величавыми Олимпийцами. Тургенев оставил нам напоенное тончайшим ядом описание Фета-помещика, колоритную иллюстрацию к запискам «Деревенского жителя». Майков неустанно повторял о поэте истинном: «Для всех чужой, со всеми в мире», но и он не всегда следовал этому правилу; он сумел прожить жизнь спокойно и, пожалуй, даже изящно, но и в его душе, бывало, загорались злые всполохи неприязни и вражды. Об острые углы жизненных противоречий болезненно задевал иной раз добрейший Полонский.
Поэты эти твердо знали (за исключением разве Полонского) границы своего и чужого мира. При всей разнице характеров и манер, несомненно, многое воспринималось ими одинаково. Готовые охотно признать несовершенство окружающей жизни, они нашли для себя «прекрасные уголки», где была блаженная тишина. Одним из таких «уголков» и явилась любовь — дом двоих и мир двоих, далекий от всего беспокойно-тяжкого, от «мышьей беготни» жизни. А у их «обожаемого поэта» — любовь на ветру, в ней «зарницы огневые» суетного, злого мира. У этой любви нет своего защищенного, прочного дома. И страстно, и безнадежно, и мужественно в любовной лирике Тютчева звучит все та же музыка вечного душевного непокоя. В этой любви видны, как на срезе раненого дерева, линии и изломы жизни. Она предельно приближена к «миру живому скорбей и печали». В обитель двоих «вломилась» толпа, людская жестокость и злоба осквернили, растоптали бережно скрываемые святыни, земля стала «дикой» для «очарованной души». В этой любви запечатлелся век еще и потому, что в сердце поэта слишком много было едкой горечи и сомнений. Он не смог принести и не принес своей возлюбленной мира и тишины. В литературном окружении идейно близких людей Тютчев был «чужой для всех», хотя и «со всеми в мире». И дело не в том, что как личность он был, несомненно, крупнее. Он был иначе велик.
Поэтический цикл, посвященный Е. А. Денисьевой, проникнут тем же трагическим мироощущением, которое отличает всю поэзию позднего Тютчева. Тревоги и бури, которые он наблюдал в жизни, отозвались в его лирике неожиданно и сильно; тревоги и бури носил он и в себе, неуемный, не умеющий останавливаться на полпути, во всей безудержи своих страстей. Разумеется, самые тонкие, самые болезненно-интимные стороны лирической исповеди поэта
- 55 -
определяются особенностями самой личности, характером и обстоятельствами. Но как бы ни были индивидуальны, неповторимы лица участников мучительной драмы, на них все равно падает отсвет эпохи, в них живут приметы и противоречия времени. И именно потому, что человек, живущий в обществе, не может быть свободным от общества, любовная история, рассказанная поэтом, заключает в себе большие философские и морально-этические вопросы. В ней, в этой истории, есть то, что принадлежит времени, и то, что пережило время; есть «философия», которую можно понять, но невозможно принять, и есть та сила любви и острота человеческой боли, которые потрясают и сейчас.
ПОМЕТА Л. Н. ТОЛСТОГО НА ПОЛЯХ
СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
«Т<ютчев>. Ч<увство>»В книге: «Сочинения Ф. И. Тютчева». СПб., 1886
Музей Л. Н. Толстого, Москва
Буквой «Т» («Тютчев») Толстой помечал стихотворения,
в которых видел мысли и образы, свойственные одному ТютчевуКак уже отмечалось, именно в этих стихах появляется у Тютчева подлинный гнев. Поэт отрицает смысл и человечность того мира, защиту которого он считал своим гражданским долгом. И получилось это не потому, что «ум с сердцем не в ладу», — такое объяснение было бы слишком легковесным. Непосредственная правда жизни, увиденное, пережитое художником противоречат, а иной раз и опрокидывают усвоенные, защищаемые идейные схемы. Это случалось не с одним Тютчевым; pro и contra, которые выявились в его публицистике, проходят и через его лирику, но поэт расставляет здесь уже несколько иные акценты.
В жизни Тютчева чувство занимало громадное место. Близко знавший его И. С. Аксаков писал, что «жизнь сердца, жизнь чувства со всеми ее заблуждениями, треволнениями, муками, поэзией, драмой страсти» была в высшей степени знакома и близка ему82.
Сам Тютчев эту «жажду любви», постоянно живущую в его сердце, назвал «ужасным свойством <...> нарушающим всякое равновесие в жизни»; он признается, что именно таким было это чувство в его жизни, и скорбит, что, может быть, «передал его по наследству» своей дочери83. Этот авторский комментарий многое помогает понять в его поэзии. Мука раздвоенности, определенная Тютчевым как ужасная болезнь века, сказалась и в той сфере человеческих отношений, где более всего, казалось бы, возможны спасительная целостность и внутренняя гармония. На протяжении многих веков любовь, бережная нежность двух людей противостояли «страшному миру» как порой единственное прибежище, куда можно было укрыться от острых противоречий жизни. Правда, на поверку это оказывалось иллюзией: гибли Паоло и Франческа, Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта, но само чувство противостояло всему безобразному, общественно-уродливому и жестокому. Век XIX, этот «беспламенный пожар», наложил свою тяжкую печать на человеческую личность. Раздираемая противоречиями, мечущаяся в поисках выхода, она внесла смятение и в область самых
- 56 -
интимных отношений. Если коснуться фактов биографии Тютчева, то можно с очевидностью увидеть, как неспокойно, болезненно-трудно складывалась личная жизнь поэта в 1850—1860-е годы. Он сам с предельной откровенностью определил свою роль в жизни любимой им женщины:
Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла.(I, 132)
Тютчевское понимание любви в эти годы безотрадно. Оно целиком — следствие жизненных обстоятельств. Ощущение жизненного неблагополучия, безысходности жизненных противоречий, столь острое в поэзии Тютчева, сказалось и в его понимании любви. Один трагический факт биографии мог быть запечатлен в поэзии именно как факт биографии — не больше. Осталась бы, возможно, высокохудожественно, даже гениально отраженная трагическая случайность в судьбе одного человека. В литературе мы знаем немало подобных примеров. Тютчев же поднимает пережитое до большого художественного обобщения, он видит определенный жизненный закон, с жестокой неумолимостью действующий в людских отношениях, — закон страдания, зла, разрушения. Это идет от «чувства жизни», от понимания ее. Он был поэтом действительности, а действительность была слишком жестокой. В то же время увидеть что-то за этой «стеной страдания», увидеть мир больших идей, самопожертвования, добра и тем самым найти реальное противодействие жестокости жизни было для него так же трудно, как и принять философию самоуспокоения. Ни примирения, ни победы, вечная борьба — вот внутренний импульс его поэтических раздумий, характерный и для его поздней любовной лирики. Отсюда и образный строй, и композиция ряда стихотворений «денисьевского» цикла. Любовь превращается в схватку двух сердец, «поединок роковой». Ощущение противопоставленности жизненных явлений, непримиримости противоречий определило контрастность образов и сюжетного построения знаменитого тютчевского «Предопределения». Здесь самое движение, развитие мысли поэтической резко контрастно: любовь —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...Мысль о «поединке роковом» развивается и во второй строфе, приводя к выводу о гибельности, обреченности чувства:
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...(I, 142; курсив мой. — И. П.)
Роковая, трагическая сущность любви подчеркивается не только резким выделением самого эпитета («И роковое их слиянье, // И ... поединок роковой». — Курсив мой. — И. П.), но и утверждением неизбежной и верной гибели наиболее страдающего и незащищенного существа в этой любовной дуэли. Стихотворение «Предопределение» написано в то время (1851), когда жизненный роман самого поэта был еще весьма далек от трагического конца; интересно, что оно не завершает (это было бы естественнее) определенную жизненную историю, а лишь пророчески предугадывает ее финал. Пройдет почти тринадцать лет, прежде чем оправдается в жизни Тютчева грустная правда последних строк. Это с очевидностью свидетельствует о том, насколько тютчевское понимание
- 57 -
любви идет от трагического ощущения жизни и закономерно входит в общую систему его взглядов.
«Предопределение» утверждает разрушительную, стихийно-злую силу самого чувства, приносящего страдания и в конечном счете — смерть. Но «борьба неравная двух сердец» рождает глубину и напряженность переживаний, силу и беззаветность чувств. В любви, способной идти до конца, приносящей в жертву самое заветное, сказалась прекрасная щедрость души. Мысль, классически четко сформулированная в «Предопределении», по существу повторяется и в стихотворении «О, как убийственно мы любим». «Буйная слепота страстей» гибельна, разрушительна:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..(I, 131)
Страсти слепы, в них темная стихия, все тот же хаос, который наблюдает поэт в окружающем его мире. В них по-своему отражена та страшная дисгармония души, от которой страдал и мучился современный Тютчеву человек.
Кроме Тютчева, с пристальным вниманием относились к «хаотическим» движениям души, писали о «буйной» слепоте страстей Ап. Григорьев и Достоевский. Интересна эта внутренняя аналогия с темнотой: человек, охваченный страстью, слепнет, погружается в гулкий и беспросветный мрак. Григорьев оставил в поэзии следы мучительных исканий, душевного непокоя — и одно это уже роднит его с Тютчевым гораздо больше, чем самого Тютчева с группой «сочувственных» ему поэтов. В поэзии Ап. Григорьева мы найдем изображение любовной стихии, поглощающей и даже губящей человека. Григорьевская «комета» — символ его горькой и странной жизни — несомненно, близка Тютчеву:
Недосозданная, вся полная раздора,
Невзнузданных стихий, неистового спора,
Горя еще сама, и на пути своем,
Грозя иным звездам стремленьем и огнем...84Есть определенная близость в лирических любовных циклах Григорьева и Тютчева. Эта близость — уже в стихотворении «К Лавинии»:
Он вас любил как эгоист больной,
И без надежд, и без желаний счастья,
К судьбе своей и вашей без участья,
Он предавался силе роковой...85В 1850-е годы Григорьев создал поэтический цикл «Борьба», который имел характерный авторский подзаголовок «Лирический роман». Уже самим заглавием определена тема цикла — тютчевская тема «поединка рокового». «Борьба — так борьба», — говорит герой в стихотворении «Опять, как бывало, бессонная ночь...». Любовь лирического героя глубока, истинна («Да, я люблю вас так глубоко, страстно, давно»), но и мучительна, и трудна; она тяготеет над душой. Это — стихия, порой не подвластная рассудку. Здесь не столько сходство жизненных ситуаций у Тютчева и Григорьева (они достаточно далеки), сколько близость психологическая и историческая. Сильные страсти, разрушающие покой души, рождающие страх своей «хаотичностью», осознание чуждости всему общепринятому, благопристойно-обыденному (в сфере чувств) найдем мы в поэзии и Григорьева, и Тютчева. Но следует отметить, что у Григорьева психологический, лирический роман не имеет того протестующе-общественного звучания, какое мы обнаруживаем в поэзии Тютчева. Да и образ женщины у Григорьева иной. Это
...Евы лукавой лукавая дочь.
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер86.
- 58 -
И все же некоторое совпадение мотивов интересно по многим причинам: во-первых, вполне вероятно, что и название цикла «Борьба», и мотивы борьбы, характерные для этого цикла, были подсказаны Григорьеву Тютчевым, поэзию которого он любил, так же, как представляется вероятным и влияние тютчевской поэзии на Достоевского, с его излюбленными коллизиями «убийственной» любви. Таким образом, возникает вопрос об определенной сфере влияния Тютчева на современников; во-вторых, стремление психологизировать стихотворения, объединить их в законченный и часто сюжетно определенный цикл, свойственное самым разным поэтам (Григорьеву, Тютчеву, Некрасову), свидетельствует о своеобразном направлении всей русской поэзии, испытывающей, как это уже указывалось исследователями, сильное влияние русской прозы середины XIX в. (так же несомненно и обратное влияние, и обратное «вторжение» поэзии в прозу — отсюда «поэтичность» прозы Тургенева, позднее Гаршина). Следует, наконец, сказать и о том, что успехи русских поэтов в воспроизведении самых тонких душевных движений во всей их психологической достоверности говорят о блестящем расцвете русской лирической поэзии.
«Денисьевский» цикл — этот тютчевский «роман в стихах» — имеет свое начало, свою кульминацию и развязку, свой острейший внутренний конфликт — это и конфликт любящих, их «борьба неравная», и столкновение истинного, хотя и «беззаконного», чувства с лицемерной моралью «толпы». Определение «роман в стихах» вполне приемлемо для этого цикла в силу его определенной замкнутости, сюжетной законченности отдельных частей87. Одно из первых стихотворений — «Не раз ты слышала признанье...» — уже очерчивает и характеры людей, и их отношения, и жизненную ситуацию; завершает цикл стихотворение «Две силы есть — две роковые силы...». Характерно, что начинается рассказ о любви с глубоко личного, интимного стихотворения, а заканчивает поэт определенной инвективой в адрес общества. Каждое из стихотворений рассказывает о каком-то моменте горестной любви и близости двух людей, лирико-повествовательный элемент весьма ощутим в них: рождение ребенка («Не раз ты слышала признанье...»), насилие «толпы» над человеческой душой («О, как убийственно мы любим...»), момент тишины и покоя («Пламя рдеет, пламя пышет...»), болезнь, смерть и бесконечное чувство одиночества и потерянности, охватившее героя. Характеры двух людей, соединенных «роковым» чувством, очень определенны, во многом — полярны.
Вступая в своеобразный спор с господствующими в обществе мнениями и нравственными нормами, поэт невольно касается сложного этического вопроса о правомерности расплаты и о характере вины человека, нарушившего моральные законы общества. Словом, в тютчевском цикле мы обнаружим ту самую проблему, которая так волновала его младшего современника — Толстого. И здесь интересно вспомнить «Анну Каренину». «Мне отмщенье и аз воздам», — сурово напоминает писатель, но по существу вся вина Анны заключается в том, что естественные, человеческие чувства и стремления она отказалась подчинить узаконенному лицемерию и фальши. Все остальные обвинения снимаются в самом романе: Анна разрушила семью, но Толстой с определенностью доказал, что семейная жизнь Карениных покоилась на лжи и внутреннем обмане; Анна — плохая мать, бросившая сына, но на протяжении всего романа Толстой доказывает обратное. Именно как мать Анна смогла внушить сыну чувство глубокой любви, преданности, нежности, а Каренин, во всем всеоружии своих педагогических приемов, озлобил и ожесточил ребенка. Анна — женщина, «потерявшая себя, но не виноватая». В таком плане существует понятие «вина» и в тютчевском цикле. Чувство героини «беззаконно», но не с точки зрения автора, а именно с точки зрения «толпы». Об этом говорится прямо в одном из последних стихотворений:
Таков уж свет: он там бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.(«Две силы есть — две роковые силы...» — I, 219;
курсив мой. — И. П.)
- 59 -
С точки зрения Тютчева виновата не женщина с ее «беззаконной» любовью, виноваты те, кто осквернил ее чувство. Причем в процессе развития лирической темы Тютчев приходит к переосмыслению самого понятия «вина»: от несколько отвлеченного утверждения — к конкретному раскрытию преступления против человечности, совершенного «толпой» (понятие «толпа» у Тютчева совершенно определенно: это — защитники и носители узаконенной морали).
Обратимся к одному из характернейших стихотворений цикла «О, как убийственно мы любим...»88. В открывающей и завершающей стихотворение строфах говорится о неизбывной вине самого человека, чувства которого по природе своей разрушительны. В этом своеобразном поэтическом обрамлении заключена вся история любви: прелесть молодого, счастливого существа («Ее волшебный взор, и речи, // И смех младенчески-живой») — «при первой встрече роковой», а через год: «Куда ланит девались розы, // Улыбка уст и блеск очей? // Все опалили, выжгли слезы // Горючей влагою своей». На долю женщины досталась «жизнь отреченья, жизнь страданья». Но ведь любовь искренняя, глубокая «незаслуженным позором» легла на жизнь женщины только потому, что оказалась «беззаконной» в глазах людей, обрекших ее на одиночество, отвергнувших, отбросивших ее как преступницу. И закономерно, что поэт называет истинных виновников несчастья:
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!(I, 132)
Продолжая эту же мысль, поэт прямо обвиняет «толпу» в поругании, в кощунстве, в преступлении. В стихотворении «Чему молилась ты с любовью!» «беззаконная» любовь оказывается святой и чистой, противостоящей «бессмертной пошлости людской».
В завершающем стихотворении цикла — «Две силы есть — две роковые силы», поставив в одном ряду слова Свет («Суд людской») и Смерть, поэт тем самым подчеркивает губительную сущность света. Более того, различие Света и Смерти заключается в том, что
...Смерть честней — чужда лицеприятью,
Не тронута ничем, не смущена,
Смиренную иль ропщущую братью —
Своей косой равняет всех она.Свет не таков: борьбы, разноголосья —
Ревнивый властелин — не терпит он,
Не косит сплошь, но лучшие колосья
Нередко с корнем вырывает вон.И как настоящий — хотя и трагический и безнадежно-обреченный — подвиг, осмыслены поэтом вызов и протест, брошенные в лицо света «гордой силой, гордо-молодой». И пусть он дважды повторит: «И горе ей — увы, двойное горе», «да, горе ей», пафос стихотворения в прославлении этого «неравного боя», когда женщина
Личиною чела не прикрывает,
И не дает принизиться челу,
И с кудрей молодых, как пыль, свевает
Угрозы, брань и страстную хулу.(I, 218—219)
Так вновь повторена поэтом мысль об истинной красоте борьбы и непокорности, даже если эта борьба грозит смертью. «Поединок роковой» двух любящих существ превращается в «не равный бой» истинной человечности и узаконенного, господствующего лицемерия и жестокости89.
Но если с героини целиком снята вина, то она не снимается с любящего ее человека. Уже проводившаяся аналогия с «Анной Карениной» Толстого может
- 60 -
быть продолжена. В судьбе Анны, в том вызове, который она бросила свету, много родственного тютчевской героине: и та и другая «при роковом сознанье // Всех прав своих, с отвагой красоты, // Бестрепетно, в каком-то обаянье // Идет сама навстречу клеветы» (I, 219). Вина Вронского в романе вполне определенна, ужас положения Анны усугубляется тем, что она понимает: Вронский еще любит, но уже может не любить. Человек, занявший такое громадное место в жизни Анны Карениной, в сущности недостоин ее. В лирическом цикле Тютчева сам герой глубоко и постоянно осознает свою вину. В чем же суть этой вины, за что он казнит себя, обвиняя в трагической судьбе загубленного человека? От первого до последнего стихотворения, не только не ослабевая, а, наоборот, приобретая глубину и напряженность, растет его чувство, оно показано многогранно, ярко. О нескудеющей щедрости сердца поэт сказал в знаменитой «Последней любви»:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
< ................ >
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...(I, 156)
В этой любви — и признание величия подвига женщины, и благоговейный восторг перед нею («Не стою я любви твоей», «Стою, молчу, благоговею // И поклоняюся тебе», «Пойми ж и ты мое смиренье // Пред сердцем любящим твоим» — I, 135), и глубокая нежность («Но и в избытке упоенья // Нет упоения сильней // Одной улыбки умиленья // Измученной души твоей...» — I, 152), и всепоглощающая страстная привязанность («Я очи знал, — о, эти очи! // Как я любил их, — знает Бог! // От их волшебной, страстной ночи // Я душу оторвать не мог» — I, 146), и полная отрешенность от всего, и самозабвение («Лишь одно я живо чую: // Ты со мной и вся во мне»; «Слава богу, я с тобою, // А с тобой мне — как в раю» — I, 159). И все же любовь лирического героя во многом мучительна:
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.(I, 144)
На нем печать «проклятого века»; он вносит терпкую горечь сомнений, отчаяния, боли и в свою любовь — отсюда и те упреки, обвинения, которые вкладывает автор в уста героини («... Он жизнь мою бесчеловечно губит, // Хоть, вижу, нож в руке его дрожит», «Он мерит воздух мне так бережно и скудно... // Не мерят так и лютому врагу» — I,143), и самопризнания героя («Ты любишь искренно и пламенно, а я, — // Я на тебя гляжу с досадою ревнивой» — I, 144).
В удивительном диалоге («Не говори: меня он, как и прежде, любит») символическая патетика «Предопределения» как бы дешифруется, наполняется теплом и болью конкретной, «видимой» жизни, звучит с покоряющей, пронзительной правдой. В этом диалоге как будто бы одна-единственная тоскливая, отчаянная нота, но с каким бесконечным разнообразием оттенков (здесь и неожиданное сиротство вдвоем, и мука непонимания, и несправедливая резкость обвинений, и справедливость их, и покаянье, и мольба, и любовь без памяти, без конца, готовая на все и уже все узнавшая). Перед нами действительно «борьба неравная двух сердец», из которых одно, «любя, страдая, грустно млея» неуловимо движется к «последней мете» («Ох, я дышу еще болезненно и трудно, // Могу дышать, но жить уж не могу»). Характеры людей очерчены очень точно (и не только «она», но и «он»); сама композиция стихотворения как бы «держится» на резкой противопоставленности образов, она определяет и особенности языка, и даже строй фраз. Женщина, все отдавшая («я стражду, не живу... им,
- 61 -
им одним живу я»), одарившая другого «волшебным миром» «искреннего и пламенного» чувства, предстает перед читателями глубоко потрясенной, уязвленной. «То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя», почти в беспамятстве: в ее упреках и исступление, и вызов, и судорожный плач; он в этих строках, неоконченных, оборванных, как бы смятых рыданием, криком, — «Но эта жизнь! О, как горька она!» (I, 143). А рядом с ней человек, способный «бесчеловечно» погубить не потому, что он мало любит, а потому, что его любовь отравлена «досадою ревнивой», сомнением («без веры я стою»), горечью пережитого. Обвинения исступленной женщины принимаются им как «укора справедливая»; с какой-то угрюмой покорностью отвечает он ей — «безжизненный кумир» мятущейся, страстной и обреченной души. Такую сгущенность чувств, такой лаконизм и такую глубину в передаче человеческого горя мы обнаружим лишь в произведениях подлинно гениальных. Здесь все — земное, горестное, правдивое, все — верное времени и временем рожденное. Ведь и сама разрушительность, убийственность чувства оказывается в прямой связи не с какими-то изначальными, роковыми силами, а является следствием искалеченности души. Женщина «на поруганье предана» была еще и потому, что пассивной оказалась позиция мужчины, не способного защитить и спасти любимого им человека от насилия и суда света. Подвиг совершить «весь до конца в отчаянной борьбе» суждено было женщине, чья жизнь была поистине трагической.
Тютчевская героиня олицетворяет собой подлинно нравственное и героическое начало любви. Этот образ создан посредством не столько внешней, сколько внутренней психологической портретности. Даже в стихотворении «Я очи знал, — о, эти очи!» он стремится увидеть в ее лице то, что составляет сущность души:
В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина!(I, 146)
Этот прием изображения останется неизменным. Героиня показана в разные моменты жизни, ее чувства переданы очень тонко, психологически-правдиво. Вот она мать:
... так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой.(I, 135)
Вот женщина негодующая, оскорбленная, но все же безгранично любящая:
То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я —
Но эта жизнь!.. О, как горька она!(I, 143)
И, наконец, ее смерть, нарисованная с пугающей правдой деталей («Весь день она лежала в забытьи...»). В русской литературе это одно из сильнейших реалистических произведений, рассказывающих о вечной человеческой трагедии ухода. Воссоздана обстановка, память как бы фиксирует детали помимо сознания: теплый летний дождь, весело струящийся по листьям, лицо, покрытое смертными тенями, минута вернувшегося сознания, последняя фраза, последнее «прости» жизни: «О, как все это я любила!» Картина оборвана мучительной судорогой смерти. И как вопль души, заключающие строки поэта:
О, Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...(I, 194)
- 62 -
«ВЕСЬ ДЕНЬ ОНА ЛЕЖАЛА В ЗАБЫТЬИ...» и «УТИХЛА БИЗА... ЛЕГЧЕ ДЫШИТ...»
Автографы, 1864
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва
Внутреннее движение стиха, его композиция основаны на сближении и резком противопоставлении жизни и смерти, причем не в философски-отвлеченном или мистическом (вспомним ранее: «Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет, // Все тот же запах роз, и это все — есть Смерть!..» — I, 44), а во вполне обыкновенном, даже обыденном и поэтому особенно страшном смысле. Жизнь во всем, что окружает героиню, — в теплом, летнем, благодатном дожде, веселый шум которого воскрешает, делает зрительно ощутимой праздничную прелесть земли. Перед глазами читателя возникает на мгновение сверкающий зеленый мир. Происходит поэтическое чудо воскрешения, объяснимое простым, но полным глубоко трагического смысла сближением двух явлений, поставленных в одном ряду, — звонкого, веселого говора лета и смертной муки, забытья, томительного ужаса умирания. Это противопоставление и в чувствах героя («Я был при ней, убитый, но живой»), и в последней строфе («О, Господи!.. и это пережить»). В словах умирающей женщины: «О, как все это я любила!», повторенных вновь поэтом с интонацией восторга и отчаяния: «Любила ты, и так, как ты, любить — // Нет, никому еще не удавалось», — такая страстная привязанность к жизни, такая верность ей до самого последнего, смертного часа, что делает эту крошечную «песнь ухода» еще и песнью во славу жизни, ее неистребимой красоты. Во всей русской литературе XIX века, пожалуй, только с рассказом о смерти жены в «Былом и думах» Герцена можно сопоставить это страшное в обнаженности своей описание смерти близкого человека90.
Образ погибшей женщины дорисован Тютчевым в заключительных стихотворениях цикла. Она пошла до конца «наперекор и людям и судьбе» — и погибла. В раннем стихотворении «К NN» Тютчев воспроизвел (почти хвалебно,
- 63 -
или, во всяком случае, без резкого осуждения) портрет женщины, «благодаря и людям и судьбе» научившейся притворству. Что делать, она узнала свет: «он ставит нам в измену все радости», и она научилась обходить его запреты. «Измена льстит тебе» (I, 21), — говорил поэт. «Благодаря и людям и судьбе» можно приспособиться к господствующему лицемерию и прожить жизнь спокойно, почти счастливо, находя в двойном существовании терпкую прелесть. «Наперекор и людям и судьбе» может пойти лишь чистая и смелая душа; «судьбы не одолевший, но и себя не давший победить» (I, 198), человек — трагичен и прекрасен, ибо пассивному примирению с обстоятельствами он противопоставил активную силу сопротивления. Как уже упоминалось, в «денисьевском» цикле (а он один из значительнейших в позднем творчестве Тютчева) на ином и уже вполне конкретном жизненном материале утверждается вновь идея «Двух голосов», причем повторяются даже отдельные образы «неравного боя». Победный венец заслуживает тот, кто вступил в неравный бой и пал побежденный «лишь Роком»; женщина, судьбы не одолевшая, но и себя не давшая победить в схватке с косной и тупой силой «толпы», совершает подвиг и также заслуживает победного венца. Философия борьбы куда ближе Тютчеву, чем философия покорности.
Рассказанная поэтом история завершается своеобразным эпилогом. Действия, поступки, события описаны, взаимоотношения героев выяснены и определены, и как в большом прозаическом полотне автор стремится досказать историю героев (эпилоги Достоевского, Толстого, Тургенева), так и Тютчев воссоздает чувства и настроения оставшегося в живых участника драмы («О, этот Юг, о, эта Ницца!..», «Есть и в моем страдальческом застое...», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...», «Вот бреду я вдоль большой дороги...», «Как ни тяжел последний час...»91, «Опять стою я над Невой...»). Эти стихотворения отличаются большой силой непосредственно художественного воздействия прежде всего потому, что заключенное в них чувство слишком человечески-понятно: люди многие века оплакивали и хоронили дорогих им покойников и оставили великолепные образцы, художественно увековечившие этот плач, чувство потери, отчаяния, невольной вины живого перед мертвым. Смерть Е. А. Денисьевой, по словам самого Тютчева, «сломала пружину его жизни»92, и письма, как и стихотворения, отражают его отчаяние.
Но письма остаются частным документом, поэзия же, в силу самой своей природы, возводит частное, пережитое поэтом, до степени общего. Смерть — всегда трагедия. Но осмысление ее может быть и бывает разным. Это от многого зависит — от психологии, характера, воззрений. Преодоление трагедии смерти возможна в том случае, когда есть разумный выход в мир, когда единичный факт смерти не зачеркнет общий разумный смысл бытия и деятельности. Следует опять-таки вспомнить Герцена. Смерть жены была очень тяжело пережита им, но именно после ее смерти, после крушения «частного и общего» начинается огромная по размаху пропагандистская деятельность Герцена. В «Былом и думах» Герцен неоднократно подчеркивает мысль о необходимости преодоления личного горя в большой, нужной человечеству деятельности. В поэзии Тютчева мы столкнемся с несколько иным явлением. Чувство человека, при всей его силе, напряженности и глубине, все-таки эгоистично, индивидуалистически-замкнуто. Оно, как древний легендарный дух, запечатанный в крохотном сосуде: выхода в мир для него нет. Поэтому гибель любимой женщины приводит поэта к душевной прострации, к страдальческому застою, к мертвенности души. Отсюда и противопоставление «бездушного и бесстрастного» мира человеку, обреченному на вечное одиночество:
И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу.(«Есть и в моем страдальческом застое...» — I, 197)
- 64 -
Или сильнейший образ насмерть подстреленной птицы:
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...(«О, этот Юг, о, эта Ницца!..» — I, 193)
Характерно, что в этом стихотворении раненой птице уподобляется жизнь (т. е. та жизнь, которая остается на долю поэта, которая отныне ему суждена). Смерть одного превратила жизнь другого в медленное и мучительное умирание (собственно, тот же образ — «Я был при ней убитый, но живой», который в разных вариантах встречается в стихотворениях, посвященных памяти Е. А. Денисьевой). Они пронизаны не только чувством безнадежности и бессилия, но и ощущением полнейшей отрешенности от мира живых. Вновь возникает близкий сердцу Тютчева образ странника в стихотворении «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» («Вот бреду я вдоль большой дороги...» — I, 203)93.
Это одно из самых щемяще-печальных стихотворений великого поэта, полное неизбывного, покорного и просветленного страдания. Предметные подробности, конкретные детали внешнего мира представляются определенными художественными знаками, помогающими понять мысль поэта. Так, большая дорога, вдоль которой бредет смертельно уставший человек, ассоциируется с трудной и трагически сломленной жизнью. Ощущение смертельного утомления и усталости создается точным употреблением очень простого слова «замирать» («Тяжело мне, замирают ноги»; не устают, не болят, не ноют, а именно замирают, мертвеют, как постепенно мертвеет, уходит из жизни и сам человек). Поразительно передано в стихотворении медленное движение, передано и «задыхающейся», ритмически тяжелой фразой со «свободными» безударными слогами, и самим развитием образа. Перейдя от первой строфы ко второй, мы как будто сделали несколько тяжелых шагов. Вначале еще дрожит последний слабый свет уходящего дня («Вот бреду я вдоль большой дороги // В тихом свете гаснущего дня»), но прошло еще несколько мгновений, сделано еще несколько шагов бредущим человеком — и тени сгустились, постепенно окутывая его тьмой («Все темней, темнее над землею — // Улетел последний отблеск дня»). Завершающее каждую строфу обращение к умершей («Друг мой милый, видишь ли меня?», «Ангел мой, ты видишь ли меня?») создает ощущение близости к исчезнувшему, неживому, и полной отрешенности от жизни. Эта бесконечная отрешенность — и во взгляде на мир, на землю как на что-то внешнее, чуждое самому поэту (сколько горького удивления в одной только фразе: «Вот тот мир, где жили мы с тобою» — I, 203). То же удивление (неужели я еще живу?) и та же отрешенность и в стихотворении «Опять стою я над Невой»:
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.
<.............>
Во сне ль все это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?(I, 212; курсив мой. — И. П.)
Это состояние человека, опустошенного пережитым, ничего не желающего, ничего не ищущего, представляется ужаснее смерти:
Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
- 65 -
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...(I, 211)
Вечная история любви, страдания и смерти, рассказанная «сыном века», поэтом XIX столетия, полна и утверждения жизни, и горестного сознания обреченности, беспомощности и бессилия человека, и внутреннего страстного протеста, и гордой несмиренности души. В этой сложной противоречивости составляющих ее элементов она и должна быть понята.
Лев Толстой сказал о Тютчеве: «Он слишком серьезен, он не шутит с музой... И все у него строго: и содержание, и форма»94. Поэту посчастливилось быть современником больших событий. Он не только отозвался на них прямыми поэтическими декларациями, но и «пропустил» их сквозь свое сердце, чутко откликнувшееся на «стихийный, пламенный раздор», огни и грозы действительности.
Поэзия Тютчева рассказывает о человеке не меньше, чем о веснах и зимах природы, да и сама земная красота воспета поэтом не отрешенно, не бесстрастно. Он умеет найти и подчеркнуть в человеке человеческое. Мы обнаружим это и в самозабвенно-благоговейной любви к женщине, и в суровой нелицеприятности суда над собой, и в напряженных поисках истины.
Тютчев не оказался чужим нашей эпохе. Он оставил в наследство грядущим поколениям честность, глубину и серьезность своих раздумий о человеке. Он подарил людям радость соприкосновения с миром прекрасного.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 А. Блок. Собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М. — Л., 1962, с. 376.
2 А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг. СПб., 1893, с. 432.
3 Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. 9, М., 1950, с. 204.
4 Н. А. Добролюбов. Темное царство. — В кн.: Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти т., т. 5. М. — Л., 1962, с. 28.
5 Ф. Энгельс. Шеллинг и откровение. — В кн.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 442.
6 Ф. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы. Бруно, или О божественном и естественном начале вещей. СПб., 1908, с. 74.
7 Куно Фишер. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. — В кн.: Куно Фишер. История новой философии, т. 7. СПб., 1905, с. 43—44.
8 Прав был Б. Я. Бухштаб, заметивший, что «за искусственными конструкциями шеллинговской философии чувствуется безграничная любовь к природе, подлинная жажда погружения в „мир природы“» (Б. Бухштаб. Вступ. статья. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 25). См. также: Пигарев, с. 209—210. Очень хорошо сказал Л. Озеров: «Философия — не область, а пафос тютчевской лирики» (Л. Озеров. Поэзия Тютчева. М., 1975, с. 56). В этом плане даже сам столь привычный термин «поэт-философ», широко применяемый к Тютчеву, вызывает определенное возражение, ибо невольно вся чувственно-праздничная, страстно-живая поэзия Тютчева своеобразно «рационализируется». Он был поэтом-мыслителем, но мысль его получала права поэтического гражданства только в «осердеченной» плоти художественного образа. Любопытно замечание А. С. Хомякова, сделанное еще при жизни Тютчева: «... мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозатор везде проглядывает <...> Он же насквозь поэт» (А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. VIII. Письма. М., 1900, с. 200).
9 Аксаков 1886, с. 162, 149—150.
10 В. А. Грехнев пишет: «В поэзии Тютчева временны́е эпохи человеческой жизни, ее прошлое и ее настоящее в равной мере текучи и зыбки. Неудержимый поток времени размывает очертания настоящего» (В. А. Грехнев. Время в композиции стихотворений Тютчева. — «Изв. АН СССР. Серия лит-ры и языка», т. XXXII, вып. 6. М., 1973, с. 487).
11 На эту особенность «Последнего катаклизма» указал А. Тархов. Он справедливо пишет о том, что «Последний катаклизм» — «это не только пророчество о конце мира, но и представление поэта о его начале»; однако неожиданным и спорным представляется истолкование «божьего лика» как «звездного неба, отраженного в водной стихии» (А. Тархов. Творческий путь Тютчева. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М., 1972, с. 7—9).
12 Г. Р. Державин. Стихотворения. Л., 1957, с. 360.
13 Это своеобразное торжество абсолюта (отнесенное прежде всего к понятию «смерть») вообще характерно для Державина. В 1779 г. в знаменитой оде «На смерть князя Мещерского»
- 66 -
смерть всеобща и абсолютна: «И звезды ею сокрушатся, // И солнца ею потушатся, // И всем мирам она грозит» (Там же, с. 85). Тютчев в ощущении жизни, ее движения ближе к Пушкину. Но у Тютчева осознание «предела», поставленного природой отдельной человеческой жизни, лишено мудрой пушкинской уравновешенности и просветленности.
14 Во время предсмертной болезни Тютчев напишет стихотворение «Наполеон III». Поэт в образах, очень близких его раннему произведению, установит ту же причинно-следственную связь, хотя акценты будут уже иными: «Народ, взложивший на тебя венец, // Ты ложью развратил и погубил вконец <...> // Спасенья нет в насилье и во лжи» (II, 262—263).
15 Интересное замечание есть в работе (спорной в ряде положений) В. Кожинова: «В поэзии пушкинской плеяды пространство и время как бы замкнуто, завершено в стихии мировой гармонии. Между тем и Тютчев, и его соратники вскрывают „углы“ и „стыки“ пространственно-временной структуры, ее „незавершенность“, моменты переходов и переломов» (В. Кожинов. О «тютчевской» школе в русской лирике (1830—1860-е годы). — В кн.: «К истории русского романтизма». М., 1973, с. 378).
16 Символика и предельная обобщенность образов «Цицерона», конечно, вырастают из событий действительности и отражают, прежде всего, ощущение Тютчевым истории, ее движения, ее «высоких зрелищ». Однако прямая дешифровка стихотворения с помощью ли событий 1830 г. или событий римской истории не представляется оправданной (см.: А. А. Николаев. Художник — мыслитель — гражданин. — ВЛ, 1979, № 1, с. 119—125).
17 Д. Д. Благой совершенно справедливо услышал в стихотворении «Море и утес» «„музыку революции“ — пафос разрушения косных гранитных громад старого мира» (Д. Д. Благой. Жизнь и творчество Тютчева. — ПСС 1933—1934, т. I, с. 46).
18 Г. И. Чулков, комментируя это стихотворение (ПСС 1933—1934, т. I, с. 366), соотнес его с тютчевским суждением о протестантстве, которое «умирает от истощения» (Ф. И. Тютчев. Папство и Римский вопрос. — Соч. 1900, с. 578). Л. Я. Гинзбург, процитировав стихотворение, замечает: «Это сказано не о лютеранском богослужении, но о судьбах религии перед лицом атеистического сознания XIX века». Отсюда и «символический дом распадающейся веры». Л. Я. Гинзбург справедливо увидела обобщенность тютчевского образа, но, по существу, оставила его вне системы тютчевских представлений о «движущемся» мире. Меньше всего Тютчева в это время занимали «судьбы религии» (Л. Гинзбург. О лирике. М. — Л., 1964, с. 48—49).
19 Б. Я. Бухштаб отметил, что для творчества Тютчева «более существен динамический аспект мира», а отсюда — интерес к переходным состояниям в природе (Б. Бухштаб. Русские поэты. Л., 1970, с. 44. См. также: Пигарев, с. 212—214).
20 Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. 9, с. 218.
21 В. А. Жуковский. Собр. соч. в 4-х тт., т. I. М. — Л., 1959, с. 112.
22 К. Н. Батюшков. Полн. собр. стихотворений. М. — Л., 1964, с. 116.
23 Е. А. Баратынский. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 148.
24 Хотя «мир теней» и возникает иной раз как нечто несущее душе покой («Еще шумел весенний день»), это — отблеск все той же «жизни благодатной», вернее, одно из ее состояний, когда звуки и краски меркнут в «мерцаньи полусонья». То же по существу и в стихотворении «Тени сизые смесились...».
25 См., например: Пигарев, с. 182.
26 Проблеме своеобразных внутренних связей Тютчева и Блока посвящены статьи: Л. К. Долгополов. Тютчев и Блок. — РЛ, 1967, № 2; И. В. Петрова. Тютчев и Блок. — «Вопросы истории и теории литературы», вып. IV. Челябинск, 1968. Автор последней работы, естественно, не ставит знак равенства между социальными истоками трагедии героев Достоевского и трагизмом мироощущения человека в тютчевской поэзии.
27 «Итальянский полдень» К. Брюллова вспоминает К. В. Пигарев в связи со строками из стихотворений Тютчева «Слезы» и «К NN». См.: К. Пигарев. Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX века. М., 1972, с. 55.
28 См.: Б. Бухштаб. Вступ. статья. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Полн. собр. стихотворений, с. 37. Правомерность подобного вывода подвергла сомнению Н. В. Королева (Н. В. Королева. Ф. И. Тютчев. — В кн.: «История русской поэзии», т. 2, Л., 1969, с. 212). Ряд возражений Н. В. Королевой высказал А. Горелов (А. Горелов. Три судьбы. Л., 1976, с. 75—77). Если рассматривать «северный» цикл в системе поэтических представлений Тютчева, то его историческая и политическая «подпочва» выступит резко и определенно, что, разумеется, не снимает образно-смысловой многозначности цикла.
29 Интересно, что подобное ощущение николаевской России было характерно для многих современников поэта. Безжизненным, заколдованным царством кажется Россия французскому путешественнику Адольфу де Кюстину (Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930). Польский поэт А. Мицкевич в отрывках третьей части «Дзядов» рисует «русский ландшафт», как и русскую императорскую столицу, в образах, очень близких тютчевским (А. Мицкевич. Собр. соч. в 5-ти тт., т. 3. М., 1952; гл. «Петербург», «Олешкевич»).
30 Т. Г. Шевченко. Дневник. М. — Л., 1931, с. 205 (запись 26 окт. 1857 г.).
31 Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, с. 964.
32 В последние годы неоднократно делалась попытка подчеркнуть народность Тютчева (в том смысле, в каком это понятие прежде всего применяется к художникам 1850—1860-х годов: «... глубоко народен, даже демократичен», — пишет В. Кожинов, оговаривая в этом
- 67 -
плане близость Достоевского и Тютчева. — В. Кожинов. Вступ. статья. — В кн.: Ф. Тютчев. Стихотворения. М., 1976, с. 12). Н. Н. Скатов говорит о «полноте отношений» Тютчева к родине как к «родине народа»; отсюда следует и его утверждение об «объективном выходе к некрасовским позициям» как раз в трактовке понятия «народный», хотя автор и оговаривается, что это у поэта лишь «симптомы, намеки» (Н. Н. Скатов. Некрасов и Тютчев. — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература, 1821—1971. М., 1971, с. 255, 265). Подобные утверждения представляются определенной натяжкой. Прав Л. Озеров, когда замечает, что нет нужды делать из Тютчева «радетеля по народным делам», хотя «надо понять и оценить в Тютчеве его думу о русском народе» (Л. Озеров. Указ. соч., с. 25).
33 Определенная близость «Русской женщины» некрасовской «Тройке» отмечена рядом исследователей: Н. Я. Берковский. Вступ. статья. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М. — Л., 1962, с. 67; В. Н. Касаткина. Поэтическое мировоззрение Ф. И. Тютчева. Изд-во Саратовского ун-та, 1969, с. 141; Н. Н. Скатов. Некрасов. Современники и продолжатели. Л., 1973, с. 136.
34 Н. А. Добролюбов. Когда же придет настоящий день? — Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти тт., т. 6. М. — Л., 1962, с. 137.
35 Имеются в виду статьи «Россия и Германия» (1844), «Россия и Революция» (1848), «Папство и Римский вопрос» (1849), а также публикуемые в настоящем томе наброски и планы трактата «Россия и Запад».
36 Странной представляется предложенная Л. А. Фрейберг трактовка этого стихотворения как «поэтической отповеди Н. Ф. Щербине, чья слащавая античность в представлении Тютчева была лишь „болезненной мечтой“, понятной только в отторгнутом от свободы и родины человеке» (Л. А. Фрейберг. Тютчев и античность. — В кн.: «Античность и современность». М., 1972, с. 456). Текст тютчевского стихотворения, уважительный и доброжелательный по тону, свидетельствует о понимании и даже о сочувствии к иной, нежели собственная, поэтической позиции («Вполне понятно мне значенье // Твоей болезненной мечты, // Твоя борьба, твое стремленье»), но также и о совершенной неприемлемости этой позиции для автора послания.
37 А. Н. Майков. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1914, с. 58.
38 Н. Л. Ломан. Перед милютиными лавками («Пошли, господь, свою подачку...»). — В кн.: «Поэты „Искры“». Л., 1955, т. 2, с. 772.
39 «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сб. 2. М., 1926, с. 28. Останавливаясь на этом письме Л. Толстого к Н. Н. Страхову, Б. М. Эйхенбаум приходит к выводу, что главной темой разговора могла оказаться тема стихотворения Тютчева «От жизни той, что бушевала здесь...» (Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960, с. 208).
40 Аксаков 1886, с. 85.
41 Слово «двойник» (как определенный термин), по всей вероятности, ввел в русскую литературу А. Погорельский, который в 1828 г. опубликовал своеобразный сборник новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». Отношения героя с его двойником вполне идиллические: «Сев друг подле друга, наслаждались приятною беседою». Погорельский пишет: «В Германии, где подобные явления чаще случаются, нашу братию называют Doppelgänger <...> Осмелюсь предложить называть меня Двойником» (А. Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка. М., 1960, с. 30). Но явление, которое привлекло особенно пристальное внимание в прозе — Достоевского, в поэзии — Тютчева, не укладывалось в рамки привычного романтического Doppelgänger’a.
42 Я. П. Полонский. Стихотворения. Л., 1954, с. 242.
43 А. Н. Майков. Полн. собр. соч., т. I, с. 75.
44 См. стихотворения А. Блока: «Двойник» («Вот моя песня тебе, Коломбина...») — 1903; «Двойник» («Однажды в октябрьском тумане...») — 1909; «Пристал ко мне нищий дурак...» — 1913. Тема раздвоения, расщепления души проходит и через многие другие стихотворения поэта.
45 Аксаков 1886, с. 47—48.
46 Там же, с. 46.
47 О своем трагическом «ясновидении» Тютчев пишет жене Эрнестине Федоровне 18 августа 1854 г. (Соч. 1980, т. 2, с. 160). Есть определенная близость стихотворений «О вещая душа моя...» и «Стоим мы слепо пред Судьбою...». И дело не только в определенной перекличке фраз и образов («Твой сон — пророчески-неясный, // Как откровение духов...» — «Я не свое тебе открою, // А бред пророческий духов...»), но и в ощущении катастрофичности бытия. Разумеется, прямой отклик на исторические события («Стоим мы слепо пред Судьбою...») и философски-нравственная «всеохватность» образов стихотворения «О вещая душа моя...» — явления различного поэтического ряда.
48 К. В. Пигарев справедливо отметил, что «за образом этого человека, о котором сказано в третьем лице, угадывается глубоко выстраданное „Я“ самого поэта» (Пигарев, с. 195).
49 Сергей Соловьев. Богословские и критические очерки. — Собр. статей и публичных лекций. М., 1916, с. 154—155. Отношение Тютчева к религии было по-своему сложным. Религиозным мыслителем он не был; православная идея, занимающая такое большое место в его статьях 1844 и 1849 гг., была для него, прежде всего, идеей политической. Известно, что в повседневной своей жизни, как отмечал его первый биограф И. С. Аксаков (и о чем свидетельствуют его письма), он был равнодушен к официально-обрядовой стороне религии. Малое место религиозные мотивы занимают и в его лирике (хотя нельзя сказать, что эти мотивы совсем отсутствуют). Несомненно другое: человек в тютчевской лирике не
- 68 -
может найти в вере не только успокоение, но и истину. Однако делать Тютчева богоборцем и безбожником, думается, нет оснований. А. Горелов пишет, например, что в 1836 г. поэт пришел к «отрицанию верховной воли», что год «завершился богоборчеством», что «разрыв с божественностью (!) Тютчев выстрадал долгими сомнениями» (А. Горелов. Указ. соч., с. 105, 106). Все эти далеко идущие выводы делаются на основе стихотворения «И чувства нет в твоих очах...». Но стихотворение обращено к женщине, в том числе, возможно, и знаменитые последние его строки (мысль, которую высказал в разговоре с автором настоящей статьи К. В. Пигарев) — «И нет в творении — творца!» (курсив мой. — И. П.). Ближе к истине те исследователи, которые пишут не о «безбожии» поэта, а об отсутствии «провидения» и «божьей воли» в его лирике.
50 А. Горелов заметил, что природа в этом стихотворении «возникает в каком-то смутном, всего лишь подозреваемом образе женщины» (А. Горелов. Указ. соч., с. 99—100).
51 Я. П. Полонский. Стихотво́рения, с. 264.
52 Н. Я. Берковский писал: «Ужас смерти в сознании Тютчева очень навязчив» (Н. Я. Берковский. Вступ. статья. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М. — Л., 1962, с. 59). С этим трудно согласиться. Тютчев много пишет о краткости, мгновенности человеческой жизни рядом с «животворным океаном» — вечной жизнью природы. Смерть — удел людского племени, и человек вынужден смириться с этим страшным (всегда для него страшным!) законом. Тютчев видит и нечто более ужасное, чем смерть: несправедливость людского суда, убивающего лучших («Но Смерть честней...»), или безмерную тяжесть равнодушия, «мертвенности души».
53 С. Соловьев. Указ. соч., с. 155. Проблеме «Тютчев и античность» посвятила статью современная исследовательница Л. А. Фрейберг (Л. А. Фрейберг. Указ. соч.).
54 А. Блок. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 7. М. — Л., 1963, с. 99. В творчестве Блока сильны отзвуки «Двух голосов»; несомненна и определенная близость этого стихотворения творчеству современника Блока И. Анненского.
55 Н. В. Александровская впервые обратила внимание на текстовые совпадения «Двух голосов» с масонским гимном («Symbolum») Гёте. Вместе с тем она же верно заметила совершенное своеобразие содержания тютчевского стихотворения: «... на другие пути зовет его голос человечества...» (Н. В. Александровская. Два голоса (Тютчев и Гёте). — В кн.: «Посев. Одесса — Поволжью. Литературно-критический и научно-художественный альманах». Одесса, 1921, с. 97). Близость тютчевских «Двух голосов» к «Песне судьбы Гипериона» немецкого романтика Гёльдерлина отмечает Г. Ратгауз в примечаниях к произведениям Гёльдерлина (И. Гёльдерлин. Сочинения. М., 1969, с. 527). Однако был прав Н. Я. Берковский, заметивший, что перекличка Тютчева с каким-либо из деятелей западного романтизма лишь свидетельствует о том, что «русский поэт — активнейший участник великой всемирной культуры романтизма» (Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973, с. 194).
56 Эсхил. Трагедии. М. — Л., 1937, с. 198.
57 Письмо П. Г. Антокольского автору настоящей статьи 6 янв. 1962 г.
58 Интересны наблюдения Ю. М. Лотмана над «пространственной противопоставленностью „верха“ и „низа“ в „Двух голосах“» (Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972, с. 183).
59 Возможно, что композиция «Двух голосов», предельное напряжение этой переклички смерти и жизни, борьбы и обреченности подсказали И. С. Тургеневу форму его знаменитого «Порога». Тургенев знал и ценил поэзию Тютчева.
60 На значительность «Двух голосов» в поздней лирике Тютчева указал А. Горелов (А. Горелов. Указ. соч., с. 124).
61 Основной материал, посвященный любовной лирике Тютчева, был опубликован нами в статье «Любовная лирика Тютчева 1850—1860-х годов». — «Уч. зап. Магнитогор. гос. пед. ин-та. Кафедра рус. и зарубеж. лит-ры», 1963, вып. XV (II).
62 Письмо А. И. Георгиевскому 13/25 дек. 1864 г. — Соч. 1980, т. 2, с. 200.
63 Письмо П. Г. Антокольского автору настоящей статьи 6 янв. 1962 г.
64 Письмо А. Ф. Тютчевой — Д. Ф. Тютчевой <29> июня 1854 г. — Современники о Тютчеве.
65 Строка из стихотворения Н. Заболоцкого «Ночное гулянье» («Вечно светит лишь сердце поэта // В целомудренной бездне стиха»). — Н. Заболоцкий. Избр. произведения в 2-х тт., т. I. М., 1972, с. 277.
66 В творчестве Тургенева, особенно последних лет, мы найдем мотивы, весьма близкие Тютчеву («Довольно», «Поездка в Полесье», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»). Но эти мотивы все-таки не были для Тургенева определяющими.
67 И. А. Гончаров. Собр. соч. в 6-ти тт., т. 4, М., 1959, с. 205, 207.
68 Б. М. Эйхенбаум видит близость романа Толстого «Анна Каренина» тютчевской лирике как раз в трактовке страсти как стихийной силы, как «поединка рокового» (Б. М. Эйхенбаум. Указ. соч., с. 213).
69 А. Н. Майков. Полн. собр. соч., т. I, кн. 2. СПб., 1914, с. 255.
70 Я. П. Полонский. Полн. собр. стихотворений в 5-ти тт., т. I. СПб., 1896, с. 57.
71 Я. П. Полонский. Стихотворения, с. 368.
72 А. К. Толстой писал, определяя сущность своей поэзии: «... я могу для себя признать характерным мажорный тон моей поэзии, которая выделяется на общем минорном тоне наших
- 69 -
русских поэтов, исключая Пушкина, который решительно — мажорный». — «Вестник Европы», 1895, кн. 10, с. 661.
73 А. К. Толстой. Полн. собр. стихотворений. Л., 1937, с. 84.
74 А. А. Фет. Стихотворения. М., 1970, с. 306.
75 Там же, с. 281.
76 Там же, с. 292.
77 Там же, с. 361.
78 Там же, с. 427.
79 Там же, с. 416.
80 Д. Д. Благой в яркой работе, посвященной «Вечерним огням» Фета, пишет о том, что цикл его любовных стихотворений, связанных с именем Марии Лазич и в известной мере параллельный знаменитому циклу Тютчева, свидетельствует о силе поэтической памяти Фета, который «ощущает себя и любимую („второе я“) навсегда нераздельно слитыми в одном „двойном бытии“, реально продолжающемся в мире прекрасного — в поэзии» (Д. Д. Благой. Мир как красота. О «Вечерних огнях» А. Фета. М., 1975, с. 85—86).
81 См.: Н. Н. Скатов. Некрасов и Тютчев, с. 240—248.
82 Аксаков 1886, с. 46.
83 Письмо к Д. Ф. Тютчевой 8/20 сент. 1864 г. — Соч. 1980, т. 2, с. 198.
84 А. Григорьев. Избр. произведения. Л., 1959, с. 84. На близость Тютчеву темы григорьевской «Кометы» указал П. Громов во вступительной статье к указанному изданию.
85 Там же, с. 102.
86 Там же, с. 148.
87 Б. Я. Бухштаб заметил, что «„денисьевский“ цикл — своего рода роман» (Б. Я. Бухштаб. Вступ. статья. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 35).
88 Б. М. Эйхенбаум в уже упомянутой работе о Толстом называет стихотворение «О, как убийственно мы любим» лирическим комментарием к «Анне Карениной», «эпиграфом к ней» (Б. М. Эйхенбаум. Указ. соч., с. 213). Действительно, так же как Толстой в романе, Тютчев в названном стихотворении ведет нас в глубь большой трагедии, и обвинение человека — «раба своей страсти, своего эгоизма», живущего своим желанием, виноватого перед жизнью «вечным правосудием», превращается в обвинение света, толпы, общества. И это становится пафосом как гениального романа Толстого, так и гениального стихотворения Тютчева.
89 Н. Я. Берковский пишет: «В денисьевский цикл тоже входит социальная тема — неявственная, она все же определяет характер стихотворений» (Н. Я. Берковский. Вступ. статья. — В кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М. — Л., 1962, с. 71). Думается, однако, что понятие «социальная тема», взятое без определенных оговорок, неприемлемо. Это, например, становится особенно ясным, когда сравниваешь морально-этические проблемы, поставленные Тютчевым, и социальные, — поставленные Достоевским в сходных ситуациях.
90 Интересно сопоставить тютчевское стихотворение с аналогичным стихотворением Я. П. Полонского «Последний вздох». Это, безусловно, одно из сильных стихотворений Полонского, но искренность человеческого горя передана им вполне традиционно: «Я склонил мой слух <...> // Но, увы, мой друг, // Твой последний вздох // Мне любви твоей // Досказать не мог» (Я. П. Полонский. Стихотворения, с. 256). Нет в нем и той страстной любви к жизни, ужаса прощания с ней и, в сущности, протеста против исчезновения, смерти, которые делают таким глубоким тютчевское стихотворение.
91 Это стихотворение непосредственно примыкает к «денисьевскому» циклу, хотя прямо с именем Е. А. Денисьевой оно не связано. В нем, собственно, та же мысль, что и в стихотворении «Есть и в моем страдальческом застое...»
92 Ф. Т. <Ф. Ф. Тютчев>. Федор Иванович Тютчев (Материалы к биографии). — ИВ, 1903, № 7, с. 200.
93 Несомненна образная перекличка со стихотворением «Пошли, господь, свою отраду...», вплоть до прямого повторения образа: «Бредет по жаркой мостовой», «Бредет по знойной мостовой» — «Вот бреду я вдоль большой дороги».
94 «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I, М., 1955, с. 273.
СноскиСноски к стр. 13
* «Кто хочет понять поэта, тот должен отправиться в его страну» (нем.).
Сноски к стр. 16
2* Здесь и далее стихотворения Тютчева цитируются по изд.: Ф. И. Тютчев. Лирика, т. I—II. М., «Наука», 1965; том и страница этого издания указываются в тексте статьи.
Сноски к стр. 29
3* Мир отступает, мир живых <...> И полюс влечет к себе свой верный город, // Убаюканный при свете мутных сумерек».