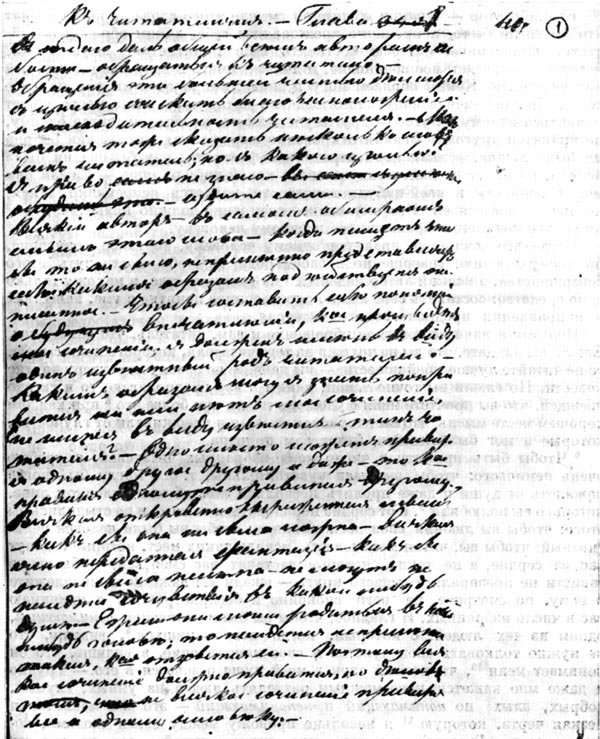- 311 -
ДЕТСТВО
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ГЛАВ XV—XXVIII
ОТСТУПЛЕНИЕ. ДЕТСТВО. ГЛАВА
Какая счастливая пора детство!1 Как не любить и не лелеять воспоминаний о ней?
Воспоминания эти2 служат для меня источником не только наслаждений, но и самых лучших и возвышенных чувств.
Сидишь, бывало, вечером за чайным столом, устал, набегался, сон сильно клонит; но звук голоса maman, которая говорит о чем-нибудь с М<ими> или папа, так сладок, так неописанно приветлив, что весь век просидел бы так — все бы слушал, все бы смотрел на нее. Бывало, смотришь на нее долго, долго и вдруг покажется, что она сделалась маленькая и как будто в отдалении — вся в четверть и лицо3 тоже крошечное; но все-таки ясно я вижу4 милые черты, только как будто я их не прямо вижу, а вижу отражение в уменьшительном стекле5. — Пошевелишься или раскроешь глаза побольше, и опять она сделалась большая — настоящей величины. — Я очень любил этот странный обман зрения и6 когда мне покажется она в уменьшительном виде, я старался как можно дольше наслаждаться этим7; ежели обман этот разрушался, я усиливался найти опять то положение,8 суживал глаза, поворочивал голову, но9 ежели образ разрушен, уж трудно возобновить очарование. Я никак не понимаю, отчего происходило это явление; но очень хорошо его помню и заметил только то, что это случалось со мною тогда, когда глаза смыкались10 от усталости и сна.
Бывало, уютно усядешься с ногами на диван или на кресло, maman говорит: «Ты опять заснешь, Николенька, ты бы лучше пошел спать». — «Нет, я не хочу спать, мамаша», — ответишь ей11.
Неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон сомкнет веки, и через 5 минут забудешься и спишь до тех пор, покуда разбудят, чтобы идти на верх. Бывало, чувствуешь в просонье, что нежная рука трогает тебя, по одному прикосновению узнаешь ее, и ежели она близко от лица, еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко12 прижмешь ее к губам.13 Состояние пробуждения возбуждает к чувствительности. — Все уже разошлись, одна свечка горит в гостиной; maman сказала, что она сама меня разбудит, это она подошла ко мне,
- 312 -
присела на кресло, на котором я сплю, и своей чудесной нежной1 ручкой провела мне по волосам, и над ухом моим тихо звучит знакомый родной голос ее: «Вставай, моя душечка, пора идти на верх». Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее, она2 не боится быть слишком нежной. — Я не шевелюсь, но только прижал руку ее к губам. — «Вставай же, мой ангел», — и она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. — В комнате тихо, полутемно,3 нервы мои возбуждены щекоткой, и я пробуждаюсь4; мамаша сидит подле самого меня, она трогает меня, я слышу5 ее голос и запах — все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и сказать: «Ах, милая мамаша, как я тебя люблю!» — Она улыбается своей обыкновенной грустной улыбкой, берет мою голову, целует и кладет к себе на колени. — «Так ты меня очень любишь?» — Она молчит с минуту, потом говорит: «Смотри, всегда люби меня — никогда не забывай6; ежели меня не будет — 7не забудешь ты8?» И она еще нежно целует меня. «Полно, и не говори этого, голубчик мой, душечка моя», — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы капают из моих глаз — слезы любви и восторга.
После этого как, бывало, придешь на верх и станешь в своем ваточном халатце перед иконой, какое чудесное испытываешь чувство, говоря: «Господи, спаси папеньку и маменьку, братца, сестрицу и Карла Иваныча». Бывало, как увернешься после этого в одеяльце, так легко, спокойно9 мечтаешь: какие все добрые и как я их всех люблю! Потом вспомнишь про Карла Иваныча, про его несчастия, так жалко станет его, так полюбишь, что плачешь-плачешь10 и думаешь: «дай бог ему счастие, дай11 мне средства показать ему свою любовь, я всем пожертвую для него». Потом любимую игрушку — фарфорового зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо и тепло ему там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал бог счастие всем, всем, чтобы все были довольны, и о том, чтобы дал бог завтра хорошую погоду для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты смешаются, и уснешь тихо и спокойно, еще с мокрыми от слез глазами. — Вернется ли когда-нибудь эта свежесть и невинность души, эта естественная беззаботность, эта потребность любви и сила веры, которыми бессознательно обладаешь12 в детстве? — Какое время может быть лучше того, когда две высшие13 добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви14 были главными побуждениями в жизни? Где те смелые молитвы15, то чувство близости к богу? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? — Они не сохли на щеках моих; а прилетал ангел, утирал их и навевал сладкие грезы нетронутому детскому воображению.
Неужели жизнь уже так испортила меня, что навеки отошли от меня восторги и слезы эти?
- 313 -
ГЛАВА 14. СТИХИ. 2-й ДЕНЬ
18.. г. 8-го сентября, почти месяц после того, как мы приехали в Москву, были именины бабушки. В 10 часов утра я1 сидел за большим2 столом в классной и писал. На другой стороне стола сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка. Володя, вытянув шею3, стоял на ципочках сзади4 и с большим наслаждением смотрел ему через плечо. Эта головка было первое произведение его черным карандашом и должно было, с подписью на рукаве турка5 «Voldemar Irteneff. 18...», быть поднесено нынче, в день ангела, бабушке6.
— А сюда вы не положите еще теней, — сказал Володя учителю, указывая на шею турка.
— Нет, — отвечал учитель, укладывая в ящик ponte-crayon, — теперь прекрасно. И вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, — сказал он, вставая и продолжая смотреть на турка, — откройте, наконец, нам ваш секрет: что вы поднесете бабушке? Право, лучше бы было тоже головку. Прощайте, господа, — сказал он и вышел7 из комнаты.
В эту минуту я тоже думал, что «лучше бы было головку», чем то, над чем я трудился. В тот вечер8, как нам объявили, что будут бабушкины именины и что нужно, чтобы каждый из нас приготовил подарок, я думал о том, что пора бы переменить9 свечку, которая догорала в подсвечнике. Огарок и подарок — это стихи, подумал я; и я для бабушки напишу стихи. — Поэтому я отвечал, что знаю10, что я поднесу бабушке, но не скажу. Однако, принявшись за это дело, я увидал, что очень трудно писать стихи. Чтобы облегчить этот труд, я стал читать все стихи, которые мог11 достать; но так как выбор был у меня под рукой небольшой, я нигде не находил поздравления. Я стал потихоньку рыться в книгах и бумагах Карла Иваныча, зная, что он часто списывал стихи. — В числе этих бумаг я нашел одно произведение, которое принадлежало, должно быть, собственно его перу12. Вот оно:
Госпоже Л. .....
Помните блиско13,
Помните далеко,
Помните моего, еще отнине и до всегда14
Помните еще до моего гроба
Как верен я любить имею.Карл Мауер
18...
12 июни. Петровское.
Прежде, принимая за образец стихи из печатных книг15, я видел ясно, что в16 тех, которые я придумывал, чего-то недоставало, и совершенно отчаивался.
- 314 -
Перечтя же несколько раз это стихотворение и выучив его наизусть (оно мне понравилось, по трогательному чувству, которым1 проникнуто; хотя я и находил в нем некоторые ошибки), я принял его за образец, и дело пошло2 легче, так что в день именин поздравление из 12 стихов было готово, и я, сидя за столом, переписывал его на почтовую бумагу.
Уже два листа бумаги были испорчены, не потому, чтобы я думал переменить что-нибудь, стихи мне казались превосходными3, но с третьей линейки концы стихов загибались кверху больше и больше, так что, посмотрев издалека даже, видно было, что это написано криво и никуда не годится.
Хотя третий лист был так же крив, как и прежние, я4 решился более не переписывать; но5 меня приводило в затруднение совсем другое обстоятельство.
В6 моем стихотворении7 сначала я поздравлял бабушку с именинами, желал ей много, много лет здравствовать, потом благодарил ее за любовь к нам, описывал наши к ней чувства и заключал так:
Стараться будем утешать.
И любим как родную мать.Кажется, очень бы было хорошо, но8 последний стих мне не нравился. Я считал по пальцам стопы, приговаривал «и лю.... бим как.... родну.... ю мать. Ровно 4, — думал я, — а все-таки лучше бы переменить. Какую бы рифму поставить вместо «мать»? Играть?.. Кровать? Ах, — подумал я, — сойдет, все лучше Карла Иванычевых», и написал последний стих.
Потом я вышел9 в спальню и перечел все вслух.10 Были стихи, совершенно без размера; но я не останавливался на них; последний же11 еще сильнее поразил меня — мне казалось выражение12 «как родную мать» и слишком нежным и глупым; в душе же я чувствовал, что хотя я бабушку13 готов был любить и уважал более всех в нашем семействе, но сказать «как родную мать» значило сказать ложь, лесть и подлость и доказать этим, как мало я люблю свою точно родную мать. — Я ломал себе голову, как переменить последний стих; но не было возможности, надо было переделывать 4 стиха — треть всего сочинения. — Может быть, я это и сделал бы; но в это время14 я услыхал, что взошел портной и принес новые полуфрачки. — «Ну так и быть», — сказал я с досадой, положил стихи под подушку и15 побежал примеривать московское платье.
Московское платье оказалось превосходно:16 коричневые полуфрачки, с бронзовыми пуговками, были сшиты17 в обтяжку, не так, как в деревне шили18 широко и длинно — на рост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо
- 315 -
как хорошо сидели, так что ноги мои были похожи как две капли воды на ноги одного нашего соседа, панталоны которого1 пленили меня еще в деревне.
2 Хотя мне было узко и неловко,3 я был совершенно счастлив и целый час, стоя в этом платье перед зеркалом, причесывал свою напомаженную голову; но, несмотря на все усилия, на макушке4 торчали вихры; и я боялся, чтобы папа, который любил посмеяться, и в этом5 платье не назвал меня «чибисом». — Карл Иваныч одевался в своей комнате, и через классную пронесли и к нему синий фрак с медными пуговицами и остальные части туалета — все белые.6 У двери послышался голос 2-ой горничной бабушки, я вышел посмотреть, что ей нужно. — Она держала в руках туго накрахмаленную манишку и сказала, что она принесла ее для Карла Иваныча и7 насилу успела вымыть. — Я взялся передать эту манишку и спросил, встали ли бабушка.
— Как же-с, уж кофей откушали и священник пришел молебен служить. Каким вы молодчиком, — прибавила она, улыбаясь. Я покраснел до ушей и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает, какой я действительно молодчик!
Когда я принес Карлу Иванычу манишку, она уже была не нужна, потому что он надел другую и8 был готов. — В ту самую минуту, как я взошел, он, согнувшись, стоял перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, обеими руками держался за бант своего галстука и пробовал: свободно ли уходит и выходит его подбородок в галстук9. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая, чтобы он сделал для него то же, мы пошли к бабушке. У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи рисунок, у меня стихи,10 у каждого на языке было приветствие, с которым он подойдет к бабушке.
Мне смешно вспомнить, как сильно от нас трех пахло помадой. — 11В ту самую минуту, как Карл Иваныч отворял дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна. Бабушка, опершись на спинку стула, стояла в зале, подле нее папа.12 Она даже не оглянулась, по крайней мере я не заметил. Папа же посмотрел на нас и улыбнулся, заметив, как мы с торопливостью прятали приготовленные подарки13 и, стараясь быть незамеченными, стали около двери14. Эффект был потерян.
Бабушке было и казалось лет под 70. Роста она, должно быть, была среднего, но теперь15 от лет казалась маленького, зуб не было, но она говорила хорошо, лицо было в морщинах, но кожа чрезвычайно нежная, глаза большие, строгие16, но зрение слабое, нос большой и немного набок; несмотря на это общее выражение лица внушало уважение, руки были удивительной белизны17 и от старости или от того, что она их беспрестанно мыла, на оконечностях пальцев были морщины, как будто только что она
- 316 -
их вымыла горячей водой. — 1На ней был темносиний шелковый капот, черная мантилия и чепчик с2 узенькими голубыми лентами3, завязанными4 на коже, которая висела под подбородком, из-под мантилий виден был белый5 платок, которым она всегда завязывала от простуды шею.6 Бабушка не отставала очень от мод, а приказывала переделывать модные чепчики, мантильи и т. п. по-своему, по-старушечьи. — Бабушка была не очень богата — у нее было 400 душ в Тверской губернии и дом, в котором она жила в Москве. Как управление имением, так и образ ее жизни ни в чем ни малейше не изменился с того времени, как она овдовела.7 Лицо бабушки всегда было спокойно и величаво, она никогда почти не улыбалась8, но вместе любила смешить и успевала в этом удивительно. Вся гостиная помирала со смеху от ее рассказов, а лицо ее9 удерживало то же важное выражение, только глаза немного суживались. Она плакала только тогда, когда дело шло о maman, которую она любила страстно и больше всего в мире.
Когда стали подходить к кресту, я решительно не знал, что мне делать: после ли или сейчас поздравлять бабушку и подавать стихи, чего мне очень не хотелось, потому что, приготовляясь к этой минуте, я никак не воображал, что мне придется выходить на сцену10, при публике, которая теперь состояла из протопопа и папа; особенно же я боялся насмешливости папа сегодня. Я держал за спиной роковое стихотворение и находился в самом жалком положении — непреодолимой застенчивости. Карл Иваныч в самых отборных выражениях поздравил бабушку, переложил коробочку из левой руки в правую11, с низким поклоном вручил ей и отошел. — Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, обклеенной золотыми каемками, и с самой ласковой улыбкой поблагодарила его. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, а держать ее ей не хотелось. Папа, заметив это, попросил посмотреть, протопоп тоже с любопытством смотрел то на12 коробочку, то на Карла Иваныча. — Володя подал свою головку и заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. — Бабушка13, поцеловав его14, обратилась ко мне и на лице ее сияла радость15. Я стоял ни жив ни мертв16, красный как рак17, с трудом переводя дыхание, весь в поту, как будто я выпил 10 чашек малины с липовым цветом, и не двигался с места.
— Ну-ка, господин сочинитель, — сказал папа, как мне тогда показалось, с язвительной улыбкой, — 18теперь твой черед19, прочтите-ка нам ваши стихи.
Откуда он узнал мой секрет, я не понимаю. Нечего было делать: дрожащей рукой подал я бумагу бабушке, но не мог произнести приготовленного
- 317 -
словесного поздравления1. — Мысль, что сейчас при всех, вслух прочтут слова «как родную мать» и низость моя обнаружится перед лицом всего света, пронзила мое сердце.
— Ах, да это сти-хи! — сказала бабушка. — Как это мило... merci, mon cher Nicolas... — Но, заметив мое смущение: — пойдем2 в гостиную читать Николенькины стихи.
По крайней мере, я был избавлен от протопопа; но несмотря на это3 и на ласковые слова бабушки4, я чувствовал, как при воспоминании о том, что я сделал, кровь с новой силой, начиная снизу,5 подходила6 в голову, обе щеки, уши и лоб делались еще краснее, и всякий раз, как она произносила слово «стихи», мне казалось, что она говорит это на смех. Как передать мои страдания в то время, как бабушка стала вслух читать7 их и когда, не8 разбирая, останавливалась на середине стиха, когда выговаривала не так, как мне хотелось, и, наконец, когда по слабости зрения9, не дочтя до конца, попросила отца, чтобы он прочел! Мне показалось, что она это сделала, потому что ей скучно и неприятно читать мои стихи, и для того, чтобы папа сам прочел последние слова10 про «родную мать»,11 чтобы он видел, как скоро я забыл maman. Я ждал, что папа этими стихами ударит меня по носу и скажет: «дрянной мальчишка, не забывай мать». Но ничего этого не вышло, напротив, когда все было прочтено, бабушка, покосившись на меня, сказала: «c’est charmant»12*, а папа прибавил: «surtout pour un enfant de dix ans»13*. — Коробочка, рисование и стихи были положены подле волтеровских кресел, в которых всегда сиживала бабушка, на столике, рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman, которые всегда на нем лежали. С этой минуты я покаялся никогда не писать стихов. — Они поставили14 меня в самое ужасное положение в продолжение ¼ часа и заставили меня написать ложь, лесть и подлость, за которые15 совесть никогда не перестанет мучить меня.
ПОСЛЕ ГЛАВЫ: СТИХИ — ГЛАВА: [БАБУШКА] О СВЕТЕ
[В следующей главе16 выйдут на сцену князья, княгини. Почитаю нужным сказать вперед, какие будут мои князья17, чем отличаются они от князей большей части романистов и в какой круг я намерен ввести читателя.]
Читатель, делали ли вы то же замечание, какое я? Ежели нет, то вспомните хорошенько повести и романы, так называемые великосветские, которые вы читали. Вот что я заметил в этих романах и повестях. Редко18 герой романа, т. е. то лицо, которое любит автор, бывает из высшего круга, и еще реже, чтобы этот герой был хороший человек; большею же частью
- 318 -
высшее общество выставляется только для того, чтобы показать, какие все дурные, подлые и злые люди живут в1 нем; оно служит2 для того, чтобы3 нагляднее выступили добродетели героев — чиновников, воспитанниц, мещан и4 т. д. Когда выступает на сцену в романе князь, я вперед знаю, что он будет5 богатый, знатный, но гордый, невежественный, злой, будет злодеем романа.
В моей повести, я должен сказать вперед, что не будет ни одного злодея, ни одного такого человека, который будет наслаждаться страданиями других. Что делать! Никогда в жизни я не только не сталкивался с такими людьми, но даже и не верю в их существование, хотя нет почти ни6 одного романа без них.
Не могу сказать, хотя и очень желал бы, что ни один человек не делал мне зла. Иногда я так же, как и другие, испытал дурную сторону сношений с ближними, но все зло, которое я испытывал, происходило от невежества, слабостей, страстей людских, но никогда — от желания делать зло. Удивительно, зачем беспрестанно представляют нам в романах таких людей, которых не бывает и которых7 существование было бы очень грустное. — Я понимаю, что можно увлекаться8 правдою в прекрасном; но какой злой дух увлекает фантазию романистов — людей, которые хотят рисовать нам нравы, — до неестественности в дурном и ужасном?9 Для чего князь или10 граф, княгиня или графиня всегда именно те необходимые лица в романе, которые разрушают счастие и вредят добродетельным героям? Почему знатность, богатство всегда бывают атрибутами злодейства? — Может быть, этот11 контраст нужен для поразительности, но он, по моему мнению, вредит естественности. Мне кажется, что между людьми знатными и богатыми, напротив, меньше бывает злодеев, потому что им меньше искушений и они больше в состоянии, чем низшие классы, получить настоящее образование и верно судить о вещах.
Читатель, я по собственному опыту знаю, что когда12 выступает новое лицо на сцену, то по привычке читать романы невольно составляешь себе13 мнение14 о его положении, прежде чем автор опишет его.
Иван Иваныч15 еще в очень молодых летах сделал одну из тех блестящих военных карьер, которые делались в начале нынешнего века, благодаря своему благородному16 характеру,17 спокойной храбрости, большой протекции и счастию. Он продолжал служить18, и очень скоро честолюбие его было удовлетворено, так что ему нечего было желать в этом отношении. — Он с первой молодости держал себя так, как будто готовился занять то блестящее положение, на которое поставила его впоследствии
- 319 -
судьба; поэтому, хотя и в его блестящей, деятельной, полезной и несколько тщеславной жизни были перевороты, он ни разу не изменил своего характера и образа жизни и приобрел всеобщее уважение, не на одном основании своего положения, но1 на основании своей последовательности.
Он был небольшого ума; но благодаря своему блестящему положению, которое позволяло ему спокойно и даже презрительно смотреть на все тщеславные треволнения жизни2, образ мыслей его был3 возвышенный. Он имел доброе сердце, и так как он часто и во многом мог быть полезен своим знакомым, к нему часто прибегали с просьбами, которые невозможно было ему все исполнять, это научило его быть холодным. Холодность его смягчалась снисходительной и спокойной вежливостью человека очень большого света. Про него всегда говорили: «настоящий придворный». Он был мало образован,4 начитан немного; но все те вещи, которые совестно бы было не знать, он знал, и мог говорить про них хорошо. Разговор его был прост, и простота эта одинаково5 скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала его приятный тон и скромность. — Не думаю, чтобы он любил6 жизнь большого света; но он привык к нему и поэтому, живя постоянно в Москве,7 езжал на балы, где с избранными партнерами иногда садился за вист, и принимал в известные дни у себя почти весь город. — Он был на такой ноге, что, когда не приглашал кого-нибудь к себе в парадные дни, то как будто бы наказывал, и об этом говорили как о происшествии. Много было молоденьких хорошеньких дам и барышень, которых он очень любил и, когда видал запросто, целовал в лоб и щеки. Молодым людям, которых он любил, он говорил ты, и этот оттенок расположения был ценим.
Бабушка была для него одна из тех особ, с которыми он был равен и оставлял покровительственный тон. Уже мало оставалось в живых таких людей; поэтому он8 дорожил связью с нею и оказывал ей большое уважение — она была старше его. Кроме того, еще в детстве они были дружны и9 их отношения не изменились с10 годами.11
ГЛАВА 15-ая. КНЯГИНЯ КОРНАКОВА12
Один из двух лакеев, ездивших за каретой бабушки, взошел и доложил: «Княгиня13 М<арь>я А<лександровн>а Корнакова».
— Проси, — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресла.
Карл Иваныч встал и объяснил бабушке, что друг его, портной Schönheit, женат на русской и ее зовут Анной Ивановной, и что он как с мужем, так и с женой давнишний приятель. Бабушка и мы слушали его с большим удивлением: к чему ведет эта речь!
— Так как нынче св. Анны, — сказал он с обыкновенными жалобными ударениями (я буду подчеркивать слова, которые он особенно растягивал и произносил плохо), — то позвольте мне пойти поздравить m-me
- 320 -
Schönheit и обедать, как другу дома, в их1 семейном кружке. — Бабушка,2 посмотрев несколько времени на него очень пристально, согласилась и сказала3, что дети целый день будут с нею, и поэтому он может совершенно располагать своим днем, хотя ей было бы приятно видеть его в свои именины у себя; но4 старые друзья по всей справедливости должны были иметь преимущество перед новыми.
— Вы можете идти, Карл Иваныч, — прибавил папа довольно сухо5 улыбавшемуся и расшаркивавшемуся Карлу Иванычу, и, когда тот вышел, папа по-французски сказал бабушке: — Я предвижу, что он здесь совсем испортится.
Меня очень поразили во всем этом две вещи: во-первых, как смел Карл Иваныч предпочесть какую-то m-me Schönheit бабушке? — «Должно быть, эта дама6 еще более достойна уважения и еще важнее, чем бабушка», — думал я. И во-вторых: что значило, что Карл Иваныч здесь испортится? и как он может испортиться?» Папа, верно, бы объяснил это, потому что в то самое время, как в дверь гостиной входила княгиня М<арь>я А<лександровн>а, бабушка, как будто не замечая ее, спросила у папа:
— Т. е. как испортится?
— Избалуется, — сказал папа, приподымаясь и кланяясь княгине. Бабушка обратилась тоже к двери. Как только Корнакова заметила, что на нее все смотрят, она пошла гораздо скорее, чем прежде, и тотчас же начала говорить;7 она8 говорила так скоро и9 связно, что трудно было понять ее. Это обстоятельство заставило меня заключить с самой выгодной стороны о ее уме, и я стал вслушиваться и наблюдать. Княгиня10 много говорила одна, с самого того места, где ее заметили; она, не переставая говорить, подошла к креслу бабушки, не умолкая, поцеловала у нее руку и уселась подле11.
- 321 -
Из слов же ее я догадался, что она поздравляла бабушку и извинялась за своего мужа, что он не приехал. Еще я заметил, что бабушка без всякого удовольствия слушала княгиню, а, напротив, все более и более подымала брови, показывая этим, что она удивляется тому, что говорит княгиня. Еще меня удивило, что бабушка своим тихим голосом перебила пискливую1 речь княгини и, хотя она говорила по-французски, бабушка протяжно начала говорить ей по-русски.
— Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; — (когда бабушка сердилась, то говорила вы и моя милая, и эти два слова она так умела презрительно выговаривать, как будто вы и моя милая значило самое дурное) — а что кнезь Федор не приехал, так это и не стоит того, чтобы извиняться. Я совсем этого не требую, моя милая.
Княгиня хотела что-то сказать; но бабушка опять перебила ее и еще протяжнее продолжала:
— Я очень хорошо знаю, что у него дел пропасть; да и опять что ему за удовольствие к старухе ездить, — и, не давая времени княгине извиниться, — что ваши детки? — спросила она.
— Да слава богу, ma tante, — растут, учатся, шалят; впрочем,2 благодарю бога, я ими очень довольна, особенно старший, Etienne, ему теперь 12 лет, чудо мальчик3, так что жалко отдавать4 будет, хотя они и мои дети; но надо правду сказать. — Des capacités étonnantes, mon cousin5*, — сказала она, обращаясь к папа, потому что бабушка6 не смотрела на нее и7 взяла в это время в руки мои стихи и с большой тщательностью развертывала их, я видел, что она хотела похвастаться ими перед княгиней, которая продолжала: — но и такой шалун, что ладу нет. — Тут она что-то сказала довольно тихо, почти на ухо папа и прибавила вслух: — Хоть он и стоил, чтоб его высечь, но это так смешно, что я его простила.
— А вы бьете своих детей, моя милая? — спросила бабушка, делая особенное ударение на слово бьете.
— Ах, ma tante, я знаю, что вы со мною не согласитесь; но я, сколько ни думала, ни читала, ни советовалась об воспитании, и те, которые меня знают, могут сказать, занимаюсь ли я воспитанием своих детей или нет, — сказала она, оглядываясь на нас, как будто приводя в свидетели, — я всегда останусь того мнения, чтобы сделать что-нибудь из детей, нужен страх; а чего же дети, je vous demande un peu8*, боятся больше, чем розги? — и она опять посмотрела на нас.
Теперь мне ее9 разговор не понравился.
— Вы скажете, может быть, что это унижает чувства. Э, помилуйте, mon cousin, мальчик до 11 лет все еще ребенок. Девочка — другое дело.
- 322 -
— Да, это прекрасно, моя милая, — отвечала бабушка, свертывая мои стихи, как будто не считая такую особу достойною читать их. — Скажите только, какая после этого будет разница между вашими детьми и всеми дворовыми мальчишками? — И считая этот аргумент неотразимым, она прекратила разговор.
— Посмотрите, mon cousin, — продолжала княгиня с снисходительной улыбкой, обращаясь к папа, — какой будет мальчик мой Etienne! Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми.
Мы встали и не знали, что надо сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.
—1 Поцелуйте же ручку у княгини Корнаковой, — сказала бабушка.
—2 Прошу любить как тетушку3, хотя я вам и дальняя родственница; но я считаю не по близости родства, но по4 всегдашним дружеским связям с вашей maman и бабушкой.
— Э, моя милая, — сказала бабушка, — разве в нынешнем веке считается такое родство?
Когда Володя подходил к ручке, папа сказал:
— Этот у меня шалун и5 будет светским молодым человеком.6
Я в свою очередь, целуя маленькую, сухую, морщинистую руку княгини, воображал себе, очень живо, как она в этой руке держит розги и сечет своих детей. И думал, что и про меня тоже что-нибудь скажет папа. Так и вышло.
— А этот философ, — сказал он, — и притом поэт, je vous prie de croire7*.
Я хотел удалиться; но княгиня удержала меня за руку.
— Который? — спросила она.
— А вот этот — с вихром, — сказал папа.
— А, — сказала княгиня и стала расспрашивать про maman. Я посмотрел в зеркало и действительно [вихры торчали].
ГЛАВА 16-я. ЧТО Я УВИДАЛ В ЗЕРКАЛЕ И СЕКЛИ ЛИ НАС В ДЕТСТВЕ?
Я увидал в зеркале белокурого мальчика в коричневом полуфрачке, с беленькими воротничками, перекосившимися набок, с припомаженными висками и с торчащими вихрами на макушке. Мальчик этот был8 красный, и на широком лбу и носу выступали капли пота. Он, видимо, старался иметь вид задумавшегося мальчика, но был9 просто очень сконфуженный мальчик. Вид этого мальчика в зеркале мне был очень неприятен, и я оглянулся на всех, не видал ли кто-нибудь, что я смотрел в зеркало; но большие были заняты каким-то разговором, а Володя10 смотрел на меня, но как только я взглянул на него, стал смотреть в другую сторону. Он, верно, понял, что мне должно быть неприятно знать, что я дурен,
- 323 -
и притом знать, что он хорош и чувствует свое преимущество передо мной. Глядя на его худенькую, стройную фигурку, румяные щеки, черные, тоже, как и у папа, всегда смеющиеся глазки, гладкие, темные волосы и общее выражение веселости и самодовольства, я завидовал. Название, которое мне дал папа — философа, я переводил1: дурносопый. И ежели философ, значит мудрец, и я бы был мудрец, я бы ни минуты не поколебался отдать всю свою мудрость за хорошенькое личико.
Я помню, как раз, в деревне, за обедом, говорили про мою наружность, и при мне maman, которая всеми средствами старалась найти что-нибудь хорошего в моем лице, должна была сознаться, что я очень дурен. И потом, когда я подходил благодарить за обед, она потрепала меня по щеке2 и сказала: «Ты этой знай, Николенька, что ты дурен, и за твое лицо тебя никто не будет любить; а ты должен стараться быть умным и3 добрым; тогда тебя будут любить за твой ум и доброту». Мне было не больше 6-и лет, когда она мне это сказала; но это так врезалось в моей памяти, что я4 помню ту мысль, которая мне5 в эту минуту пришла, именно, что она от меня скрывает всю правду, но что она уже уверена в том, что я умен и добр. С той минуты я убедился навсегда в 3-х вещах: что я дурен, умен и добр. К последним 2-м мыслям6 я так привык, что никто и ничто не могло бы меня разуверить. (Какое-то, должно быть ложное, чувство мне говорило, что7 во всем есть возмездие — «я не хорош, зато я умен» — думал я.) Но к первой мысли я никак не мог привыкнуть и продолжал очень часто поверять свои сомнения на этот счет не только зеркалам, но всем вещам, которые способны отражать довольно ясно. Так, часто я смотрелся в стакан, в самовар, в графины и т. д.; но все эти вещи отвечали мне неумолимо то же самое, т. е. плохо. — На молитве очень часто я просил бога, чтобы он сделал меня красавцем.8 От этих умозрений насчет преимущества красоты перед другими дарами природы я, вспомнив слова княгини и бабушки о розгах, перешел к рассуждениям о том, секли ли нас или нет?
Секли ли нас или нет? Вот вопрос, который я себе сделал и, вспоминая прошедшее, старался решить.
Помню я, как раз, в самое Вербное воскресенье, у нас в деревне служили всенощную. После всенощной и ужина мы пришли в спальню и по какому-то случаю очень развеселились. Я вспрыгнул на кровать к Володе, перерыл постель — даже доска одна провалилась под нами — мы щекотали, теребили друг друга, визжали, помирали со смеху — одним словом, находились во всем разгаре детской бессознательной шумной веселости. Вдруг в комнату взошел Карл Иваныч. По лицу его заметно было, что он не в духе. В руке он нес9 только что распустившуюся и освященную вербу — с тем, чтобы поставить ее за икону, которая находилась в нашей спальне. «Was ist das?»10*— крикнул он грозно11 и кинул на нас такой взгляд, что мы замерли, и с самым ужасным выражением потрёс
- 324 -
вербою. Должно быть, дурное настроение1 духа, присутствие в его руке двух гибких и ветвистых веток вербы и мое полуобнаженное тело внушило ему ужасную мысль2. Он вытащил меня за руку с Володиной постели, схватил меня за голову и...3 Несколько только что распустившихся шишечек свалилось с освященной вербы. Я не думал ни о боли, ни о стыде — одна мысль поглощала4 все мое внимание: Так, стало быть, меня высекли? — высекли по-настоящему.
Maman находила, что побои5 — наказание унизительное; я часто слыхал, что она отзывалась о сечении с ужасом и отвращением, и Карлу Иванычу строго было приказано не бить нас.
Удивительно, что добрый Карл Иваныч, пунктуально исполняющий все приказания, не мог воздержаться6. Не раз случалось, что он бил нас линейкой, давал щелчок в лоб своим огромным ногтем, раз даже ударил меня своими помочами. Я не обращал внимания на эти случаи; но верба...... Стало быть, напрасно я горжусь, что меня не секли. Однако нет — сечь, должно быть, значит совсем другое — верно, мальчика кладут на скамейку, держат, он кричит, и его секут двое — вот это ужасно. — А верба что? Это так, Карл Иваныч разгорячился; я помню, он сам говорил, что жалко, что мы не были сечены. Стало быть, нас не секли.
Часто со мною случалось и впоследствии, что я, составляя себе вперед понятие о каком-нибудь впечатлении и потом испытывая его, никак не мог согласовать одно с другим7 и не верил, что я действительно испытал то, о чем составил себе такое неверное понятие. Я решил, что нас не секли.
ГЛАВА 17-ая. КНЯЗЬ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Княгиня Марья Александровна уехала8 и обещала после обеда прислать своего Этиена и других детей познакомиться с нами9. Я очень10 был рад, потому что интересовался знать, какой вид может иметь мальчик, которого секут. После Марьи Александровны приезжало еще много гостей поздравлять бабушку — большей частью родные и11 называли ее ma tante. Иных она принимала хорошо, других дурно и говорила им моя милая, точно как будто она говорила с своей горничной. Я перезабыл большую часть этих гостей, но помню тех, которым читали мои стихи.
12 В числе последних был один человек довольно высокого роста, средних лет и в военном мундире. Он был тонок — особенно ноги, — но не
- 325 -
строен; все тело его при всяком движении перегибалось; руки были очень длинны. Ежели бы он не имел большого апломба в приемах, наружность его напоминала бы обезьянью. Он был плешив; лоб был большой, нос загибался к губам, нижняя челюсть выдавалась вперед так, что это даже было неестественно. Голову он держал закинув назад, ногами несколько шаркал, улыбкой ласкал. Привыкнув к мысли, что ум есть всегдашнее возмездие красоты, вид дурного лица всегда заставлял меня составлять самое выгодное понятие о уме. Кукурузов был дурен до невозможности, и, ежели бы не уверенность, с которой он носил свою уродливость, он внушал бы отвращение. Нельзя было не подумать, увидав его: верно, этот человек имеет много достоинств, ежели с таким некрасивым лицом доволен собою.
Алишкеева тоже была родственница бабушки. Она приехала с дочерью, и так как бабушка приняла ее хорошо, то сидела довольно долго. — Дочь ее была девушка лет 181, тоненькая, стройненькая, свеженькая, прекрасно одетая, но она не нравилась мне. Все в ней было неестественно, и красота, и движения. Ежели бы меня спросили: «хороша ли Sachinette?», я бы сказал, что хороша; но сам бы я никогда не сказал2 другому: «неправда ли, как хороша Sachinette?» Притом же у ней был недостаток, который детям очень бросается в глаза, — неестественность. Она ко всему говорила про Венецию, в которой жила3 с матерью, смеялась тоже ко всему и не от души; и когда нас ей представили, заметив, должно быть, мою неловкость и смущение, непременно хотела его увеличить и меня поцеловать; я убежал в другую комнату от стыда — она за мною. В это самое время входил господин Кукурозов. Sachinette оставила меня в покое и пошла назад в гостиную, слегка переваливаясь с ноги на ногу, представляя, будто бы она очень устала за мной бегать4 (не знаю, зачем она это делала). Кукурозов уселся против бабушки и5 повел какую-то сладкую, сладкую речь. Меня удивило, как он не догадался уступить6 Sachinette кресло,7 на котором сидел подле бабушки8. Sachinette, постояв немного,9 сказала: «Ах, как я устала, maman (должно быть, чтобы Кукурозов заметил ее присутствие, но он только оглянулся на нее и продолжал что-то с нежностью говорить бабушке). Sachinette села на дальнем стуле подле нас. Бабушка представила Кукурозова Алишкеевым, он10 приподнялся, и11 надобно было видеть, как мгновенно
- 326 -
выражение совершенного равнодушия и невнимания, с которыми он до того смотрел на Алишкеевых, сменилось любезнейшей улыбкой, и с каким искренним выражением он в самых отборных французских словах сказал им, что давно желал иметь эту честь. В одно и то же время, хотя Алишкеева и Sachinette стояли в1 противуположных углах2 гостиной, он обращался и к матери и к дочери, с удивительной отчетливостью и ловкостью; потом он отодвинул кресло, чтобы не сидеть спиной к Sachinette, опять сел, поправил шляпу и саблю3 и заговорил о каком-то певце, разговор, в котором приняли участие все, как будто ни в чем не бывало. «Вот это человек!» — подумал я. Он почти один поддерживал разговор, и видно было, что другим совестно было говорить при таком человеке. Фразы его были так круглы, полны, говорил он так отчетливо и употреблял для меня такие непонятные французские слова, что я ему в мыслях отдал преимущество над всеми — над княгиней и еще над одной барыней, которая мне тоже понравилась. Алишкеева была дама, отличавшаяся от всех других, которых я видел, какою-то особенной резкостью и апломбом в разговоре. Она говорила с удивительной уверенностью про вещи, которые не посмела бы затронуть в разговоре другая дама. Впоследствии я нашел, что этот дух принадлежит почти всем дамам петербургского общества. Она намекнула4 что-то об Италии, — он стал говорить про5 Италию еще лучше и к чему-то сказал6 «la patrie des poètes»7*.
— A propos des poètes8*, — сказала бабушка, — вы хороший судья в этом деле, мой любезный Кукурозов; надо вам показать стихи, которые я получила нынче.
И опять бабушка развернула обличительный лист почтовой бумаги.
— Et qui est le bienheureux poète, m-me la comtesse, auquel vous inspirez de si beaux vers?9*, — спросил он с снисходительной улыбкой, пробегая глазами мое стихотворение.
— Это мой внук, Николенька, — сказала бабушка, указывая на меня табакеркой, которую держала в руках. Кукурозов обратился ко мне и полусерьезно, полунасмешливо сказал мне длинную фразу, из которой я запомнил только: «jeune homme, cultivez les muses»10*. Это выражение я запомнил, потому что оно мне очень понравилось, хотя и не понимал, что значит.
В это время взошел в комнату маленькими шажками человек в военном мундире11, с орденом, высокий, статный, без усов, седой и плешивый. На вид ему было лет 70. — Выражение лица было сознание своего достоинства, спокойствие и доброта. — Как только его увидали в гостиной, все встали, даже бабушка12 выдвинулась из самой глубины кресел13. Подойдя к бабушке, он14 поцеловал ее руку и поздравил, называя ma cousine. —
- 327 -
Мы с удивлением переглянулись с Володей, и взгляды наши выражали: что же это за человек, что позволяет себе такие вольности? что смеет самую бабушку называть ma cousine?
Сказав еще несколько слов, он оглянулся на всех, поклонился1, включив всех, даже и нас, в один поклон. (Все стали садиться, Sachinette опять не достало стула.)2 Князь Иван Иваныч вскочил и, приятно-покровительственно улыбаясь, предложил ей свой.
— Veuillez prendre place, m-selle3*, — сказал он, указывая на стул, но Sachinette покраснела не знаю отчего, сама подвинула стул и уселась. — Я с восхищением и удивлением смотрел на этого старика, которого все так уважали, он говорил еще лучше Кукурозова, хотя не красивее, но проще, все можно было понять. Ему тоже показали стихи, он подозвал меня и ущипнул за щеку очень больно; но я не вскрикнул, потому что знал, что это ласка, и сказал:
— Молодец. Почем знать, ma cousine, может будет другой Державин.
Его приветствие, несмотря на боль в щеке, польстило меня больше всех.
Наконец все уехали, и он с бабушкой остался один. Володя убежал в залу; а я с неописанным наслаждением слушал их разговор и заметил, что бабушка как будто помолодела, с таким удовольствием и увлечением она с ним говорила. Из разговора их понял то, что они не видались с Светлого Христова воскресенья, но что очень любят друг друга и вспоминали4 старину. — Должно быть, они меня не заметили и стали говорить про папа и maman вот что:
— Отчего милая Наталья Николаевна не приехала? — сказал князь Иван Иваныч.
— Ах, mon cher, — сказала бабушка тихим голосом, придвинувшись к нему и положив руку на рукав его мундира, — я вам скажу, что меня мучает. Она пишет мне, что Pierre советовал ей ехать, но что она сама не захотела, потому что дела плохи; а, пишет, что5 бог милостив, на будущую зиму с Любочкой совсем переедет сюда — все это отговорка. Что она мальчиков прислала, — прибавила, помолчав, бабушка, — и это прекрасно, старшему 12 лет; так надо ему учиться и привыкать к свету. Какое же воспитание им могли дать в деревне — вы заметили, mon cousin, они здесь как дикие.
— Я не понимаю, ma cousine, — сказал князь Иван Иваныч, — отчего их дела так плохи? И всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств. У него хорошее состояние и ее имение Хабаровка славное.
— Ах, я вам скажу, mon cousin6, как истинному другу, — сказала бабушка грустным тоном, — мне кажется, что это все для того, чтобы ему быть здесь свободнее — ездить по клубам играть и бог знает что делать; а она, бедняжка, ничего не подозревает7, и вы знаете, какая ангельская доброта — моя Наташа, она верит всему, что он ей ни скажет. Он ее уверил, что детей нужно везти в Москву, она и согласилась;
- 328 -
ежели бы он ее уверил, что нужно их сечь, как сечет своих княгиня Марья Александровна, она и тут, кажется, бы поверила. Да, мой друг1, — сказала бабушка, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшиеся слезы и посмотрев на портрет maman, — я часто думаю, что он ее не понимает и не может сделать счастливою.
— Э, ma bonne Annette,2 vous resterez donc toujours la même3* — сказал князь Иван Иваныч4, как видно с истинным участием, — и вечно сами себе воображаете горести и сокрушаетесь об них. Он прекрасный муж и главное5 c’est un parfait honnête homme6*, прекрасный и благородный человек. Поэтому я никак не поверю, чтобы он мог сделать ее несчастливою.
Бабушка утирала слезы. Князь Иван Иваныч молчал, я боялся, чтобы не заметили, что я слышал то, чего мне не нужно было слышать, на ципочках выбрался из комнаты.
Мне не хотелось верить7 (не тому, чтобы действительно папа делал несчастливою maman), но не хотелось верить и тому8, чтобы кто-нибудь9 имел право судить его. Я отбрасывал эту мысль, но она опять лезла мне в голову. Папа встретился мне в зале; я посмотрел на него, но совсем другими глазами, чем обыкновенно. Я уже не видел в нем, как прежде, только отца; а видел человека, который так же, как и другие, может поступить нехорошо — одним словом, я рассуждал о нем. Одна завеса10 спала с детского воображения.
ГЛАВА 18. ПРОГУЛКА
До обеда отец взял нас с собою гулять. Хотя со времени приезда нашего в Москву я уже раз 20 имел случай прогуливаться по бульварам, но все не мог привыкнуть к странному11 московскому народу и его обхождению, в особенности же я никак не мог понять, почему в Москве все перестали обращать на нас внимание — никто не снимал шапок, когда мы проходили, некоторые даже недоброжелательно смотрели на нас, многие толкали и решительно обращались с нами, как будто мы перестали быть детьми П. А. Иртенева и владетелями села Петровского, Хабаровки и др. Я всячески старался объяснить это общее к нам равнодушие (и даже как будто презрение)12. — Сначала я предполагал, что, верно, мы дурно одеты и похожи на дворовых мальчиков; но, напротив, бекеши у нас были щегольские, и я не без основания рассчитывал, что они должны были внушать хотя некоторое уважение; думал я тоже, что это, верно, потому, что нас еще не знают, но прошло уже много дней, а на нас все не обращали никакого внимания; наконец, я пришел к заключению, что, верно, за что-нибудь на нас сердятся, и я очень желал узнать причину такой немилости. Мы вышли на Пречистенский бульвар, отец шел тихо серединой, мы бегали взапуски за оголившимися липками по засохшей
- 329 -
траве. Перед нами шла какая-то барыня, щегольски одетая, с маленькой, лет 7-ми, девочкой, которая в бархатной красной шубке и меховых сапожках катила перед собой серсо, но так тихо и вяло, что я никак не мог понять, для чего это она делает.1 Скорее можно было сказать, что ей велено докатить этот обруч до известного места, чем то, что она им играет. То ли дело Любочка или Юзенька, бывало, летят по зале, так что все тарелки в буфете дрожат.
Догнав барыню с девочкой, отец подозвал нас и представил ей. Мы поклонились и сняли фуражки. Я так был озадачен, как говорил, тем, что нам никто не снимал шапок, но все оказывали равнодушие, что я впал в противуположную крайность — я стал подобострастен и, сняв фуражку, стоял в почтительной позе, не надевая ее. Володя дернул меня за рукав бекеши и сказал: «Что ты, как лакей, без шапки стоишь?» О, как меня оскорбило это замечание! Я никогда не забуду, с какой неловкостью и злобой я надел фуражку и перешел на другую сторону бульвара.
Это была кузина его Валахина. Она шла так же, как и мы, на Тверской бульвар, и мы пошли вместе. — Как я заметил, отец был с нею дружен и просил ее прислать нынче2 вечером старшую дочь к нам, говоря, что, может быть, будут танцы; она обещала3. На Никитском бульваре было довольно народа, т. е. хорошо одетых господ и барынь.4 Я заметил, что Валахина на Никитском бульваре шла тише и стала говорить по-французски; когда же мы перешли площадь и взошли на Тверской, она стала грассировать и называть свою дочь не Машенька, как она называла ее на Пречистенском, не Marie, как она называла ее на Никитском, а Маии. Это меня поразило. Заметив по этим ее поступкам всю важность Тверского бульвара, я старался тоже и походкой, и осанкой быть похожим не на Николеньку, а на Никса, или что-нибудь в этом роде.
Вскоре после нашего приезда познакомились мы с тремя мальчиками наших лет, Ивиными: старший был нехорош собой и мальчик мясистый, вялый, потный; младшие же два были совершенные красавчики. То ездили мы к ним, то они к нам, и в обоих случаях для меня это был совершенный праздник. Я без памяти любил обоих меньших и любил так, что готов был для них всем пожертвовать, любил не дружбою, а был влюблен, как бывают влюблены те, которые любят в первый раз — я мечтал о них и плакал. Вот как я любил его: у него была дурная привычка, за которую часто бранил его гувернер, — моргать беспрестанно глазами. Теперь, вспоминая его, я вижу, что действительно это очень портило его; но тогда я находил это прелестным, мне казалось, что именно в этом главная причина его привлекательности, и я даже старался сам моргать глазами так же, как он. Когда мы соединялись, любимою игрою нашей были солдаты, т. е. разыгрывание всяких сцен из солдатской жизни: маршированье, сражение, отдыхи и даже наказания.5
- 330 -
Что было весьма приятно в наших отношениях — это что мы называли друг друга не уменьшительно: Николенька, Петруша, а Николай, Петр. Бульвар был полон народа, солнушко ярко и весело играло на всем — на чистых сапогах прогуливавшихся господ, на атласных шляпках барынь,1 на эполетах военных; даже одна пуговица оборванного солдата, который прошел с узлом мимо нас, блестела, как золото2. По расчищенному песку, на котором заметны были полукруглые следы метлы, кое-где стеклушко или песчинка блестели, как брильянты. — Иные гуляли тихими шагами и с палками с набалдашниками — руки назад; другие, размахивая руками, стороной, как будто спешили куда-нибудь, но тоже ходили взад и вперед. С первого взгляда3 поражала только пестрота и блеск; но чем дальше подвигался вперед, из общей пестроты выдвигались шляпки, эполеты или длинные сертуки. Все лица этой панорамы чрезвычайно хороши были издали; но чем ближе подвигались, тем меньше нравились. Или большой нос из-под желтой шляпки, или равнодушный взгляд, брошенный на нас сертуком, или глупый несимпатический смех и говор остановившихся эполет и сертуков сейчас разочаровывал, и опять я напряженно смотрел вперед в сливающуюся пеструю толпу, как будто ожидая и ища чего-то.
За 100 шагов из-за разнообразных фигур толпившихся по бульвару узнал я Ивиных с гувернером.
— Посмотри, папа, — сказал я вне себя от радости и желая поделиться ею с кем-нибудь, — вон Ивины.
Папа принял это известие очень хладнокровно, потому что в это самое время, улыбаясь, раскланивался с какою-то барыней; Володя же спросил:
— Где?
— Вон, за этим полковником с дамой — видишь трое с бобровыми воротниками.
— Что ты там видишь, — там пряничник.
— Ах, боже мой, — сказал я с нетерпением, не понимая, как может он не чувствовать, что они идут, — направо от пряничника.
Сомнение скоро стало невозможно, потому что мы были в 20 шагах друг от друга и улыбались уже от взаимной радости, не позволяя себе, однако, прибавить шагу, чтобы скорее сойтись. Это удивительно, какой хорошенький мальчик был Петруша, как шел к нему бобровый воротник коричневой бекеши, как красиво4, немного набок, держалась черная фуражечка на его русых длинных волосах. А вся фигура и5 раскрасневшееся от свежего воздуха, покрытое детским пушком, лицо, как были хороши! Я решительно был нынче влюблен в Петра.
(Как я уже сказал, я любил их обоих, но никогда вместе, а днями: несколько времени одного, потом другого.) Отчего я не говорил ни Петруше,
- 331 -
ни брату, никому, что я так любил его? Не знаю. Должно быть, меня не поняли бы; ежели бы я и попробовал передать свое чувство, приняли бы это за простую, обыкновенную привязанность, но мне этого не хотелось, и, должно быть, предчувствуя, что меня но поймут, я1 глубоко таил это сладкое чувство. Впрочем, надо заметить, что тогда я никак бы не сказал, что меня не понимают; напротив, мне казалось, что я не понимаю чувств Петруши, и всячески старался постигнуть все его мысли. Отчего не мог я выговорить слова любви, когда сильно было во мне это чувство, и отчего я после, когда уже перестал так сильно чувствовать, перестал и стыдиться признаваться2 в любви?
Недолго поговорили мы с Ивиными и пошли дальше; но они обещались быть вечером. Пройдя Тверскую площадь, папа повернул на Тверскую и зашел в кондитерскую, чтобы взять3 к вечеру конфект и угостить нас. — Великолепие места, в которое мы взошли, крайне поразило меня, тем более, что не ожидал увидать ничего, кроме сладких пирожков и карамелек; а против чаяния моего, удивленным взорам моим представился целый мир роскоши. В середине комнаты стоял стул не стул, стол не стол, шифоньерка не шифоньерка, а что-то странное,4 круглое, покрытое совершенно пирожками всех цветов, форматов. Но это зрелище не могло исключительно привлечь моего внимания, потому что окошки из цельных стекол, шкапы с стеклами, конторки с стеклами кругом всей комнаты,5 которые все были уставлены уже не только пирожками — что пирожки? — но конфектами, бутылочками, сюрпризами, корнетами, коробочками таких прекрасных цветов, что и их хотелось отведать.6 Блеск золотых каемок, драпри, разноцветные бумаги со всех сторон притягивали мои взоры. Около одного шкапа сидела хорошенькая барыня, чудесно одетая, в шелковом платье и с воротничками такими же точно, как у maman,7 и читала французский роман. — Все это сильно поразило меня, я не знал, на что смотреть, и можно ли мне ступать по ковру запыленными сапогами, нужно ли благодарить эту барыню, ежели она хозяйка, за то, что она это все так устроила и позволила нам взойти.
Она встала из-за прилавка8, только что мы взошли, положила книгу и спросила папа по-французски, что ему угодно. «Так это просто торговка, — подумал я, — а как одета, какие у нее белые руки и как она хорошо говорит по-французски.» Мне было несколько неприятно видеть, что торговка может одеваться так же, как и maman, и читать французские романы. «Вот что значит Москва», и я от души жалел, что нет здесь Натальи Савишны или охотника Турка, с которыми я мог бы поделиться своим удивлением; но я тут же решил при первом свидании все это подробно передать им. — Папа очень смело потребовал конфект, всякого сорта по фунту, и барышня, удивившая меня своей наружностью, с большой ловкостью и скоростью стала доставать горстями из каждого ящика и класть на медные блестящие весы. Папа, облокотившись на конторку, что-то говорил ей полушепотом, и я заметил, что он чрезвычайно приятно
- 332 -
улыбался и глаза у него были подернуты чем-то масляным. Кондитерша, продолжая заниматься своим делом, отрывисто отвечала круглыми французскими фразами, с прибавлением monsieur и тоже замысловато улыбалась. — Папа взглянул на меня; мой взгляд выражал «я вас наблюдаю», его взор выразил: «совсем тебе не нужно наблюдать, и ты мне надоедаешь этим». Мы оба в взгляде мгновенно поняли друг друга, поэтому долго не смотрели друг другу в глаза, а смигнули и стали смотреть в другую сторону.
— Что вы хотите, дети? — спросил он нас. Очень естественно, что, находясь в убеждении, что здесь всего, что только есть прекрасного, можно спросить, я стал в тупик от такого вопроса, и не знал, чего пожелать, боясь ошибиться и попросить не самого лучшего.
— Велите им дать шеколаду.
— Ernest, — крикнула громким голосом француженка. Выбежал в фартуке довольно запачканный мальчик Ernest и объявил, что шеколад сейчас будет подан в задние комнаты, куда мы тотчас же и отправились. Володя смотрелся с заметным удовольствием в трюмо, я смотрел на газеты в рамках и с любопытством пересматривал столбцы темного для меня содержания — шеколаду все не было. Я пошел тихими шагами к двери и стал смотреть в зеркало средней комнаты, в котором отражались фигуры папа и француженки. Она сидела1 опять на своем месте и держала в руках книгу, но не читала, а говорила; папа, прищурив смеющиеся масляные глазки и сладко улыбаясь, стоял против нее и перегнувшись через конторку2; лицо его было от нее ближе, чем того требовали приличия; мне даже показалось, что он ее тронул рукой, и что я очень хорошо видел, это что он, перегнувшись еще больше, вытянул3 мокрые губы и защурил глазки и, должно быть, хотел ее поцеловать, потому что головой сделал быстрое движение вперед, но отчего-то вдруг остановился и, покраснев, сел на стуло. В эту самую минуту зазвенел колокольчик на двери, и в зеркале4 показалась фигура щегольски одетого господина, с шляпой на голове, и мне слышно было, как он5 с французским ударением6 сказал: «bonjour, monsieur»7* и прошел. Это, должно быть, был хозяин. Куда девалась величавость, спокойствие и сознание своей власти, которые всегда выражало лицо папа, в ту минуту, как он, как школьник, отскочил, покраснел и с беззаботным8 видом стал9 смотреть кругом себя. — Ernest явился с шеколадом; мы с большим наслаждением выпили по чашке этого напитка, я помню даже, что обжег себе рот, выпачкал все губы и утирал их бисквитами. Мы вышли. Папа держал под мышкой конфеты и продолжал говорить с10 француженкой, которая мне очень была противна11. Главное, я никак не мог понять отношений папа с нею, но предчувствовал, что тут что-то нехорошо. Он12 докончивал какой-то разговор и сказал ей: «Да, я уж старик», причем13 погладил
- 333 -
себя по лысине. Опять, мне кажется, он заметил мои требующие1 объяснения, на него устремленные взоры и с некоторой досадой сказал: «Пойдемте». Сказать, что я не понимал, что он волочился за2 этой француженкой, было бы неправда; но ясно выразить эту мысль тогда я ни за что бы не решился, да и не мог.
ГЛАВА 19. ОБЕД
Стол был широко раздвинут — три доски были вложены3. Посередине стола, в хрустальной чаше, красовались крымские виноград и яблоки, с боков, тоже в хрустальных блюдечках, с колпаками, стояли варенья. Люди в белых галстуках и с праздничными лицами оканчивали приготовления. Из гостиной слышны4 были голоса, мужские и женские, то громкие, отрывистые, то плавные, то слышен был смех. — Можно было прямо с отцом взойти в гостиную; но мне показалось страшно, не приготовившись, подвергнуться вдруг взглядам всего там собранного общества; я побежал на верх, но так как мне там нечего было делать, притом же все было убрано, и я одет, я только прошелся по комнатам и пошел опять вниз. Я остановился в зале. Лакеи посмотрели на меня5 с удивлением, не понимая, должно быть, зачем я остановился вдруг около двери и стал прохаживаться, как будто я и не думал идти в гостиную. Я покраснел. Хотя я знал, что чем больше я стараюсь быть незамеченным, тем больше после обращу не себя общее внимание, какая-то непреодолимая преграда была для меня в дверях гостиной — я подходил к дверям, но не мог переступить эту преграду. Чтобы объяснить чем-нибудь мое присутствие в зале и от того чувства, которое заставляет нас шевелиться и что-нибудь делать в припадках застенчивости, я подошел к столу и хотел взять несколько ягодок винограду; но дворецкий, усмотрев этот мой замысел разрушить порядок6 его устройства, остановил меня и, сказав: «нет, уж позвольте», отодвинул от меня вазу и стал опять поправлять. В эту самую минуту выходила из гостиной бабушка, которую вел Кукурузов, и за ними все попарно. Я отступил почти за спину дворецкого и оттуда кланялся всем проходящим, так что меня никто не заметил и не ответил на мои поклоны, чем я был доволен и тоже несколько оскорблен. За обедом я все время сидел и думал о том, как приятно жить в деревне и тяжело жить в городе. Воображение мое рисовало мне картины прошедшего из деревенской жизни, я вспоминал луг, на котором играли по вечерам в бары и горелки, вспоминал свежее сено и пахучие копны в саду, на которых мы прыгали и в которые зарывались, лучи заходящего солнца, свежесть утра, пруд в ясный солнечный день и в месячную ночь, когда с балкона видно было, как он освещал плотину и отражался в воде; вспоминал ту свободу, веселость, которую всегда там чувствовал; maman, разумеется, всегда была на первом плане
- 334 -
этих картин и немало служила к их украшению. Теперь же я чувствовал, что что-то враждебное и дурное закралось в мою душу и что оно-то заставляло меня краснеть и страдать без всякой внешней причины. Ежели бы я тогда знал то, что теперь знаю, я сказал бы себе, что это что-то враждебное есть тщеславие1, один из пороков самых обыкновенных и безвредных, но зато ближе всех соединенных с наказанием.
— Этот2 паштет так хорош, Наталья Николаевна, — сказал, пережевывая, барин с большими усами и с золотым большим перстнем на руке, который сидел подле папа, — что я никогда ничего лучше не едал.
— Очень рада, — сказала бабушка.
—3 Знаете ли, А. М., — продолжал барин, — паштет и цветная капуста для меня — все. Вы можете меня разбудить ночью и дать мне паштету или цветной капусты.
«Я уверен, — подумал я, — что бабушка не воспользуется его позволением и не станет его будить ночью и предлагать эти кушания.»
— Вот и4 князь Иван тоже большой охотник до паштета, — сказала бабушка, — жаль, его нет, нынче точно Василий отличился.
— Можно бы послать князю, — робко и улыбаясь заметила5 покровительствуемая бабушкой рябая родственница, сидевшая на конце стола (она была московская старожилка)6.
—7 Что вы, моя милая, — сказала бабушка, — 8на Мясницкую?.. A propos9*, — сказала она, — кнезь Иван Иваныч отдал мне нынче музыку в театре10 [«Аскольдову могилу», свези вечером детей, Pierre. — Папа сказал, что непременно воспользуется ложей.] А рябая родственница сказала:
— Верхом бы в миске еще тепленький довезли. Вот княгиня И. В. всегда посылает верхом11, да еще к Сухаревой башне. — Все обратили внимание на рябую родственницу.
— Полноте, М. И., — сказал, добродушно улыбаясь, папа.
ГЛАВА 20. СБИРАЮТСЯ ГОСТИ
Шум каждого ехавшего экипажа приводил12 меня в тяжелое и сладостное переходное состояние от неизвестности к надежде. Я подбегал к окошку, прикладывал обе руки к стеклу и глазам и желал рассмотреть, не карета ли Ивиных произвела этот шум, подъехав к крыльцу. Но из темноты выказывались уже известные мне и надоевшие предметы: освещенная лавочка, направо фонарь и проезжающие13 мимо кареты и дрожки. Большая часть гостей после обеда разъехалась; но по той хлопотливости, которая заметна была в буфете, и по освещению в зале
- 335 -
и гостиной (все кинкеты и даже треножник1 был зажжен, чего ни разу не было со дня нашего приезда) можно было заключить, что ожидается немалочисленное общество.
Вот еще прогремела карета и, кажется, остановилась — я бросился к окну; но, во-первых, потому, что, несмотря на содействие приставленных рук, нельзя было скоро привыкнуть к темноте, во-вторых, потому, что, как я ни косился, стекла, которые мне хотелось проткнуть головой, мешали2 видеть крыльцо, я не знал, кто приехал. — Сердце говорило, однако, что сейчас я услышу приятный звонкий голос Петруши и его милое лицо улыбнется мне. Повинуясь этому голосу, я с сияющим лицом бросился в переднюю3, в нетерпеливом ожидании стоял у самой двери4 и слышал шаги и шорох чьей-то руки5 на другой стороне двери. — Взошла Валахина с старшей дочерью. — Покуда она с помощью огромного лакея снимала мне уже известный синий бархатный салоп и раскутывала свою дочь, я от досады, даже забыв сконфузиться при этом случае,6 не нашел нужным кланяться7 ей, покуда она раздевается,8 удалился в залу. — Когда проходила мимо нас Валахина с дочерью и спросила, где бабушка, поправляя рукой буклю волос, которая не хотела держаться на настоящем месте, а падала на лоб Сонечке,9 я не мог, несмотря на то, что был занят одной мыслью — видеть поскорей Петрушу, не полюбоваться этой девочкой. — Она, по моим догадкам, должна была быть со мною одних лет и одного роста; но —
Bon dieu, combien elle est jolie,
Et moi je suis, je suis si laid10*.11 Я привожу эти два стиха из песни Беранже, потому что, при первом взгляде на нее, мне пришло в голову именно это грустное сравнение. На ней было коротенькое голубенькое платьице и такого же цвета пелеринка, и черные открытые башмачки на маленьких ножках, которые чудо как мило и наивно шагали но паркету бабушкиной залы. Головка была в русых кудрях, которые так хорошо шли спереди к ее милому личику, а сзади к беленькой шейке, что12 я никому бы не поверил, даже самому Карлу Иванычу, что волосы эти вьются от того, что были13 завернуты в кусочки «Московских ведомостей», которые прижигали железными горячими шипцами. — Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой. — Из лица ее помню я глаза и рот. Да и нельзя их забыть. Глаза были очень большие и выпуклые, но больше чем до половины покрыты веками, которые оканчивались длинными14 черными ресницами, глаза эти смотрели серьезно и даже несколько грустно, губы были чрезвычайно свежи и склад их совершенно соответствовал выражению глаз.
- 336 -
Отвечая на наш поклон, она слегка улыбнулась, и опять склад губ совершенно соответствовал выражению глаз1. Все лицо улыбалось. И тем очаровательнее, что у нее было одно из тех лиц, от которых не ждешь улыбки. — Она, верно, подумала то же, что и я. «Как смешно, что мы так церемонно раскланиваемся, когда через час, верно, будем приятелями.» (Сложена она была не совсем хорошо; но приятно. Я всегда больше обращал внимания на сложение всего тела, чем на лицо, в особенности на склад спины, плеч и ног. В2 памяти у меня больше остается сложение, чем лицо человека. Я составил себе некоторые типы телосложения, к которым подвожу все другие3. В особенности есть для меня в этом отношении два резко противуположные типа — благородный и неблагородный. Даже, по телосложению заключая о моральных4 качествах человека, я часто имел случай подтверждать на этот счет свое мнение. В лице меня поражает только одна вещь — улыбка, и в улыбке отношение глаз к складу губ; но в телосложении каждая линия5 имеет важность, и так как линии эти больше, чем в лице, и не так сложны, то они сильнее6 мне бросаются в глаза; вместе с тем линии эти так же нежны и малейшее отступление линии от известного первообраза7 дает другой характер всему сложению.)
Бабушка сидела на всегдашнем месте, только с тою разницею, что ее лицо, чепчик, табакерка8, платки и вся комната были ярко освещены. Она приняла Валахину очень хорошо, в особенности же, казалось, была довольна видеть Сонечку, подозвала ее ближе к себе, откинула назад ее волосы и сказала, что она очень выросла и похорошела. Сонечка покруглила глаза, покраснела и сделалась так мила, что я покраснел от удовольствия и стыда за нее.
— Надеюсь, что ты у нас не будешь скучать, а веселиться и танцевать9, вот уж есть одна дама и два кавалера, — сказала она10, дотрогиваясь рукой до Володи и обращаясь к Валахиной.
Я на бульваре не обратил внимания на самую Валахину, но теперь, хотя она была уже средних лет, лицо ее, несколько сморщенное, показалось мне очень11 красивым, должно быть, потому, что я нашел в ней сходство с ее дочерью. Она имела то же выражение грусти и доброты. — Впоследствии я узнал, что Валахина в жизни своей перенесла много горя и слез. В свое время она была известная красавица. Голубые огромные глаза были прелестны; но в то время, как я ее видел, должно быть, от слез глаза ее из темно-голубых сделались какими-то мутными, свинцовыми.12
— Познакомьтесь с вашей кузиной, — сказала она нам, обращаясь исключительно к Володе. Я вспомнил13 глупость, которую я сделал на бульваре, когда снял14 фуражку, и ужасная мысль пробежала в моей голове: «верно, она рассказала об этом дочери, и мне нет надежды ей понравиться».
- 337 -
От этих размышлений был я отвлечен стуком еще подъехавшей кареты. В передней нашел1 я княгиню с сыном и с бесчисленным, невероятным2 для3 выхода из одной утробы и еще менее вероятным из одной кареты количеством дочерей, которых я пересмотрел в одну минуту, потому что все были дурны и ни одна не останавливала внимания. При снимании салопов, капоров, хвостов шум в передней был страшный, и они смеялись, должно быть, тому, что их так много. Это точно было смешно.
Маленький князь был большой мальчик с огромными по летам руками4 в обтянутых рукавах полуфрака (но не такого, как у нас, с микроскопическими фалдами, но с достаточными для назначения) и с весьма впалыми и посинелыми внизу глазами. Он был неуклюж, неловок, имел голос пискливый и грубый; но, как заметно было, не стыдился своих недостатков и был точно такой, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут. Морщины и синее под глазами я приписывал к другой причине. — Мы довольно долго стояли, не говоря ни слова, и смотрели друг на друга, и не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы княгиня, проходя в двери, разом не представила меня всем членам своего семейства. — Мы пожали друг другу руки и, кажется, хотели поцеловаться; но посмотрев еще раз друг на друга, почему-то раздумали. Когда платья всех его сестер прошумели мимо нас, он спросил меня, давно ли я в Москве, на что я ответил, что недавно.
— Ваше сиятельство, — сказал лакей князя, остановив за фалды полуфрака Сережу (так звали молодого князя), — доложите маменьке, что ежели долго здесь будут, так не прикажут ли домой поехать кучерам почтиться.
— Понимаю, понимаю, — сказал Сережа, значительно улыбнувшись. Лакей тоже5 улыбнулся и, подмигнув, сказал:
— Доложите, ваше сиятельство? — и с салопами пошел к ларю.
Меня поразил, признаюсь, титул ваше сиятельство в соединении с панибратским тоном лакея. Князь, взойдя в гостиную6, довольно непринужденно поклонился бабушке и всему обществу (бабушка говорила ему вы и смотрела на него холодно и как будто с отвращением, верно, она, так же как и я, воображала в эту минуту, как он лежит под розгами и кричит: «Ай, ай, ай, не буду, право не буду»).
Бабушка имела особенный дар, прилагая, с известным тоном и в известных случаях, множественное и единственное местоимение второго лица, выказывать7 прямо в глаза свое мнение о людях. Хотя употребляла она «вы» и «ты» совершенно наоборот общепринятому обычаю, но в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. — Я вспомнил, как мило она приняла Валахину, говоря ей «ты», и как презрительно княгиню с детьми, говоря ей «вы». Сережа, однако, или не хотел заметить этого или точно не заметил; а напротив, удивляя меня своей светскостью и развязностью,
- 338 -
с которой, узнав, что будут танцы, подошел и пригласил Сонечку на кадриль. Я замечал, как он поступал в этом случае, и, несмотря на то, что он мне очень не нравился, принуждал1 себя, чтобы сделать то же, перенимать его манеры. Еще подъехала карета и еще, в числе которых была и Алишкеева; но Ивиных не было2; были в числе гостей и большие молодые люди; одним словом, собирался совершенный бал. Князь Иван Иваныч прислал своих музыкантов, дверь распахнулась и пахнуло холодом. Когда3, протискиваясь между лакеями и салопами в передней, они4 разбирали свои инструменты5, снимали шинели и когда послышались неприятные для уха звуки, я понял, что готовится дело, совершенно серьезное и важное, в котором надо вести себя с осмотрительностью.
Однако я не испытывал никакого чувства застенчивости, а напротив, какое-то удовольствие, когда втроем, я, Сережа и Володя, разговаривали в таком месте, из которого видна была Сонечка, о скорой поездке Сережи в Петербург, о которой он говорил как о вещи, которая его нисколько не удивляет, и рассказывая ему разные подробности о нашей деревне и Карле Иваныче, даже когда мне удавалось сказать фразу, которая мне нравилась, я говорил ее громче, чем бы то было нужно, с тою целью, чтобы меня слышала Сонечка.6 Но когда мы вышли в залу и ни мне не видно было маленькой Валахиной, ни ей меня, я заметил, что я не находил больше никакого удовольствия говорить с Сережей; а напротив, мне7 было тяжело слушать его рассказы о своем удальстве и о том, что он курит трубку потихоньку и не намерен быть бабой и слушаться баб. Должно быть, под этим названием разумел свою родительницу.
Приехали, наконец, и Ивины. — Не могу описать того8 приятного впечатления, которое произвел на меня один звук его голоса в передней; я9 в восторге побежал к двери и пожал руку Петра. Только пожал руку; но сколько бы я дал, что<бы> мочь расцеловать его. — На мое несчастие, с другими детьми мы не находили стыда целоваться, когда здоровались; но с Ивиными10 в наших отношениях был какой-то особенный образ обращения. Мы старались как можно больше быть похожими на больших людей, дружных между собою. — Сколько лишений мне стоил этот дух мужества, который, бог его знает каким образом, закрался в наши отношения. — Я впоследствии заметил, что род отношений между людьми образуется столько же вследствие их характеров, сколько и вследствие незаметных обстоятельств, имевших влияние11 на их первое свидание. — Я более всего любил видеть Ивиных у нас, потому что обязанности хозяина позволяли мне оказывать им больше внимательности и любви, не возбудив упрека (весьма обычного, по моим тогдашним детским понятиям) в нежничестве. — 12Я воспользовался этим правом, чтобы несколько раз пожать
- 339 -
Петрушину руку, помочь ему снять бекешу, поправить ему воротнички и сказать, что я ужасно рад, что они приехали; потом, что у нас прескучный мальчик князь Корнаков и куча девочек.
ГЛАВА 21. БАЛ
— О, да у вас, верно, танцы будут, — сказал Петр, выходя из гостиной, в которой, несмотря на свою приятную наружность, отдал общую дань застенчивости. — Надо перчатки надевать, — прибавил он, доставая из кармана новую пару лайковых перчаток.
— Ну, вот вздор, — сказал я, взяв его за локоть и направляя к двери на верх, — еще успеем сыграть в солдатов — пойдем на верх, я тебе покажу, какая у нас перемена.
— Пойдемте, пойдемте;1 есть у вашего немца трубка? — прибавил Etienne, неуклюже резвясь и тоже хватая за руку Петра. — Эта вольность со стороны мальчика, который только что познакомился с моим возлюбленным Ивиным, мне показалась неуместною, и я, отстранив несносного князя, повел Петра на лестницу.2 Я заметил, что он тоже заглядывался на Сонечку, и, может быть, от этого так торопливо вел его на темный верх.
— Où allez vous, Pierre?3* — послышался за нами сдержанный вежливостью голос гувернера. — Vous voyez, qu’on dansera. Haben sie ihre Handschuhen?4*
Гувернер Ивиных был тоже немец; но совсем другого покроя, чем наш добрый старый Карл Иваныч; он довольно чисто, но книжно говорил по-русски и с дурным выговором, но правильно но-французски. Все говорили, что он очень учен, и его звали не по имени, а по фамилии; он был молод, носил черный5 с синими концами шарф6 на шее, зашпиленный большой золотой булавкой (воротничков не было), черный новомодный фрак, не такой, как у Карла Иваныча, с буфами на плечах, и такие панталоны, что мускулы ног ясно обозначались. Мне даже кажется, что он7 больше, чем «ученостью», дорожил своими ляжками и икрами и считал8 действие этих преимуществ своего сложения неотразимым для прекрасного пола. — Часто, когда он стоял на месте, он, слегка сгибая колени и9 с быстротою выпрямляя их, приводил в движение свои икры,10 продолжая это колебательное движение довольно долго, оно возбуждало во мне одинаковое удивление, как и движение пальцев Якова. — Несмотря на все это, я не променял бы добродушного старого Карла Иваныча на 2-х таких молодых немцев с их ляжками и икрами. «Боже мой, — подумал я, — ведь перчатки-то точно нужно — как быть?» Я11 побежал один на верх, перерыл все комоды; но нашел только в одном теплые наши зеленые рукавицы и теплые перчатки, в которых мы ходили гулять: а в другом — одну12, но запачканную лайковую перчатку, которая слишком была для меня велика и сверх того средний палец был отрезан (должно быть,13
- 340 -
в давнишние времена Карлом Иванычем для обрезанного пальца). — Однако я надел ее на руку — середний палец проскочил в дыру, и я долго стоял в задумчивости, разгибая и сгибая этот палец и рассматривая то место, где он был запачкан чернилами.
— Нельзя же так идти вниз, — думал и говорил я. — Как быть? Вот ежели бы была Наталья Савишна, у нее, верно, нашлись бы, а теперь я пропал — да... пропал, мне нельзя будет танцовать... все будут спрашивать, отчего я не танцую. Что мне сказать? И Сонечка Валахина будет с другими танцовать; и я буду смотреть, как дурак. Вот тебе и поэт... стихи написал. Это ужасно, — сказал я, поставив сальную свечку в отворенный ящик комода, просунув безимянку в отверстие срезанного пальца и стараясь расширить это отверстие.
Внизу послышались звуки музыки, я вскочил и бессознательно стал1 бегать по всем комнатам и искать перчаток — в тетрадях, под глобусом, между сапогами; но там ничего не могло быть. — В это время вбежал Володя.
—2 Что ты здесь делаешь, иди скорей и ангажируй даму — сейчас начнется.
— Володя, — сказал я ему, взяв его левой3 рукой за плечо и показывая другую с двумя высунутыми пальцами, голосом, близким к отчаянию, — у нас нету.
— Чего нету? — сказал он с нетерпением.
— Как чего нету? — 4отвечал я, почти расплакавшись, — разве можно с этим?.. — и придвинул к его глазам правую руку.
— А, перчаток? — сказал он, нимало не задумавшись, — и точно нету — надо у бабушки спросить, — и он побежал вниз.
Уже испытав раз, как тяжело входить одному, я побежал вслед за ним. — Бабушка говорила с гостями, мы5 осторожно тихими шагами обошли кругом, и я остановился подле самого волтеровского кресла, ожидая удобной минуты сказать ей о моем затруднении и6 сожалея, что я принужден напомнить ей ее ошибку и тем, как я полагал, очень огорчить ее.
— Бабушка, — сказал я почти шепотом, притрогиваясь до ее мантилий. — Что нам делать? у нас перчаток нет.
— Что, мой друг?
— У нас перчаток нет! — повторил я, положив и другую руку на ручку кресел, чтобы ближе говорить.
— А это что? — сказала бабушка, взяв меня за правую руку, с которой я забыл снять перчатку и в которой самым глупым манером торчали два пальца. — Voyez, ma chère7*, — сказала она, обращаясь к Валахиной, своим обыкновенным протяжным голосом и, несмотря на мое сопротивление, притягивая8 мою руку на видное место, —comme il s’est fait
- 341 -
élégant pour danser avec votre fille. J’espère, chère Sophie, que vous ne refuserez pas à un cavalier si bien gentil la 1-re contredanse1*.
2 Лицо бабушки было серьезно по обыкновению, и она держала меня за руку до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено. Сначала я краснел, бессмысленными взорами смотрел на всех, в особенности на запачканный чернилами середний палец; положение было бы неприятно, ежели бы общий смех, и в особенности Сонечки, у которой от звонкого чудесного смеха навернулись слезы на глаза и3 букли так4 прыгали вокруг ее раскрасневшегося личика, что нельзя было равнодушно смотреть, заразил и меня. Я от души расхохотался5, тем более что был уверен, что все приняли мою выходку за забавную шалость, а не за неловкость6. Мне ничуть не совестно было за свои пальцы перед Сонечкой; напротив, общий наш смех от одной причины7 познакомил нас между собою, и я, как только бабушка меня выпустила, решился пригласить ее на кадриль. Она сказала, что танцует первую, я что-то пробормотал непонятное, чего бы и сам никак не мог объяснить; но она поняла меня и сказала, что мы танцуем 2-ую.
— Ежели вам дамы прощают, что вы без галстуков, так простят тоже, что и без перчаток, — сказал папа.
Не могу не заметить здесь отличительной черты того чувства, которое возбуждала во мне Сонечка и Петр. Что Сонечка видела, в каком я сначала был смешном положении и как растерялся, — это меня не беспокоило, и я был уверен, что это обстоятельство не помешает мне ей понравиться; но меня мучала мысль, не видел ли этого Петр. В его мнении8 всякая слабость, всякая наклонность, не согласная с мужеством, которым в особенности я желал блестеть в его глазах, должна была потерять меня. Впрочем, в эту минуту я почти ни на кого не смотрел, кроме на Сонечку9, и так как эпизод перчаток имел для меня весьма благое влияние, поставив меня на свободную ногу в кругу, который для меня казался самым страшным, я не чувствовал застенчивости. Самое тяжелое для людей застенчивых — это10 неизвестность мнения, которое составляют обо мне новые лица. Теперь меня все видели и даже обратили особенное внимание, я больше ничего не боялся.
Как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня с неуклюжим Этиеном (который хотя и был в перчатках, все-таки был гадок) танцовали первую кадриль! Как она мило улыбалась, когда в chaine подавала мне руку! (Как будто мы век были знакомы, может быть, она улыбалась, вспоминая мою смешную фигуру с перчаткой; но ежели бы она надо мной смеялась, я бы не обиделся.) Как мило, в такт, прыгали на чудесной ее головке русые кудри! Как мило делала она jeté-assemblé своими крошечными ножками в козловых башмачках с ленточками! Все
- 342 -
это под музыку старой кадрили из водевильных мотивов — Папа милый трубочист и т. д. — музыку, которую я век не забуду1.
Как я был счастлив, что танцовал против нее и сверх того мог ее заставлять улыбаться, когда хотел. — В 5-й фигуре, когда я делал соло, она смотрела с серьезными <глазами>, но и в сторону — должно быть, жалея меня, чтобы я не растерялся. — Я выступил было тоже с серьезным лицом, но на половине дороги вспомнил о перчатке и показал ее ей. С какой милой улыбкой посмотрела она на меня и как весело запрыгали на ципочках козловые башмачки, и когда мы все делали круг и взялись за руки, как мило она, не вынимая своей руки из моей, нагнула головку и почесала носик о перчатку. — Все это я помню и никогда, никогда не забуду.
Когда перед началом 2-й кадрили мы уселись на приготовленные мною стулья, я чуть-чуть было не испортил все дело, захотев блеснуть французским языком.
— Vous êtes2 une habitante de Moscou, m-lle?3*— сказал я, помолчав немного и неловко усевшись рядом с ней на стуло.
— Oui, m-r, — отвечала она мне холодно, — mais nous passons ordinairement l’été à la campagne4*
— Vous êtes native de5 ce gouvernement6*? — продолжал, сильно рассчитывая на эффект слова native.
— Oui, m-r7, c’est pour la première fois que vous êtes à Moscou?8* — спрашивала она.
— Je n’ai encore jamais fréquenté la capitale9* — возразил я, желая окончательно убедить ее в моем высоком знании французского языка словом fréquenté и принимая позу посвободнее и поживописнее на своем стуле.
Я чувствовал, что в великосветском духе я не в состоянии продолжить больше разговор и что ежели не скоро начнется кадриль или она выведет меня из этого тяжелого положения, я принужден молчать все время. Я с беспокойством смотрел ей в глаза, ожидая от нее помощи и желая знать, какое впечатление произвел мой французский язык. «Недаром, — думал я, — хотя я желал этой кадрили, мне так ужасно было становиться на место.»
— Где вы нашли такую перчатку? — спросила она меня, улыбаясь.
Я с радостью объяснил, что эта перчатка, должно быть, принадлежит Карлу Иванычу, и взошел в некоторые подробности насчет самого Карла Иваныча и рассказал, как он раз упал с лошади10 в лужу в синей бекеше.
— А вы ездите верхом? — спросил я.
- 343 -
— Один раз только, — сказала она грустным тоном, — мамаша мне позволила и теперь больше не хочет, а как весело и какая у меня лошадка!
Я не заметил, как прошло время кадрили, разговор о лошадях, о гувернантке, о деревне, о грибах был так интересен и занимателен для меня, что я говорил бойко и, должно быть, забавно, потому что она улыбалась. — Мысль, что она старается не конфузить деревенского мальчика, говоря о балах, театрах, вещах, которые он не понимает, а старается со мною на один уровень, тревожила1 меня, и я несколько раз старался завести опять разговор с французскими фразами о спектакле и балах — разговор, который казался мне одним приличным при звуке музыки; но она останавливала меня и наводила на рассказы о сестре, о беготне по зале, о Наталье Савишне и т. п. — Я намекнул ей, как не нравится мне князь, она в ответ только выдвинула губки; и я был очень доволен. Удивляюсь теперь, как я решился сказать ей, что я никогда так не веселился, как нынешний вечер, и что буду всеми средствами стараться видеть ее как можно чаще. — Когда окончилась кадриль, она мне сказала «merci» с таким выражением, что я пришел в восторг и сам не мог узнать себя. Откуда взялась у меня смелость, я ходил после кадрили по всем комнатам, где были гости, ни на кого не обращал внимания, толкал многих и думал: «нет вещи, которая теперь могла бы меня сконфузить, — я готов на все».
В 4-й кадрили Петя Ивин танцовал с Сонечкой и просил меня быть vis-à-vis.
— Хорошо, — сказал я гордо, — хотя у меня нет дамы, я найду. — Окинув орлиным взглядом залу, я заметил, что почти все дамы были взяты, Sachinette Алишкеева стояла у двери гостиной и к ней подходил большой смуглый молодой человек Каратов, как я заключил, с целью пригласить ее — он был от нее в 3 шагах, а я на противуположном конце залы. — В мгновение ока, скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, поклонившись, твердым голосом произнес:
— Voulez-vous m’accorder cette contredanse, m-lle?2*
Sachinette, улыбаясь, подала мне руку, и Каратов остался с разинутым ртом без дамы. — Я имел такое сознание своей силы, что даже и не заметил этого торжества; но я после узнал, что Каратов спрашивал, кто тот взъерошенный мальчишка3, который проскочил у него между ног (это была неправда) и так дерзко отбил у него даму.
Странное чувство испытывал я, глядя на Сонечку и Петра, когда они танцовали против меня. Они оба заняты были друг другом4, говорили и смеялись беспрестанно. Я ревновал их обоих, одного к другому, и вместе с тем5 я их так любил, что мне тоже приятно было видеть, что они вместе и что понравились друг другу. Нельзя было не чувствовать этого удовольствия, глядя на6 них, так они были милы и шли один к другому. Я охотно пожертвовал бы собой для их счастия. Так как я неотступно
- 344 -
следил за ними глазами, они тоже изредка взглядывали на меня. Меня мучила мысль, что они говорят и смеются обо мне; хотя теперь я убежден, что они нисколько обо мне не думали, а взглядывали на меня по тому невольному чувству, которое заставляет оглянуться на человека, который пристально на вас смотрит. — На мазурку Сонечку ангажировал брат — я опоздал. Сонечка Валахина была царицей бала — все мальчики наших лет, которые тут были, не спускали с нее глаз. Как и всегда, некоторые действительно были влюблены — Петр, И. Ивины, Володя, я, Этьен; другие приглашали ее танцовать и занимались ею потому только, что общее внимание было обращено на нее. Петр после кадрили взял меня за руку и таинственно сказал: «Какая прелесть Валахина».
Заиграли мазурку; бабушка вышла из гостиной1; прикатили мягкое кресло, и бабушка уселась в углу залы. Дамы у меня не было, да и зачем мне была дама; я подошел к бабушке.
— Что, весело ли тебе, мой милый поэт? — сказала бабушка, взяв меня за руку. Я ничего не мог больше сказать от полноты чувств, как только:
— Ах, как я вам благодарен, бабушка, — и нежно поцеловал ее руку.
— Очень рада, mon cher2*, — сказала она, разбирая с большою медленностью конфеты, которые держал на большом подносе перед ней лакей.
В первой паре танцовал Каратов с Sachinette. Я с большим любопытством и вниманием смотрел на движения ног Каратова, но решительно не понимал, что он делает. — Не было никакого общего правила в па, которые он выделывал, то прыгал он на одном месте, то поворачивался боком, раздвигая ноги, то несколько раз прыгал на одной ноге, то вертелся с своей дамой; но общее выражение танца было хорошо. «Как же, — думал я, — Мими нас учила танцовать мазурку, делая круглые покойные па на ципочках, которые она называла pas de Basques.» Прежде я желал, чтобы меня выбрала Сонечка; а теперь3 с трепетом думал, что я стану делать, когда, держа ее за руку, выйду на середину залы; ежели я стану делать эти глупые круглые па Мими, меня все осмеют; потому что вот и Ивин танцует так же, как Каратов. Как-то сделает Володя? И я боялся за него, а сам спрятался в дальний угол за бабушкино кресло. «Удивительная способность и смелость у Володи», — думал я, глядя на него, как он сейчас перенял па Каратова и4 не только прилично, но даже ловко и красиво прошел круг с Сонечкой. — Хотя, как я сказал, я боялся за него и желал ему добра, но5 мне неприятно было видеть, как он искусно6 и скоро преодолел эту трудность и как папа, сидя тоже в зале, любовался на него. Я ожидал, что меня непременно выберут, и ежели бы Володя делал pas de Basques Мими, я бы мог заключить — сойдут ли они или нет? и ежели нет, то в какой мере они будут неуместны. Теперь у меня не было и этой надежды, и я забился еще глубже в свой угол. — Мне так было хорошо в этом уголке, и Сонечка, которой я не переставал
- 345 -
любоваться, была так мила, когда в углах залы кавалер, припрыгивая, приостанавливался, а она своими маленькими ножками торопливо перебирала, чтобы догнать его, что я забыл обо всем и даже об угрожающей мне опасности. — Под конец мазурки, когда музыканты уже по крайней мере в 30 раз лениво играли ту же мазурку и лакеи, избегая танцующие пары, стали проносить приборы в задние комнаты, Sachinette (я прощаю ей)1, должно быть, чтобы угодить бабушке или отомстить мне за то, что я лишил ее удовольствия танцовать с Каратовым, делая фигуру цветы, вышла на середину зала, выбрала одну из бесчисленных княжон и Сонечку, за которой я следил, с самой любезной улыбкой подошла ко мне и сказала: «Rose ou hortie?»2* тоже очень приятным голосом.
— А, ты здесь, мой дружок, — сказала бабушка, которая прежде и не замечала меня, — иди же, иди.
Не желая осрамиться перед Сонечкой, я думал, что выбираю княжну, когда сказал hortie, но, против моего ожидания, Сонечка с веселой улыбкой подала мне руку и тотчас же пустилась на своих маленьких ципочках вперед, ожидая что я, как и другие, исполню все условия кавалера, танцующего мазурку. Но несмотря на то, что я знал, что pas Мими должно меня погубить,3 знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые передали это движение ногам, и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали на ципочках выделывать круглые, фатальные pas de Basques. Когда мы шли прямо, Сонечка могла заметить мои странные pas только по непривычному для нее колебанию ее руки в моей (и я заметил, что она посмотрела на мои ноги); но на повороте, так как я видел, что ежели я не оставлю эти глупые па Мими, то я непременно уйду вперед, поэтому я, дойдя до поворота, хотел сделать такую штучку, которые так удачно делал Каратов и др. Это отчаянное движение окончательно погубило меня. Вместо красивого па в моем замешательстве я стал делать4 такие невероятные и нелепые прыжки без такту, что совершенно растерялся — остановился и взглянул вокруг себя, чтобы знать, кто меня видел? — Разумеется, все. Несчастия других нравятся людям. — С одной стороны я увидал обращенными на себя улыбающиеся глаза Петра, с другой Володя делал мне знаки и с третьей я видел, как папа, краснея за меня, встал с своего места, подошел ко мне, взял меня за руку и сказал, нагнувшись, и мне на ухо сердитым тоном:
— Il ne faut pas dansez, si vous ne savez pas5*, — и чтобы скрыть это6, он взял руку Сонечки и при общем одобрении всех присутствующих прошел с ней два круга мазурки, молодецки притопывая и припрыгивая, и привел ее на место.
Я не имел уже духа возвратиться на свое место и пройти залу; а забился с самыми мрачными мыслями в ближайший угол. — Что было всего хуже — это то, что Сонечка все время, как я делал глупые прыжки,
- 346 -
с сожалением и любопытством смотрела на мои ноги. — Перейти от счастливого и спокойного положения духа, в котором я за минуту находился, к тяжелому чувству сознания своего унижения было ужасно. — Ежели бы была возможность1 покуситься на свою жизнь, в эту минуту я не поколебался бы.2 «Господи, за что ты меня наказываешь, — думал я, — теперь все для меня потеряно, теперь все презирают меня и всегда будут презирать. Теперь мне закрыта дорога ко всему, что составляет счастие, — к любви, к веселью, к почестям — все пропало! Но и я теперь никого не буду ни любить, ни жалеть — они все радовались моему падению, — говорил я, стиснув зубы. — Зачем папа вскочил и схватил меня за руку, он хотел обидеть меня и уничтожить. За что? Ежели бы он оставил меня, я бы дошел как-нибудь до места и никто бы не заметил. Зачем дурак Володя делал мне знаки? Разве знаки могли помочь мне? А все по ним заметили. Нет, он злой и дурной брат и не понимает и не любит меня. — Петр улыбался, ему было весело смотреть на мои страдания. И я мог его так любить! Никто меня не любит — одна maman, а ее нету. Лучше бы было век жить в деревне, и опять воображение рисовало мне знакомые милые картины и лица. И она... хотя чудесная девочка, но злая — она тоже радовалась, когда видела, как я смешался.» — Как я ни хотел рассердиться на нее и не любить, я не мог этого сделать. Я не сердился на нее, а жалел о себе, и мне хотелось плакать.
ГЛАВА ... ПОСЛЕ МАЗУРКИ
Мазурка кончилась; Володя брат и Петр Ивин подошли ко мне и очень деликатно старались3 утешить меня. Они не говорили ни слова о моей деконфитуре (ежели бы я услыхал от них одно слово прямого сожаления, я бы разревелся), а стали толковать о том, как Этьен хвастался своей силой и хотел на пари бороться с кем бы то ни было из нас. В это время он подошел к нам и подтвердил свой вызов.
— Пойдемте сейчас, попробуем, — сказал Петр Ивин Этьену и, взяв меня за руку, потащил на верх. Хотя Корнаков был довольно силен по летам, но так как все были против него, ему во время борьбы досталось порядочно: кто-то ударил его по голове лексиконом Татищева так сильно, что у него вскочила пресмешная красная шишка. Борьба (или скорее драка4, потому что всегда переходило в это), к которой я всегда имел большую склонность, проба силы, шум, крик и беготня разгуляли меня и заставили почти забыть мою неудачу, тем более что в упражнениях этого рода, несмотря на то, что я был моложе всех, я был одним из первых. Нас позвали ужинать, и я, оставив все мизантропические планы, побежал вниз. — За ужином, когда дворецкий стал5 разливать из бутылки, завернутой салфеткой, шампанское, мы встали и с налитыми бокалами подошли к бабушке еще раз поздравлять ее. Не успели мы этого сделать, как
- 347 -
раздались звуки гросфатера и зашумели отодвигаемые стулья. Я думаю, что я не решился бы позвать Сонечку на гросфатер, ежели бы не заметил, что Этьен с своей шишкой1 подходит к ней. — В первой паре пошел папа с2 какой-то дамой, и так как3 не нужно было ни вспоминать старые па, ни учиться4 новым в этом танце и притом я был разгорячен борьбой и бокалом шампанского, я не чувствовал никакой застенчивости и был весел до безумия.
Я теперь делал самые смелые прыжки5, нимало не заботясь о том, какой они будут иметь вид; и я уверен, что я не был смешон. Сонечка хохотала6 беспрестанно, и когда я вертелся с нею рука с рукою, и когда мы проходили по задним комнатам, и когда7 старый барин с усами и с перстнем, который сидел подле папа за обедом, тихо шагал через платок, как будто это было очень трудно, и когда я вспрыгнул8 чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость, ее звонкий симпатичный смех и этот быстрый переход от отчаяния к веселью делали меня совершенно счастливым. — Когда мы проходили через бабушкин кабинет, я не мог удержаться, чтобы не взглянуть в трюмо. — Хотя я был весь в поту9 и вихры торчали больше чем когда-нибудь, я остался удовлетворен общим выражением своего лица: серые глаза мои так блестели и все выражение лица было такое веселое, беззаботное, молодое и здоровое, что я никогда не видал себя таким; тем более что, когда смотрелся в зеркало, принимал обыкновенно выражение серьезное и от этого неестественное и глупое. «Ежели бы я всегда был такой, я бы не мог отчаиваться понравиться»; но когда опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое удовлетворило меня в моем, столько нежной красоты, что я совершенно отчаивался когда-нибудь обратить на себя внимание такого чудесного создания.10
- 348 -
Перед нами шел Петр Ивин и часто оглядывался и старался начать разговор с Сонечкой; но она отвечала ему холодно и отрывисто и продолжала говорить со мною. — Хотя я чувствовал1 огромное преимущество Петра надо мной2 (потому что я его любил), но думал: «Почем знать — бывают странные вкусы — может быть,3 черные глазки и русые кудри Петра, которые меня пленили, ей меньше нравятся, чем мои........ Что мои? — спрашивал я сам себя. — Вихры и зеленые глаза? Что во мне может нравиться? Ничего; а она видит, какое4 для меня большое наслаждение ходить и говорить с одной ею, и не хочет лишать меня его........ Одно, чем я могу понравиться, — сказал я сам себе, подумав немного, — да, одно преимущество, которое я могу иметь перед Петром и перед всеми, это то, что я ее больше всех люблю. Да, я влюблен — влюблен страстно в нее и так, как никто не может быть в нее влюблен, и она не может не оценить этого, ежели5 понимает меня». Я был совершенно счастлив, мне не то чтобы хотелось смеяться, напротив, смех, я уверен, испортил бы мое состояние, не то что хотелось плакать — не об чем было! Но чего-то хотелось. Хотелось бы всем показать, что я чувствую. Но словами высказать того, что я чувствовал, нельзя было, одним словом, надо было вылить как-нибудь свою душу, иначе я не умею выразить этого чувства — душа улыбалась. — Когда мы проходили по коридору мимо чулана под лестницей, какое бы счастие было, думал я, весь век просидеть с ней в этом темном чулане, но это невозможно — она уедет через ¼ часа, и бог знает когда мы с ней увидимся. Мы шли в последней паре, я пошел тише и решился сказать ей все. Но что сказать?
— Никогда для меня не было счастливее... веселее дня, как нынешний, — сказал я, испугавшись6 не того, что сказал, а того, что думал сказать, и прибавил шагу.
— Да, очень весело, — сказала она, обративши ко мне головку с таким добрым выражением, что я перестал бояться.
— Особенно гросфатер; но это последний, вы сейчас поедете.
— Да, maman уж вышла из гостиной — сейчас меня увезут, — сказала она, приподняв брови и с грустью.
— Отчего вы нынче не были на бульваре, разве вы не ходите гулять?
— Нынче у меня были классы — скучная m-me Sophie, но по вторникам и пятницам maman всегда берет меня на Тверской бульвар в 2 часа, — сказала она, особенно ударяя на слово «всегда». Она в это время не смотрела на меня, проводя7 пальчиком по палочкам8 ширм, мимо которых мы проходили. «Она меня поняла», — подумал я.
— Во вторник непременно мы будем иметь удовольствие вас встретить — ровно в два?
- 349 -
— Знаете, — сказала она, толкнув ножкой виноградинку, которая лежала на дороге (я смотрел на ее ножки в это время и с страхом ожидал того, что она скажет), — я с мальчиками, которые к нам ездят — с Масловыми, привыкла говорить «ты»; давай говорить ты друг другу, — и, встряхнув головкой, она весело посмотрела на меня.
Я не смел верить своему счастию и продолжал смотреть на ножки, которые побежали скорее, потому что началась другая часть1 гросфатера.
— Давай..... те, — сказал я в то время, как музыка и шум могли заглушить мои слова.
— Давай ты, — сказала она, — а не давайте.
Грубое ы, и которое2 она старалась произнести как можно грубее, было удивительно нежно в ее хорошеньком ротике.
— Иди, тебе начинать, — сказала она3 громко и при всех. Мне было бы приятнее, ежели бы она сказала тихо.
Гросфатер кончился, и я не успел сказать фразу с «ты», хотя не переставал ломать голову, чтобы придумать такую, в которой местоимение это повторялось бы несколько раз. «Тебе начинать» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение; я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. — Видел я, как мать рассматривала ее — не слишком она разгорячена и может ли ехать? Как она, как кошечка4, ласкалась к ней. Видел я, как подобрали ее локоны и заложили их ей за уши и открыли места ее лица около ушей и часть висков, которых я еще не видал. Эти новые места были еще лучше уже мне известных. — Помню я, как укутали ее в платок так, что ежели бы она своими розовенькими пальчиками не сделала бы себе отверстия около рта, она верно бы задохнулась. — Видны были только глаза и кончик носика; но и это, что от нее осталось, было чудо как мило, особенно когда она, спускаясь по лестнице, повернулась к нам, кивнула головкой и опять очень скоро оборотила голову. — Мы все стояли на лестнице, и Володя, и Ивины, и Корнаков. Кому она в особенности кивнула, не знаю. В ту минуту, однако, я был убежден, что это было сделано для меня.
Удивительно, что, хотя я очень хорошо знал, что она уехала, но смотрел на всех оставшихся гостей — не видал их, а искал ее глазами.
Хотя и никого не замечал, но после я вспомнил, что Петр Ивин был особенно весел, хорош и мил для меня в этот вечер. Он дал мне rendez-vous в понедельник на бульваре, уговаривал нас проситься к ним в среду, говорил мне, что без меня никакой игры не устроится, одним словом, занимался мной, как прежде я им. Роли переменились. На все его любезности я отвечал не холодно, но и не с прежней пылкостью и показывал ему своим взглядом, что все это нисколько не льстит мне. — 5Он бессознательно кокетничал передо мной и старался поддержать во мне то чувство обожания и преданности, которое прежде я к нему питал и которое, должно быть, ему нравилось; или нравилась власть, которую это чувство давало ему надо мною.
- 350 -
ГЛАВА 22-ая. В ПОСТЕЛЕ
Карла Иваныча еще не было — мы улеглись.
«Как мог я так страстно любить Петра Ивина, — думал я, — и, несмотря на его равнодушие, продолжать любить его? Нет — он никогда не понимал меня и не стоил моей любви. Он не любил меня; а Сонечка?.. Тебе начинать... Ах, какая прелесть», — сказал я почти вслух и быстро вскочил на четвереньки1 под стеганым синим2 одеялом, закрыл голову, подвернул под себя одеяло со всех сторон, и когда нигде не осталось отверстий и я почувствовал приятную теплоту, я стал мечтать и мечтать так сладко, так приятно! — С закрытыми и с открытыми глазами я видел в своем уединении под одеялом ее так же ясно, как час тому назад я разговаривал с ней. — Разговор, который я придумывал, не имел3 ни смысла ни значения; но «ты», «с тобой», «тебе», «твои» встречались в нем беспрестанно4.
Мечты эти были так ясны, так сильны, что я не мог заснуть и хотел поделиться с кем-нибудь этим излишком счастия.
— Ду-шка, — сказал я, круто поворачиваясь на другую сторону. — Володя, ты спишь?
— Нет, — отвечал он мне сонным голосом, не оборачиваясь. — А что?
— Я влюблен — решительно влюблен в Сонечку Валахину.
— Ну, что ж? — отвечал он мне тем же спокойным голосом.
— Ах, Володя, ты не можешь себе представить, что я чувствую, я сейчас лежал увернувшись с головой в одеяло и так ясно ее видел, говорил с нею, что это удивительно. И поверишь ли, хоть и совестно признаться, мне, бог знает отчего, хочется5 плакать.
Володя пошевелился.
— Помнишь, мы с тобой говорили про платоническую любовь — ну, именно6 я ее платонически люблю — я ничего не желаю, только бы видеть ее всегда — и больше ничего. А ты влюблен? признайся по правде, Володя, — сказал я, желая его расшевелить7. Мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и все бы говорили это. — Володя повернулся ко мне.
— А тебе что за дело? — сказал он, — может быть8.
Когда он повернулся ко мне, по его глазам я догадался, что он нисколько не хотел спать; а притворялся сонным, для того чтобы я не мешал ему мечтать, должно быть, о том же9, о чем и я.
— Ты не хочешь спать, — продолжал я, откидывая одеяло, — давай говорить об ней. Не правда ли, что прелесть? Такая прелесть, что ежели бы она сказала мне — выпрыгни из окошка или бросься в огонь, я сейчас бы сделал. Ах, какая душка, ангел, — прибавил я, живо воображая
- 351 -
ее перед собой,1 и чтобы наслаждаться этим образом, опять порывисто вскочил на четвереньки и засунул голову между подушек.
— Ужасно хочется плакать, Володя.
— Вот дурак, — сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного, — я так совсем не так, как ты:2 я думаю, что ежели бы можно было, я сначала хотел бы сидеть подле нее, потом хотел бы взять ее за руку, потом стал бы целовать, целовать ее везде.
— Гадости, глупости, — закричал я из-под подушек.
Володя продолжал:
— Руки целовал бы, ноги, рот, уши, глаза..... съел бы ее, — окончил он, брыкнув ногой и щелкнув зубами.
— Да,3 бог знает чего хочется, может быть, и я бы то же сделал4, — сказал я, высвободив голову из-под подушек и с слезами на глазах.
— Только уж плакать я не знаю зачем, — прибавил Володя. — Этого бы я не стал делать. Ты точно девчонка.
Ничто так не оскорбляло меня, как упрек в нежничестве. Я замолчал и стал пристально смотреть на дверь, как будто задумался и не слыхал его слов.
— Знаешь, что я нынче заметил, когда мы были в кондитерской, — сказал я, желая переменить разговор.
— Ну, — промычал Володя.
— Папа любезничал с этой барышней, которая там сидела, и чуть-чуть ее не поцеловал.
— Что ты? — и он облокотился локтем на подушки с видом сильного любопытства.
Я ему рассказал до малейших подробностей все, что видел, и даже по нескольку раз повторил одно и то же; потому что, когда его что-нибудь интересовало, он имел привычку 20 раз спрашивать одно и то же.
— Так ты видел, как он протягивал губы?
— Да.
— И точно хотел5 поцеловать ее? — повторял он, усмехаясь. — Вот он так верно не платонически влюблен, — сказал Володя, помирая со смеху.
— Что ж, по-моему,6 это не совсем хорошо; но, впрочем, нам не надо про это судить, — сказал я, безуспешно стараясь принять серьезный вид, потому что смех Володи действовал на меня.
— Ведь ты бы хотел поцеловать Сонечку?
— Разумеется, — сказал я, побежденный этим доводом, — но ведь это совсем другое дело.
— А как он отлично танцует мазурку... — сказал Володя. — Чудо.
Я вспомнил, как он со мною поступил в мазурке, как он покраснел за меня и в душе обвинял его, хотя не мог бы сказать за что; «maman иначе бы извинила меня, она бы за меня не покраснела — никогда», — думал я.
В это время послышался сильный стук на лестнице: как будто7 человек пять в больших сапогах несли что-нибудь тяжелое наверх и послышался
- 352 -
голос Карла Иваныча; но голос этот имел странное выражение. Он говорил что-то (нельзя было разобрать что) по-русски то1 слишком громко, то слишком тихо, и звуки как-то сливались.
Слышен был умеренный голос Николая: «Калоши извольте скинуть, Карл Иваныч» и потом2 скороговоркой3: «Савелий, поддержи же их». — Вслед за этим что-то тяжелое с стуком упало на землю, и все замолкло. Голос Николая с упреком: «Ах, братец, куда ж ты смотрел. Ну, берись!!» — Голос Карла Иваныча; но как будто у него не было языка:
—4 Где я ...... а ... корошо, очень корошо, благодарю вас, Николай. Ну, что ж, убейте меня, вы злодеи, — вдруг вскрикнул он грозным голосом. Мы переглядывались с Володей, не смея понимать. — В классной послышался знакомый скрип Карла Иванычевых сапогов; но стук шагов был похож на стук шагов лошади, которую вводят на лестницу.
— Я вас обидел, Николай, — говорил Карл Иваныч, — поцелуйте меня, Николай.
Голос Николая: «Позвольте, позвольте», и5 слышно было, что они возились.
— Дай мне свечка, Николай, я знаю свою обязанность — я был в гостей у племянниц, m-me Schönheit, я хмельна; но я знаю свою обязанность, надо смотреть за детьми.
Голос Николая: «Там есть свечка, Карл Иваныч». — Карл Иваныч с сальной свечой, которую он держал не за подсвечник, а за середину, с нахмуренными бровями, но которые беспрестанно дергались, и с ртом набок, из которого текли слюни, взошел в дверь.6 Куда девалась величественная осанка, которая никогда не оставляла его: галстук, в который утром еще так аккуратно впадал его выбритый подбородок, был совершенно перевернут (пряжка была спереди), белый жилет и панталоны были залиты чем-то желтым, синий фрак с буфами на плечах пострадал меньше других частей туалета; но и тот имел какой-то странный вид. Седые волосы на затылке не покрывали, как обыкновенно, плешь спереди, а висели сзади на воротнике, лицо все было выпачкано. Карл Иваныч казался на четверть меньше ростом, чем обыкновенно, и7 ужасно постарел и похудел... Видно было, что он употреблял все усилия, чтобы держать лицо спокойно и идти прямо к нашим постелям; но все лицо двигалось, брови прыгали, щеки отдувались и опускались, а ноги делали все навыворот. Николай шел около его и одну руку держал около спины, а другую около свечки на всякий случай. — Карл Иваныч взошел в пустое пространство между нашими постелями, сначала грозно посмотрел на нас; от него пахло какой-то гарью с уксусом и табаком8; ничего похожего не было с обыкновенным его запахом; потом, убедившись9, что мы спим, он оперся обеими руками о стену даже и той рукой, в которой была свечка, — сало потекло по стене, и свечка10 потухла; горячий фитиль остался11 в его ладони и, должно быть, обжег его ужасно; но он хладнокровно посмотрел на свою ладонь, потом опять на нас, стал улыбаться
- 353 -
и выговорил1 с милым сердечным выражением: «liebe Kinder»2*, но в это самое время я с ужасом услыхал, как забурчало у него в животе, потом в горле; он стал вытягивать шею, подаваться вперед и как будто хотел бодать стену......... Когда Николай с Савелием унесли его и вычистили следы его присутствия — «так вот как Карл Иваныч в Москве испортится», подумал я. «Ах, какой ужас», у меня пробежал мороз по коже, и я вздрогнул с отвращением, когда вспомнил, что сделалось из всегда спокойного, величавого, доброго старика, Карла Иваныча. Несмотря на этот отвратительный эпизод, я заснул, мечтая о Сонечке.
[ГЛАВА 24-я] ПРОДОЛЖЕНИЕ 23-й ГЛАВЫ
3 10 лет после того дня, как было написано это письмо, я4 имел его в руках. Много раз перечел я его, много5 провел часов, размышляя о нем и стараясь понять6 то, что чувствовала maman в то время, как она его писала, и много, много пролил я над ним слез — слез печали и умиления. Вот что значило это письмо: тяжелое, грустное предчувствие со дня нашего отъезда запало в душу maman, но7 она так привыкла не думать о себе, а жить только счастием других, что, предчувствуя несчастие8, она думала только о том, чтобы скрыть это предчувствие от других, и молила бога о том, чтобы несчастие это постигло ее одну. Для нее одной не могло быть несчастия: она жила в других9. Наталья Савишна10, которая обожала ее, наблюдала за ее11 всеми поступками и движениями и понимала их так, как наблюдают и понимают только те, которые страстно любят, говорила мне, что она вскоре после нашего отъезда заметила перемену в maman. Она была как будто веселей, беспрестанно занималась чем-нибудь, не сиживала, как прежде, когда, бывало, папа уезжал, в его кабинете после чаю, не грустила, а очень много читала, играла и занималась девочками12. Когда же занемогла, то, по словам Натальи Савишны, только во время бреду бесперестанно молилась и плакала; а как только приходила в себя, то была чрезвычайно спокойна и всем занималась: расспрашивала обо всех подробностях, касавшихся до девочек и даже хозяйства.
Судя по рассказам Натальи Савишны и по первой части письма, мне кажется, что ее ужасала мысль, что она будет причиною горести для людей, которых она так любила; внутренний же голос предчувствия не переставал говорить ей об ужасном будущем. Она старалась подавить этот голос постоянной деятельностью, старалась не верить ему, однако верила13, потому что старалась скрывать.14 Люди добродетельные не умеют скрывать своих чувств; ежели они хотят лицемерить, то делают слишком неестественно. В первой половине письма видно желание показать совершенное душевное спокойствие, когда она говорит о Максиме, об belle
- 354 -
Flamande1* и т. д., но зато в иных местах, где она говорит о примечании Натальи Савишны, просит отца обещаться никогда не отдавать нас в казенное заведение и говорит о весне, ужасная мысль, которая не оставляла ее, проявляется и делает странный контраст с подробностями и шутками о приданом Любочки и с словами о весне. Maman увлекалась в противуположную крайность: желая скрыть и подавить свое предчувствие2, она забывала, какое для нее могло быть горе не видаться с отцом и с нами. — У maman были странные понятия о воспитании в учебных заведениях, но, может быть, потому, что я привык чтить ее слова и верить им, они мне кажутся справедливыми. Она почитала их вертепами разврата и жестокости. Мысль о том, что дети переносят побои от наставников в таких заведениях, в особенности ужасала ее. — Из моих дядей (братьев maman) один воспитывался в учебном заведении, другой дома. 1-й умер человеком хилым, развратным3; другой самым добродетельным. Должно быть, этот пример в своем семействе был причиною этого отвращения. Впрочем, были и другие основания, из которых она большую часть4 изложила в своем5 письме.
Наталья Савишна, которая всю ночь 12 апреля провела в спальне maman, рассказывала мне, что, написав это письмо, maman положила его подле себя на столик и започивала.
— Я сама, — говорит Наталья Савишна, — признаюсь, задремала на кресле, чулок вывалился у меня из рук. Только часу в 1-м слышу я сквозь сон ее голос — как будто он с кем разговаривает — я открыла глаза и вижу, что она сидит на постели и слезы в 3 ручья так и текут. «Так все кончено?» — только я расслышала она сказала, как будто спрашивала у кого-нибудь, и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала ее спрашивать: «Что с вами?»
— Ах, Наталья Савишна, коли бы вы знали, что я сейчас видела! — Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик, дописала письмо, при себе приказала запечатать и отправить, и уж после начался бред и жар.
Maman была очень религиозна; но в двух случаях чувство ее не сходилось с учением веры, и эти несогласия всегда были для нее упреком. Она не могла верить, что со смертью душа перестает любить тех, кого любила, и не верила в вечные мученья ада. «Вечные мученья, — говорила она, упирая на слово «вечные» и растягивая его с ужасом и горем, — этого не может быть.» Одно из этих сомнений она выразила в письме своем. Предчувствуя смерть, она разрешила его и убедилась в том, что не умирают чувства. Другое сомнение, ежели было ложно, я думаю, простится ей.
Что вторая часть письма была написана по-французски, может показаться странным; но надо вспомнить воспитание, которое давали девушкам в начале нынешнего века. Притом у всякого, который говорит одинаково хорошо на 2-х или нескольких языках, есть привычка в6 известном духе и некоторые вещи говорить и даже думать на одном языке, а другие — на другом.
- 355 -
ГЛАВА 25-я. [ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ] НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Maman уже не было, а жизнь наша шла тем же чередом — 1ложились мы спать в те же часы и в тех же комнатах; в те же часы вставали; утренний, вечерний чай, обед, ужин — все было в обыкновенное время, все стояло на тех же местах, только ее не было. Я думал, что после такого несчастия, все должно перемениться, и обыкновенная наша жизнь казалась мне оскорблением ее памяти. Первые дни я2 старался переменить свой образ жизни; я говорил, что не хочу обедать, и потом наедался в буфете не в урочный час.3 Когда пили чай, я уносил чашку в официянтскую комнату, в которой никогда не пили чаю. Спать в старых наших комнатах, наверху, мне тоже было ужасно грустно, я почти не спал и, наконец, попросил позволенья перейти вниз.
Я боялся и удалялся всего, что могло мне слишком ясно напомнить ее. Теперь же я люблю и зову эти воспоминания — они возвышают мою душу.
Накануне погребенья4, после обеда, мне очень захотелось спать, я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее кровати на мягком пуховике, под голубым стеганым одеялом. — Наталья Савишна одетая лежала на своей постели и спала. Когда я взошел, она проснулась, откинула шерстяной платок, которым покрыта была ее голова,5 и, поправляя чепчик, села на край постели.
Так как еще прежде случалось довольно часто, что я ложился на ее постель, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне:
— Что? отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь, — и она встала с постели.
— Что вы, Наталья Савишна, — сказал я, удерживая ее за руку, — я совсем не за этим — я так пришел, да вы и сами устали — ложитесь.
— Нет, батюшка, я уже выспалась (я знал, что она не спала 6 суток)— да и не до сна теперь, — прибавила она с глубоким вздохом.
Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем6 несчастии, я знал ее искренность и любовь, поплакать с нею вместе было для меня отрадой.
— Наталья Савишна, — сказал я, помолчав и усаживаясь на постель, — ожидали ли вы этого?
Наталья Савишна помолчала и посмотрела на меня с любопытством — должно, желая знать, для чего я это спрашиваю.
— Ах, мой батюшка, — отвечала она после, кинув на меня взгляд, полный самого нежного сострадания, — не того, что ожидать, я и теперь подумать-то не могу. Ну, уж мне, старухе, давно бы пора старые кости на покой; а то вот господь наш привел, своего старого господина схоронила, вечная память Николаю Михайловичу, 2 братьев своих, сестру Аннушку схоронила — все моложе меня были, мой батюшка; а вот теперь и ее господь взял от нас7. Его святая воля. — Она сложила руки на груди
- 356 -
и взглянула кверху, губы ее задрожали, впалые голубые, полузакрытые и влажные глаза1 выражали великую печаль, но печаль спокойную2. Она твердо надеялась, что бог ненадолго разлучил ее с тою, которую она любила больше всего в мире. — Да, мой батюшка, давно ли ее на руках носила, ходить учила и она меня Нашей называла, бывало, прибежит ко мне, обхватит мне шею ручонками и начнет целовать и приговаривать: «Наша, красавчик мой, индюшечка, ты меня никогда не покидай и я тебя не покину»3. А вот покинула4, не дождалась меня. И любила она меня, моя голубушка. Да кого она не любила, правду сказать. Да, батюшка, вашу мамашу вам забывать нельзя, это не человек была, а андел небесный5. Когда ее душа в царствии небесном будет, она и там6 будет вас любить, на вас смотреть и вами радоваться.
— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? — спросил я. — Ведь она, я думаю, и теперь уже там.
— Нет, батюшка, — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, — теперь ее душа здесь.
Наталья Савишна говорила почти шепотом и показывала вверх, я следил за ее взорами7. Она говорила с таким чувством, что я не мог не поверить ей и по невольному чувству смотрел на потолок и искал чего-то.
— Вот я вам скажу, мой батюшка, — продолжала старушка, — 2 недели душа бывает в своем доме — она летает везде вот здесь, только ее не видать — потом уже пойдет по мытарствам на 40 дней. — Наталья Савишна, перекрестившись, рассказала мне все мытарства. — А уж после вселится в царство божие. — Я слушал ее молча и притаив дыханье.8 Она говорила про все чудеса неземного царства с такою уверенностью и простотою, как будто она рассказывала вещи, которые сама видела и насчет которых не могло никому в голову прийти ни малейшего сомнения.
— Да, батюшка; а теперь она здесь, смотрит, может быть, на нас и слушает, что мы говорим, — кончила Наталья Савишна и, опустив голову, замолчала. Недолго она молчала, ей понадобился платок,9 чтобы утереть падавшие слезы, она встала и сказала, дрожащим от волнения голосом и прямо взглянув мне в лицо. — На много ступеней подвинул меня этим к себе господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого10 любить?
— А нас разве вы не любите, Наталья Савишна? — сказал я, едва удерживаясь от слез.
— Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков; но11 так, как я ее любила, я никого не любила, да и не могу12 любить. — Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала. Я не думал уже спать — мы молча сидели друг против друга и плакали. Взошел Фока.
- 357 -
1 Видно было, что ему неприятно тревожить нас,2 и он молча остановился у двери.
— Зачем ты, Фокаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком3.
— Изюму 2 фунта, сахару 4 фунта и сарачинского пшена пожалуйте для кутьи-с4.
— Сейчас, сейчас, батюшка, — сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность (а она считала ее5 чрезвычайно важною). — На что 4 фунта, — сказала она ворчливо, доставая сахар, — 3½ довольно будет — уж Ванюшка и рад, что суматоха в доме6. Вчера только отпустила сарачинского пшена — опять подавай7, совести, право, нет.... ну, возьми... на.
Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и8 мелочным рассчетам. Впоследствии, рассуждая об этом, я понял, что, несмотря на все то, что у нее делалось в душе, у нее оставалось еще довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом;9 сила привычки тянула ее к своим обыкновенным занятиям. Она не находила нужным10 скрывать, что она может, несмотря на горе, заниматься посторонними предметами, да никак не поняла бы, для чего некоторые стараются скрыть это. Горе11 редко овладевает душою до такой степени, чтобы все другие чувства исчезали; но ежели оно изгоняет тщеславие (т. е. желание казаться огорченным), то горе очень сильно. — Зачем ей было казаться убитой горестью, она действительно была так убита, что12 ей все было равно. — Выдав сахар, изюм и напомнив13 Фоке о пироге, который надо было приготовить для попов, она отправила его, взяла чулок и опять села подле меня. Разговор14 начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.
Беседы с Натальей Савишной я повторял каждый день, ее тихие слезы и спокойные, набожные речи облегчали мое сердце; но15 скоро нас разлучили — 3 дня после похорон мы все — Мими, Любочка, Катенька — переехали в Москву к бабушке, Наталья Савишна осталась в деревне,16 и мне суждено17 было никогда больше не видать ее.
Бабушка узнала ужасную весть только с нашим приездом. — Горесть
- 358 -
ее была необыкновенна — нас не пускали к ней, потому что она почти неделю была в беспамятстве, ничего не кушала, не спала и не могла плакать. — Доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать лекарства, но1 ни с кем ни слова не говорила. — Иногда, сидя одна на своем кресле, она начинала2 смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. — 3Это было во всю ее жизнь первое сильное горе, которое она испытывала, и горе это перешло в ярость, в злобу на людей и на провиденье. — Ей нужно было обвинять кого-нибудь, и она говорила страшные слова, проклинала бога, сжимая кулаки грозила кому-то, с необыкновенной силой вскакивала с кресел и скорыми шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я взошел в ее комнату, она сидела по обыкновению на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд — она смотрела прямо на меня, но4, должно быть, не видала5. Глаза ее были очень открыты, но взор как-то был неопределенен и туп. — Она начала улыбаться и заговорила6 голосом не протяжным, но трогательным и нежным: «Поди сюда, мой ангел7 — дружок мой». Я думал, она обращается ко мне, и подошел ближе; но она все не видала меня. «Поцелуй меня, наконец-то ты приехала. Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучалась.» Я понял, что она воображала видеть maman, и остановился — она целовала и обнимала воздух, руки ее дрожали. «А мне сказали, что тебя нет,8 вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» — и она захохотала9 истерическим страшным хохотом.10
В голову никому, глядя на печаль бабушки, не могла прийти мысль, чтобы она преувеличивала; и выражения этой печали были ужасны, но не знаю почему — я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что ни на кого не подействовала так сильно кончина maman, как на это чудесно любящее создание.
Только те люди, которые имеют сильную потребность любить, подвергаются и сильным горестям. Эта же потребность любви служит противодействием в горестях и излечает от них.
От этого моральная натура человека еще живучее физической и горе никогда не убивает.
Через неделю11 бабушка могла плакать и ей стало лучше. Первою мыслью ее, когда она пришла в себя, были мы.12
Первые дни мы не отходили от нее, она тихо плакала13, говорила с нами про maman и нежно ласкала нас. — Одно, что ее удерживало в жизни, это была любовь к нам, которая со смертью maman увеличилась. — В образе жизни нашей и в моих чувствах и понятиях произошло много перемен вследствие этого несчастия14. Для меня началась новая эпоха — эпоха отрочества.
- 359 -
Воспоминания же о Наталье Савишне принадлежат к1 детству; поэтому скажу2 еще несколько слов о ней и об ее смерти.
После нашего отъезда, как мне рассказывали люди, которые оставались в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя сундуки все были на ее руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, вывешивать, раскладывать, ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. В привычках ее произошли следующие3 перемены: она каждое воскресенье просила у Якова лошадку и, несмотря ни на какую погоду, ездила к обедне, каждый пост говела, чего она прежде, под предлогом занятий4, старательно не делала, и взяла к себе Любочкину собачку (это была прегадкая5 черная шавка, от которой изо рту очень дурно пахло, уши и хвост были обрублены и звали ее Моськой. Собачонка эта, когда держали кусок сахару над ее головой, умела служить6 на задних лапках; была очень зла7, верна и умна). Прежде она8 ненавидела Моську, не любя в той мере, однако, в какой она могла не любить животное, принадлежащее Любочке.
Наталья Савишна очень полюбила после нашего отъезда эту собачку, взяла ее к себе, клала спать на постель, давала сахару без службы, мыла ее по субботам и чесала ей за ушами. Моська, говорят, платила ей взаимностью и ни на шаг не отходила от нее и не подпускала к ней никого. — Горе и перемена образа жизни — отсутствие хлопот — скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она еще прежде имела склонность. Ровно через год после смерти maman у нее открылась водяная и она слегла в постель. — Грустно было жить после нас и еще грустнее умирать Наталье Савишне одной в большом нашем доме. Хотя ее все в доме любили и уважали, но у нее не было друзей (она всегда гордилась тем, что у ней нет ни кумовьев, ни братьев, ни сватьев, «никому, матушка, за барское добро потачки не даю»). Не с кем было ей поделиться своим горем, поплакать вместе. — Я понимаю, почему после нас она стала набожнее, ей нужна стала собачка и она так полюбила ее. Когда доставало у нее довольно моральной силы, она в молитве — поверяя богу свою печаль — искала утешения, в другие же минуты, когда нужно бывает человеку видеть участие живого существа, она говорила с Моськой и тихо плакала, лаская ее. — Говорят, перед ее смертью замного Моська не переставала, лежа на постели и глядя на нее, жалобно выть. «Полно, Моська, — говорила она, стараясь ее успокоить, — что воешь, дура, — я сама знаю, что скоро умру9». За месяц она достала из сундука белого коленкору10, белой кисеи и розовых лент и11 с помощью своей девушки сшила себе белый капот, чепчик и до мельчайших подробностей распорядилась всем, что нужно было для своего погребения. — Она тоже разобрала барские сундуки, передала их по описи приказчице, Моську отдала тоже ей, и, говорят,12 разлука с Моськой была чрезвычайно трогательна. Потом из своего сундука13 достала 2 шелковых платья и старую
- 360 -
шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, и дедушкин гусарский мундир, шитый золотом, который тоже он отдал ей в полную собственность, как награждение за службу. — Она не спорола серебра и хранила мундир, как он был, в целости,1 благодаря ее заботам даже сукно было не тронуто молью. — Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из платий — розовое — было отдано Володе на халат или бешмет, другое, пюсовое, в клетках, мне для того же употребления, шаль — Любочке; мундир же она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Из 67 рублей ассигнациями денег, которые у нее были, 40 она отделила на гроб и поминанье, а остальные и все другое имущество предоставила брату. Брат ее был гораздо моложе ее, еще дедушкой отпущен на волю и проживал в Москве в дворниках. Поведения он был, как говорили, очень дурного, и поэтому при жизни Наталья Савишна не пускала его к себе на глаза и не имела с ним никаких сношений.
«Хоть он мне и брат, — говаривала она, — а правду всегда скажу — негодный человек, ни бога ни совести в нем нету. Воля погубила его». — Она была больна2 2 месяца, но переносила страдания с истинно христианским терпением — ни разу не жаловалась, но только охала и поминала бога. Впрочем, это было у нее в привычке. — За час перед смертью она исповедалась, причастилась и соборовалась маслом. — Духовника, отца Василья, она просила передать нам и папа, что она благодарит нас за наши милости и что она здесь не переставала молиться за нас богу и там будет молиться. Просила его передать нам, что просит у нас прощенья, ежели в чем обидела по глупости; «но воровкой никогда не была, и уже могу сказать, что барской ниткой не поживилась». — Прощенье, которое она просила, относилось особенно к папа. — Хотя она3 прямо против него ничего не говорила, но никогда не любила его так, как maman и нас — всегда сравнивала его поступки с поступками своих господ, и, разумеется, он терял в этом сравнении, потому что ее господа были для нее идолами. Ей казалось, что он недостаточно любит нас, слишком много тратит денег и всем переменам старого порядка он был главным виновником. — Отец Василий рассказывал мне, что она ему каялась в этом.
До самого конца, надев свой погребальный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она не переставала разговаривать с священником, спрашивала, достаточно ли будет 30 р. на поминание, вспомнила, что ничего не оставляла бедным, достала еще 10 р., просила отца Василия раздать их в приходе,4 сказала, что лучше они за ее душу помолятся, чем брат Игнат их пропьет, потом5 перекрестилась, легла и последний раз вздохнула, произнося имя божие. — Игнат, брат Натальи Савишны, приехал вскоре после ее смерти получать наследство — он думал найти полную кубышечку и всякого добра несметное количество. Против его ожидания всего имущества не оказалось на 80 рублей ассигнациями. Игнат не хотел верить и жаловался папа, что его обокрали. Он говорил: «Как же, старуха целый век
- 361 -
скаредничала, из всякой тряпки дрожала, все в сундук прятала и 60 лет в богатом дому служила. Как же поверить, что всего ее добра только на 80 р. осталось». Игнату не приходила мысль, что Наталья Савишна ничего больше не оставила.
Она не боялась смерти и приняла ее как благо. Да и отчего было ей бояться смерти? Она вполне исполнила закон Евангелия — вся жизнь ее была любовь и самоотвержение. — Ее похоронили по ее желанию недалеко от часовни, которая стоит на могиле maman. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен деревянной1 решеткой. — Я никогда не забываю из часовни подойти2 и к черной решетке, положить земной поклон и помолиться за упокой рабы божией Натальи. — Нет уже больше таких слуг, как3 Наталья Савишна, пропало то семя, из которого они рождались. Да и перевелись дворяне, которые их формировали. Зато теперь есть щеголи4 слуги и служанки, которых не узнаешь от господ, которым не знаешь говорить ли вы или ты, которые танцуют польку, носят золотые часы и браслеты, курят папиросы; но сотни таких с часами и браслетами не стоят и одного ногтя Натальи Савишны. Мир ее праху!
ГЛАВА. К ТЕМ ГОСПОДАМ КРИТИКАМ, КОТОРЫЕ ЗАХОТЯТ ПРИНЯТЬ ЕЕ
НА СВОЙ СЧЕТ5Милостивые государи!
Я выступаю на литературное поприще с великой неохотой и отвращением. Чувство, которое я испытываю, похоже на то, с которым я обыкновенно вхожу в публичные места, куда пускается всякий народ и где я могу без всякой причины получить от пьяного или безумного оскорбление. Почему? Потому что вы, милостивые государи, для меня те, от которых6 на литературном поприще я боюсь получить оскорбление. Слово оскорбление я говорю здесь совсем не в переносном смысле, но в прямом: т. е. я не назову7 оскорблением, ежели вы заденете мое авторское самолюбие; но я говорю о личном оскорблении, которого я вправе бояться с вашей стороны. Когда вы пишете критику на какое-нибудь сочинение в журнале, вы, без сомнения, имеете в виду то, что автор того сочинения прочтет вашу критику (и даже, ежели вы захотите признаться откровенно, рассчитывая впечатление8, которое произведет на читателей ваша критика, вы из всех читателей имеете более всего в виду автора, а иногда его одного).
Писать или говорить такие вещи про какое-нибудь лицо, которые вы не скажете ему в глаза и не напишете ему, значит говорить9 оскорбительные вещи.
- 362 -
Говорить эти вещи в глаза или писать к нему, значит оскорблять то лицо.
1 Писать эти вещи в журналах — то же, что говорить в глаза или писать к нему письмом, потому что, когда вы пишете критику, вы имеете в виду личность автора.
Писать к лицу оскорбительные вещи и не подписывать, называется пасквиль. Следовательно, критикуя NN, ежели вы говорите про него такие вещи, которые не скажете ему в глаза, значит, что вы пишете пасквиль.
2 Про сочинение, которое вы критикуете, вы все скажете в глаза автору, не стесняясь ничем — вы скажете, что книга дурна, что мысль несправедлива, что ссылки неверны, что язык неправилен, что правила орфографии не соблюдены; но вы не скажете автору: «ваша книга глупа», потому что глупую книгу может написать только глупый человек, между тем как дурную может написать хороший человек; вы не скажете, что бессмысленно, что писал ее неуч. Одним словом, вы будете говорить о книге, а не о личности автора, иначе это будет оскорбление. Почему вы в критиках делаете эти оскорбления и еще в виде пасквили, которую вы подписываете общепринятой формулой «мы». Кто эти «мы», скажите, ради бога? Все ли это сотрудники журнала или одно множественное лицо? «Мы советуем г-ну N то-то и то-то», «мы жалеем», «мы желали бы», «это просто смешно» и т. д. Господа «мы»3, теперь я к вам обращаюсь, так как я убежден, что хотя у вас странное имя, но все-таки вы какое-нибудь лицо. Скажите, пожалуйста, ежели вы встретите меня где-нибудь, ну, положим, в концерте, и заметите, что я не брит, вы не подойдете ко мне и не скажете: «мы советовали бы вам сначала обриться, а потом идти слушать музыку», или — «очень жалеем, что вы не надели фрака», или — «мы желаем, чтобы4 вы тут стояли, а не здесь», или — «просто смешно, какой у вас нос». Вы бы не сделали этого, а то бы могли нажить историю, потому что я не поверил бы, что вы фикция «мы», а, критикуя мою книгу, вы мне сказали точно такие же дерзости, хотя я тоже знал, что «мы» кто-нибудь да есть, а не фикция. Вы советовали сначала прочесть то-то, желали бы больше последовательности, жалеете о том, что я не знаю того-то, и не находите, что это просто смешно, что я говорю. — Вспомните библ<иографические> кр<итики> на книги о ершах, на стихотворения неизвестных авторов, на практические книги. Поэтому разве не справедливо то, что я говорю о сходстве литературного поприща с публичными местами?
Вы скажете, что таким литераторам, которые, не зная дела, суются писать, нужны уроки. Разве вы их этим исправите (уже не говорю о том, что все-таки это пасквиль и что вы не имеете на то никакого права). Вы скажете в литературных выражениях, что NN дурак, и он скажет в не менее литературных выражениях, что «мы» такого-то журнала — дурак; по крайней мере, он имеет полное право это сделать. Что ж тут веселого?
- 363 -
Еще больнее читать критику на сочинения хорошие. Хотелось бы знать, кто разбирает сочинения Дружинина, Григоровича, Тургенева, Гоголя, Гончарова — советует1 им, жалеет о них и желает им? Все этот роковой «мы». Он не выйдет из своего инкогнито, потому что, ежели бы из величественного «мы» вдруг вышел какой-нибудь NN, который когда-то в 30 годах написал дурную повесть и2 судит теперь о первостепенных писателях, все бы сказали, что это просто смешно, и подле самой фамилии его поставили вопросительный знак в скобках.
Хотя выходящие на литературное поприще, как и на сцену, подвержены суду всех, но свистать не позволено, так и не должно быть позволено говорить личности и делать пасквили. Что есть личность и пасквиль, я определил выше.
Итак, я требую 2 важных перемен. 1-е, чтоб не говорили таких вещей про3 NN, разбирая его сочинение, которые нельзя сказать ему в глаза, следовательно, говорить, что сочинение бессмысленно, что желаем то-то в сочинении, жалеем или советуем господам NN — все это не должно существовать.
Может быть, скажут, что это совершенно условно, что можно сказать в глаза — какому литератору? и какой критик? и в каких они отношениях?4 Ежели вы не хотите допустить, отвечу я, чувства приличия, которое должно быть у каждого человека, то рассматривайте всякое сочинение5 без всякого отношения к его автору. И уничтожили бы форму «мы». Мне кажется, что форма эта есть нарочно выдуманная и утвержденная обычаем личина, под которой удобнее пишутся пасквили.6 Еще желал бы я, чтобы уничтожили в скобках воспросительные и восклицательные знаки. Они7 ровно ничего не значат без объяснения, а ежели есть объяснение, то их не нужно. — Вот перемены, которых требуют приличия. О смешном, как-то: напыщенности и фигурности выражений и о философских терминах, которые вклеивают в критику, желая объяснить мысль и, напротив, показывая неясность на этот счет мысли критика, я не буду говорить.8 Теперь поговорю о том,9 каких изменений требует справедливость в критике10.
(Я никак не полагаю, чтобы целью критики было изложение свойств и недостатков самого автора и чувств, под влиянием которых он писал.) Согласитесь со мной, милостивые государи, что критика11 двоякая — ироническая и серьезная. Это разделение, взяв первый журнал, в отделе библиографической хроники сделает всякий; даже в одной и той же статье можно указать места, где кончается серьезная и начинается ироническая. — По расположению самого критика, согласитесь тоже, что критику можно также легко разделить на пристрастную «за» и пристрастную «против»12.
- 364 -
Следовательно, мы можем соединить оба разделения1, и логика указывает нам, что должно существовать:
1) Ироническая — пристрастная за
2) Ироническая — пристрастная против
3) Серьезная — тоже за
4) Серьезная — тоже против2.
Но первое соединение не может существовать. Остаются 3 рода, именно: ироническая — против, серьезная — за и серьезная — против. Ироническая, следовательно, может быть только пристрастна против и поэтому не удовлетворяет цели критики — дать ясное и по возможности верное понятие о предмете — не есть критика, а правильнее можно назвать насмешкой над сочи<нителем>. Но так как известно, что нет вещи, не подверженной насмешке, то на ее суждение нельзя полагаться.
[Остаются два последние рода, хотя не совершенные, но выкупающие свои недостатки тем, что суждения их не могут быть безрассудны и противоречащи.]
Сенковский ввел обычай смеяться над книгами в отделе Библиографической хроники, и этот отдел был действительно очень забавный, но нисколько не удовлетворял своему назначению — дать понятие о ходе литературы и о значении и достоинстве новых книг.
Теперь этот обычай так укоренился, что все остроумие сотрудника журнала устремлено преимущественно на этот отдел, тогда как в критике, ежели логика не обманывает меня, должна быть исключена всякая шутка и забавная выходка, как пристрастная против. Критика есть вещь очень серьезная. Ежели скажут: никто не будет читать критику и библиографическую хронику; что за беда — по крайней мере, не будут читать несправедливостей. А ежели так много остроумия у сотрудников, что некуда девать, пусть составят особый отдел под названием3 Б<иблиографическая> И<рония> или пусть пишут анекдоты. Итак, я требую уничтожения личностей, формулы «мы», скорописных букв и всех насмешек.
Что же будет тогда критика, скажут мне? Будет критика, а не анекдоты. Чтобы показать, как, по моему мнению, не нужно писать и как нужно, я возьму из своей повести главу, хоть «Разлуку», и буду ее критиковать трояко: пристрастно за, пристрастно против и иронически. Я этим хочу показать отношения между этими родами. Несмотря на больший или меньший талант, пропорция останется та же.
К ЧИТАТЕЛЯМ. ГЛАВА [34-я]
Я отдаю дань общей всем авторам слабости — обращаться к читателю.
Обращения эти большей частью делаются с целью сыскать благорасположение и снисходительность читателя. Мне хочется тоже сказать несколько слов вам, читатель; но с какою целью? Я право не знаю4 — судите сами5.
- 365 -
«ДЕТСТВО». СТРАНИЦА ГЛ. 34-й ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ
- 366 -
Всякий автор — в самом обширном смысле этого слова — когда пишет что бы то ни было, непременно представляет себе, каким образом подействует написанное. — Чтобы составить себе понятие о1 впечатлении, которое произведет мое сочинение, я должен иметь в виду один известный род читателей. Каким образом могу я знать, понравится ли или нет мое сочинение, не имея в виду известный тип читателя? — Одно место может нравиться одному, другое — другому и даже то, которое нравится одному, не нравится другому. Всякая откровенно выраженная мысль, как бы она ни была ложна, всякая ясно переданная фантазия, как бы она ни была нелепа, не могут не найти сочувствия в какой-нибудь душе. — Ежели они могли родиться в чьей-нибудь голове, то найдется непременно такая, которая отзовется ей. Поэтому всякое сочинение должно нравиться, но2 не всякое сочинение нравится все и одному человеку.
Когда все сочинение нравится одному человеку, то такое сочинение, по моему мнению, совершенно в своем роде.3 Чтобы достигнуть этого совершенства, а всякий автор надеется4 на совершенство, я нахожу только одно средство: составить себе ясное, определенное понятие о уме, качествах и направлении предполагаемого читателя.
Поэтому я начну с того мое обращение к вам, читатель, что опишу вас. Ежели вы найдете, что вы не похожи на того читателя, которого я описываю, то не читайте лучше моей повести — вы найдете по своему характеру другие повести. Но ежели вы точно такой, каким я вас предполагаю, то я твердо убежден, что вы прочтете меня с удовольствием, тем более что5 при каждом хорошем месте мысль, что вы вдохновляли меня и удерживали от глупостей, которые я мог бы написать, будет вам приятна.
6 Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немногого: чтобы вы были чувствительны, т. е.7 могли бы иногда пожалеть от души и даже пролить несколько слез об вымышленном лице, которого вы полюбили8, и от сердца порадоваться за него, и не стыдились бы этого; чтобы вы любили свои воспоминания; чтобы вы были человек религиозный; чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые заденут вас за сердце, а не таких, которые заставят вас смеяться; чтобы вы из зависти не презирали хорошего круга — ежели вы даже не принадлежите к нему, но смотрите на него спокойно и беспристрастно, я принимаю вас в число избранных. И главное, чтобы вы были человеком понимающим, одним из тех людей, с которым, когда познакомишься9, видишь, что не нужно толковать свои чувства и свое направление, а видишь, что он понимает меня10, что всякий звук в моей душе отзовется в его. — Трудно и даже мне кажется невозможным разделять людей на умных, глупых, добрых, злых; но понимающий и непонимающий — это для меня такая резкая черта, которую11 я невольно провожу между всеми людьми, которых знаю. Главный признак понимающих людей — это приятность
- 367 -
в отношениях: им не нужно ничего уяснять, толковать, а можно с полною уверенностью передавать1 мысли самые не ясные по выражениям.2 Есть такие тонкие, неуловимые отношения чувства, для которых нет3 ясных выражений, но которые понимаются очень ясно. Об этих-то чувствах и отношениях можно смело намеками, условленными словами говорить с ними. Итак, главное требование мое — понимание. Теперь я обращаюсь уже к вам, определенный читатель, с извинением за грубость и неплавность в иных местах моего слога — я вперед уверен, что когда я объясню вам причину этого, вы не взыщете. Можно петь4 двояко: горлом и грудью. — Не правда ли, что горловой голос гораздо гибче грудного, но зато он не5 действует на душу? Напротив, грудной голос, хотя и груб, берет за6 живое. Что до меня касается, то ежели я, даже в самой пустой мелодии, услышу ноту, взятую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза. То же самое и в литературе: можно писать из головы и из сердца. Когда пишешь из головы, слова послушно и складно ложатся на бумагу; когда же пишешь из сердца, мыслей в голове набирается так много, в7 воображении столько образов, в сердце столько воспоминаний, что выражения неполны, недостаточны, неплавны и грубы.
Может быть, я ошибался, но я8 останавливал себя всегда, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца.
Еще я должен вам признаться в одном странном предубеждении. По моему мнению, личность автора, писателя (сочинителя) — личность9 антипоэтическая; а10 так как я писал в форме автобиографии и желал как можно более заинтересовать вас своим героем, я11 желал, чтобы на нем не12 было отпечатка авторства, и поэтому избегал всех авторских приемов — ученых выражений и периодов.
СноскиСноски к стр. 311
1 О счастливая пора детства!
2 не только
3 а. не больше б. вся фигура
4 разбираю
5 зерка<ле>
6 и раз попав
7 им
8 в котором он мне
9 но уж трудно опять найти его
10 и что мне казались
11 но через
12 и нежно
13 Лучшие минуты чувствительности
Сноски к стр. 312
1 белой
2 выказывает
3 щекотка
4 все это заставляет меня
5 знако<мый>
6 меня
7 бу<дешь>
8 меня
9 об одном только и
10 бог знает об чем
11 и дан
12 пользуешь<ся>
13 лучшие
14 составляли
15 к богу
Сноски к стр. 313
1 В восемь часов утра я был одет и
2 письменным
3 согнув голову набок
4 сзади его
5 этого турка
6 бесценной бабушке
7 выходя
8 В то время
9 переменить огарок
10 я знаю
11 мог только
12 поэтическому таланту Карла Иваныча
13 близко
14 до моего гроба
15 из «Кавказского пленника»
16 в моих стихах
Сноски к стр. 314
1 оно было
2 пошло в ход
3 совершенно удовлетворительными
4 но я
5 [последние два стиха мне не понравились] следующие два стиха: «стараться будем утешать»
6 В поздравлении
7 произведении
8 но мне это не нравилось
9 Я перечел
10 Хотя
11 опять
12 слово
13 очень любил и она нас также; [но все она не была «как родная мать» и что это была] но [никогда] не так «как родную мать»
14 взошел
15 пошел при<меривать>
16 черн<ые>
17 без
18 [на рост] все
Сноски к стр. 315
1 меня
2 а. Карл Иваныч б. Я был
3 но
4 все-таки
5 даже
6 Вслед за ним
7 и очень торопилась ее
8 и уже
9 и из него.
10 я придумывал слова, с которыми я подам стихи бабушке, я уверен, судя по их лицам, что они тоже приготавливали приветствие
11 Только
12 а. Эффект б. Бабушка
13 Мы стали
14 и стали [молиться] будто бы молиться
15 лета сгорби<ли>
16 и слабые
17 и от
Сноски к стр. 316
1 Поверх текста: Описание бабушки, ее жизни и страстной любви к maman.
2 с синими же
3 на шее
4 под
5 как снег
6 Она не
7 Бабушка никогда
8 и не плакала
9 продол<жало>
10 с своими стихами
11 и
12 то на произведение, то на производителя
13 об<ратилась>
14 Володю
15 и ожидание
16 пот катил гр<адом>
17 не двигаясь с места и весь в сильной испарине
18 пожалуй-ка сюда и выходи на сцену
19 пожалуй-ка сюда
Сноски к стр. 317
1 и произнес какие-то невнятные слова, в виде поздравления
2 Pierre, в кабинет
3 ласковые слова бабушки не успокоили меня
4 я продолжал потеть
5 покрывала
6 кверху и покрыв
7 мои стихи
8 не могла разобрать и
9 не в силах более читать
10 стихи
11 и
12* «это очаровательно»
13* «особенно для десятилетнего ребенка»
14 а. заставили б. привели
15 меня всегда будет мучить
16 буду<т>
17 и что такое
18 Редко, редко
Сноски к стр. 318
1 в этом обществе
2 тоже
3 больше выставлялись
4 и мужиков
5 гордый невежда
6 ни одной повести
7 которые, ежели бы были, то
8 до неестественности
9 не понимаю
10 княгиня
11 это нужно
12 в романе
13 о нем тотчас же
14 на основании каких-нибудь намеков автора о его личности. У меня сейчас должен выступить на сцену князь — князь богатый и знатный. Я боюсь, чтобы, по привычке во всех князьях романов находить людей гордых и злых, вы бы вперед не составили такого дурного мнения о моем князе Иване Ивановиче, которого я очень люблю. Напротив, он был [чудесный] прекрасный и всеми уважаемый человек. Ему было лет
15 очень
16 спокойному
17 счастию, необык<новенной>
18 также сча<стливо>
Сноски к стр. 319
1 главное
2 мысли
3 он имел
4 немного начитан. Читал хотя
5 полезна была для того
6 свет
7 он
8 очень любил ее и
9 и тон
10 с тех пор
11 Читатель, князь Иван Иваныч не был злодей; и во
12 На полях: Особенная глава.
13 Корнакова.
Сноски к стр. 320
1 кругу
2 сейчас
3 ему
4 друг
5 а. Карл Иваныч, улыбаясь и расшаркиваясь, вышел б. и потом, обращаясь к бабушке
6 была
7 но что она говорила, решительно нельзя было ни расслушать, ни понять, так она
8 Поверх текста: Переменить описание бабушки — серьезная мина, привычки. Княгиню Корнакову — переменить. — А<лександра> А<ликшеева>. Князь Иван Иваныч, краткий очерк жизни и характера. Кукурузов. Новосильцев умный, потому что дурной. Алишкеева: дама с петербургским резким тоном. В<алахина> грустная, с выплаканными глазами. Каратов. Саша В., барин с перстнем. Г. Г. И. Еще молодой человек — род<ственник>. Родственница — <1 нрзб.>. Образ жизни бабушки и мои князья — не злые люди. И описываю не большой свет. Что такое, по-моему, большой свет и что такое хороший и дурной круг?
9 громко
10 долго и
11 а. Итог моих наблюдений был следующий: княгиня очень умная особа, потому что говорит скоро и одна смеется, когда скажет смешное, делает жалкое лицо, когда скажет жалкое, но я еще слишком мал, чтобы понимать, что говорят большие, она особа очень почтительная, потому что беспрестанно называет бабушку ma tante и поцеловала у нее руку два раза, и очень добрая, потому что [говорит] когда она говорит, обращается ко всем, как будто ищет подтверждения, даже к нам несколько раз обращалась. б. Княгиня была маленького роста, [лет] худая, тщедушная, рыжеватая и на вид имела лет 45, одета она была хорошо, но скромно. — Она оказывала большое уважение бабушке и, несмотря на холодность, с которой принимала бабушка ее нежности, она не терялась — продолжала называть бабушку ma bonne tante, прищуривать серенькие глазки, наклонять голову набок и говорить тоненьким нежненьким <?> голоском и принужденно смеяться. Она обращалась ко всем, как будто искала подтверждения своих слов; она несколько раз таким образом смотрела на нас, должно быть по привычке; но посмотрит, как будто спрашивает «не так ли?», и сейчас отвернется, давая этим заметить: «что я к нему обращаюсь, ведь он дитя».
Сноски к стр. 321
1 громкую
2 я
3 будет
4 отдавать его, но надо
5* Удивительные способности, кузен
6 смотрела в сторону
7 выну<ла>
8* я вас спрашиваю
9 этот
Сноски к стр. 322
1 Baissez
2 [Отчего вы] Будемте друзьями, — сказала она, — я вам тетка.
3 новую, хотя
4 по дружбе, которую
5 свет<ский>
6 Поверх текста: Глава. Секли ли нас или нет?
7* поверьте
8 весь в поту
9 было ясно, что он сконфужен
10 только что я взг<лянул>
Сноски к стр. 323
1 так
2 по плечу
3 и хор<ошим>
4 этих слов никогда не забыл и не забуду
5 при этом
6 убеждениям
7 должно быть
8 После
9 вербу
10* «Что это такое?»
11 таким голосом
Сноски к стр. 324
1 расположение
2 нанести мне несколько уда<ров>
3 а. и обил по моему телу несколько б. и... нанес мне очень чувствительное оскорбление
4 зани<мала>
5 а. средство нак<азания> б. есть
6 воздерживаться
7 прикид<ывал>
8 но беспрестанно приезжали и
9 Мне оч<ень>
10 этому
11 все
12 В числе этих был один средних лет человек, [толс<тый>] полненький, [красенький], розовенький, [с черными усами] [с орденами] с русыми приглаженными волосами, с двумя пуговками на одной фалде фрака [и], с двумя блестящими самодовольствием [карими] черными глазками и с чрезвычайно приятной улыбкой. Он поразил меня, как только взошел [своей походкой, осанкой и улыбкой]. Голову он держал, закинув назад, ногами несколько шаркал, улыбкой ласкал. Общий вид его был такой, что он, казалось, говорил: «вот я и взошел»; но, к несчастию, во время его появления бабушка заговорилась с Алишкеевой, и он два раза должен был повторить приветствие, но улыбка его от этого нисколько не потеряла своей прелести. Он мне очень понравился. Поверх зач. текста: Новосильцов.
Сноски к стр. 325
1 недурна собою; но [она нравилась не сердцу, а] красота ее действовала не на сердце, а на одно чувство зрения. Т. е., глядя на нее, нельзя
2 не сказал бы
3 она жила
4 и не обращая никакого внимания на Кукурозова, который
5 и говорил
6 уступить ей
7 а напротив, говорил
8 так что
9 принужд<ена>
10 и он
11 [и чрезвычайно] и с удивительной [précision] отчетливостью и искусством в одно и то же время отодвинул свое стуло, чтобы не сидеть спиной к Sachinette, поклонился сначала матери, потом дочери и сказал [каждой] [одной], что он давно [этого] желал иметь эту честь [а другой, что он очень], сел опять на кресло, поправил рукой шляпу и сейчас же стал вести разговор общий.
Сноски к стр. 326
1 в различных
2 сторонах
3 и шпагу и поверх
4 что она была в
5 какое место
6 «c’est le séjour du fameux poète»
7* родина поэтов.
8* Кстати, о поэтах
9* А кто, графиня, тот счастливый поэт, которого вы вдохновили на такие прекрасные стихи?
10* «молодой человек, культивируйте муз»
11 а. на вид очень старый б. и с одним орденом
12 придвинулась к кон<цу>
13 и, приветливо улыбаясь ему, сказала
14 поздравил ее
Сноски к стр. 327
1 даже и нам
2 а. Этот старик б. Он в. Непонятный этот для меня человек
3* Соблаговолите сесть, мадмуазель
4 вспоминают
5 говорит, ежели
6 мой друг
7 не знает
Сноски к стр. 328
1 мой милый друг
2 вы всегда будете неисправимыми
3* вы всегда останетесь такою
4 рассматривая Карла Иванычеву коробочку
5 un homme d’honneur <честный человек>
6* совершенно порядочный человек
7 тому, что
8 что я слышал
9 могли судить о нем
10 завеса детства
11 к странному народу, который встречал там
12 всех
Сноски к стр. 329
1 Было похоже
2 обед<ать>
3 обещалась
4 Меня очень у<дивило>
5 Я часто подвергался, не помню за что, фухтелям, и странно, что, хотя свитые жгутами платки были не менее действительны, чем настоящие фухтеля, я не могу сказать, чтобы боль, которую я чувствовал, была мне неприятна. Еще что
Сноски к стр. 330
1 на пуговицах и
2 Поверх текста: Любовь к Ивиным, с мечтами, надеждами и слезами. Эпизод с И<леньк>ою, драка — есть слова, которые всегда можно говорить, никогда и один раз. — Злоба П-а, тонкие губы, привычка ковырять в носу.
3 видна
4 была надета
5 свежее от
Сноски к стр. 331
1 никому не отк<рывал>
2 выражать
3 заказать
4 уставленное к<ругом>
5 все это было уставлено
6 Я не знал и
7 сидела
8 и положила книгу
Сноски к стр. 332
1 села
2 был от нее очень близко
3 вытягивал губы
4 прошел
5 зазвенел
6 акце<нтом>
7* «здравствуйте, мосье»
8 озабоченным
9 пересматривать шкатулку
10 с этой
11 и отношение папа
12 говорил ей
13 [показы<вал>] поправлял свои се<дые>
Сноски к стр. 333
1 удив<ленные>
2 за конд<итершей>
3 а. в середину б. и все покрыты
4 слышен был говор — то громкий, отрывистый, то плавный, то смех
5 должно быть
6 красоту
Сноски к стр. 334
1 порок
2 Ах, как хорош этот
3 Впрочем
4 Да
5 бедная и
6 — A propos, я вам забыл сказать, maman
7 Нет
8 покуда довезут до Мясницкой, простынет
9* Кстати
10 ложу в [Аск<ольдову>] какую-то
11 Описка: вихрем
12 заставлял меня переходить от тяжелого чувства неизвестности и нетерпения к
13 экипажи, ничего не говорящие моему сердцу
Сноски к стр. 335
1 стоячая
2 нельзя было видеть, кто выходит на к<рыльцо>
3 и
4 [не] желая не потерять ни одной минуты, и слушал
5 ощупы<вающей>
6 а. поклонился ей б. отст<упил>
7 поклониться
8 а побежал объявить бабушке о
9 нельзя
10* Боже мой, как она красива, а я, я так дурен.
11 И эти
12 ежели бы
13 в папильотках
14 чудесными
Сноски к стр. 336
1 а. она немного улыбнулась, и улыбка была одинаково заметна в складе губ и в выражении глаз б. она слегка улыбнулась и опять [выражению губ соотв<етствовало>] складу губ
2 И в
3 подвожу всех
4 внутренних
5 для меня
6 больше
7 идеала
8 и
9 с
10 обращаясь к нам и
11 очень хорошо и было
12 Поверх текста: В опис<ании> княгини глаза Колошиной
13 что я сделал
14 и не надевал
Сноски к стр. 337
1 встретил
2 для одной
3 помещения
4 и ногами
5 грубо
6 и откланявшись с бабушкой и присутствующими
7 свое
Сноски к стр. 338
1 старался
2 впрочем, я так был доволен, стоя у двери и разговаривая с Сережей, смотреть на Сонечку, что уже не так пламенно желал их приезда. Я заметил, что
3 они насилу
4 стали разбирать
5 и снимать шинели и шляпы
6 Поверх текста: Капит<альное>. Я влюблен в него, он разочаров<ывает>.
7 как-то
8 того удовольствия
9 я с восторгом
10 у нас
11 на них влияние при первом свидании
12 Я имел еще
Сноски к стр. 339
1 у меня
2 Но гувернер Ивиных остано<вил>
3* Куда вы, Пьер?
4* Вы видите, что будут танцы. Перчатки с вами?
5 синий
6 платок
7 дор<ожил>
8 их
9 выпрямляя
10 и это движение
11 один
12 белую
13 для кого-<то>
Сноски к стр. 340
1 искать
2 Что же ты не идешь
3 одной
4 подхватил
5 обо<шли>
6 ожидая, что
7* Посмотрите, моя дорогая
8 меня в середину кружка
Сноски к стр. 341
1* каким элегантным он сделался, чтобы танцевать с вашей дочерью. Надеюсь, дорогая Софи, что вы не откажете такому кавалеру в первом контрдансе.
2 Бабушка улыбалась и продолжала держать
3 и вся прическа
4 весе<ло>
5 смеялся
6 ошибку
7 как буд<то>
8 глазах
9 я [не заботился] не имел глаз ни для кого другого, кроме для Сонечки
10 это обращать на себя внимание новых лиц.
Сноски к стр. 342
1 О чем она могла говорить с противным князем с синим под глазами и чему так мило улыбалась? Впрочем, она, верно, такая добрая, что улыбается, чтобы ему сделать удовольствие.
2 depuis <с>
3* Вы постоянно живете в Москве, мадемуазель?
4* Да, мосье, но обычно лето мы проводим в деревне.
5 du Moscou
6* Вы родились в этой губернии?
7 il n’y a pas longtemps <недавно>
8* Да, мосье, а вы впервые в Москве?
9* Я еще никогда не посещал столицы
10 и вы<пачкал>
Сноски к стр. 343
1 бес<покоила>
2* Не соблаговолите ли, мадмуазель, отдать мне этот контраданс?
3 мальчик
4 и мало обращали на меня внимания
5 так любил их обоих, что ежели бы мне дали выбирать
6 на такую
Сноски к стр. 344
1 и уселась
2* дорогой
3 боялся этого
4 очень
5 теперь мне стало еще страшнее
6 хорошо
Сноски к стр. 345
1 (да простит ей это бог)
2* «Роза или крапива?»
3 звук
4 я сделал
5* Не нужно танцевать, если не умеешь
6 этот пассаж
Сноски к стр. 346
1 и искушение
2 Поверх текста: В столовой.
3 стали
4 беззло<бная>
5 подал заве<рнутое>
Сноски к стр. 347
1 надевая перчатки
2 с Валахиной
3 в этом танце мне
4 как танцовать
5 делал такие же (и еще неистовее) прыжки, как и в мазурке
6 как су<масшедшая>
7 прыгали через платок
8 а. так высоко, что б. гораздо выше, чем было нужно
9 воротнички рубашки были набок
10 Но когда я взглянул [опять] на свою даму, проходя через буфет, [я вспомнил опять два стиха Беранже:
Bon dieu, combien elle est jolie,
Et moi je suis, je suis si laid.]я подумал, что она слишком хороша.
Я был страстно влюблен, поэтому был смел. Когда мы проходили в последней паре по темному коридору, я вспомнил, что скоро она уедет, и бог знает когда мы увидимся. Я бы желал всю свою жизнь так проходить с ней по этому коридору и хотел сказать ей это; поэтому я пошел тихо, и когда нас никто не мог слышать, я сказал ей только, что счастливее дня я не проводил в жизни и особенно гросфатер, сказал я, вздохнув. [Она ответила] «Это последний? Да», — сказала она тоже грустно. — Я испугался того, что сказал, и пошел скорее. — Ничего я не помню после, помню только, как переменилось личико Сонечки, когда надели на нее салоп и окутали голову большим платком. Она [еще], кажется, была еще лучше, когда из-за платка видны были только чудесные глаза, носик и губки, которые так грустно и мило улыбнулись, когда она, спускаясь по лестнице, вслед за матерью, оглянулась на нас и сейчас очень скоро опять повернула головку. — Ах, как стало пусто, когда она уехала! Много еще гостей оставалось; и я хотя знал, что она уехала, смотрел на всех и искал ее.
— Ну, весело вам было? — сказала бабушка.
Сноски к стр. 348
— Как вас благодарить, бабушка, чудо как весело. — Мы поцеловали ручку и пошли на верх. Поверх зач. текста: Как мы стали говорить друг другу ты.
1 все пр<еимущество>
2 как мальчика, которого я любил
3 хорошенькое личико
4 мне доставляет
5 догадывается об этом
6 и испугался
7 и провела
8 реше<ткам>
Сноски к стр. 349
1 половина
2 которое сделала особенно
3 мне довольно
4 поцело<вала>
5 Неужели
Сноски к стр. 350
1 обернулся одеялом со всех сторон
2 пестрый
3 почти никакого
4 всякую минуту
5 хотелось
6 это
7 и заставить признаться, что он тоже влюблен в Сонечку.
8 и я влю<блен>
9 самом
Сноски к стр. 351
1 и засунул
2 ежели бы
3 сказал я
4 хотел
5 протягивал
6 сказал я
7 шли
Сноски к стр. 352
1 и то очень
2 он
3 сказал
4 Ааа...
5 опять
6 а. Николай. б. Ноги
7 как
8 и один запах этот наводил на меня страх
9 заметив
10 и огонь
11 на его
Сноски к стр. 353
1 выговорил «милые дети»
2* милые дети
3 Письмо это я читал
4 я прочел его
5 много, много
6 понять душу
7 но это удивительное создание слишком
8 свое несчастие
9 и сколько существ ее любили!
10 рассказывала мне, что
11 ее дейст<виями>
12 <Прежде> <Когда> Бывало, она соседями скучала, а в это время
13 верила ему
14 Как всегда бывает
Сноски к стр. 354
1* красавице фламандке
2 горе
3 он был женат на
4 почти все
5 в этом
6 в одном
Сноски к стр. 355
1 спали
2 Я бессознательно только
3 Чай пить
4 На третий день
5 и села на постель
6 о своем
7 своих старых господ схоронить, своих братьев, сестру Аннушку, а вот теперь и ее не стало
Сноски к стр. 356
1 впалые [маленькие] большие глаза ее
2 и влажные глаза ее сияли
3 ты от меня никогда не уходи и я от тебя не уйду». Любила меня покойни<ца>.
4 меня
5 ее душа в царствии небесном, и она вас
6 оттуда
7 а. и хотя ничего б. Я верил ей и см<отрел>
8 Рассказ ее был так прост
9 она встала
10 мне
11 но уже
12 не буду
Сноски к стр. 357
1 На полях: а. Может быть, [оттуда, куда улетела ее прекрасная душа] она смотрела на меня, сжалилась над моей печалью и спустилась на крыльях любви, чтобы утешить и благословить меня, и наши души на время слились в сладком духовном объятии. б. Может быть, она видела мою печаль, сжалилась над нею [и на крыльях любви прилетела, чтобы] и ее прекрасная душа [снова слетела] на невидимых крыльях любви спустилась в этот мир, чтобы утешить и благословить меня.
2 но он знал свою обязанность
3 утирая платком последние следы слез.
4 для кутьи, Наталья Савишна.
5 считала выдавать провизию обязанностью
6 лишнего прибавить
7 и изюм должен остаться от вчерашнего, — прибавила она, держа в руке
8 и хлопотам
9 и она не находила нужным
10 да, я думаю, и не поняла бы, ежели бы ей растолковали, что можно
11 никогда не
12 ничего теперь не желала
13 Похлопотав о сахаре и изюме и приказав
14 опять
15 но нас
16 и я ее больше
17 не суждено
Сноски к стр. 358
1 а. ска[зала] б. узнав
2 начинала плакать
3 Печаль
4 как в
5 меня
6 «поди сюда, мой друг»
7 дружок
8 что ты....,
9 диким см<ехом>
10 Никак нельзя
11 бабушке стало лучше, и она
12 В людях есть какой-то запас любви (особенно в женщинах), который им нужно излить.
13 и ласкала нас
14 но рассказ о этих переменах
Сноски к стр. 359
1 к моему
2 расскажу
3 только две заметные
4 и слабости
5 но очень умная
6 с самой смешной миной
7 и умна
8 терпеть не могла Моську — ненавидела ее
9 пора умирать
10 белой материи
11 застав<ив>
12 плакала, прощаясь с ней
13 своих сундуков
Сноски к стр. 360
1 и даже ее заботами он был пре<красно>
2 очень страдала цел<ый>
3 никогда
4 сама заперла я<щик>
5 легла
Сноски к стр. 361
1 черной
2 зайти и на
3 как была
4 щеголи лакеи
5 На полях: Обращение к читателям: какого я себе воображаю читателя, и почему нужно воображать себе читателя. — Я пишу из сердца — извините грубый слог. — Я пишу автобиографию, извините, что нет авторских приемов.
6 выступая на литературное поприще
7 не называя
8 на впечатление
9 оскорблять
Сноски к стр. 362
1 Всякий раз, когда критик задевает личность автора, он говорит оскорбительные вещи; потому что говорить
2 Когда вы говорите: «Г-н N».
3 а. теперь б. так как
4 у вас сапоги были всегда
Сноски к стр. 363
1 и советует
2 и теперь
3 про автора
4 Определить
5 как книгу, у которой нет автора
6 Поверх текста: И чтобы сам критик не рассказы<вал>, какие он курит сигары и в какой комнате сидит.
7 большой частью
8 Все сказанное относится преимущественно к библиографическим критикам.
9 чего тре<бует>
10 тоже радикальных
11 может быть
12 и третий род соединений обеих, беспристрастную; но этот род так редок, что
Сноски к стр. 364
1 подразделения
2 ир<оническая> бесп<ристрастная> и беспристрастная ироническая
3 насмешки над лит.
4 сам не знаю
5 вы сами сумеете обсудить это
Сноски к стр. 366
1 о будущем
2 но дело в том
3 Одно средство
4 или ищет
5 вы будете дум<ать>
6 Вы человек не глупый
7 находили бы удовольствие
8 за его хорошие качества
9 сойд<ешься>
10 что душа его настроена на [один] одинак<овый> тон
11 что я невольно всех людей, которых знаю, разделяю на эти два разряда
Сноски к стр. 367
1 им
2 Сверх того
3 нет слов
4 писать
5 не сильно
6 за душу
7 и в
8 я решил
9 крайне
10 но
11 я боялся
12 не отпеча<тался>