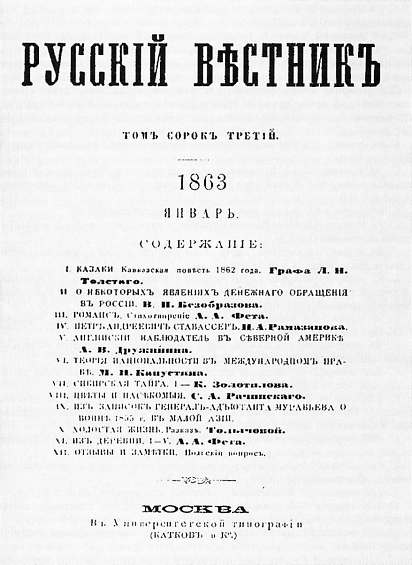- 257 -
КОММЕНТАРИИ
- 258 -
- 259 -
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АРХИВОХРАНИЛИЩА
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого. Рукописный отдел (Москва).
РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).
ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Гольденвейзер — Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959.
Гусев, II, IV — Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957; Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970.
ЛН — «Литературное наследство», т. 35—36. Л. Н. Толстой. I. М., 1939; т. 37—38. Л. Н. Толстой. II. М., 1939; т. 69. Лев Толстой. Кн. 1—2. М., 1961; т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1—2. М., 1965; т. 90. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 1—4. М., 1979.
Некрасов — Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений: В 15 т. Л. — СПб., 1981—2000.
Описание — Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого. Сост. В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур, Е. С. Серебровская. Общ. ред. В. А. Жданова. М., 1955.
Переписка — Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, доп. Сост., вступит статья и прим. С. А. Розановой. М., 1978.
Толстой в воспоминаниях, 1960 — Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Изд. 2-е, испр. и доп. Подготовка текста и прим. Н. Н. Гусева, В. С. Мишина, Л. Д. Опульской; вступит. статья К. Н. Ломунова. М., 1960.
Толстой в воспоминаниях, 1978 — Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Составление, подготовка текста и комментарии Г. В. Краснова; вступит. статья К. Н. Ломунова. М., 1978.
- 260 -
Тургенев — Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: В 28 т. Сочинения в 15 т. Письма в 13 т. М. — Л., 1960—1968.
Чехов — Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Письма: В 12 т. М., 1974—1983.
Юб. — Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928—1958.
- 261 -
В четвертый том Полного собрания сочинений вошли повести Л. Н. Толстого «Казаки», «Поликушка» и неоконченные художественные произведения конца 1850 — первой половины 1860-х годов: «Декабристы», рассказы из деревенской жизни, «Сон», «Отъезжее поле».
«Казаки» Толстой писал, с перерывами, десять лет. При этом в 1863 г. работа оказалась скорее прекращена, чем завершена. Подобно тому, как из «Романа русского помещика» в 1856 г. было опубликовано лишь «Утро помещика», повесть «Казаки» явилась обработанной для печати частью «кавказского романа», называвшегося «Беглец», «Беглый казак», «Казаки», над которым Толстой усердно трудился в 1857—1862 гг. В сложном рукописном фонде «Казаков» отразилась и творческая история «кавказского романа». Судя по дневниковой записи 30 сентября 1865 г. («мои казаки, будущее»), замысел этого романа оставался в творческом воображении Толстого, однако больше ничего не было создано.
Рукописи «Казаков» публиковались в томе 6 Юбилейного издания (1929, доп. тираж 1936), томах «Литературного наследства» (№ 35—36, 69—1939, 1961), отдельном издании повести в серии «Литературные памятники» (1963). В настоящем издании они впервые воспроизводятся полностью и расположены в хронологическом порядке (т. 4 второй серии). Изучая этот материал, можно не только понять историю создания «Казаков», но и наблюдать идейную и художественную эволюцию Толстого от начала 50-х до начала 60-х годов.
Хотя «Казаки» входили во все прижизненные собрания сочинений, начиная с изд. Ф. Стелловского 1864 г., сам Толстой не вносил никаких поправок. Исследование рукописей позволило устранить многочисленные ошибки и искажения, проникшие в текст при публикации его журналом «Русский вестник». Эта работа проводилась для «Литературных памятников», но завершена лишь теперь.
Появившаяся в феврале 1863 г. повесть «Казаки» стала первым художественным произведением, увидевшим свет после почти четырехлетнего перерыва: строго осудив «Семейное счастие» и увлекшись педагогикой, Толстой в эти годы работал над несколькими вещами, но ничего не печатал. «Казаки» обозначили рубеж. Сразу после них опубликована повесть «Поликушка» и тогда же начат «роман из времени 1810 и 20-х годов», как названа будущая «Война и мир» в октябрьском письме 1863 г. Толстой снова почувствовал себя «писателем всеми силами своей души».
Работа над «Поликушкой» происходила в 1861—1863 годах и отразилась в двух рукописях: неполно сохранившемся автографе и копии, сделанной С. А. Толстой, с поправками автора. Рука С. А. Толстой как переписчицы
- 262 -
и помощницы, которой Толстой нередко диктовал, пользуясь своими черновиками, впервые появляется среди материалов данного тома. Отрывки из рукописей «Поликушки» публиковались в т. 7 Юбилейного издания (1932, доп. тираж 1936); в наст. изд. полностью воспроизведен автограф и дан исчерпывающий свод вариантов по копии. Впервые проведена критическая проверка печатного текста по рукописям и внесены необходимые исправления.
Неоконченные произведения, не публиковавшиеся при жизни Толстого, печатаются по автографам. По рукописи даются и «Декабристы», хотя они появились в 1884 г. в книге: «XXV лет. 1859—1884. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Исследование показало, что сохранившаяся наборная рукопись, отправленная для печати в Петербург — последний момент обращения Толстого к тексту; набор и корректура проходили без его участия.
Как обычно, большие сложности возникали с датировкой неоконченных произведений. Анализ почерка, бумаги, внешнего вида рукописей позволил установить, что сохранившиеся фрагменты «Отъезжего поля» следует отнести к 1863 и 1865 г.; сделанное в 1856—1857 годах остается неизвестным, хотя работа того времени удостоверена дневниковыми записями Толстого. Споры возникали и о дате копии «Декабристов»: 1862 или 1884 г.? Изучение вопроса подтвердило раннюю дату. Переписка С. А. Толстой с Н. Н. Страховым (опубликована в 2000 г.) свидетельствует, что в середине 1880-х годов возникло намерение (неосуществленное) включить неоконченный рассказ «Идиллия» под названием «Деревенская идиллия» в том «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». В сущности, тот же замысел осуществлялся Толстым под названием «Тихон и Маланья». В настоящем издании к этому рассказу (или повести) отнесены несколько автографов начала 1860-х годов, печатавшиеся в Юбилейном издании отдельно, среди «Отрывков рассказов из деревенской жизни» (см. комментарии).
В начале 1860-х годов была создана и первоначальная редакция «истории лошади» — «Хлыстомер», позднее переделанная; повесть напечатана в 1886 г. под заглавием «Холстомер» (см. т. 14 наст. изд.).
Неоконченные «Декабристы», вместе с «Казаками», рассказами о народной жизни, стихотворением в прозе «Сон» и «Отъезжим полем» — непосредственные предшественники книги «Война и мир». Печатая «Казаков», Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен».
В конце 1870-х годов Толстой снова вернулся к замыслу «Декабристов» (см. т. 9 наст. изд.), но и тогда роман остался лишь в многочисленных рукописях.
_________
Тексты и комментарии подготовили: И. П. Видуэцкая («Поликушка», «Идиллия», «Тихон и Маланья», отрывки рассказов из деревенской жизни); Л. Д. Громова-Опульская («Казаки»); Т. Ю. Пластова («Декабристы», «Сон»); Л. Н. Кузина, М. А. Соколова («Отъезжее поле»).
- 263 -
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1853—1863 гг.
КАЗАКИ
КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ
1852 годаВпервые: «Русский вестник», 1863, № 1, с. 5—154 (ценз. разр. 25 января 1863 г.). Подпись: Граф Лев Толстой.
Сохранились 571 лист автографов и копий, 7 листов материалов (записи песен и заговора).
Печатается по журнальному тексту, с исправлениями по рукописям (автографам и копиям):
С. 7, строки 17—18: закутавшись и съежившись — вместо: закутавшись и сжавшись (по А).
С. 10, строки 4, 7: Дмитрий Андреич — вместо: Дмитрий Андреевич (по А).
С. 15, строка 9: ошибки не могут повториться — вместо: ошибки не могут повторяться (по А и К).
С. 15, строки 38—39: сам не помня как, перелезает — вместо: сам не помня, перелезает (по А и К).
С. 16, строка 17: оглядевший проезжего — вместо: оглядевший проезжих (по А и К).
С. 16, строки 42—43: красота снеговых гор, о которой ему толковали — вместо: красота снеговых гор, о которых ему толковали (по А, К1, К2).
С. 16, строка 16: Кочкалыковский хребет — вместо: Кочкалосовский хребет (по А и К).
С. 20, строки 10—11: исключение из правила — праздник — вместо: исключение из правила (по А).
С. 25, строки 34—35: однообразно бурливший — вместо: однообразный, бурливший (по А и К).
С. 29, строка 12: али уряднику — вместо: или уряднику (по А в К).
С. 29, строка 26: пошел к кордону — вместо: пошел по кордону (по А в К).
С. 29, строки 43—44: пошел под окно; слышит — вместо: пошел; под окном, слышит (по А в К).
С. 32, строки 23—24: Равномерные ночные звуки шуршанья камышин, храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды — вместо: Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды (по А, К1, К2).
- 264 -
С. 34, строка 4: повторяли казаки — вместо: повторили казаки (по А и К).
С. 34, строки 40—41: а то може — вместо: а то тоже (по А в К).
С. 35, строка 32: а из-под ней — вместо: а из-под нее (по А и К).
С. 38, строка 22: нынче — вместо: ныне (по А в К).
С. 38, строка 40: по площади и улицам — вместо: по площадям и улицам (по А1, А2).
С. 39, строка 30: стягивал — вместо: который стягивал (по А в К).
С. 40, строка 1: жить будем — вместо: жить будет (по А и К).
С. 40, строки 33—34: формы, обозначавшиеся — вместо: формы, обозначившиеся (по А и К).
С 41, строка 40: Стадо еще не пригоняли — вместо: Стадо еще не прогоняли (по К1, К2).
С. 44, строка 20: хошь ты и солдат — вместо: хоть ты и солдат (по К).
С. 46, строка 21: другие армейские — голь — вместо: другая армейская голь (по А и К).
С. 47, строка 2: Бают, крест выйдет. — вместо: Бают, крест вышлют. (по А в К).
С. 47, строки 17—18: толкал под бок Назарку — вместо: толкал под бока Назарку (по А в К).
С. 49, строки 4—5: Что будем делать! — вместо: Что будешь делать! (по А).
С. 52, строка 32: очиститься должон — вместо: очиститься должен (по А).
С. 57, строка 12: затянулся ремнем — вместо: затянул ремнем (по А в К).
С. 63, строка 8: батюшка Илья Василич — вместо: батюшка Илья Васильевич (по А и К).
С. 63, строка 39: не то как бабы — вместо: не то как бы (по А и К).
С. 64, строка 25: Что же, неужли — вместо: Что же, неужели (по А).
С. 66, строка 16: Шш! Теперь молчи — вместо: Ши! Теперь молчи (по А).
С. 66, строка 26: Лес казался странно высоким. — вместо: Лес казался страшно высоким. (по А и К).
С. 66, строка 37: спины, лица и руки — вместо: спины, глаза и руки (по А).
С. 68, строка 5: Не, это мой след, а во — вместо: Не, это мой след (по А).
С. 68, строки 18—19: топот галопа послышался на мгновенье из-за треска, перешел в гул — вместо: топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул (по А).
С. 73, строка 16: Скоро приехали верхами — вместо: Скоро приехали верхом (по А в К).
С. 73, строка 19: ваше бродие — вместо: ваше благородие (по А в К).
С. 73, строка 30: Ты грамотный? — вместо: Ты грамотен? (по А в К).
С. 79, строка 4: На работы и на ученья — вместо: На работы и на учение (по А и К).
С. 82, строка 20: под нестянутой рубахой — вместо: под ее стянутою рубахой (по А).
С. 83, строка 23: Оно было ему слишком близко к сердцу. — вместо: Оно было ему слишком к сердцу. (по А и К).
- 265 -
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСНИК», № 1 за 1863 г.
С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ ПОВЕСТИ «КАЗАКИ»
- 266 -
С. 84, строка 6: Говорят, в набег скоро. — вместо: Говорят, что в набег скоро. (по А в К).
С. 84, строка 7: а слыхал — Криновицыну — вместо: а слыхал, что Криновицыну (по А в К).
С. 85, строка 8: в хату Белецкого — вместо: в хату Оленина (по смыслу).
С. 91, строка 9: Они оглядели нового коня — вместо: Они осмотрели нового коня (по А).
С. 93, строки 14—17: Манил он ясного сокола на праву руку: «Поди, поди, сокол, на праву руку, За тебя меня хочет православный царь Казнить-вешать» — вместо: Манил он ясного сокола на праву руку. (по А). (Ценз.)
С. 94, строка 2: и уже не дразнили — вместо: и даже не дразнили (по А и К).
С. 96, строки 12—13: В пятницу пришла решенья, Чтоб не ждать мне утешенья — вместо: В пятницу пришло решенье, Чтоб не ждать мне утешенья (по К1, К2).
С. 96, строка 43: сожгли аул — вместо: зажгли аул (по А).
С. 97, строки 43—44: засыхали бурьяны и камыши — вместо: засыхали буруны и камыши (по А).
С. 97, строка 44: скотина, мыча, днем убегала с поля — вместо: скотина, мыча днем, убегала в поля (по А).
С. 98, строки 7—8: Сады глухо заросли вьющеюся зеленью, и в прохладной густой тени везде чернели — вместо: Сады глухо заросли вьющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели (по А).
С. 98, строка 24: черными и янтарными кистями — вместо: черными янтарными кистями (по А).
С. 98, строка 30: слышались смех, песни, веселые женские голоса — вместо: слышались смех, песни, веселье, женские голоса (по А).
С. 101, строка 16: Ведь ты не пошла, я чай. — вместо: Ведь ты не пошла, чай. (по А в К).
С. 102, строки 22—23: Приходил бы лучше нам подсобить. С девками поработал бы — вместо: Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы (по А).
С. 109, строки 5—6: Это еще меньше желание наслаждения — вместо: Это еще меньшее желание наслаждения (по А в К).
С. 112, строки 14—15: платках, обвязывающих голову и лицо — вместо: платках, обвязывающих голову и глаза (по А).
С. 114, строка 10: али верхом — вместо: или верхом (по А и К).
С. 116, строки 3—4: товарищу, слезшему — вместо: товарищу, слезая (по А).
С. 120, строка 22: Девки пойдут, и я приду. — вместо: Девки придут, и я приду. (по А).
С. 128, строки 3—4: грубым и жестким голосом — вместо: грубым и жестоким голосом (по смыслу).
С. 130, строки 24—25: Ведь он тебя не уцелит. — вместо: Ведь он тебя не узнает. (по К).
Посылая 28 ноября 1862 г. М. Н. Каткову начало «Казаков» для набора, Толстой заметил, что «орфографических ошибок переписчика — бездна», и просил обратить на них внимание корректора. Однако корректор, конечно, не смог обнаружить действительных ошибок, и дело ограничилось
- 267 -
унификацией грамматики, приведенной в соответствие с нормами того времени и с практикой журнала. В частности, существительные среднего рода (теченье, колыханье, желанье, стремленье, образованье и т. п.), которые Толстой почти всегда писал через мягкий знак, были унифицированы в сторону книжного варианта. Как показывает сличение копий с автографами, в этом направлении действовали и переписчики. Такие словаТолстого, как «противузаконно», «противуположный», «ежели», «достигнул», «покойно», «взбежал» также изменялись на: «противозаконно», «противоположный», «если», «достиг», «спокойно», «вбежал»; слова «мужеска», «женска» — на «мужеского», «женского». Окончания прилагательных в творительном падеже («ой»,«ей») заменялись формой на «ою», «ею». Поскольку не все рукописи «Казаков» сохранились (некоторые автографы, наборная рукопись и корректура не дошли до нас), нет возможности восстановить полностью авторскую грамматику и синтаксис, а всякое выборочное их исправление на основе сохранившихся рукописей внесло бы ненужную путаницу, и потому в настоящем издании, печатая повесть по тексту «Русского вестника», мы сохраняем грамматические формы этого источника (известно, что Толстой читал и правил корректуры). Во второй серии издания публикуются все рукописи, где подлинные написания, особенно если речь идет об автографах, полностью сохранены.
Действительные ошибки переписчика (и впоследствии наборщика) удается устранить лишь путем проверки печатного текста по рукописям. Впервые эта работа проводилась для издания повести «Казаки» в серии «Литературные памятники» (М., 1963 ); теперь она осуществлена в полном объеме, т. е. с привлечением всех сохранившихся рукописей — автографов и копий. Очевидные опечатки «Русского вестника» исправлены без оговорок (в частности, в нумерации глав).
При публикации в журнале повесть не подверглась цензурным искажениям. Кроме одного места — песни «Из села было Измайлова», которую поет Лукашка (гл. XXVII). Еще в феврале 1858 г. Толстой просил своего бывшего батарейного командира Н. П. Алексеева прислать старинные казачьи песни. 23 марта Алексеев отправил текст десяти «песен, певаемых в станице Старогладковской». В числе их находилась и песня «Из села было Измайлова», но с пропуском нескольких (выделенных курсивом) строк:
Манил он ясного сокола на праву руку:
Поди, поди ясен сокол на праву руку,
За тебя меня хочет православный царь
Казнить-вешать.В следующем письме, от 8 апреля, Алексеев так объяснял случившееся: «Епишка припомнил еще старинную песню и ее вам при сем посылаю1, также пропуск, сделанный Епишкою при проговоре песни, но тому причиной малый прием чихиря — за четвертою чапуркою он вспомнил и проговорил забытое им» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 46, Махач-Кала, 1929, с. 4). В рукописях Толстого — полный текст песни.
- 268 -
Некоторые дефекты печатного текста произошли, вероятно, оттого, что правка Толстого в корректурах не была верно понята наборщиком.
Н. О. Лернер справедливо обратил внимание на явную ошибку в гл. XVII, где Лукашка, остановившись на пороге, припирает за собою ворота (Лернер Н. О. Об ошибках в академическом издании «Казаков» Толстого, рукопись, хранится в РНБ — см. «Русская литература», 1960, № 4, с. 183—184). Это место в журнале читается так:
«Лукашка не отвечал. Вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.
— Прощай, матушка, сказал он матери. — Ты бочонок с Назаркой пришли, припирая за собой ворота: — ребятам обещался; он зайдет».
Последняя редакция этого места в сохранившихся рукописях не содержит этой несообразности, но в ней нет и разговора о бочонке, который появился в печатном тексте.
«— Прощай, матушка, — сказал он.
Мать до ворот провожала его.
— Сало на лавке осталось, что шашку мазал, ты его спрячь, — сказал он матери, припирая за собой ворота» (в Описании рук. 30).
Очевидно, в корректуре Толстой заменил разговор о сале просьбой прислать на кордон бочонок, но его правка не была понята и в печати появился бессмысленный текст. Ошибка устраняется путем заимствования из рукописи композиции эпизода (совпадение полное, кроме того, что вместо сала появился бочонок).
Н. О. Лернер указывал еще на один дефект: «...Описание станицы с дымящимися трубами, казаками, идущими на работу, и Марьяной, погоняющей быков, из XVIII главы, где оно должно находиться, переместилось в начало XIX главы, благодаря чему станица оказывается вдруг в самой гуще леса». Но это перемещение было произведено самим автором, как можно судить по копии, хотя и сохранившейся не полностью (рук. 31). Никакой смысловой несообразности это перемещение не создало. Новая, XIX глава, открывается описанием станиц и картиной того, что одновременно происходит в лесу. Если же начало гл. XIX перенести в гл. XVIII, как это было сделано издателями (конечно, без ведома Толстого), в десятом издании «Сочинений» (ч. II, 1897), появится действительная несообразность: лес окажется в станице.
Есть в печатном тексте «Казаков» несогласованности, которые, видимо, неизбежны, если творческая работа длилась десять лет, а рукописи правились и перекладывались множество раз. В конце гл. VI урядник говорит Ерошке: «И то, ловок стал Лукашка твой <...> Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного». Фраза вполне понятна в начальных редакциях, где убийство абрека происходило в первых (и даже в первой) главах; в окончательном тексте оно появится лишь в гл. VIII.
В главе VIII действие происходит на берегу Терека: «вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег». И вдруг неожиданно, рядом, возникают кордон, изба кордона.
Из-за несогласованности новой правки со старым текстом другой главы создалось противоречие между началом XI главы: «На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату» — и гл. XVIII, где рассказывается, как хорунжий приходит к Оленину договариваться о плате за квартиру и условливается, к досаде Ерошки, на шести монетах. То же относится и к рассуждению
- 269 -
Ерошки: «Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет». Как же никого не будет? Мальчишка-то останется. Но этот мальчишка, брат Марьяны, появился здесь в результате позднейшей правки, а конец фразы изменен все-таки не был.
Во всех этих (и подобных им) случаях никакое вмешательство в текст невозможно, и приходится сохранять «противоречия», даже если нам, в отличие от автора, их удалось заметить.
Иногда ошибка копииста или неразобранное им слово вызывали новую правку Толстого. Но позднейшие авторские варианты, конечно, немыслимо отвергать в пользу первоначальных.
В речи хорунжего, например ( гл. XVIII) слова «от постою» («от постою можем всегда удалиться») были разобраны переписчиком как «постепенно». Толстой не исправил ошибки, а заменил «удалиться» словом «страктоваться», и в печатный текст вошел этот новый вариант: «постепенно можем всегда страктоваться».
В описании охоты Оленина (гл. XX) говорилось, что мириады насекомых шли «...к этой темной густой зелени». В копии вместо «густой» появилось «пустой», и Толстой просто вычеркнул это слово. В другом месте (гл. XXIX) автограф дает чтение: «Марьяна <...> легла под арбой на примятую вянущую траву». Копиист не разобрал слово «вянущую», оставил пробел; автор же (не справляясь, конечно, с прежней рукописью) заполнил пропуск другим словом: «сочную». Приходится принять эту «сочную», даже если и полагать, что «вянущую» больше в данном случае подходит.
В главе XXXIV бабука Улита приглашала Оленина гулять на свадьбе и спрашивала: «Ты не уйдешь в поход?» Копиист не разобрал и написал: «Ты... и... погоди». В творческом сознании Толстого этот бессмысленный набор слов превратился во фразу: «Ты уходить-то погоди», которая читается и в окончательном тексте повести.
В другом месте переписчик не разобрал слово «росистого» («Запах кизяка и росистого тумана был разлит в воздухе») и оставил пропуск, который Толстой заполнил иначе: «чапры» (гл. XXXVIII). Там же, во фразе: «Схватившись рука с рукой, девки кружатся, не в такт песни выступая по пыльной площади», копиист не понял слов «не в такт песни», опять оставил пропуск, и Толстой вписал здесь совсем другое: «плавно». Дальше, в разговоре Марьяны с Лукашкой, было: «Захотела, разлюбила. Ты мне не отец. Легко ли». Переписчик не разобрал это «Легко ли», автор же заполнил пропуск: «не мать». Так и в печатном тексте повести: «Ты мне не отец, не мать». Все эти примеры — из области активной авторизации, делающей невозможным возвращение к первоначальному автографу.
Перечень внесенных в наст. изд. изменений (см. выше) содержит лишь исправление смысловых и стилевых ошибок, не замеченных автором; при этом верное чтение всегда подтверждено рукописью — автографом или авторизованной копией.
Что касается расхождений между автографами и копиями (выполненными писцами, а на последних стадиях работы и С. А. Толстой), приходится учитывать факт, удостоверенный дневником и письмами Толстого: порою текст «копии» создавался под диктовку, обычно — с использованием материала автографов.
В истории создания «Казаков» есть и такой текстологический эпизод. Новое начало (об отъезде Оленина из Москвы) было отдано в переписку, исправлено Толстым, а потом, при подготовке к печати, первоначальный
- 270 -
автограф снова отдан переписчику и в новой копии, которая пошла в набор, почти не исправлялся автором. Нам все-таки ничего не остается делать, кроме того, чтобы считать авторскую правку первой копии рукописными вариантами (см. вторую серию издания) и не вводить ее в основной текст повести.
1
При публикации в 1863 г. «Казакам» дан подзаголовок: «Кавказская повесть 1852 года». По всей видимости, это хронологическое приурочение событий. Во всяком случае, не дата приезда самого Толстого в станицу Старогладковскую (30 мая 1851 г.) и не дата начала работы, определенно устанавливаемая по дневнику: август 1853 г. Важно отметить, что заглавие «Казаки» с подзаголовком «Кавказская повесть 1852 года» появилось в последней копии (1862 г.), сменив зачеркнутые там: «Молодость (Попытка романа)» и «Молодость (Кавказ. 1853)». Предполагалось, таким образом, прямое указание на связь новой повести с трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность» и замыслом «Четырех эпох развития». В других рукописях, также относящихся к 1862 г., дата событий обозначена так: «В 185. г.»; «В 1850 году».
10 августа 1851 г., находясь в Старогладковской, Толстой записал в дневнике: «Личность Марки, которого зовут однако Лукою, так интересна и такая типическая казачья личность, что ею стоит заняться. Мой хозяин, старик Ермоловских времен, казак, плут и шутник Япишка, назвал его Маркой на том основании, что, как он говорит, есть три апостола: Лука, Марка и Никита Мученик; и что один, что другой, все равно. Поэтому Лукашку он прозвал Маркой, и пошло по всей станице ему название: Марка». Далее идет подробное описание Луки Сехина, племянника Епифана (Епишки) Сехина — первообраза Ерошки в «Казаках».
Предыстория «Казаков» восходит и к замыслам 1852 г., когда, сразу после публикации в «Современнике» повести «Детство», Толстой решил писать «кавказские очерки» — «для образования слога и денег». В дневнике 19 и 21 октября была намечена программа очерков; в нее вошли и «удивительные» «Рассказы Япишки: а) об охоте, b) о старом житье казаков, c) о его похождениях в горах». Впоследствии рассказы Епишки были использованы в «Казаках», особенно широко — в черновиках «кавказского романа», но в 1852 г. ни один из очерков на темы рассказов Епишки написан не был. Да и вся программа очерков осуществилась в очень незначительной части. Если не считать раздела о войне, в композиции которого просвечивают контуры рассказа «Набег» (см. т. 2 наст. изд.), лишь начатая в октябре 1852 г. «Поездка в Мамакай-Юрт» представляет собою прямой опыт «кавказского очерка». Хотя очерк едва начат, он имеет принципиальное значение для раннего творчества Толстого. Здесь высказаны эстетические принципы, которым Толстой следовал решительно во всем, что писал о Кавказе. Вместо романтических, воображаемых картин, усвоенных по сочинениям Марлинского и Лермонтова, автор собирался представить действительный Кавказ: «Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны».
- 271 -
Воспроизвести поэзию действительности — эта художественная задача стала одной из главных в процессе продолжительных поисков верного тона будущих «Казаков».
Ее первоначальное решение — неожиданно прямолинейно. 16 апреля 1853 г., находясь в станице Червленой, Толстой написал стихотворение «Эй, Марьяна, брось работу!» — на манер народной песни или гребенской баллады. Переписывая стихотворение в отдельную тетрадь, немного изменил текст, но и новый вариант оценил крайне строго: «Гадко». Много лет спустя, в декабре 1904 г., отвечая П. И. Бирюкову, спросившему, писал ли он стихи, Толстой ответил: «Стихотворения пробовал писать: казачки встреча, но, слава Богу, ничего не вышло...» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого — ЛН, т. 90, кн. 1, с. 119).
Однако эта, пусть неудачная, попытка воплотить замысел в стихах не случайна. Некоторое время спустя появится начало «Беглеца», написанное ритмической прозой (в размере анапеста), а в окончательный текст повести Толстой введет народные песни — отнюдь не для орнамента и не только для характеристики быта и нравов казачьей станицы. Песня станет важным звеном в развитии сюжета, будет рассказывать о судьбе героев повести и о конфликтах между ними.
В стихотворении впервые появилось (и установилось навсегда) имя героини — Марьяна. Только оно не изменялось в процессе длительной позднейшей работы. Содержание стихотворения (сборы к встрече возвращающихся из похода казаков и сама встреча) напоминает первоначальный прозаический набросок начала повести «Беглец».
Очевидно, летом 1853 г. вполне сложился замысел повести из казачьей жизни. 25 июня, определяя планы на «завтра», Толстой назвал, среди других: «Беглец». 26 июня повторено то же задание. Однако до 28 августа намерение оставалось неосуществленным. Дневник все это время велся очень регулярно, и потому с уверенностью можно сказать, что до 28 августа 1853 г. Толстой не принимался за «Беглеца». Записи 16 и 26 августа о намерении «продолжать роман» относятся не к «Беглецу» (тогда — повести), а к «Роману русского помещика».
28 августа, в день своего рождения, находясь в Пятигорске, Толстой записал: «Утром начал казачью повесть <...> Труд только может доставить мне удовольствие и пользу» .
29 августа в Железноводске: «Писал Беглец утром, после обеда проспал, буду писать вечером».
30 августа: «Занимался целый день».
31 августа, снова в Пятигорске: «...Не писал почти ничего. “Встреча” нейдет как-то...».
Начало повести «Беглец», написанное в эти дни, сохранилось полностью. Оно состоит из трех глав: «Марьяна», «Губков», «Встреча». Глава четвертая без названия и лишь начата. В последующие месяцы Толстой думал вернуться к продолжению повести, но другая работа, прежде всего над «Отрочеством», оттеснила замысел «казачьей повести». К «Отрочеству», а не к «Беглецу» (как неверно говорится в т. 46 Юб. изд.) относится запись в дневнике 12 сентября 1853 г.: «Завтра утром пойду в парк, обдумаю главу Б. Напишу ее до обеда». Это «Б.» подразумевает главу «Бабушка» в «Отрочестве», а не повесть «Беглец» (см. т. 1 наст. изд). Осталось невыполненным и намерение писать «Беглеца» «после обеда и вечером», отмеченное в дневнике 13 октября 1853 г.
- 272 -
3 декабря, записав в дневнике, что «ничего не мог начать», Толстой заметил: «Казачий рассказ и нравится и не нравится мне», а затем назвал «Казачью поэму» в числе четырех тем, которые предстоит обработать. В это время предпочтение отдавалось «Дневнику кавказского офицера», т. е. «Рубке леса».
7 января 1854 г. в дневник внесены два «Замечания к Р<ассказу>1. Замысел романа под этим названием возник лишь в 1857 г. На Кавказе Толстой именовал свое сочинение повестью, рассказом, поэмой, но никогда не называл романом.> Беглец» (видимо, со слов Епишки) — о разрыв-траве и о том, как Епишка табуны угонял. Обе заметки были использованы в черновиках и в окончательном тексте, но это произошло позднее.
Рукопись, содержащая три главы повести и начало четвертой — единственное, что было создано для «Беглеца» на Кавказе. Работа прервалась до 1856 г.
Первое начало повести и в сюжетных положениях, и в обрисовке образов далеко не только от окончательного текста «Казаков», но и от всех других набросков (1857 г.), носящих то же название. Марьяна здесь — замужняя женщина. Молодой офицер, влюбленный в нее, Губков (или Дубков), два года тому назад приехал на Кавказ и недавно поселился в станице, в хате, нанятой у Марьяны. Вполне ординарные причины побудили его уехать на Кавказ: «Жизнь не зависящего ни от кого гвардейского офицера и несчастная страсть к игре расстроили в три года службы в Петербурге его дела до такой степени, что он принужден был взять отпуск и ехать в деревню для приискивания средств выйти из такого положения». Автор иронизирует по поводу иллюзорных планов, которые строил его герой, уезжая на Кавказ, и сочувствует «горьким унижениям», которые тому пришлось испытать из-за своих недостатков, ибо их «не исправил один воздух Кавказа». В этих описаниях — много автобиографического. Как раз в 1853 г. исполнилось два года жизни самого Толстого на Кавказе. Перед отъездом и он находился, как вспоминал об этом в письме к Т. А. Ергольской от 13 марта 1855 г., в «отчаянном положении». И себе давал характеристику, очень близкую той, какая применена к Губкову: «... человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек» (дневник, 7 июля 1854 г.).
Впоследствии, превратив своего героя из Губкова в Ржавского, а затем в Оленина, Толстой отодвинет на задний план эти ординарные причины (долги и пр.) и сделает главным другое: нравственный порыв молодой души и презрение к светскому обществу. Это с самого начала определит идейную и сюжетную завязку произведения. По дороге на Кавказ, на пути из Саратова в Астрахань, Толстой и о себе замечал: «Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней» (дневник, 20 мая 1851 г.)
Внешний облик героини повести в первоначальном наброске мало отличается от всех последующих описаний. Но ее внутренний мир, отношение к любви офицера — иные. Подчеркнута ее резкость, которая проявляется и в отношении к Губкову, хотя она любила его «той понятной земной любовью, которая состоит в желании всегда видеть предмет своей любви и
- 273 -
принадлежать ему». Муж Марьяны, батяка Гурка — заурядный казак, очень мало напоминающий будущего гордеца и удальца Лукашку.
В третьей главе, рассказывая о встрече всею станицей казаков, возвращающихся из похода, и о гулянье в доме Гурки, Толстой вывел под собственным именем дядю Епишку, весельчака, пьяницу и песельника (нет еще и намека на те глубокие рассуждения о жизни, о людях, которые потом будут вложены в уста старого казака при первом же его появлении в гл. XI).
Судя по заглавию — «Беглец» — предполагалось изобразить столкновение Гурки с Губковым из-за Марьяны и бегство казака в горы.
Лишь в 1856 г. Толстой вернулся к этой рукописи. Впервые после 3 декабря 1853 г. «Беглец» упомянут в дневниковой записи 19 февраля 1856 г.: «Пишу прежде всего Епишку или Беглеца». Повесть о беглом казаке отделяется, как и прежде, от очерков по рассказам Епишки.
Судя по сохранившимся рукописям, намерение не было выполнено, как и помеченное 15 мая 1856 г.: «С утра писать <...> казака». Но 4 июня Толстой, решив писать «Дневник помещика», «Казака» и комедию, заметил: «За первое примусь за казака». На следующий день «перечел и кой-что поправил в Казаке» и собирался: «Завтра пишу сначала, пользуясь написанным только как матерьялом». 10 июня снова упомянут «Казак», но предпочтение отдано «Юности».
Работа на этот раз ограничилась карандашными поправками, сделанными 5 июня в рукописи 1853 года. Они коснулись всех трех глав и чрезвычайно любопытны. Как будто смутившись тем, что облик Марьяны слишком опоэтизирован, Толстой чуть-чуть огрубил его. Вместо «была необыкновенно хороша» — стало: «была огромного для женщины большого мужского роста и необыкновенно хороша»; вместо «высокий рост» — «громадный рост». Совсем зачеркнута фраза: «Твердые красные губы и черные продолговатые глаза, полузакрытые длинными ресницами, выражали сознание красоты, гордость, своеобычность, если можно так выразиться, и принужденную скромность». Вместо «отвечала молодая женщина» стало «отвечала звучным, немного пискливым голосом высокая женщина». Губков говорит приятелю офицеру, что он не просто «влюблен», а «влюблен в этого великана». Зачеркнут был конец второй главы, где объяснялось, почему Марьяна, любя Губкова, все-таки прогоняла его. Гурке придана подчеркивающая его невзрачность характеристика: «молоденький безбородый остроглазый казачонок». Так явственно наметился переход к фрагментам и конспектам, написанным за границей в 1857 г., где Терешка (затем Кирка) представлен робким и неумелым возлюбленным Марьяны. У Епишки, напротив, подчеркивается степенное достоинство. Характерна вставка в 3-й главе: «Я тебе рад, ты молодец, — с достоинством говорил дядя Епишка».
Очевидно, размышляя над характером, песнями и рассказами Епишки, Толстой записал 14 июня 1856 г. в дневнике: «Начинаю любить эпически легендарный характер. Попробую из казачей песни сделать стихотворение», а 15 июня отметил намерение «завтра утром <...> писать казака» (повествование в кавказской рукописи оборвалось как раз там, где должно было состояться близкое знакомство офицера со старым казаком — во время охоты). Ни тот, ни другой план выполнен не был.
В рукописи находятся три конспективные записи, намечающие дальнейшее развитие событий. Две: о сватовстве молодого казака к Марьяне, о походе и раннем возвращении офицера, его «вечерах у хозяев» — относятся к 1857 г. (ср. в т. 4 второй серии Конспект № 1); третья: «Объяснение Кирки
- 274 -
с Марьяной. Марьяна говорит, что придет. Кирка ушел на кордон. Ржавский остался в станице. Коли так, то пропадай все. Воровство табунов» — к 1858 г., когда вместо Гурки (или позднее Терешки) и Губкова (или Офицера) появились Кирка и Ржавский.
12 января 1857 г., по дороге из Петербурга в Москву, окончив дела с «Юностью», Толстой перечислял в дневнике замыслы. После «Отъезжего поля» и 2-й половины «Юности» названы: «Б<еглец>», «К<азак>». Еще сказано: «Писать, не останавливаясь, каждый день». Как и раньше, в записи 19 февраля 1856 г., повесть о беглом молодом казаке и рассказы старика Епишки разделены.
Нет никакого сомнения в том, что, уезжая 29 января 1857 г. в заграничное путешествие, Толстой взял с собой рукописи начатых сочинений, в том числе «Беглеца». За границей начался новый период работы.
14 (26) февраля 1857 г., находясь в Париже, Толстой занес в записную книжку: «Кавказское утро — горы, тени, дальние выстрелы, фазаны кричат». 22 марта (3 апреля) в дневнике появилась запись: «Думаю начать несколько вещей вместе. Отъезжее поле и Юность1 и [Кавк] Беглеца».
Рукописи заграничного периода четко выделяются из всего рукописного фонда «Казаков» (по сорту бумаги). Первая — подробный конспект, озаглавленный «Беглец» и начинающийся словами: «У казака Иляски было два сына» (см. во второй серии Конспект № 1). К работе над этой рукописью относятся дневниковые записи и заметки в записной книжке конца марта — начала апреля.
30 марта (11 апреля) задание на завтра: «До обеда и после обеда Беглеца». «Ничего» не исполнив, Толстой снова записал: «Завтра: с 6 писать Беглеца».
1 (13) апреля: «...целый день занимался...». В записной книжке: «Будущность России казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».
2 (14) апреля: «Писал и обдумывал целый день. Приходится все переделать. Мало связи между лицами».
3 (15) апреля: «Ничего не написал, но вновь передумал. Буду писать наикратчайшим образом самое дело. Выходит страшно неморально».
5 (17) апреля: «Кажется, окончательно обдумал Беглеца».
6 (18) апреля: «Кажется, Беглец совсем готов, завтра примусь».
7 (19) апреля: «Написал конспект».
В конспекте основное изложение — на левых половинках страниц; на правых — дополнения, перемены. Намечена фабула всей повести со сложной любовной интригой и драматическим развитием событий: любовь к Марьяне молодого казака Терешки (будущего Лукашки), офицера — ротного командира, не названного по имени, и простого солдата, который «служит» ей «как собака»; поход, женитьба Терешки, тщетные домогательства офицера, столкновение Терешки с офицером, ранение офицера и бегство казака в горы. Конец, видимо, не совсем еще ясный, рисовался по-разному:
1. «Прошло 5 лет. Офицер все стоял в станице, выздоровел, но уж отказался от Марьяны, она его пугнула. Ерошка подбивал его. У Марьянки родился сын, она работала много.
- 275 -
Терешка бежал к Ахметке, сделался вожаком в другие станицы. Его боялись, им пугали. Ночью он пришел к Ерошке. Пощадил офицера. Фатализм его. Ерошка говорит, что не годится убивать людей, и про себя. Офицер расстреливает. Терешка убил его товарища».
2. «Он пошел с чеченцами, убивает многих. Его расстреливают, а она [застреливается] работает и мрачно грустит, никто ничего не знает о ее горе».
3. «Его брата убили чеченцы. Он пришел на похороны.
Марьяна вешается на него.
Любишь меня? Братец! Так прости. Я виновата...
И у сына просит прощенья...».
Образ Марьяны сложился еще в кавказской рукописи, и в конспекте о ней сказано лишь то, что она «верна, трудолюбива, цельна, упорна». Характеристика Ерошки в общих чертах близка к той, какая дается и в окончательном тексте: «Ерошка был в свое время богат и лихой казак и блядун, а теперь был бобыль, беден и стар, жена от него убежала, никто его не уважал, и он все свое время проводил на охоте и пил, ни во что не верил и не тужил ни об чем. Терешку водил с собой и научал его всему и любил за его нрав молодецкий».
Толстой однажды сказал о своих персонажах (в беседе 1883 г. с Г. А. Русановым): «У меня есть лица, списанные и не списанные с живых людей. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры и дает им эту несравненную яркость красок в изображении. Но зато изображение страдает односторонностью» (Толстой в воспоминаниях, 1960, т. I, с. 298). Марьяна и Ерошка в наибольшей мере «списаны» с натуры. В первых же набросках эти образы отлились в яркие фигуры, и впоследствии Толстой старался лишь освободиться от некоторой прямолинейности, «односторонности» в их обрисовке. Два другие главные лица — офицер и молодой казак — создавались в процессе долгих поисков.
В первом конспекте офицер — «богатый молодой человек, храбрый, [честный], благородный по-своему, очень сладострастный и гордый своим образованьем». Любит он «урывками, но злобно и безнадежно». Терешка «мал ростом, худощав, но румян и молодец был на всякую шалость еще смолоду. Девки его любили за то, что голос у него был славный, и он любил девок и гостинцев им покупал, но больше всех Марьянку, дочь станичного. Станичный ее не хотел отдать за него, за то, что он был буян и в воровстве попадался. Воровство у казаков молодечество». Еще добавлено: «Он дон-жуан»; «Терешка сбитый, маленький ростом, с черными короткими руками».
8 (20) апреля 1857 г. было начато повествование о «беглеце». В дневнике за это число отмечено: «Начал Беглеца, пошло хорошо...». После заглавия «Беглец» сначала Толстой написал: «Глава 1. Казачья станица», потом, имея в виду созданные на Кавказе и поправленные в Ясной Поляне три главы, изменил: «Глава 4. Казачья станица», но, снова вернувшись к рукописи, обозначил: «1. Офицер». Рукопись представляет, таким образом, новое, второе по счету начало: «Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека и расположились стоять на зимних квартирах в гребенской староверческой станице». Работа продолжалась до 17 (29) апреля.
10 (22) апреля: «Встал в 8, пописал немного Казака».
13 (25) апреля: «Написал 1/8».
14 (26) апреля: «Немного пописал Казака».
- 276 -
17 (29) апреля: «Чуть-чуть написал прозой Казака».
Были написаны две главы. Их материал, после неоднократных позднейших переделок, лег в основу гл. X и XI повести «Казаки». Но отличия первоначального текста от окончательного весьма существенны. Денщик офицера здесь — старичок, по имени Петров, а не будущий веселый Ванюша. Отношение казаков к пришедшим солдатам — то же, что и в позднейших редакциях. Но здесь даже хорунжий Иляс, в отличие от корыстолюбивого и политичного Ильи Васильевича, «не вставая с места и едва взглянув на приезжего, мрачно сказал, что ему денег не нужно». Дяде Ерошке, с которым офицер знакомится при тех же обстоятельствах, что и в позднейших рукописях, придана «самоуверенная интонация старика и красноречивого человека». Он начинает выступать не только как самый яркий представитель казачьего мира, но и как его судья. «Наш народ ведь глуп, он тебя боится, ты, мол, неверный, русский, а по-моему все человеки», — говорит он. Подчеркнуто свободомыслие Ерошки: «Он не поклонился образам, а прямо подошел к офицеру и протянул ему свою корявую руку».
Дописывая вторую главу этого «прозаического Казака», как назван он в дневнике, Толстой, видимо, уже начал «казачью поэму», о которой мечтал на Кавказе. На другой день после писания «чуть-чуть прозой Казака», 18 (30) апреля, помечено: «Написал немного поэтического Казака, который мне показался лучше; не знаю, что выбрать».
Это новое, третье, начало написано в большей части ритмической прозой (в размере анапеста). Озаглавлено, как и прежние, «Беглец». Содержит главу «Старое и новое» и начало второй — «Ожиданье и труд». Весь текст разделен цифровыми обозначениями на короткие фрагменты — строфы будущей поэмы. Рассказывается о проводах казаков в поход за Терек, поэтически рисуются отношения Марьяны с «побочином» — молодым казаком Терешкой-Урваном. Терешка «беден, гулял и некрепко держал старую веру», и потому за него не хотят отдать Марьяну. «В виноградную резку Марьяна потайком от отца два раза ходила ночью в заброшенный сад к Урвану; и Урван целовал и обнимал ее и говорил, что из похода он вернется богатым и что тогда дедука Илюшка согласится на их свадьбу». Марьяна горюет о том, что Терешка «так простился с ней, ничего не сказал». Все это очень мало походит на то, что будет потом в повести «Казаки». Об Урване говорится, что он, когда «был дома, не слушал своей матери и ничего в доме не работал, а только гулял с молодыми казаками». Дядя Ерошка называется здесь Гырчик (или Гирчик). В отличие от картины, представленной затем в «Казаках», Марьяна, как и ее мать, грубо разговаривает с Гирчиком, а «строгий старик», Марьянкин отец, ласков с Гирчиком и чинно беседует с ним. Илья, правда, жаден, и из предложенных Гирчиком фазанов выбирает себе «одного пожирнее». Но все-таки они оба — воплощение «старого», старинных казачьих нравов. Гирчик здесь «вошел в избу, помолился и сел с стариком Ильей за стол <...> Они молитву прочли и выпили оба...». Затем Илья стал жаловаться на новые дурные времена: хлеб дорог, а чихирь дешев и т. п. Гирчик уговаривает его не тужить, хотя потом сам бранит новое, впрочем, по другой причине: «Нынче все не народ — дрянь». Впоследствии хорунжий превратится в типичного представителя «нового» казачества, испорченного деньгами и грамотностью, и будет презрительно относиться к любителю старины — Ерошке.
Текст «поэтического Казака» почти совершенно не использован в окончательной редакции повести. Но это — важный момент в работе над всем
- 277 -
произведением. «Объективная сфера», эпическое начало, народная жизнь, ее поэзия и правда, которые будут впоследствии доминировать в «Казаках», здесь впервые выступают на первый план. До офицера, может быть, не дошел рассказ, но он даже не упоминается.
Позднее, в 1858 г., работая над «кавказским романом», Толстой держал в руках эту рукопись. На обороте последнего листа заметка: «Начало 2-го письма и то, что она не пускает его». Это говорится об офицере, отправлявшем в Москву письма своему приятелю.
22 апреля (4 мая) 1857 г. Толстой написал из Кларана П. В. Анненкову: «Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил как-то, я начал в 4-х различных тонах, каждого написал листа по 3 — и остановился, не знаю, что выбрать или как слить, или должен я все бросить. Дело в том, что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, объективную сферу и ошалел: во-первых, по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать; но до сих пор это обилие и разнообразие равняются бессилию. Одно, что меня утешает, это то, что мне и мысль не приходит отчаиваться, а какая-то кутерьма происходит в голове все с большей и большей силой. Буду держаться вашего мудрого правила девственности и никому не покажу и предоставлю одному себе выбрать или бросить»1.
Через два дня после того, как было отправлено письмо, в записной книжке появилось: «К К<азаку>. Девка целует на улице ребенка. Маленькие девчонки водят хоровод». И некоторое время спустя: «К К<азаку>: Молодого, влюбленного, всеми любимого офицера, которого убьют».
Первая из этих заметок очень скоро была реализована в новой рукописи, начатой 18 (30) мая на листочках тонкой почтовой бумаги заграничной выделки. Вторая заметка не была развита, но она свидетельствует, что драматический любовный сюжет продолжал жить в творческом сознании Толстого.
Заглавие новой рукописи — «Беглый казак» (впервые появилось вместо прежнего «Беглеца»). Глава 1 названа: «Праздник». Текст, как и в «поэтическом Казаке», поделен на фрагменты (здесь их десять). Вторая глава «Сиденка» лишь начата.
- 278 -
Работа над этой рукописью продолжалась в мае—июле и удостоверяется дневником.
18 (30) мая: «Немного писал Казака...».
19 (31) мая: «Писал Казака».
25 мая (6 июня): «Утром писал славно дневник путешествия, после обеда немного Казака...».
29 мая (10 июня): «Отлично обдумал Беглого казака и апробовал написанное».
30 мая (11 июня): «Написал больше после чаю 5 листков Беглого казака».
31 мая (12 июня): «На пароходе чуть-чуть пописал». В тот же день в записной книжке подчеркнуто: «Писать Казака и Отъезжее поле, не останавливаясь для красоты, а только чтобы было гладко и не бессмысленно». И два дня спустя: «Кирка решительный, но из хитрости все выспрашивает».
На полях рукописи то же: «Кирка решителен, но неумелый». Заметки были использованы в созданных затем сценах разговора с Ерошкой, когда Кирка выспрашивает, как ему вести себя с Марьяной, и затем свидания с нею.
7 (19) июня: «Писал листочка 2 Казака».
12 (24) июня, вопреки недавнему намерению никому не показывать, Толстой читал «Беглого казака» В. П. Боткину: «ему понравился». В конце записи подведен итог дня: «Ровно ничего, исключая успеха Казака».
13 (25) июня: «Написал свиданье, хорошо, кажется». Свидание Кирки с Марьяной, разительно отличающееся от соответствующего эпизода в гл. XIII «Казаков», впервые появилось в этой рукописи.
15 (27) июня в записной книжке две заметки: «Марьяна с серыми глазами, черная»; «К К<азаку>1: Росистое поле на луне — светло прозрачно». Обе реализованы, вторая — почти буквально: «Кирка остановился. Перед ним прозрачно светлела освещенная месяцем росистая поляна».
В соответствии с заглавием, в первой, довольно просторной главе рукописи повествуется о праздничном дне гребенской станицы (станица, как и прежде, не названа). Рассказ медлителен, как сама изображаемая жизнь. Об офицере — ни слова (речь до него не дошла). В центре — Кирка. О нем сказано, что это «высокий, весьма стройный, гибкий и красивый казак, но робкий и неумелый». Увидев Марьяну, Кирка «закраснелся, не знал, что сказать и, опустив глаза, стал неловко переминаться с ноги на ногу». Эта робость Кирки особенно удивляет в сравнении с гордым удальством Лукашки, в которого он превратился позднее и о котором рассказано на полях и между строк этой же рукописи, при правке части ее в 1858 и потом 1862 г.
Первоначально, придя на станичную площадь с Ерошкой, Кирка «неловко взялся за пояс, за папаху, и все лицо его покрылось яркой краской, которая особенно поразительна была при его белых бороде и ресницах». К молодому казаку обращает здесь Ерошка слова, которые затем скажет Оленину: «вот и ходишь, как ты, нелюбимый какой-то». Кирку убеждает он и в том, что если уставщик, т. е. поп, в книжке почитает да монет с него слупит за венчанье, душенька слаще любить не станет — все это «фальшь». Лукашка
- 279 -
не будет нуждаться в таких поучениях. Во внешнем облике Кирки подчеркнуты «щеголеватость и изящество». Его душевные переживания, детально выписанные, аффектированы и ненатуральны. После разговора с Ерошкой: «Молодой казак был в сильном волнении. Глаза его огнем блестели из-под белых ресниц, гибкая спина согнулась, руки оперлись на колена, он, беспрестанно прислушиваясь к удаляющимся шагам старика и к песням с площади, поворачивал то вправо, то влево свою красивую голову и, разводя руками, что-то шептал про себя».
Закончив 6 (18) июля рассказ «Люцерн», Толстой снова взялся за «Беглого казака».
9 (21) июля: «Написал листочка 2 Казака. Я решительно разбрасываюсь и оттого ничего не сделаю».
10 (22) июля: «Чуть-чуть пописал Каз<ака>...».
В облике Кирки появлялись новые черты.
11 (23) июля. В записной книжке: «К К<азаку>. Он не стыдлив, а дик». В дневнике: «Казак — дик, свеж, как библейское предание».
В 1858 г. эта рукопись исправлялась и стала главой второй: «Глава 2. На другой день после события на кордоне в станице был праздник». В повести «Казаки» ее материал вошел в гл. XIII и XXXV.
2
По возвращении Толстого в Россию, в августе 1857 г., произошло событие, решительно изменившее планы «кавказской повести».
Еще 17 (29) июня 1857 г., отвечая на взволнованное письмо с рассказом о потрясшем Толстого в Париже зрелище смертной казни, В. П. Боткин советовал: «Из этого современного политического и религиозного хаоса одно только спасение — в мире искусства, и горе тому человеку, для которого заперт этот выход: изноет и разорвется его сердце от озлобления, противоречий, ненависти и бессилия. <...> Можете представить, как освежительно подействовало на меня чтение “Одиссеи” (нужды нет, хоть и в переводе Жуковского), которую я взял с собой из России. Я читаю ее по вечерам, на ночь: усладительная детская сказка, от которой веет чем-то успокоительным, умиряющим, гармоническим. Есть со мной и “Илиада” — тоже благодатный бальзам от современности». Далее следовала просьба: «Продолжайте непременно начатый, и так превосходно, — роман свой, ради Бога — не охлаждайтесь к нему» (Переписка, т. 1, с. 216—217).
Когда дома уже русская действительность больно поразила Толстого, он, видимо, вспомнил рецепт Боткина и принялся читать «Илиаду». Результат оказался поразительный. Толстой вдруг понял, что нельзя продолжать «Беглого казака» так, как он начал его за границей.
Вот следующие одна за другой записи этого времени:
15 августа: «Читал Илиаду. Вот оно! Чудо! <...> Переделывать надо всю Кавк<азскую> повесть».
17 августа: «Илиада заставляет меня совсем передумывать беглеца».
18 августа: «Читал Илиаду. <...> Кавк<азской> я совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним. — Один выход».
- 280 -
Выход не назван, хотя и совершенно ясен — новые поиски. Они начались в те же дни.
12 августа: «Написал вечером легко листочек Казака».
14 августа: «Чуть-чуть пописал...».
17 августа в записной книжке задание: «от 6 до 9 писать К<авказскую> п<овесть>».
24 августа: «Немного попробовал пописать, но не то. Читал Гомера. Прелестно».
29 августа: «Дочел невообразимо прелестный конец Илиады. Всё мысли о писанье разбегаются, и Каз<ак>, и О<тъезжее> п<оле>, и Ю<ность>, и Люб<овь>. Хочется последнее, вздор. На эти 3 есть серьезные матерьялы».
2 сентября: «Встал рано, попробовал писать, нейдет Казак».
6 сентября: «О своем писанье решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать».
В осеннем письме 1857 г. к Боткину и Тургеневу Толстой бранил обличительное направление современной литературы и возмущался словами Щедрина о том, что «для изящной литературы теперь прошло время, <...> что во всей Европе Гомера и Гете перечитывать не будут больше». Но там же называл «нашу литературу, т. е. поэзию» если «не противузаконным, то ненормальным явлением». Сам он с равной неприязнью относился и к политической тенденции, и к попыткам уйти от современности в «чистое искусство».
Боткина, конечно, порадовали нападки Толстого на обличительное направление; но рассуждения о «поэзии» испугали, и он спешил уверить, что здесь дело обстоит благополучно: «поэзия» удовлетворяет «малейшее меньшинство, и этого достаточно». Снова спрашивал о «кавказском романе»: «Вы ни слова не упоминаете о том, пишется ли Ваш кавказский роман? Вы перебиваете его другими работами — неужели у Вас не лежит к нему сердце?» И дальше советовал: «Напишите-ка Ваш Кавказский роман так, как Вы его начали, — и Вы увидите, как Щедрины и Мельниковы тотчас будут поставлены на свои места. В это я так же верю, как в действие солнечного света» (Переписка, т. 1, с. 229—231).
В те же дни Тургенев написал Толстому: «Боткин мне очень хвалил начало Вашего Кавказского романа. Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором. Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 170). Толстой ответил Тургеневу, но письмо не сохранилось. Ответ Боткину известен:
«Кавказский роман, который Вам понравился, я [почти]1 не продолжал. Все мне казалось не то, я и еще после два раза начинал снова. Для меня, я всегда замечал, самое лучшее время деятельности от генваря до весны, и теперь работается, но что выйдет, не знаю» (4 января 1858 г.).
Упомянутые здесь новые начала — две рукописи, созданные уже в России (пятое и шестое начала). Одно называется «Беглый казак»; при правке
- 281 -
зачеркнуто и появилось: «Терская линия». Другое озаглавлено — впервые — «Казаки».
Работа несколько раз отмечена в дневнике 1857 г.
1 ноября: «Начал писать — нейдет. <...> Опять пробовал писать К<азака>, чуть-чуть написал».
9 ноября: «Чуть-чуть пописал».
13 ноября: «Утром писал немного».
2 декабря: «Немного пописал».
3 декабря: «Немного писал».
6 декабря: «Писал немного».
Пятое начало открывается описанием казачьей станицы, давшим впоследствии материал для гл. IV повести. Во второй главе здесь всего несколько строк: «Я приехал жить в Червленную. Квартеру мне отвели у казачьего офицера. Встретил меня мужчина [высокий, стройный] лет тридцати, с острой бородкой, в полинялом лиловом шелковом бешмете, синих узких портках и старенькой желтой папахе. Это был хозяин дома». Шестое содержит одну главу — «Праздник». Дается поэтическое описание праздника в станице; участвуют молодой удалец Епишка и его товарищ Кирка.
Оба автографа относятся к тому моменту работы, когда Толстой решил сделать главным героем молодого Епишку. Во второй рукописи этот факт очевиден; в первой он выясняется из того, что хозяину, в доме которого отвели квартиру офицеру, «лет тридцать». Во всех других редакциях, и ранних и позднейших, хозяин дома — пожилой человек, хотя и моложе Епишки (или Ерошки). В дальнейшем рукопись не была продолжена. На полях — другим почерком, другими чернилами позднейшие конспективные заметки к «кавказскому роману».
Под влиянием «Илиады» общий замысел «Казаков» (само это название появилось после чтения «Илиады») решительно изменился. В качестве одной из главных выдвинулась задача — раскрыть историю и характер казаков как особенного народа. Форма, как всегда, пришла не сразу: в ее поисках Толстой начал с этнографического описания; затем несколько искусственно сместил исторические рамки повествования и решил омолодить Епишку, в облике которого воплотился особенно ярко жизненный идеал казачьего мира. Впоследствии многие черты молодого Епишки будут переданы Лукашке, а Ерошка выступит как великолепное воплощение доживающей истории, в значительной мере чуждой новой станице. Но эпически величавый тон этих фрагментов 1857 года понадобится в повествовании «Казаков».
К концу 1857 — началу 1858 г. относится еще одна рукопись — продолжение четвертого начала, созданного за границей. Озаглавлено оно уже «Казаки», а открывается главой II «Кордон» (в полном соответствии с тем, что начало главы второй «Сиденка» в той рукописи просто зачеркнуто). Глава III «Марьяна» изображает весенние работы в садах, разговоры Марьяны с подругой — то, что впоследствии, в ином виде, составит XXIX и XXX главы «Казаков». Все это писалось впервые. Хотя в сюжетном плане рукопись продолжает четвертое начало, по смыслу, тону и обрисовке персонажей она ближе ко второй редакции главы «Праздник» (с молодым Епишкой).
К работе над этой рукописью, а может быть, и к переделке ее, относится заметка в записной книжке 11 декабря 1857 г.: «Кирка не должен быть влюблен». После сентиментальных томлений Кирки, о которых рассказывалось
- 282 -
в первой главе заграничной рукописи, неожиданными, но вполне оправданными новым характером персонажа оказываются такие, например, детали его поведения: «Кирка полтора месяца безотлучно провел на кордоне. Один раз только, посланный за чихирем, он ходил в станицу. Но станичные все были в садах, и он не видал ни Марьяны, ни матери». В третьей главе о нем сказано: «Кирка купил коня, езжал в станицу, но не сватал Марьяны. Тужила ли о нем Марьяна? Никто не знал этого».
Молодечество дается пока ценой отказа от любви, хотя молодечество это, в сравнении с удалью будущего Лукашки, не столь велико. Выстрелив в абрека, «Кирка в первую минуту не мог говорить от волнения, и лихорадка била его». Когда же каюк с телом пригнали на казачий пост, Кирка проговорил: «Ведь тоже человек был, за что убил его?» В окончательном тексте жалеть убитого станет Ерошка: «Джигита убил, — сказал он как будто с сожалением»; про Лукашку будет сказано иное: «Тоже человек был! — проговорил он, видимо любуясь мертвецом».
Одновременно Толстой продолжал обдумывать сюжет и форму всего «кавказского романа». 11 ноября 1857 г., под влиянием трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», перевод которой прочел ему Фет и тем «разжег к искусству», в дневнике отмечено: «Надо начать драмой в казаке». И затем 14 ноября: «Эврика! для казаков — обоих убили». Предполагалось, по этому замыслу, что убит будет и казак Кирка, бежавший в горы и затем вернувшийся в станицу, и офицер, полюбивший его жену.
К этому времени следует отнести Конспект № 2. Рукопись сохранилась неполно: оборвано обозначение первых трех глав (видимо, там были уже созданные: «Праздник», «Кордон», «Марьяна»). Намечены три части. В первой, после зачеркиваний, остался такой текст:
«Гл. 4. Вечер, приезжают в станицу. Играют с девками, гуляют, вечеринка у Степки, Марьяна уходит. Утром у забора проходит, — любит М<арьяну>.
Гл. 5. Г<убков> и Д<ампиони>.
Гл. 6. Вкратце поход. Марьяна работает.
Гл. 71. Тревога, рана».
2-я часть — совсем кратко: «Офицер с его точки зрения. Приход, любовь, свиданья. Столкновенье». 3-я часть обозначена, но не раскрыта.
В конце 1857 г. Толстому советовал работать над «кавказским романом» не один Боткин, но и Некрасов (также находился летом этого года за границей и знал начало). Критикуя переданный в «Современник» рассказ «Альберт» («Погибший»), редактор журнала обращался к Толстому 16 декабря: «Эх! пишите повести попроще. Я вспомнил начало Вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров — и подивился, чего Вы еще ищете — у Вас под рукою и в Вашей власти Ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения; к знанию жизни у Вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте — чего же еще надо, чтоб писать хорошие — простые, спокойные и ясные повести?» (Некрасов. т. 14, кн. 2, с. 99—100). Толстой ответил 21 января 1858 г.: «Кавказский роман все переделываю в плане и не подвигаюсь».
2 февраля 1858 г. появилась первая, после почти двухмесячного перерыва, запись, относящаяся к «Казакам» (в записной книжке): «Для
- 283 -
каз<аков> след<ующая> форма. Соединение рассказа Епишки с действием».
Уезжая вскоре из Москвы в Ясную Поляну, Толстой отметил встречи в ресторане гостиницы Шевалье с Б. Н. Чичериным («Чичерин говорил, что любит меня»; «Провел ночь у Шевалье перед отъездом. Половину говорил с Чичериным славно»), заставляющие вспомнить будущее начало «Казаков». Но такое начало пока далеко впереди (первая рукопись датируется 1860 г.). Снова вернувшись в Москву, Толстой записал 24 февраля в дневнике: «Еще 3 дня в деревне, очень хорошо провел. Старое начало казаков хорошо, продолжал немного». 25 февраля: «Написал листок Казаков». 26-го: «Писал рассказ Еп<ишки> о переселении с Гребня. Нехорошо. <...> Писал Ерошку». К этому времени относятся и несколько зачеркнутых строк, сохранившихся в автографе рассказа «Три смерти» (л. 8 об.): «Дедука Бурлак колдун был. Его весь полк знал. И батюшка уважал. Без [него] его приказу [на охоту] за зверем и не ходи».
«Старое начало» — это две главы второго начала: «Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека...». Теперь оно было дополнено еще двумя главами (см. т. 4 второй серии). Третья продолжает повествование о денщике, «уладившем все свои дела», его разговоре со старой казачкой и Марьяной; потом действие переносится на улицу, где обсуждается приход солдат в станицу. Четвертая глава — с живописными рассказами Ерошки о переселении казаков при Иване Грозном с Гребня, об отце, о «колдуне» — дедуке Бурлаке и об охотнике, убившем кабана весом в 25 пудов. Все это еще очень далеко от соответствующего текста гл. XIV и XV «Казаков», хотя было использовано в дальнейших рукописях «кавказского романа». Полюбившееся же Толстому начало о приходе двух рот в станицу закрепилось до конца 1858 г.
К февралю 1858 г. относится, очевидно, и Конспект № 3 — первой части романа. Предполагалось 9 глав. Первая: «Рота приходит в станицу. Свиданье К<ирки> с Мар<ьяной>». Последняя: «Абреки, слух о смерти. Марьяна прогоняет офицера». Впервые намечено письмо офицера (гл. 2): «Письмо офицера, его взгляд на прежнюю и теперешнюю жизнь, описание лиц». На обороте листа добавлено: «Письмо. Я люблю. Случилось событие, которое открыло мне глаза. Я был у нее [она не пустила] в садах, она обещала. Слава Богу, что я иду в поход».
Этот конспект в значительной мере реализован в первой законченной редакции первой части «кавказского романа», работа над которой началась тогда же.
1858 год — время наиболее интенсивного писания «кавказского романа». Сохранилось большое число рукописей, почти все — автографы; один из них (в Описании рук. 13) пронумерован Толстым постранично: 1—66.
В дневнике с 18 марта по 9 мая — постоянные записи об этой работе.
18 марта, по приезде из Петербурга в Москву: «Перебирал писанье. <...> Поехал в 8 домой и писал Казак<ов> до часу».
19 марта: «Утром писал Казак<ов>. <...> После обеда писал немного...».
21 марта: «Пописал немного. Я весь увлекся Каз<аками>».
22 марта: «Писал немного».
11 апреля: «Писал с увлечением, письмо офицера о тревоге».
«Письмо офицера о тревоге» — это «2-е письмо офицера», заключительная глава в первой, законченной на этот раз, редакции первой части
- 284 -
романа1. В рукописях ей предшествуют 11 пронумерованных глав. Приходится говорить «в рукописях», потому что многие листы первой редакции позднее перекладывались и вновь исправлялись. Но текстовые связи, нумерация глав, имена персонажей позволяют восстановить первоначальный состав (и его композицию) полностью. Недостает лишь небольшого фрагмента, видимо, утраченного — начала 9-й главы. Заглавие, уверенно установившееся: «Казаки». Первая глава — о двух ротах пехотного кавказского полка, приходящих в станицу. Текст писался заново, с большими переменами. Дело теперь происходит в праздник. Время — жаркий полдень, сперва октябрьский, потом июньский; в этой рукописи последний вариант — майский. Все последующие главы тоже создавались заново, некоторые — впервые. Начиная с 6-й главы офицер получил фамилию Ржавский, оставшуюся неизменной в течение всего 1858 г. Просматривая первые главы, Толстой и там местами изменил: вместо «офицера» — Ржавский.
Молодой человек открыл в станице совершенно новый для себя мир. «Напрасно вы все так сокрушаетесь обо мне...» — так начинает он письмо к приятелю (гл. 11), отправленное спустя полтора месяца после прихода в станицу. Далее следует резкая критика оставленной светской жизни, рассказ о станице, окружающих ее степях и лесах, о ее народе. Затем Ржавский пишет о Ерошке, о его рассказах и песнях, о Марьяне и о прелести охоты в местном лесу. «Дочь моего хозяина... (Эти слова были зачеркнуты в письме)» — так заканчивается глава с первым письмом. Впоследствии почти весь текст письма был зачеркнут Толстым, а его материал вошел в повествовательные — от лица автора — главы. Лишь начало, после изменений и сокращений, стало тоже началом единственного письма, вошедшего в напечатанную повесть (гл. XXXIII).
Отец Марьяны, хорунжий, «жиденький невзрачный старичок с седевшей бородкой и бегающими глазками», называется в этой рукописи Илья Васильевич (Иляска). Вместо Степки появилась Устенька, франтиха и хохотунья, близко напоминающая подругу Марьяны в окончательном тексте повести. Ее возлюбленный — не Иляс, а Назарка; упоминается и «солдатский барин» (будущий Дампиони, а потом Белецкий). Про Кирку сказано, что он «казался очень скромен. Он был одет просто и бедно. На нем была широкая красная черкеска, на ногах спущенные ноговицы и прорванные чувяки и старая шапка. Но в этой простой одежде еще поразительнее выставлялись замечательная красота его лица и сложенья. Он стоял, отставив ногу и засунув оба большие пальца за туго стянутый пояс и немного склонив на бок голову. Он засмеялся звучным смехом, когда Марьяна ударила Назарку, и, еще раз поклонившись, подошел к ней». Так в последнем слое рукописи; среди зачеркнутого — множество вариантов портретной характеристики этого лица, которое было чрезвычайно важно для романической интриги и обдумывалось вновь и вновь. Первоначальное «отвечал Кирка, улыбаясь», например, заменено ярким и выразительным: «отвечал Кирка, улыбкой открывая белые сплошные зубы. Красивое лицо его вдруг осветилось счастливым молодым блеском». Когда ефрейтор проводил по улице солдат, «Назарка отступил, но Кирка насмешливо оглянулся и не тронулся с места. — Люди стоят! Обойди, — проговорил он». Все это уже близко —
- 285 -
по тону, а иногда по тексту — к соответствующим сценам гл. XIII повести «Казаки». Убийства абрека здесь пока нет.
Заново написано свидание Кирки с Марьяной (в три последующие рукописи эти листы просто переносились, подвергаясь некоторым изменениям). Впервые появился (гл. 7) изумительный эпизод с ночными бабочками, летящими на огонь, и Ерошкой. Исправленный несколько раз и в этой рукописи, он дошел до окончательного текста.
В главе 10 иначе изображен разговор хорунжего с Ржавским (в присутствии Ерошки) о плате за квартиру. Хорунжий охарактеризован близко к окончательному тексту: «Илья Васильевич был не только грамотный, но школьный учитель в другой станице, странно соединявший в себе казачье хвастовство и самонадеянность с политичностью подьячего». Отношения его с Ерошкой, которого он называет, щеголяя знанием Библии, Нимвродом Египетским и «ловцом пред господином», что означает попросту охотник, ироничны и даже враждебны. Появился эпизод охоты Ржавского с Ерошкой. При позднейшем просмотре рукописи на полях Толстой пометил: «Не нужно охоты. Скрылись в лесу». Эти листы не вошли в наиболее полную, пятую, редакцию первой части и остались в рукописи № 12 (по Описанию), куда они были последний раз переложены. Но при подготовке повести к печати этот замечательный эпизод был отредактирован Толстым, отдан в переписку, в копии вновь переделан и составил гл. XVIII и XIX «Казаков».
Во втором письме Ржавский рассказывает о своей любви, разговоре с Марьяной, а на следующее утро — тревоге в станице, нападении абреков. Кирка, «хоть и не начальник, сдвинув шапку, весь красный, повелительно кричал товарищам». Когда казаки с гиком бросились на чеченцев, «Кирка был впереди всех». Его ранят. Марьяна, как и в окончательном тексте повести, прогоняет офицера: «Уйди, что тебе, никогда ничего тебе не будет от меня. Уйди, постылый». Кирку берется лечить «татарин с мудрым лицом». Последняя фраза письма: «Никто не удивляется, что Марьяна стоит у ворот и плачет». Позднее заключительные строки письма вычеркнуты и появилось: «[Она ненавидит меня.] Трудно тебе сказать, что я передумал в это время, но я понял одно. Я понял, что тут идет жизнь, серьезная, нешуточная, а я так. Она мне дала минуту счастия, но минута не повторится, и мысль эта ужасно тяжела для меня. Я знаю, что было бы дурно, тем более, что Кирка мне обязан, роман мой кончен. Я был счастлив, но мне грустно».
На полях письма о тревоге различные пометы. Среди них одна зачеркнутая: «Когда она уже замужем». Видимо, замысел состоял в том, что любовь Ржавского к Марьяне разовьется в сильную страсть, о которой он писал теперь, лишь после ее замужества. На обороте последнего листа — конспект, озаглавленный «Кирка» (судя по всему, название второй части романа), намечающий дальнейшее развитие событий (см. во второй серии Конспект № 4).
Размышления о «кавказском романе» Толстой одновременно заносил в дневник и записную книжку.
14 апреля: «...уяснил себе конец романа. Офицер должен разлюбить ее». 20 апреля: «У Кирки сестра немая». 23 апреля: «Предлагает жениться Марьяне».
В бумагах «Казаков» сохранились конспекты (№ 5, 7), где обозначены события «2 ч.» и «3 ч.», а в конспекте 7-м даже и «Эпилога» (казнь казака).
- 286 -
Вероятно, к 5-му конспекту, начинающемуся словами «И опять пришла любовная весенняя ночь, и опять муки...», относится дневниковая запись 12 апреля: «Писал с [удовол<ьствием>] богатством содержания, но неаккуратно. Бегство в горы не выходит». И 13 апреля: «Заколодило на бегстве в горы».
«Запнувшись» на «бегстве в горы», т. е. на второй части, Толстой вернулся к первой.
15 апреля: «Написал 2 листа. Переписка».
16 апреля: «Написал лист и не совсем хорошо. Нечего делать. Буду продолжать; стараясь лучше, но не переделывать клоками».
17 апреля: «Написал 1½ листа...».
18, 19 апреля: «Писал мало и дурно».
23 апреля: «Писал немного письмо Ржавского».
24 апреля: «Писал п<исьмо> Р<жавского>. Идет на лад...»
25 апреля: «Писал конец письма. Небрежно, но идет».
В этот день Толстой получил от своего бывшего батарейного командира Н. П. Алексеева второе письмо с текстами «песен, певаемых в станице Старогладковской» (первые пять были направлены раньше, в ответ на просьбу Толстого). Начиная с этого времени, со второй именно редакции, песни, варьируясь, начали входить в «кавказский роман». Некоторые останутся и в напечатанной повести.
26 апреля: «Перечитывал все и переделывал. <...> Поотделал Кордон, много новых мыслей. Христианское воззрение».
И наконец 30 апреля: «В романе дошел до 2-й части, но так запутанно, что надо начинать все сначала или писать 2-ю часть».
Запись фиксирует окончание второй редакции первой части.
Заново были написаны гл. 12 (окончание первого письма Ржавского), начало 13-й — о впечатлении, произведенном на Кирку и станичников поступком офицера («Слышь, Кирке 50 монетов бросил поручик-то») и новое второе письмо Ржавского, помеченное как глава 14.
Начальный фрагмент 13-й главы обрывается фразой: «Кирка стоял на посту на Тереке». Но глава «Кордон» уже имелась в прежних рукописях (продолжение четвертого начала) и на этот раз была лишь исправлена. На полях, например, вписано: «Сова, через два взмаха крыльями хлопая крыло о крыло, пролетела в лес вдоль Терека, потом чаще, каждый раз хлопая крыло о крыло, она влетела в деревья, зашуршала и села». Вставка точно соотносится с дневниковой записью 20 апреля 1858 г., сделанной в Ясной Поляне: «Прелестный день, прет зелень — и тает последнее. Грустил и наслаждался... Сова пролетела, через раз хлопая крыло о крыло, потом чаще и села».
Второе письмо Ржавского, которое в предыдущей редакции рассказывало о тревоге и ранении Кирки, теперь посвящено вечеринке. Здесь впервые появляется поручик Дампиони, «малый довольно хороший, немного образованный или, ежели не образованный, то любящий образованье и на этом основании выходящий из общего уровня офицеров». Далее Ржавский признается: «А я, ты знаешь, имею природное отвращение ко всем битым дорожкам, я хочу жить хоть трудно, мучительно, бесполезно, но неожиданно, своеобразно, чтоб отношения моей жизни вытекали сами собой из моего характера». О Марьяне Ржавский сначала говорит лишь то, что ему «интересно следить за романом, который происходит между Киркой и хозяйской дочерью». О Кирке сообщается, что «он отличился с месяц тому
- 287 -
назад, убил чеченца и с тех пор, как кажется, и загулял. У него уже есть лошадь и новая черкеска». «Странное дело, — замечает по этому поводу Ржавский, передавая возникшие у автора «христианские» мысли, — убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой-нибудь прекрасный поступок. А еще говорят, человек разумное и доброе существо. Да и не в одном этом быту это так, разве у нас не то же самое. Война, казни. Напротив, здесь это еще меньше уродливо, потому что проще». Рассказывает Ржавский и о том, что он был на кордоне, когда выкупали тело. О брате убитого сказано: «Трудно тебе описать ту молчаливую строгую ненависть, которую выражало его худое лицо. Он ни слова не говорил и не смотрел ни на кого из казаков, как будто нас не было. На тело он тоже не смотрел. Он приказал приехавшему с ним татарину взять тело и гордо и повелительно смотрел за ним, когда он нес его в каюк с казаками. Потом, не сказав ничего, он сел в каюк и переплыл на ту сторону».
Все это даст материал для гл. XXI «Казаков», где заменится повествованием от авторского лица (правда, Оленин будет присутствовать при сцене выкупа тела). На верхнем поле первого листа этого автографа помета: «Не нужно письма».
Заканчивалось письмо словами: «Я хочу не ходить больше к хор<унжему>. Она слишком хороша. Она... Ничего, ничего, молчание». Потом весь последний абзац зачеркнут. Осталось: «С тех пор, как я дал деньги Кирке, я замечал, что хозяин стал со мной любезнее и приглашает к себе и приглашал с ними в сады на работы».
К этому периоду относится, по всей видимости, еще одна рукопись (в Описании № 16), представляющая собою третье письмо. На полях заголовок: «[Письмо]». Все оно — рассказ о любви: «Я давно не писал тебе, потому что не мог писать. Со мной случилось необыкновенное и до сих пор продолжается и надеюсь, продолжится на всю жизнь...» Потом такое вступление вычеркнуто, на полях помета: «холоднее и спокойнее». Новое начало: «Ты предполагал, что кончится тем, что я влюблюсь в казачку, и угадал; но угадал совсем не то, что случилось». Кончается письмо взволнованными словами: «Да нет, я теперь счастлив, как никогда не был в жизни. Стоит мне вспомнить ее в то время, как она сказала: “А куда Кирку денем?”, безумные надежды передо мной, и я счастлив, как никогда не был в жизни».
Во время переделки текста написана вставка, прямо перекидывающая мост ко второй части романа: «Я знаю, что, по прежним понятиям моим, то, что я делаю, скверно и глупо. Что будет с Киркой, что будет с ней, что будет со мной. Но пусть будет, что будет. Мгновенье счастья с этой женщиной и больше ничего не хочу от жизни». На полях вопрос: «Но настоящее ли это?», намекающий на события третьей части, где офицер должен был разлюбить Марьяну.
Все три письма Ржавского написаны очень взволнованно и горячо. Чувствуется, что Толстой высказывал здесь свои заветные мысли и сильные переживания. Отразились и тогдашние увлечения: роман с яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной.
В печатной редакции эта рукопись 1858 г. даст материал для второй части письма Оленина. Вторая половина письма преобразится в гл. XXXIV — от лица автора.
Обилие писем — главная отличительная черта второй редакции. По конспекту (№ 6) этого времени предполагалось, что во всем романе, трех
- 288 -
его частях, их будет восемь. Помимо трех, еще пять: «4-е. Абреки, благодеяние oblige <обязывает>. Я ухаживал за ним. 5-е. Из похода, она вышла замуж. 6-е. Опять я вижу ее. 7-е. Ты, верно, слышал. Я виноват. 8-е. Я видел казнь».
Однако последующая работа пошла по иному, более объективному руслу.
29 апреля 1858 г. Толстой перечитал свой кавказский дневник. 30 апреля отмечено: «Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик. Напротив, а все-таки, как прошедшее, очень хорошо. Много напомнило для кавказского романа».
1 мая: «Ничего не писал, но нашел значительную перемену. Марьяна должна быть бедная, также как и Кирка. Отчего это так, Бог знает». Дальше задание, как и 2 мая, «писать роман». В тот же день в письме А. В. Дружинину сказано кратко: «Копаюсь за романом и хозяйничаю немножко, и соловьи, и природа, и чтенье, и музыка — дел не оберешься».
Третья редакция, составленная в это время, включила четыре главы предыдущих (1 — «Две роты кавказского пехотного полка...»; 2 — «К вечеру хорунжий явился с рыбной ловли...»; 3 — «Между тем народ возвратился с работ...»; 4 —«Ржавский весь этот вечер и часть ночи провел с дядей Ерошкой...»); 5-я глава — авторское описание станицы (она названа — Новомлинская) и казачьей жизни: «Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро...». В шестой главе — два письма Ржавского. Первое — переложенное из прежней рукописи, второе — новое: об охоте в кавказском лесу и о том, как, заблудившись, он вышел на кордон. Много говорится о голосе и пении Кирки. Здесь он впервые поет ту самую песню — «Из села было Измайлова», полный текст которой Толстой получил лишь 25 апреля (см. с. 267). На полях запись о намерении Ржавского: «Я хочу его сделать христианином». О Ерошке сказано: «Дядя Ерошка был для него <Ржавского> выражением всего этого нового мира, и слова его производили сильное влияние на молодого человека. Чего ни испытал, чего ни видал этот старик? И несмотря на то, что за спокойный эпикурейский взгляд был виден во всех красноречивых словах его, во всех певучих самоуверенных интонациях». Впоследствии это вычеркнуто, потому что заменялось живыми картинами, сценами. Вообще рукопись позднее сильно и много правилась, в частности, при включении в наиболее полную — пятую редакцию первой части «кавказского романа», где Кирка был переименован в Лукашку.
3 мая в дневнике записано: «Еще обдумал К<азаков>. М<арьяна> Соболька1. Хочу попробовать последние главы, а то не сойдется». 9 мая намерение было выполнено: «Немного невнимательно пописал — Возвращ<ение> К<ирки>».
Автограф на четырех листах небольшого формата, написанный почти без помарок, сохранился. Начинается словами: «Прошло два года <первоначально: “почти шесть лет”> с тех пор, как Кирка бежал в горы». Это
- 289 -
фрагмент третьей (не второй, как сказано в Описании, рук. 18) части романа.
Сообщается, что в станице ничего не знали про Кирку. «Говорили, что в прошлом году видели его между абреками, которые отбили табун и перерезали двух казаков в соседней станице; но казак, рассказывавший это, сам отперся от своих слов. Армейские не стояли больше в станице. Слышно было, что Ржавский выздоровел от своей раны и жил в крепости на Кумыцкой плоскости. Мать Кирки умерла, и Марьяна с сыном и немой одна жила в Киркином доме». Так был осуществлен записанный 3 мая замысел, что Марьяна должна быть «бедная». Ни в одной из рукописей первой части романа, как и в окончательном тексте повести, нет ситуации, чтобы Марьяна еще девушкой была «бедная, как и Кирка».
Далее рассказывается, как в мокрый и темный осенний вечер Ерошка, возвращаясь с охоты, заходит к Марьяне. Про Марьяну говорится, что «она теперь только, казалось, развилась до полной красоты и силы. Грудь и плечи ее были полнее и шире, лицо было бело и свеже, хотя тот девичий румянец уже не играл на нем. На лице была спокойная серьезность». «Курчавый мальчишка ее сидел с ногами на лавке подле нее и катал между голыми толстыми грязными ножонками откушенное яблоко. Совсем то же милое выражение губ было у мальчика, как у Кирки». В лице Марьяны «была кроткая грусть и сознание того, что она угащивает старика». Ерошка выпрашивает у нее Киркино ружье, Марьяна не отдает: ружье понадобится сыну, как он вырастет. Старик укоряет Марьяну, зачем она пана от себя отбила, и обещает разведать про Кирку.
Неожиданно, в эту же ночь, Кирка с чеченцем приходит в станицу и стучится в окно к Ерошке. Рассказывается их встреча. Марьяна увидела Кирку и просит Ерошку пустить ее. Войдя в хату, она «упала в ноги мужу». Не ожидая добра от этого свидания, Ерошка крикнул, что станичный идет с казаками. Кирка и чеченец убежали.
На третий день, в праздник, Кирка появился в часовне. «Два казака сзади подошли, схватили; он не отбивался».
Далее — конспект письма Ржавского, тема которого намечалась в плане восьми писем: «Я вчера приехал, чтобы видеть страшную вещь. К<ирку> казнили. Что я наделал! и я не виноват, я чувст...».
В 1860 г. Толстой еще раз напишет эпизод возвращения Кирки; но обе рукописи останутся достоянием архива.
К апрелю — маю 1858 г. следует, видимо, отнести еще три небольших фрагмента, сохранившихся среди автографов «Казаков» (в Описании рук. 22—24).
25 апреля в дневнике отмечено: «Теперь все переделать надо в лето». Одна из рукописей так и начата: «Был август месяц». Изображается работа в садах, резка винограда.
Рассказ о весенней работе Марьяны и ее подруги Степки в садах, их разговор в тени персикового дерева был уже однажды написан (гл. III «Марьяна» в продолжении четвертого начала). Теперь Толстой решил ввести в этот эпизод офицера и разговор его с Марьяной. Попробовав в старой рукописи исправить текст и продолжить рассказ, скоро отказался от этой мысли, взял чистые листы бумаги и стал писать заново. Рукопись (в последнем слое) уже близка к гл. XXIX—XXXII окончательной редакции «Казаков». Развязка эпизода здесь, однако, иная. В «Казаках», после разговора с Марьяной в садах, Оленин всю ночь провел на дворе, тщетно дожидаясь ее,
- 290 -
потом постучал к ней и был застигнут Назаркой. Марьяна там, как всегда, величаво-спокойна: «Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него». — В рукописи ситуация другая:
«Поздно вечером, вернувшись домой, Марьяна до ужина вышла за ворота, но постояльца не было на крыльце на своем обычном месте. Ей было досадно, что он не договорил ей того, что начал. Проходя назад, она заглянула в окно его хаты. Было пусто и темно.
— А где пан твой? — спросила она у Петрова, который сидел на завалинке.
— А Бог его знает, пришел, оседлал лошадь и поехал куда-то. Ничего не боится. То-то глупость».
Как обычно в рукописях, еще нет многих выразительных художественных деталей, которые появятся в окончательном тексте.
Например, нет характерных реплик матери и отца Марьяны в их разговоре со Ржавским:
«— Приходи, шепталок дам, — сказала старуха.
— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, — сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи, — в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананазных варений и мочений кушали в свое удовольствие».
Позднее появилась такая деталь описания: «Зарьявшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть». И яркая сцена: «Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал Марьяне.
— Все резать? Эта не зелена?
— Давай сюда».
В автографе много зачеркиваний, вставок, помет на полях. Например: «Влияние офицера на Марьяну. Проводы в набег»; «Проводы. Кирка приходит сватать. Офицер сидит»; «Известие о ране Кирки. Как это случилось».
Другой фрагмент (помечено: «Глава») — новое описание станичного праздника, близкое к гл. XXXV—XXXIX окончательной редакции, также относится к весенней работе 1858 г.: герой постоянно называется Киркой. В рукописях, созданных осенью этого года, появится Лукашка.
В автографе довольно большая правка и заметки, относящиеся к более позднему времени: «Покуда Л<укашка> за табуном, разговор с Назаркой о М<арьяне> и с д<ядей> Е<рошкой>». Действие происходит ранней осенью: «Осенняя ночь свежа и безветренна...». Перед заключительным абзацем — строка точек: эпизод вечеринки уже находился в более ранней рукописи и был там поправлен.
Нет еще некоторых песен, которые появятся в печатном тексте. Две из присланных Н. П. Алексеевым в марте песен («Из-за лесику, лесу темного...» и «Как за садом, за садом») будут вписаны в последнюю сохранившуюся копию «Казаков» (в Описании рук. 39).
Третий фрагмент — тоже автограф, обозначенный как «Глава 5»: «Было 5 часов утра. Петров раздувал голенищем самовар на крыльце хаты». Это будущая XXIV глава «Казаков», и тексты близки. На полях предпоследнего листа помета: «Письмо», явно отсылающая к одному из писем Ржавского, уже находившемуся в бумагах Толстого.
- 291 -
Описывается утро Ржавского, приход Дампиони (Белецкий появится лишь в 1862 г.) и приглашение на вечеринку. Весь текст написан заново, хотя и с использованием второго письма Ржавского к приятелю.
О Ржавском, возвращающемся после купанья в станицу, здесь сказано: «Он чувствовал, что хорош и ловок». Позднее, при подготовке рукописи к печати, будет добавлено: «И похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат». Беседуя с Дампиони, Ржавский говорит о себе, что до отъезда на Кавказ он «был слишком серьезно занят одной женщиной», которую «любил и уважал», чтобы теперь «мог заниматься другими», и признается, что не может уважать казачек. Что касается Дампиони, он по-прежнему веселый, добродушный малый. Перед вечеринкой, сидя у себя в квартире, он занят «стрельбой в окно по воробьям» (его преемник, Белецкий, будет лежать на кровати и читать «Трех мушкетеров»).
Все три рукописи (до настоящего издания никогда не публиковавшиеся) можно считать кусочками текста четвертой редакции первой части «кавказского романа», написанными заново в связи с решением отнести время действия к сбору урожая.
Летом 1858 г. работа над «Казаками» приостановилась. 12 июня, после почти месячного перерыва в записях, в дневнике отмечено: «Все это время ничего не писал. Занимался хозяйством, но больше беготней...». В записной книжке продолжали появляться заметки: «Казачка молча ночью стоит перед ним и жмет крепко его руки, ломает пальцы...»; «К К<азакам>: Ему кажется, что он не любит ее, кажется, что он притворяется. Вдруг она изменяет». Все это — об отношениях офицера и Марьяны после бегства Кирки.
Осенью, вероятно, после 20 сентября, когда Толстой возвратился из Москвы в Ясную Поляну, работа возобновилась. К сожалению, дневник в это время велся очень нерегулярно. За два с лишним месяца — от 20 сентября до 27 ноября — всего три записи. В одной из них, от 30 октября: «Переписывал Казака. Надо еще раз». И 27 ноября: «Вечер писал отлично секрет и вижу в будущем все хорошо».
Упоминание главы «Секрет», однажды уже написанной, поправленной («Кордон»), но теперь выполненной снова, позволяет отнести к этому времени автограф (в Описании рук. 19), начинающийся так: «Глава 1. Молодой гребенской казак стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста...». Опять новое начало! Время действия этой главы — июль. Текст, в особенности в первом его слое, без позднейшей правки, достаточно далек от соответствующих мест напечатанной повести. Это начало пятой редакции «кавказского романа».
Кажется странным, что сочинение называется в дневнике «Казак» (не «Казаки»). И 6 декабря тоже: «Привел в порядок бумаги. До обеда буду переделывать начало Казака...». В копии нового начала (сохранился маленький фрагмент): «Беглый казак». Видимо, в этот момент Толстой так хотел назвать весь роман.
В новом автографе молодой казак сначала носит имя Кирка. Но вдруг, дойдя до известного и по печатному тексту эпизода, когда казаки обсуждают, кому же идти в секрет, и Ерошка спрашивает: «А кто у вас в секрет идет?», слышится:
«— Марка, Марка твой идет, — ответил шутник, указывая на» Затем Толстой написал было: «Кирк» и тем же взмахом пера: «Лукашку».
- 292 -
Далее читается так: «— А, Лука-Марка. Ну [ладно] карга, карга, — отвечал старик, [называвший К<ирку>] прозвавший Лукашку Маркой же потому, что [два], по его мнению, Лука-Марка, два святителя, было одно и то же». Потом до конца рукописи — Лукашка (правда, встречаются описки, тут же исправленные, иногда оставшиеся).
Сохранился вариант окончания главы, тоже с Лукашкой.
В повести «Казаки» сцены на кордоне составят четыре главы (VI—IX) и будут существенно отличаться (богатством художественных деталей, портретных характеристик, реплик) от этой, уже не первой редакции всего эпизода.
Видимо, сначала Толстой предполагал второю главой сделать «Праздник» и в заграничной рукописи 1857 г. появилось: «На другой день после события на кордоне в станице был праздник». Рукопись была сильно исправлена. Но там же на полях намечен конспект всего романа (№ 8), где первым пунктом стоит «Секрет», а вторым «Солдаты». К этому конспекту примыкает и другой, написанный на отдельном листе (№ 9). Обозначены 14 глав: восемь — для первой части, еще шесть — для второй. В первой части глава 1-я —«Кордон», 2-я — «Солдаты».
В прежней рукописи первая фраза «Две роты пехотного кавказского полка...» была изменена: «На другой день после описанного события две роты пехотного кавказского полка...» И дальше выправлен весь текст главы (см. варианты в т. 4 второй серии). Кирка заменен Лукашкой. Ржавский пока остался. Правка, хотя и большая, в основном уже стилистическая.
В дальнейшем для пятой редакции некоторые фрагменты писались заново, иногда по несколько раз, но чаще редактировались прежние рукописи.
Появились главы: 10-я, рассказывающая о беседе Лукашки с Ерошкой; 11-я — Ерошка в доме Лукашки, разговоры с матерью, заботящейся о том, как женить сына, проводы его на кордон. Все это в исправленном виде войдет в XVI—XVII главы повести. Вместо немой сестры Лукашки в первоначальных этих рукописях действует золовка, жена брата, сердитая рябая баба.
Для разговора с Ерошкой есть и вариант, куда Толстой включил заговор от убийства, который сохранился в бумагах «Казаков» на отдельном листочке (автограф) — «Здраствуйте живучи в Сиони» и вошел в печатный текст гл. XVI. В рукописном тексте 1858 г., видимо, по памяти: «Радуйся, живучи в Сиони...».
К 1858 г. следует отнести и две впервые появившиеся в истории «Казаков» копии (в Описании рук. 31 и 33). Но это уже новая, шестая по счету редакция. Глава 1-я открывается здесь такими словами: «В 184. г., в июле месяце, две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в гребенскую староверческую станицу». Глава 2-я: «Одному из офицеров, поручику Ржавскому, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, или Иляса, как его звали в станице». Глава 3-я: «Ввечеру хозяин вернулся с рыбной ловли...». В Описании сказано, что это копия с несохранившегося оригинала. Скорее — диктовка (судя по опискам, явно слуховым). К этому фрагменту Толстой позднее не возвращался. Вторая копия — повествование, соответствующее гл. XIX—XXII и XXVIII окончательной редакции. В ней — позднейшие, 1862 г., поправки; в частности, Ржавский заменен Олениным (впервые Оленин появился в автографе
- 293 -
нового начала, созданного в 1860 г.: отъезд из Москвы). Самое любопытное в этой копии — ее заключительный фрагмент, озаглавленный: «Часть 2-я. Глава 5-я». Текст начинается так:«Ржавский был прав, полагая, что Лукашка любит его...». Дальше рассказывается, что Лукашка не знал, ходила ли мать сватать его за Марьяну, и беспокоится об этом. Потом — что мать Марьяны «была совсем другая женщина в семейном кругу». Словом, то, что известно по печатному варианту «Казаков». Как и позднейшие конспекты (см. ниже), этот фрагмент свидетельствует, что в 1863 г. появилась не одна первая, а две части «кавказского романа», преобразившиеся в единую повесть. Только в конце повести вместо романического «бегства» Кирки изображен неизбежный отъезд Оленина.
В декабре 1858 г. И. А. Гончаров написал Толстому из Петербурга: «Вас и от Вас ждут многого, между прочим Кавказского романа (нескромность друзей!). Все здесь, Вас недостает, и в каждом собрании Ваше имя произносится, как на перекличке» (Переписка, т. 2, с. 121).
Судя по всему, в 1859 г. Толстой не прикасался к своему «кавказскому роману». Первые месяцы были отданы другому роману — «Семейное счастие», а горькие переживания после его публикации в мае этого года на некоторое время вообще охладили к литературной деятельности. Осенью началось увлечение Яснополянской школой, педагогикой.
Правда, в дневнике и записной книжке «Казак» упоминается несколько раз: 9 апреля («И казака»), 28 мая («Сейчас хочу пописать Казака»), 9 октября («заняться романом вечерком»), 10 октября («начать бы Казака»), но эти намерения не были исполнены.
28 сентября А. В. Дружинин попросил хоть что-нибудь в «Библиотеку для чтения» и спрашивал: «Что Ваша большая повесть и не написали ли Вы чего-нибудь еще в эти месяцы?» (Переписка, т. 1, с. 287). Толстой ответил 9 октября: «Я не пишу и не писал со времени “Семейного счастья” и, кажется, не буду писать. Льщу себя, по крайней мере, этой надеждой. Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главное же — жизнь коротка и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал — совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-богу, руки не поднимаются».
3
В начале 1860 г. настроение и положение дел изменились.
2 февраля Фет написал из Москвы Толстому:«Любезный граф и ментор! Как сердечно обрадовался я, когда от Сергея Николаевича узнал, что Вы снова принялись за “Казаков”. Язык мой слаб для того, чтоб вызвать Вас на Вашу прежнюю писательскую сочинительскую стезю, но не Вам одному, а всем я говорю, что верю в Ваши силы. Вы многого от себя требуете и дадите так многое. Дай Бог Вам. Звать Вас в Москву не хочу; незачем, — а пишите, работайте при тихой лампаде; и да благо Вам будет. А я люблю ловкие вещи, а если Вы скажете, что ночь в “Двух гусарах” вздор, то скажете несуразность. Этот стоячий пруд так и стоит в этой лунной ночи» (Переписка, т. 1, с. 336).
- 294 -
Мрачно сосредоточенный тон письма к Дружинину, где Толстой сообщал об отказе от литературной работы, сменился вдруг брызжущим весельем в ответном письме Фету (15 февраля):
«Дяденька!
Не искушай меня без нужды
Лягушкой выдумки твоей.
Мне как учителю уж чужды
Все сочиненья прежних дней.Показания Сережи несправедливы, никаких казаков я не пишу и писать не намерен. Извините, что так, без приготовления, наношу вам этот удар. Впрочем, больше надейтесь на Бога и вы утешитесь. А ожидать от меня великого я никому запретить не могу».
Между тем «показания» С. Н. Толстого были справедливы. В начале 1860 г. возобновилась работа над «Казаками». Объясняя ту странность, что Толстой отрицал в письме действительный факт, Н. Н. Гусев справедливо заметил: «Объяснить это можно только тем, что, удовлетворяя своему непреодолимому влечению к художественному творчеству, Толстой на этот раз писал только для себя и потому желал избежать всяких дальнейших расспросов и переписки относительно этого» (Гусев, II, с. 358—359). Он претворял в жизнь то, о чем 13 декабря 1858 г. записал в дневнике: «Литература, которую я вчера понюхал у Фета, мне противна. <...> Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать».
16 февраля 1860 г., после двухнедельного перерыва в дневниковых записях, задание: «Писать казаков утром <...> Писать казаков или о книгопечатании до чаю...».
17 февраля: «Вчера все исполнил. <...> Писать казаков (главное, не останавливаясь)».
Затем до 22 мая снова перерыв в подневных записях, но работа над «Казаками», видимо, продолжалась. 26 мая характерное признание: «Странно будет, ежели даром пройдет это мое обожание труда». Это «обожание» явственно дало о себе знать в «Казаках» — в созданном тогда новом начале и в написанных в 1860 и 1862 гг. главах третьей части романа.
Выяснить, что было сделано в начале 1860 г., помогает рукопись, датированная самим Толстым 1 сентября 1860 г. и представляющая собою фрагмент третьей части романа (возвращение Кирки в станицу). В ней действуют Оленин и Ванюша, хотя в последних рукописях, относящихся к 1858 г., оставались еще их предшественники — Ржавский и Петров. Стало быть, в начале 1860 г. было написано что-то и для первой части романа — с этими новыми именами.
Анализ рукописей позволяет отнести к 1860 г. главы, содержащие новое начало романа: отъезд Оленина из Москвы, его дорога на Кавказ, приезд в станицу, вечер в станице и вариант третьей главы, начинающейся словами: «Чем дальше уезжал Оленин...» (в Описании рук. 25 и 26). Наконец появилось начало, которое, после небольших изменений, перейдет в печатный текст. Имя героя тоже останется неизменным. К этому времени можно приурочить два конспекта (№ 10, 11), открывающиеся главой «Отъезд». Во втором содержание первого пункта: «Отъезд из Москвы, его положение в свете, его странное Николаевское развитие, отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хочется» — полностью соответствует тому, как рассказывается об Оленине и его отъезде из Москвы в первых двух главах нового начала
- 295 -
романа. Любопытно, что слуга Оленина назван в этом конспекте Васька (уже не Петров, но еще и не Ванюша).
Новое начало озаглавлено «Марьяна» — видимо, название первой части «кавказского романа». Содержит семь глав: 1. Отъезд; 2. Оленин; 3. Воспоминанья и мечты; 4. Терская линия; 5. Станица; 6. Кордон; 7. — не названа. При этом 6-я и 7-я лишь начаты и оставлено пустое место: эпизоды на кордоне, убийство абрека, приход казаков вечером в станицу, разговоры с девками на площади уже существовали в прежних рукописях.
В новом начале — одна несогласованность как раз с прежними рукописями. В последних автографах 1858 г. (с Ржавским) уже появился Лукашка. Здесь вдруг название 6-й главы «Кордон» исправлено: «Кордон, на котором стоял Кирка» и в предыдущей главе упоминается Кирушка. Возможно, после длительного перерыва Толстой забыл о Лукашке; может быть, решил снова вернуться к прежнему имени. Кирка будет фигурировать и в рукописи фрагмента третьей части, датированной: «Иер. 1 сентября 1860». Потом снова исчезнет. Впрочем, сюжет о «беглом казаке», в течение долгого времени (и многочисленных рукописей) связанный с именем Кирки, останется жить в творческом воображении Толстого и после публикации повести «Казаки».
Автограф первых глав нового начала близок к печатному тексту «Казаков», но есть и существенные отличия. Оленин, например, думает о своей несостоявшейся любви к «барышне»: «Но Боже, зато я теперь и всегда буду любить ее как человека, а она возненавидит меня — и поделом!» В рассказе об Оленине много автобиографических черт — гораздо больше, чем останется потом. Ему так же, как и Толстому, «никакая попытка не обошлась так дорого, как попытка семейного счастья». В дороге Оленин составляет «план мирного покорения Кавказа», занимавший в свое время и Толстого.
Нет еще поэтического описания гор, поразивших Оленина. «А все так же величаво стоят горы и все белее и молочнее выказываются на темнеющем закате» — это все, что сказано здесь о горах.
В августе 1860 г., находясь за границей, Толстой записал в дневнике: «Как будто образуется форма романа». Вскоре после этого был создан фрагмент третьей части. В отличие от написанного в 1858 г. эпизода, возвращению Кирки в станицу здесь предшествует не разговор Ерошки с Марьяной, а его ссора с офицерами после охоты — из-за того, что Ерошка присвоил свинью, убитую не им одним. Впервые в этой рукописи появляется Ванюша. Рассказывается, как Марьяна открыто живет с Олениным.
К этому замечательному фрагменту, написанному с большим творческим подъемом, почти без помарок, Толстой в дальнейшем не возвращался.
27 ноября (9 декабря) 1860 г. в письме к Т. А. Ергольской просьба: «И еще, пожалуйста, пришлите мне мои бумаги, которые оставались на столе в корке “Кавказский роман”. Я просил об этом Сережу, но он забыл, должно быть, а теперь мне это очень нужно. Одно — я боюсь, чтобы это не пропало как-нибудь, поэтому надо просить Иван Иваныча1 подробно узнать как и что. Ежели же это будет стоить дорого, рублей 10, то это ничего». Сообщался адрес: Hyeres.
- 296 -
Рукописи, вероятно, не были присланы. Во всяком случае, нет никаких материалов, подтверждающих дальнейшую работу Толстого над «Казаками» во время этого второго заграничного путешествия.
Возвратившись в Россию, Толстой отметил 12 мая 1861 г. в дневнике: «Приехал домой и забирает [написать] писать казака».
Работа, однако, начата не была. 29 июня этого года Толстой написал М. Н. Каткову: «Повесть, которую я вам обещал, до сих пор лежит нетронутою за кучею дел, заваливших меня со дня приезда — хозяйство, школы, будущий журнал1 и мировое посредничество.<...> Обещать не люблю положительно, но самому хочется спихнуть с шеи неоконченную работу, а что печатать негде, кроме в “Русском вестнике”, в этом вы сами виноваты».
Катков напомнил 26 ноября: «Вы мне говорили прежде, что у вас приходит к концу литературный труд, почти обещав его “Русскому вестнику”. Я не хотел приставать к Вам с напоминаниями об этом деле, более важном для меня, чем для Вас. Но Вы, может быть, сочли бы жестоким равнодушием с моей стороны, если бы я вовсе не стал напоминать Вам об этом обещании. Повторю, что я говорил Вам не раз прежде: не забывайте Вашего истинного призвания, а кто знаком с тем, что уже сделано Вами, тот не может сомневаться в истинном призвании Вашем» (ГМТ; ЛН, т. 37—38, с. 196). В январе следующего года, критикуя педагогическую статью Толстого, Катков снова заметил: «Пишу Вам откровенно, именно в силу моего уважения к Вам, к Вашему таланту, к тому значению, которое Вы имеете и должны иметь в нашей литературе» (там же).
Тогда же произошло событие, о котором сам Толстой рассказал в письме к В. П. Боткину от 7 февраля: «Я здесь — в Москве — отдал всегдашнюю дань своей страсти к игре и проиграл столько, что стеснил себя; вследствие чего, чтобы наказать себя и поправить дело, взял у Каткова 1000 руб. и обещал ему в нынешнем году дать свой роман — Кавказский. Чему я, подумавши здраво, очень рад, ибо иначе роман бы этот, написанный гораздо более половины, пролежал бы вечно и употребился бы на оклейку окон. Что было бы лучше, вы мне скажете в апреле». Рад был и Тургенев, известивший из Парижа 5 (17) марта А. А. Фета: «Толстой написал Боткину <...>, что он в Москве проигрался и взял у Каткова 1000 руб. сер. в задаток своего кавказского романа. Дай-то Бог, чтобы хоть эдаким путем он возвратился к своему настоящему делу!» (Тургенев. Письма, т. 4, с. 353).
Предполагалось, стало быть, что в апреле 1862 г. роман будет напечатан. Уезжая из Москвы в Ясную Поляну, Толстой написал своей тетушке Александре Андреевне: «Дела у меня пропасть и по посредничеству, и по школе, и по журналу, и по роману, который я обещал напечатать в нынешнем году в “Русском вестнике”».
Считая, что написанного ранее материала достаточно на две части, Толстой принялся опять за третью часть. 15 февраля 1862 г. (авторская дата на первом листе) начата рукопись, озаглавленная: «Часть 3-я». В ней содержатся три первые главы и повествование доведено до момента возвращения Кирки (главы, рисующие это возвращение, были созданы раньше).
- 297 -
Третья часть «кавказского романа», таким образом, оказалась написана полностью, если не считать заключительного эпизода — казни беглого казака.
Товарищ Кирки назван в этой рукописи Лукашкой, хотя в старых рукописях первой части это имя уже было дано самому герою. Устенька замужем за вестовым Дампиони, ставшего штабным офицером. Но жизнь станицы идет по-прежнему. «Из всех старых лиц больше всех переменился Оленин. Ему было 28 лет, но в эти три года он перестал быть молод. Молодость его была истрачена. Тот запас молодой силы, который он носил в себе, был положен в страсть к женщине, и страсть эта была удовлетворена». Вскоре после бегства Кирки он писал приятелю из похода, что счастлив. Но, вернувшись в станицу, почувствовал, как многого еще недоставало для счастья. Прошло три года, и он теперь тяготится любовью Марьяны. Уже Марьяна напоминает ему про обещание жениться.
Очевидно, ко времени создания этих глав третьей части относятся конспекты (№ 12 и 13), в которых развивается план любви к Оленину княгини Воронцовой и при этой ситуации излагается окончание первой части («Из похода Оленина послали с донесением к главнокомандующему») и содержание второй и третьей частей романа. Во втором конспекте намечался финал, мелькнувший у Толстого еще в 1858 г., — после казни Урвана (так назван здесь герой) убийство Марьяной Оленина: «Вечер; он дома, она прошла. Она все-таки хороша. Преступно хороша. Он ходит, идет под окно. Выстрел, он убит. Она бежит. Она пришла: “меня вяжите, я убила”. Солдат...». Солдат, влюбленный в Марьяну, должен был взять вину на себя.
Во всем повествовании сказалось то увлечение поэзией крестьянского быта, которое переживал в ту пору Толстой. В письме к приятелю Оленин признается: «Тем-то удивительна жизнь, что курица не может жить в воде, а рыба в воздухе, что Н. Г. не может жить без тротуара, оперы, а я без запаха дыма и навоза». В описании того, как работал Ерошка, виден автор рассказов из крестьянской жизни, которые Толстой начинал в 1860—1861 гг. и все оставил незавершенными: «Дело его так и спорилось, он не торопился, но от одного тотчас же переходил к другому». В рассуждениях Ерошки появляются мысли, которые войдут потом, несколько измененные, в окончательный текст «Казаков»: «И зачем она война есть? То ли бы дело, жили бы смирно, тихо, как наши старики сказывали. Ты к ним приезжай, они к тебе. Так рядком, честно да лестно и жили бы. А то что? тот того бьет, тот того бьет. Наш к ним убежит — пропал, ихний к нам бегает. Я бы так не велел». Появляется новое действующее лицо — пожилой капитан Иван Алексеевич, неравнодушный к Марьяне.
К работе над этим фрагментом Толстой впоследствии не возвращался.
Несмотря на обещание передать в апреле роман для печати, Толстой все не мог взяться за его отделку. 11 апреля 1862 г. написал Каткову: «Я принялся только на днях за свой запроданный роман и не мог начать раньше. Напишите мне пожалуйста, когда вы желаете иметь его. Для меня самое удобное время — ноябрь, но я могу и гораздо раньше. Ежели вам это неудобно, напишите прямо, я вам возвращу деньги (я теперь в состоянии это сделать) и все-таки отдам роман только в “Русский вестник”. Ежели бы и вовсе раздумали, то я с удовольствием бы и вовсе отказался. Пожалуйста, напишите мне обстоятельно и совершенно откровенно». Редактор-издатель журнала ответил 15 апреля: «Что же касается до Вашего романа, то как бы
- 298 -
ни хотелось мне видеть его поскорее в своих руках, я буду ждать его терпеливо. Вы пишете о взятых Вами из редакции деньгах: Вы бы очень огорчили и обидели меня, если бы вздумали предлагать мне их назад...» (Юб.,т. 60, с. 423).
12 мая с учениками Василием Морозовым, Егором Черновым и слугою А. С. Ореховым Толстой уехал на кумыс в самарские степи. Проведя несколько дней в Москве, посетил Каткова. Не приходится сомневаться, что разговор шел не только о журнале «Ясная Поляна», печатавшемся в катковской типографии, но и о «кавказском романе».
Летом работа продолжилась. 28 июня Толстой писал Т. А. Ергольской из Каралыка: «Я нашел приятеля Столыпина атаманом в Уральске и ездил к нему и привез оттуда писаря, но диктую и пишу мало». Вероятно, диктовалась не только статья «Воспитание и образование», но и «Казаки». К этому времени следует отнести два новых начала, созданных, по всем признакам, под диктовку (в Описании рук. 34 и 35). Первое озаглавлено «Марьяна» и далее следует: «Часть 1. Глава 1-я. Приезд в станицу». Текст начинается словами: «[Это было в 185. г.] В 185. г., в мае месяце, перекладная тройка почтовых лошадей, которой правил оборванный широкоскулый ногаец, въезжала в станицу Гребенского полка, в которой стояла пешая батарея». Действуют Оленин и Ванюша. Во втором начале, с тем же заглавием, название первой главы «Дмитрий Оленин» зачеркнуто, оставлена лишь цифра «1», а текст выглядит немного иначе: «В 1850 году [28 февраля] была выдана подорожная по собственной надобности от Москвы до Ставропольской губернии города Кизляра канцелярскому служителю Т-ого депутатского собрания, коллежскому регистратору Дмитрию Андрееву Оленину...». Но позднее в переписку были отданы не эти фрагменты, а исправленный автограф 1860 г. К этому периоду относится и последний сохранившийся конспект первой части (№ 14), где главой первой обозначен «Отъезд», а последней, 13-й, «Вечеринка».
Затем обыск в Ясной Поляне, женитьба отвлекли Толстого на некоторое время от литературных занятий. 9 октября 1862 г. он снова обращался к издателю «Русского вестника»: «Романа своего я в этом году кончить не могу. Могу, однако, напечатать его первую часть, составляющую больше 5 листов, но это мне было бы неприятно». Далее предлагалась для публикации повесть «Поликушка» и обещан роман, «когда он будет кончен». 18 октября в письме к брату С. Н. Толстому сказано: «Писать мне хочется роман, но от Каткова, которому я писал, не получал ответа. А ответ должен решить дело».
Ответ, полученный в ближайшие дни (не сохранился), решил дело в пользу печатания. Началась напряженная работа: исправление копий, дописывание некоторых фрагментов, сокращение всего лишнего, замедляющего действие, художественное усовершенствование всего текста. 21 октября Софья Андреевна замечала в письме к сестре Т. А. Берс: «Левочка тебе не пишет, потому что некогда, писать надо...» (ГМТ). Сохранился автограф (в Описании рук. 29), начинающийся словами: «Лукашка только что вернулся из гор, куда он с помощью кунака только что сбыл трех лошадей, угнанных из ногайской степи» (будущая глава XXXVII повести), где в середине — текст рукой С. А. Толстой, явно под диктовку. Последние стадии работы отражены в нескольких копиях (в Описании № 36 и 37 — первые главы, рукой писца; № 38 и 39, почти полный текст, рукой писца и С. А. Толстой); все они — с исправлениями Толстого. Любопытно, что главы об
- 299 -
Оленине в станице переписывались с рукописей, где он назывался Ржавский, и лишь в копии (рук. 38) фамилия изменена. О размерах авторской отделки текста можно судить по внушительному своду вариантов, который дают эти копии (см. во второй серии). Была еще рукопись, отправленная в печать, но она не сохранилась. На этих последних стадиях работы «кавказский роман» превратился в «Кавказскую повесть 1852 года», окончательно озаглавленную «Казаки».
1 ноября 1862 г. в московском литературно-юмористическом журнале «Развлечение» появились «Заметки свистуна. Новости и слухи», где говорилось о скором появлении в «Русском вестнике» нового романа Толстого, автора «Отрочества». Не зная ни этого объявления, ни, тем более, про договоренность о «Казаках» с М. Н. Катковым, 6 января 1863 г. А. А. Григорьев, «принадлежа к числу самых искренних и жарких поклонников» таланта Толстого, вспоминал в письме личную встречу 1856 г. на кунцевской даче В. П. Боткина и просил новую вещь для журнала «Время»: «Мы слышали, что у Вас есть роман, — и думая, что Ваши убеждения в существенных пунктах не расходятся, а сходятся с нашими — желали бы приобрести его, на условиях, какие Вы сами, разумеется, положите» (Переписка, т. 2, с. 150). Неизвестно, отвечал ли Толстой; письмо Григорьева от 6 января 1863 г. осталось его единственным личным обращением к создателю «Казаков». Сочинения Толстого находились постоянно в поле зрения Григорьева, начиная со статьи «Русская изящная литература в 1852 году» («Москвитянин», 1853, т. I, № 1, кн. I) с отзывом о «Детстве» — до 1864 г., когда в последней своей публикации критик отозвался и о «Казаках»; в журнале «Время», № 3 за 1863 г., появился разбор Я. П. Полонского (см. ниже).
28 ноября Толстой написал Каткову: «Посылаю вам начало повести, любезный Михаил Никифорович. Первая часть у меня вся готова, и дело только за переписыванием. Первая часть составляет как бы отдельное целое. По моим расчетам, она составит листов 7. Чем скорее вы напечатаете, тем для меня лучше. Следующую половину первой части я вышлю в понедельник. Корректуры я прошу прислать мне. Я, как всегда, чрезвычайно недоволен этой повестью и поправлял и переправлял ее до тех пор, что не чувствую возможности над ней более работать <...> Очень желаю, чтобы вам понравилось, и с нетерпением жду вашего мнения; но я просил бы вас до печати никому не давать читать ее». Продолжение рукописи было отправлено не в понедельник, а в воскресенье 8 декабря: «Посылаю вам 2-ю половину 1-й части. Я не послал ее в понедельник, потому что увлекся новыми поправками и дополнениями. Она много выиграла от этого замедления. Этой половиной я гораздо менее недоволен, чем первой. Пожалуйста, поскорее отвечайте мне. Когда будет напечатано, пришлите мне корректуры, и как вам нравится? Я буду в Москве перед праздниками и тогда увижусь тотчас же с вами и продержу 2-е корректуры».
19 декабря 1862 г. в дневнике отмечено: «Кончил казаков 1-ую часть».
Конец декабря, весь январь и начало февраля Толстые находились в Москве. В дневнике дважды упоминаются корректуры «Казаков» — 15 и 23 января 1863 г.: «Поправлял Казаков — страшно слабо. Верно, публика поэтому будет довольна».
В последней сохранившейся копии конец — автограф, написанный на полях и отдельном листе. Завершается так: «Оленин отдал ему флинту и [уехал] тронулся.
- 300 -
— Что передавали ему, старому черту, — сказал Ванюша, — все мало. Попрошайка старый!»
Лишь в наборной рукописи или корректуре появилось окончательное:
«Флинту-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.
Оленин достал ружье и отдал ему.
— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша, — все мало! Попрошайка старый. Все необстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.
— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь. — Вишь, скупой!
Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.
— Ла филь! — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.
— Пошел! — сердито крикнул Оленин.
— Прощай, отец! Прощай, буду помнить тебя, — кричал Ерошка.
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него».
Произведение, работа над которым продолжалась, с перерывами, десять лет, было завершено.
19 января 1863 г. петербургская «Северная почта» поместила корреспонденцию «Из Москвы», сообщавшую о передаче Толстым в редакцию «Русского вестника» новой повести и о скором выходе журнала.
24 февраля 1863 г. в № 42 «Московских ведомостей» появилось объявление о выходе первого номера; в перечне содержания: «Казаки. Кавказская повесть 1852 года. Графа Л. Н. Толстого» (в самом номере опечатка: 1862 года — см. в наст. изд. с. 265).
25 февраля С. А. Толстая сообщила сестре, что «Левочка начал новый роман» (будущая «Война и мир»).
Толстой вспоминал «Казаков» в 1865 г., во всю работая над этим «романом из времени 1810 и 20-х годов», как названа «Война и мир» в октябрьском письме 1863 г. к А. А. Толстой. 30 сентября 1865 г. в дневнике рассуждение: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Braddon, мои казаки, будущее...». Но это «будущее» никогда не наступило, и все связанное с драматическим сюжетом «беглого казака» осталось в черновиках «Казаков». Хотя сам казак помнился всю жизнь. В конце 1904 г., отвечая на вопрос П. И. Бирюкова, Толстой сказал: «Слышал я — это факт, — что казак, который убежал в горы и абреком стал, и убивал казаков, соскучился, пришел в деревню и дался прямо в руки, и его казнили, повесили, и он твердо, спокойно умер» (ЛН, т. 90, кн. 1, с. 119).
Мысли о казачестве внесены в записную книжку 13 августа 1865 г.: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. <...> Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана» (Юб., т. 48, с. 85).
2 ноября того же года, как отмечено в дневнике, Толстой «с наслаждением» перечитал «Казаков» и «Ясную Поляну».
- 301 -
4
Из литераторов первым, и восторженным, ценителем «Казаков» стал А. А. Фет. 15 марта 1863 г. он написал Толстому: «У Борисовых видел “Казаков”, но не стал читать отрывками, пожую с удовольствием дома, когда получу “Вестник”. Борисов1 говорит, что это лучшее, что Вы написали. Давай Бог, я верю в Вас, и чем Вы несуразнее, тем более верю. <...> О “Казаках” побеседую поподробнее с Вами» (Переписка, т. 1, с. 359—360). 4 апреля — письмо, отправленное уже по прочтении повести: «Сколько раз я Вас обнимал заочно при чтении “Казаков” и сколько раз смеялся над Вашим к ним неблаговолением! Может быть, Вы и напишете что-нибудь другое — прелестное, — ни слова, — так много в Вас еще жизненного Еруслана, но “Казаки” в своем роде chef d’oeuvre <шедевр>. Это я говорю положительно. Я их читал с намерением найти в них все гадким от А до Z, и кроме наслаждения полнотою жизни — художественной — ничего не обрел. Одна барыня из Москвы пишет мне, что это прелестно, но не возвышает дух, и видно, как будто автор хочет нас сделать буйволами. Матушка! Тем-то и хорошо, что автор ничего не хочет. Разумеется, так же мало подобные барыни понимают Оленина. Да это и не их дело. Эх! как хорошо! И Ерошка, и Лукашка, и Марьянка. Ее отношение к Лукашке и к Оленину — верх художественной правды.
Я нарочно по вечерам читаю теперь “Рыбаков” Григоровича. Все эти книги убиты Вами. Все повести из простонародного быта нельзя читать без смеха после “Казаков”. <...> когда Оленин, полон надежд, приходит к ней, она говорит только: “У, постылый”. Как это все свято, верно. <...> Неизъяснимая прелесть таланта. Талант — это чистый цвет лотоса или хоть крапивы — все равно, но цвет. <...> “Казаки” должны явиться на всех языках <...> Вы мастер, и Вам книги в руки» (там же, с. 361—362). В следующем письме Фет снова вернулся к повести (критикуя одновременно «Поликушку»): «“Казаки” — Аполлон Бельведерский. Там отвечать не за что. Все человечно, понятно, ясно, ярко — сильно» (там же, с. 363). Не сразу отвечая на эти восторженные письма («Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики»), Толстой заметил в письме от начала мая: «“Поликушка” — болтовня на первую попавшуюся тему человека, который “и владеет пером”; а “Казаки” — с сукровицей, хотя и плохо».
Новое художественное сочинение Толстого, появившееся в печати после четырехлетнего молчания (со времен «Семейного счастия»), с нетерпением ждал Тургенев. Из-за ссоры 1861 г. переписка с Толстым прекратилась (до 1878 г.), но в письмах другим лицам Тургенев много говорил о «Казаках». В январе 1863 г., узнав о свадьбе Толстого, писал его брату Сергею Николаевичу: «...Помнится, я видел его жену еще молоденькой девочкой в доме ее отца. От души желаю ему счастья — и с нетерпеньем ожидаю его возвращения на литературное поприще: говорят, в “Русском вестнике” скоро явится его роман» (Тургенев, Письма, т. 5, с. 91). И в феврале — И. П. Борисову: «С нетерпением жду появления “Казаки” Л. Толстого в “Русском вестнике”» (там же, с. 106). 10 марта Борисов (служивший на Кавказе вместе с братьями Толстыми) ответил: «Мне кажется, что это есть лучшее
- 302 -
из его писаний и что едва ли он когда-либо что напишет подобное. Оленин он сам — это всякий прочтет и увидит, но как он мастерски верно до дна изобразил Лукашку, дядю Ерошку (т. е. Епишку) или его хозяина, ученого хорунжего, его семейную жизнь! — А природу-то Терека в садах, в степи, в станицах — воздух этот с гарью кизяков. Удивительная, непостижимая просто очевидность всего этого мира. — Так я уверен, что Вы насладитесь этими “Казаками”, что не буду больше и говорить. Это дивная повесть» (там же, с. 561). Наконец 7 (19) апреля Тургенев написал А. А. Фету и И. П. Борисову: «“Казаков” я читал и пришел от них в восторг (и Боткин также). Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление. Для контраста цивилизации с первобытной нетронутой природой не было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собою, скучное и болезненное существо. Как это Толстой не сбросит с себя этот кошемар!» (там же, с. 113). Несогласие с толстовским психологизмом оставалось, но летом 1864 г., перечитав «Казаков», Тургенев «опять пришел в восторг. Это — вещь поистине удивительная и силы чрезмерной» (там же, с. 262). В 1865 г., когда под названием «1805 год» появились первые главы будущей «Войны и мира» и Борисов сообщил, что Толстой ставит «Казаков» «гораздо ниже» своего последнего сочинения, Тургенев ответил: «И он ставит этот несчастный продукт выше “Казаков”! Тем хуже для него, если это он говорит искренно» (там же, с. 364—365). В следующем, 1866 г., Тургенев снова писал Борисову: «Я зачитал с г-жой Виардо “Казаки” Толстого — и сугубо наслаждаюсь: экая неподдельная поэзия и красота!» (Тургенев, Письма, т. 6, с. 60).
Содействовал Тургенев и переводу «Казаков» на европейские языки. Еще в 1866 г., отвечая на первое письмо английского историка литературы и критика В. Ролстона, Тургенев написал ему: «Я не могу не порадоваться Вашему намерению более широко знакомить ваших соотечественников с нашей литературой. Не говоря уже о Гоголе, я полагаю, что произведения графа Льва Толстого, Островского, Писемского, Гончарова могут представить интерес, поскольку в них отразилось новое понимание поэзии и способов ее выражения...» (там же, с. 389). Два года спустя в Предисловии к роману Максима Дюкана «Утраченные силы» (появился в «Собрании иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык, издаваемом Е. Н. Ахматовой», т. I, СПб., 1868) сравнивал Толстого с Бальзаком: «... Что великий талант может существовать рядом с непониманием художественной правды в одном и том же человеке — этому поразительный пример Бальзак. Все его лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно, до мельчайших подробностей — и ни одно из них никогда не жило и жить не могло; ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в “Казаках” нашего Л. Н. Толстого» (Тургенев. Соч., т. 15, с. 97—98).
Немецкому журналисту и переводчику Л. Кайслеру Тургенев послал «Казаков» и в письме от 22 марта (3 апреля) 1870 г. спрашивал, понравилась ли повесть. Оценка самого Тургенева оставалась неизменной до конца его жизни. В 1874 г. он собирался «непременно напечатать» в «Revue des Deux Mondes» или «Le Temps» повесть Толстого: «Чем чаще перечитываю я эту повесть, тем более убеждаюсь, что это chef-d’oeuvre Толстого и всей русской повествовательной литературы» (Тургенев, Письма, т. 10, с. 206—207). В начале 1875 г. Толстому было направлено из Парижа письмо с известием: «Гг. Виардо и Тургенев переведут в течение лета “Казаков”» (там
- 303 -
же, т. 11, с. 27). Замысел не осуществился, но в этом году «Le Temps» поместила перевод «Двух гусаров», с восторженным предисловием Тургенева.
В октябре 1878 г. (после примирения) Тургенев писал Толстому из Буживаля: «Вам уже, вероятно, известно, что Ваши “Казаки” вышли в английском переводе (в Лондоне и в Америке) — и, по дошедшим до меня слухам, пользуются большим успехом». Сообщив далее, что «Казаки» печатаются также во французском переводе в «Journal de St.-Pétersbourg» (об этом известила Тургенева переводчица Е. И. Менгден), предлагал посредничество для публикации его во Франции: «Мне будет очень приятно содействовать ознакомлению французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке» (там же, т. 12, с. 361—362).
Эта высокая оценка была вполне искренней и в глазах Тургенева нисколько не преувеличенной. Однако Толстой, переживавший в то время, в 1878 г., острый духовный кризис, поглощенный религиозными и философскими исканиями, отнесся недоверчиво и безразлично к похвалам. «Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю, — ответил он, — но, ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятно сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются». Пораженный этими словами, Тургенев продолжал настаивать на своем. Отвечая Толстому 15 (27) ноября, он повторил, что «Казаки» доставляли ему всегда «большое удовольствие» и «возбуждали удивление» (там же, с. 383). И в конце года снова излагал план нового французского перевода повести.
В 1891 г. двоюродному брату А. А. Долженко А. П. Чехов советовал: «Пока живешь у нас, почитай Толстого. Он на полке. Найди рассказы “Казаки”, “Холстомер” и “Поликушку”. Очень интересно» (Чехов, Письма, т. 4, с. 226).
В те же годы С. М. Степняк-Кравчинский, выступая в США с лекциями о русской литературе, упомянул в одной из них «Казаков» и заметил: «В этих ранних вещах обнаруживается та же философия, которая позднее выступит на первый план. Она проявляется и в сердитых выпадах против цивилизации, и в тяге к чему-то лежащему за пределами интеллектуальных стремлений человека» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 553).
В 1902 г., за четыре года до смерти, В. В. Стасов писал Толстому: «Я перечитываю нынче поминутно разные ваши прежние вещи и смакую их слово за словом, точно какой-нибудь пьяница горький, который полчаса пьет одну и ту же рюмку, все маленькими глоточками, все маленькими глоточками, и еще иной раз возьмет да поднимет рюмку против света и любуется: “Ах, какой и цвет-то чудный!” И опять глотнет. Я таким пьяным образом почитываю то “Казаков”, то “Власть тьмы”, то “Холстомера”, то “Двух гусаров”, то “Плоды просвещения”» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. Л., 1929, с. 292).
И. А. Бунин говорил о «Казаках»: «Это нечто сверхчеловеческое! Я прямо руками развожу. Как можно так писать! Нет, нет! Толстому надо подражать, подражать, подражать, самым бессовестным, самым беззастенчивым образом. Если меня будут упрекать в подражании Толстому, я буду только рад. Все его якобы недостатки, о которых говорят критики, — это величайшие достоинства» («Яснополянский сборник», Тула, 1960, с. 131).
Выступая в 1908 г. на вечере в Тенишевском зале, рассказывая, как он встретился с Толстым на пароходе «Св. Николай» (в 1902 г.), А. И. Куприн говорил об «очаровательном дяде Ерошке, от которого так уютно пахло
- 304 -
немножко кровью, немножко табаком и чихирем» (Толстой в воспоминаниях, 1978, т. 2, с. 282). Он же позднее, в 1910 г., писал Ф. Д. Батюшкову: «А я на днях опять (в 100-й раз) перечитал “Казаки” Толстого и нахожу, что вот она, истинная красота, меткость, величие, юмор, пафос, сияние». Отзываясь на смерть Толстого, Куприн снова вспомнил эту повесть: «Старик умер — это тяжело..., но... в тот самый момент... я как раз перечитывал “Казаки” и плакал от умиления и благодарности» (Куприн А. И. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4, М., 1958, с. 782—783). В 1913 г. Куприн создал рассказ «Анафема», где чтение дьяконом «Казаков» играет такую важную роль в сюжете.
Отзывы литературной критики, особенно 60-х годов, не были столь доброжелательными и единодушными. Современники были поражены подчеркнутой незлободневностью «Казаков». Представленное в повести столкновение образованного человека с миром простых людей, «цивилизации» с «природой» воспринималось как анахронизм, напоминало кавказские поэмы Пушкина и Лермонтова, романтическую литературу вообще. Упоминались и «Цыганы» Пушкина — отчасти справедливо: только в 1854 г., уже после начала работы над своим «Беглецом», Толстой оценил пушкинскую поэму, которой он «не понимал» прежде. Перечитывая два года спустя Пушкина, Толстой опять повторил в дневнике, что «Цыганы» «прелестны». Заглавие «Казаки», очевидно, появилось не без воздействия этой поэмы. И все же в 1857 г., обдумывая идею «кавказской повести», Толстой отверг как недостаточные сложившиеся было у него мысли: что дикое состояние хорошо (у Пушкина: «Мы дики; нет у нас законов...» и т. д.); что те же страсти везде (у Пушкина: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет»); что «добро — добро во всякой сфере» (у Пушкина: «Мы не терзаем, не казним... Мы робки и добры душою»). Толстой искал для своего сочинения новых идей, созвучных своему времени.
Но глубинные основы миросозерцания Толстого, воплотившиеся в «Казаках», оказались мало доступны критикам тех лет. Художественная сила признавалась при этом почти всеми.
Первым выступил в журнале «Время» (1863, № 3) Я. П. Полонский: «По поводу последней повести графа Л. Н. Толстого — “Казаки” (Письмо к редактору “Времени”)». Издателем-редактором журнала был М. М. Достоевский, его брат принимал ближайшее участие в редактировании. Ф. М. Достоевский ни в статьях, ни в письмах не обмолвился ни одним словом о «Казаках». Но статья Полонского, видимо, была предварительно согласована. Во всяком случае, в первом же абзаце автор писал: «Я не критик, но, по желанию вашему, пишу и посылаю к вам критические замечания по поводу только что прочитанной мною повести “Казаки”...».
Толстой читал статью Полонского, известен отзыв в письме Фету: «А Полонский-то, бедный, как плохо рассуждает во “Времени”».
Первый тезис статьи категоричен: «Повесть “Казаки” есть произведение замечательного художника и в то же время не есть художественное произведение» («Время», 1863, № 3, с. 91). Затем давалась оценка Толстому как писателю: «Граф Л. Н. Толстой не лирик и не совершенно объективный писатель; что бы он ни писал, во всех его произведениях мелькает его личность, выступает собственная мысль его: так иногда он сам себе мешает, впутывая самого себя в свои произведения» (с. 93). Отрицательно расценивалась та черта, какую сам Толстой так высоко ценил в искусстве. Заговорив о «наших трудных днях», когда «потребность наслаждаться искусствами заглушена иными потребностями, которые вопиют и требуют удовлетворения»,
- 305 -
Полонский писал, что, «задушевная мысль, проводимая автором», не нова и повторяет «Цыган» Пушкина: «У Пушкина Алеко — сильный характер, и читатель имеет полную возможность подозревать, отчего он не ужился с обществом; у графа Толстого герой без всякой силы. Это маленький себялюбец, скорее избалованный жизнью, чем огорченный ее противоречиями, маленький Гамлетик, способный только на минутные увлечения. <...> Автор казнит его не за какое-либо преступление против свободы, как казнит Пушкин своего Алеко, а просто за то только, что он развитее казаков» (с. 94—95). И далее: «Оленин далеко не представитель лучших людей нашего времени. Он человек явно отживающего поколения, нечто вроде бледного отражения лучших людей Пушкинской эпохи» (с. 95—96). Впрочем, вспомнив свои впечатления от Кавказа, казачек, Полонский заметил: «Их образы стали для меня яснее после прочтения повести Л. Н. Толстого». Рядом сказано, что «красоты этого произведения перевешивают его недостатки; от всего рассказа веет кавказским воздухом», но потом, на следующей странице, утверждается, что лучшие эпизоды (убийство абрека и др.) «составляют почти отдельную повесть; читая их, забываешь и Оленина и все остальные части. Эти эпизоды — повесть в повести. Такая сложность разбивает, двоит внимание читателя» (с. 96—97).
Закончил изложение своего «личного мнения» Полонский словами: «Вообще весь рассказ изобилует теми мелочами, из которых каждая сама по себе — прелесть, но совокупность которых, как излишнее богатство, по временам утомляет нетерпеливого читателя» (с. 98).
Так в год выхода повести в свет начался спор, продолжавшийся затем десятилетиями: кто важнее и кто прав в «Казаках» — Оленин или эпически изображенный мир народной жизни.
Также в третьем номере, но другого журнала, «Библиотека для чтения», появилась статья Е. Н. Эдельсона. Полагая, что толстовские «записки о Севастополе» «порождены случайными обстоятельствами», а «Метель» не имеет «глубокого внутреннего содержания», критик далее писал: «Если хотите, пожалуй, и направления определенного в сочинениях Л. Н. Толстого нет, т. е. нет того яркого направления, какое можно указать в Тургеневе, Островском, еще более в Щедрине или, например, Успенском. <...> А между тем несомненно же, что в каждом его сочинении виден ум наблюдательный и испытующий, талант яркий и симпатичный, стремление к истине серьезное» («Библиотека для чтения», 1863, № 3. Раздел «Современная летопись», с. 3). Особенность толстовского дара — в том, чтобы, «подойдя к первому встретившемуся человеку, открыть в нем сразу самые интересные черты, показать именно те стороны души, которые заставят вас узнать в нем родственное вам существо — брата вашего» (с. 5).
Перейдя к разбору «Казаков», критик утверждал: «Под мастерским пером автора перед нами восстает какая-то новая, вовсе незнакомая нам жизнь, о которой все прежние описания Кавказа не давали никакого понятия» (с. 14). «Главную, основную мысль новой повести» Толстого Эдельсон определил как «очевидную»: «Это столкновение хорошей, но поломанной искусственною цивилизацией души с бытом грубым, но свежим, цельным, крепко сплоченным — причем победа остается, конечно, на стороне последнего» (с. 20). Впрочем, такой подход, узкий и односторонний, и самому критику представлялся недостаточным, если речь идет о подлинно художественном создании: «Более широкое содержание повести Л. Н. Толстого есть мастерский анализ того обаяния, которое вообще в не испорченной до
- 306 -
конца условными понятиями душе должна производить полная, цельная, естественная жизнь — жизнь среди природы и сообразно требованиям природы» (с. 20). «Психологический анализ всех переворотов, совершавшихся в душе Оленина до и по встрече его с кавказскою жизнью и Марьяною — есть сама по себе задача, достойная пера художника. С другой стороны, быт Кавказа, его природа, эти различные казацкие и неприятельские типы, ряд картин, изображенных поэтически, с любовью, но без малейшей тени пристрастия — есть другая задача, счастливое исполнение которой сделало бы честь любому писателю» (с. 22).
Далее Эдельсон поставил важный вопрос, касающийся национального своеобразия толстовского героя: «Так ли же бы отнесся цивилизованный иностранец к той грубой и, очевидно, низшей среде, с которою привелось столкнуться Оленину? А если нет, то какие же особенности отличают цивилизованных русских людей от цивилизованных немцев, французов, англичан? Наконец, в пользу или не в пользу русской натуры говорит эта легкость Оленина, с которою он так скоро и без сожаления решается променять блага высшей цивилизации, им уже испытанные, на простую и грубую жизнь казаков? Принадлежит ли Оленин к поколению, уже отжившему свой век, или мы можем возлагать надежды на людей этого склада?» (с. 22).
Заканчивалась статья характеристикой высоких художественных достоинств «Казаков»: «... Мастерские изображения природы, не расплывающиеся в описаниях и картинах, но в двух, трех самых типических чертах сразу рисующие вам характер местности вместе с впечатлением, какое оно неизбежно производит на душу. Еще более ценим мы его высоко правдивые, не жеманные, но вместе с тем и сопровождаемые чувством глубокой меры изображения всех вещей и отношений. Кого, например, может оскорбить это почти античное благоговение Оленина пред молодою и свежею красотою Марьяны или некоторые страстные сцены между ними; а описание трупа убитого черкеса! — Только такие художественные изображения помогают нам видеть прямыми и ясными глазами жизнь и природу, а не загораживают их от нас красивыми, но без толку расписанными ширмами» (с. 23).
В 1863 г. газета «Голос» поместила статью «Современные повести и современные герои (Письмо к редактору “Голоса”)»:
«Талантливый автор и здесь, как и в прежних своих произведениях, является истинным художником, рисуя характеры, нравы и вольную, удалую жизнь казаков среди дико-роскошной природы Кавказа, которая оживает перед читателем в поэтических описаниях автора. Жаль только, что герой повести графа Толстого, как говорится, не удался. Характер его задуман широко; но эта-то ширина, как мне кажется, и испортила все дело. Видишь не живого человека, <...> а ряд идей, быстро сменяющих друг друга, быстро и как-то механически меняющихся в голове главного действующего лица, а следовательно, и в голове читателя. Психологический анализ порою слишком тонок, и притом заметно, что этот анализ делан не над самим героем, а применен к нему по аналогии, не всегда верной» («Голос», 1863, 27 апреля, № 101, с. 393. Подпись: В. — кин). В картинах кавказской жизни, напротив, «действуют живые лица, слышатся живые речи, выходят наружу живые, естественные чувства» (с. 394).
В том же 1863 г. с обзором «Современная беллетристика» в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 144 и 145, 27 и 28 июня) выступил П. В. Анненков. Критик начал с общей характеристики творческого дара Толстого, отчасти
- 307 -
повторив давние оценки Н. Г. Чернышевского: «С именем Толстого (Л. Н.) связывается представление о писателе, который обладает даром чрезвычайно тонкого анализа помыслов и душевных движений человека и который употребляет этот дар на преследование всего того, что ему кажется искусственным, ложным и условным в цивилизованном обществе. Сомнение относительно искренности и достоинства большей части побуждений и чувств так называемого образованного человека на Руси, вместе с искусством передать нравственные кризисы, которые навещают его постоянно — составляет отличительную черту в творчестве нашего автора».
Довольно проницательно охарактеризовал Анненков тогдашний толстовский идеал: «Душа его отдана всему, что еще не выделилось вполне из природного состояния, из оков материи и из фатализма истории, всему, что развивается бессознательно, покоряясь, с одной стороны, врожденным и, стало быть, искренним побуждениям своего организма, а с другой — удовлетворяя духовную свою природу только теми нравственными представлениями, только той наукой, поэзией и философией, которые сложились в течение веков, неведомым образом и сами собой вокруг человека, как различные пласты его родной почвы».
Перейдя затем к повести «Казаки», критик утверждал: «Если постоянная идея графа Толстого хорошо выражается всеми видами его деятельности, то уже в романе “Казаки” она обнаружилась с такой поэтической силой и в такой изумительной художественной форме, что способна покорить себе самый холодный и осторожный ум. <...> Десятки статей этнографического содержания вряд ли могли бы дать более подробное, отчетливое и яркое изображение одного оригинального уголка нашей земли, где все условия человеческого существования далеко не походят на те, которые образованный мир считает необходимыми для нравственного достоинства и благополучия».
Вопреки мнению, установившемуся в публике, Анненков считал характер Оленина «столь же глубоко задуманным и превосходно изображенным, как и все другие лица и части замечательного романа гр. Толстого».
Заканчивал критик статью утверждением: «Мы удерживаем за романом право называться капитальным произведением нашей литературы <...> Искание европейских литератур выходит из заботы поддержать существующее здание навеки в первоначальной красоте, новизне и свежести; наше искание есть еще странствование в пустыне за обиталищем, которое, по мнению писателей, и завоевывать не надо, которое нас ждет совсем устроенное для того, чтобы успокоить все наши требования и стремления».
Одновременно со статьей Анненкова в «Отечественных записках» (№ 6) появилась статья Евгении Тур (гр. Е. В. Салиас-де-Турнемир), которая совсем иначе смотрела на предмет.
Начав с восхваления художественных достоинств «Казаков»: «В этой повести бездна поэзии, художественности, образности. Повесть не читаешь, не воображаешь, что в ней описано, а просто видишь; это целая картина, нарисованная рукою мастера, колорит которого поразительно ярок и вместе верен природе; в нем с ослепительною яркостию соединена правда красок <...> Это — сама жизнь с ее неуловимой прелестию» (с. 242—243), — Евгения Тур затем резко критически отозвалась о содержании повести и действующих в ней лицах. По мнению писательницы, «Казаки» — это «поэма, где воспеты не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность
- 308 -
дикаря-зверя. Рядом с этим дикарем-зверем унижен, умален, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества» (с. 266—267). Оленина Евгения Тур назвала «онемечившимся монголом», который «мало чем по своей жизни и наклонностям разнится от животного». Казаки же — «воры и пьяницы» (c. 248—251). Толстой «рьяно и храбро принялся поэтизировать пьянство, разбой, воровство и жажду крови» (с. 272).
Нельзя не согласиться с Н. Н. Гусевым, который находил «странным» (Гусев, II, с. 608), что мнение Ф. И. Тютчева до известной степени приближалось к суждениям Евгении Тур. Сохранился список его эпиграммы (разумеется, неопубликованной) на «Казаков»:
Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.Журнал «Современник» в 1863 г. (№ 7) напечатал статью секретаря редакции А. Ф. Головачева. Критический пафос этого выступления определялся не только идейными расхождениями с автором, но и его отходом от «Современника»: повесть Толстого появилась в стане враждебном — катковском «Русском вестнике».
Отметив, что писатели «волей-неволей стали покоряться требованию общества, которое в последнее время особенно настоятельно спрашивает, почему
Который уж век
Беден, несчастлив и зол человек?»,автор статьи не нашел в повести Толстого ни вопроса, ни ответа: «Эта повесть является не протестом, а сугубым непризнанием всего, что совершилось и совершается в литературе и в жизни» (с. 37, 41). Иронически пересказав содержание «Казаков», критик вполне банально определил их смысл: «Умысел автора, по-видимому, именно был — изобразить, что вот как хороши отношения людей между собою и к окружающему их миру в их первобытном, так сказать, диком виде, но что люди, испорченные нашей цивилизацией, хотя и могут понять и оценить все это, но уже не могут наслаждаться тем счастием, которое дает эта первобытность, между тем как тут только и есть истинное счастие» (с. 48).
В конце статьи Головачев сформулировал идею, которая будет затем долго повторяться революционно-демократической критикой: «Граф Л. Н. Толстой все-таки беллетрист хороший — его можно читать без скуки. Он хороший рассказчик и ловкий, хотя и поверхностный наблюдатель, но он плохой мыслитель» (с. 54).
19 сентября 1863 г. в газете «Северная пчела» (№ 247) была напечатана статья «Русская критика и художественная этнография» (подпись: А.). Раньше этот же критик, подписавшийся «Дилетант», поместил в газете «Заметки о русских журналах» («Северная пчела», 26 августа, № 227), где недоумевал по поводу того, что журналы противоположных направлений — «Современник» и «Отечественные записки» — совпали в отрицательном мнении о повести Толстого. Теперь, вспомнив «Военные рассказы», критик написал о «Казаках»: «Тот же спокойный, джентльменский рассказ, та же кристальная чистота и вместе здоровая, трезвая и скупая простота речи». Повесть Толстого противопоставлена Марлинскому и сравнивается с Лермонтовым:
- 309 -
«это картины, предчувствовать которые дал, и то слегка, Лермонтов» («Кисловодск, Грушницкий, старичок Максим Максимович и драгунский капитан Иван Игнатьевич»). Оленина критик не принимает, как и лермонтовского Печорина. Всю повесть он отнес «к так называемой художественной этнографии, обогатившей давно литературы английскую и американскую».
В 1864 г. А. А. Григорьев в последней своей статье «Отживающие в литературе явления», посвященной Д. В. Григоровичу, затронул и Толстого. Упомянув молчание художника после «Семейного счастия», Григорьев оценил его педагогическую деятельность как «органически необходимый исход крайне своеобразного и даже капризного таланта, который запутался в анализе до психических “чертиков”» («Эпоха», 1864, № 7, разд. VII, с. 6—7). Критически отозвавшись об «Альберте», «Трех смертях» и «Люцерне», Григорьев высоко поставил «Казаков»: «Дело в том, что художник, т. е. выразитель жизни с ее стремлениями и типами, в Л. Толстом — как в таланте настоящем, а не эфемерном взял все-таки верх над аналитиком; и хотя миросозерцание его нисколько не расширилось, но мы вновь имели наслаждение любоваться его мастерством художественным и в “Казаках” и в “Поликушке”. <...> Одним словом — качества таланта все те же, что и были. Пожалуй, что и движения вперед нет, — ни в основном мотиве творчества, ибо герой “Казаков” — близкая родня и Нехлюдову и другим лицам, с которыми, как с основными мотивами анализа, привыкли мы встречаться в литературной деятельности писателя, — да уж зато нет и шага назад. Ну, — да ведь двигаются всё вперед и вперед, осмысливают всё яснее и яснее окружающую жизнь только таланты гениальные, таланты с таким своим словом, которое вместе с тем есть и слово целого периода, развития целого цикла...» (с. 7). В «Казаках» и «Поликушке» критик увидел преобладание художника над аналитиком и писал об искренней любви «ко всему народу и ко всему в народе» Пушкина, С. Аксакова, Островского, Достоевского, Тургенева, Писемского и Толстого.
В 1865 г. «Отечественные записки» (№ 1 и 2) поместили обширную статью Е. Л. Маркова «Народные типы в нашей литературе». Отнеся повесть «Казаки» к разряду истинно-художественных, всегда важных и всегда интересных произведений, критик анализировал типы, выведенные Толстым. На первом месте — Ерошка, «тип Шекспировской школы — тип без добродетели, без приличий в том узком смысле, в каком эти слова понимаются большинством; сырой, почвенный человек, управляющийся преимущественно темпераментом». (№ 1, кн. 2, с. 339). Далее Марков справедливо утверждал: «Ерошка у гр. Толстого вышел именно всем тем, чем не является Куперов Патфайндер и чем между тем он необходимо должен бы был явиться: человеком своей среды, своего ремесла, своего прошедшего. Этими условиями реализм отличается от романтизма...» (с. 340). Затем характеризуется образ казака Луки: «В Лукашке много сухой серьезности, односторонности и прозы. Это идеал казака, упорно верующий в малейший догмат казачества, не знающий ни в чем отступления, сомнения, колебаний». Потом мамука Марьянка: «В типе Марьянки нет ни малейшего недостатка определенности; она нам ясна до осязательности» (с. 357). Лукашку критик противопоставлял простонародным образам Марко Вовчка, а Марьяну — героиням Жорж Санд. «Нельзя не удивиться при этом тому редкому в нашей литературе чувству правды и художественности, которое удержало автора от малейшей попытки сообщить фигуре героини более
- 310 -
нежный колорит. Подобные попытки соблазняют даже высокоталантливых писателей, вроде Диккенса; и они очень понятны» (с.361).
Особый раздел статьи посвящен Оленину: «Тип Оленина не есть одно бездушное олицетворение известных мыслей. Оленин — лицо очень живое и очень распространенное. Он действительно не очень образован школою, и в этом отношении есть по преимуществу наш современный, русский тип. Его выработка предоставлена жизни, поэтому должна быть исполнена противоречий, резких перемен и неправильностей. Это — судьба и история всех нас» (февраль, кн. 1, с. 456—457).
Заканчивалась статья общей оценкой: «Я более всего в романе “Казаки” удивляюсь отваге мысли гр. Толстого. Он не задумавшись освобождается от преданий нашей моды и воспитания; он твердо и сразу стал обеими ногами на точку зрения совершенно самобытную и, пожалуй, рискованную. <...> У гр. Толстого для вина нового взяты мехи новые, чего еще не сделал до него ни один из наших писателей. Гр. Толстой понял, что из сферы более или менее искусственной не выйдет безыскусственный, чисто почвенный человек, каких болгар ни выбирай для этого. Отличие всех вообще взглядов гр. Толстого, как педагогических, так и социальных, — это <...> проведение их до крайности; он всегда старается дойти до того места, где бабы на небо белье вешают, всякий другой горизонт его не удовлетворяет. Ему нужна была природа, и он черпнул ее полным ковшом в самое живье, со всего размаху своей руки; и из его руки зато действительно полилась природа, а не иллюминованные картиночки. Этою верностью себе он, мне кажется, стоит выше Руссо, к которому вообще близок по общей тенденции. <...> Он — человек XIX века, то есть реалист, человек русский, а главное — большой художник» (с. 469).
Статье Маркова возражал Д. И. Писарев в «Русском слове» (№ 3): «Прогулка по садам российской словесности». Не касаясь повести Толстого, Писарев высмеивал некоторые задиристые суждения Маркова, статью которого редакция «Отечественных записок» нескромно назвала в примечании «превосходным этюдом». Не нравились Писареву нападки Маркова «на отрицателей чистого искусства». Тогда же и Толстой читал статью Маркова. «Критика Маркова — плохо. Дорожит мыслью и сердится», — отмечено в дневнике 20 марта 1865 г.
В «Современнике» напечатал статью А. П. Пятковский, посвятив ее двум частям «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», изданным в 1864 г. Ф. Стелловским (во второй части помещены «Казаки»). После критики «Семейного счастия» автор заявлял: «Еще более пострадали от тенденций и лирических вставок повесть “Люцерн” и роман “Казаки”». И дальше: «Картины природы и очерки кавказской жизни замечательны по своей художественной отделке; впечатления героя романа, испытанные им по приезде в эту полудикую страну, переданы верно; но самый характер Оленина слаб донельзя, а движущая идея романа еще того хуже». Эта идея виделась критику в подражании пушкинскому «Кавказскому пленнику»: «Но что было привлекательно и своевременно в двадцатых годах нашего столетия, то пахнет анахронизмом в шестидесятых. Поздненько вздумал г. Толстой реставрировать старые картины» («Современник», 1865, № 4, с. 328—329).
В № 6 «Современник», откликаясь на изданный Н. В. Гербелем трехтомник «Байрон в переводе русских поэтов», вновь вспомнил «Казаков», назвав Оленина запоздалым Алеко и отметив «идеализацию» Толстым, по примеру Руссо, простой жизни.
- 311 -
О «Казаках» писали критики в связи с выходом отдельного оттиска «Тысяча восемьсот пятый год». Анонимный автор «Книжного вестника» довольно развязно заявлял: «Но гр. Толстой решительно изменил своему объективному таланту с тех пор, как пустился проводить в своих сочинениях известные нравственные (“Семейное счастье”) и общественные (“Казаки”, “Люцерн”) тенденции. <...> О романе “Казаки” мы не говорим: устарелый байронизм этого произведения, совершенно вроде “Кавказского пленника”, заставляет даже забыть некоторые удачные места и недурно очерченные характеры» («Книжный вестник», 1865, № 13, с. 256—257).
В следующем году совсем иначе откликнулся Н. Н. Страхов, напечатав большую статью «Наша изящная словесность».
О персонажах, подобных Оленину, Страхов писал: «Разлад происходит не у всех, а именно только у тех, кого гр. Толстой избирает своими героями. Другие юноши легко сливаются со своею средою. Так брат Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступает на путь своего отца. Так Белецкий, встретившись с Олениным среди казаков, не чувствует ни малейшего разлада с жизнью. <...> Немудрено; между этими людьми нет ничего общего. Один принадлежит окружающей жизни, другой от нее оторвался. Один легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явление составляет задачу» («Отечественные записки», 1866, № 12, кн. 2, с. 799). И далее: «Что же делают герои графа Толстого? Они буквально бродят по свету, нося в себе свой идеал, и ищут идеальной стороны жизни» (с. 806). Страхова волновал вопрос, «какие живые начала обнаруживает здесь русская душа, какой нравственный и эстетический склад она проявляет, выбиваясь из-под какого-то давящего ее недуга» (с. 814). Вопрос остается без ответа: к разбору «1805 года» Страхов тогда не приступил; в 1869—1870 гг. журнал «Заря» опубликовал цикл статей о «Войне и мире», где концепция критика была развита вполне.
Позднее Орест Миллер посвятил «Казакам» раздел главы о Толстом в книге «Русские писатели после Гоголя». Здесь есть любопытные наблюдения. Например, слова Лукашки об убитом чеченце: «тоже человек был» сопоставлены с тем, что говорит в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского солдат над трупом арестанта: «тоже мать была». А поведение в той же сцене Ерошки явило, по мнению автора, «ту черту народного характера, которую подметил в русском человеке еще Пушкин: глубокое сочувствие ко всякому страданию и старание, где только возможно, избежать пролития крови, ту черту, в силу которой каждая смерть кажется народу напрасной» (Миллер Орест. Русские писатели после Гоголя. СПб., 1886, с. 257). По общему обыкновению, Миллер сопоставлял «Казаков» с «Цыганами», Оленина с Алеко. В конце разбора сделано справедливое замечание: «Говорят, что “Казаки” остались неоконченными. Может быть, автор и имел намерение выставить тех же людей еще и в других положениях. Как бы то ни было, смысл этой повести представляется вполне выясненным и завершенным» (с. 270).
Р. А. Дистерло назвал «Казаки» «прелестной, замечательно-поэтической повестью», а главную мысль характеризовал так: «она отправляется не от противоположения западной и славянской культур, не от предпочтения основ народной жизни, — она берет цивилизацию вообще и видит в ней какое-то злое начало, нарушившее правду и гармонию природы» (Дистерло Р. А. Граф Л. Н. Толстой как художник и моралист. СПб., 1887, с. 92).
- 312 -
А. М. Скабичевский, историк «новейшей русской литературы», уже знавший творчество Толстого 80-х годов, отметил сходство некоторых мыслей Оленина (гл. XX, в лесу) — с тем, что будет потом: «Не правда ли, все эти размышления буквально тождественны с теми “просияниями” и “озарениями новым светом”, какие мы встречаем в сочинениях гр. Толстого последних лет?» Впрочем, находил и «весьма существенную разницу»: «В 1852 году он не думал, что стоит только дойти до подобных мыслей и проникнуться ими, чтобы и действительно возродиться к новой жизни» (Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1849—1890. СПб., 1891, с. 166). К герою Толстого критик народнического толка отнесся резко отрицательно («ветхий человек»).
Историк русского романа К. Ф. Головин отнес «Казаки» к тому «циклу повестей и рассказов, где уже на первом плане стоит тревожный вопрос о настоящей цели жизни, о том, что следует делать человеку, чтобы жить и умереть хорошо» (Головин К. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, с. 141). При этом «Казаки» — повесть о том, «как лучше, т. е. проще жить» (с. 144). Повторил Головин и сравнение «Казаков» с «Цыганами»: «Пушкин и Толстой, несмотря на то, что первый развил свою тему на романтической почве, а второй доводит реализм описания почти до грубости, говорят одно и то же, говорят, что не к лицу человеку столицы искусственно подлаживаться к чуждой ему обстановке, потому что такая попытка сама ничто иное, как ложь» (с. 144—145). Подчеркнул автор и то, что Толстой в оценке казаков «остается вполне правдивым, как настоящий реалист и великий писатель» (с. 146).
Немного позднее, и вполне положительно, о том же стремлении к простоте писал Н. А. Энгельгардт: «Страстное влечение к простоте, естественности, силе и правдивости непосредственных явлений жизни — вот идеал Толстого. Воплощение этой идеи у Толстого разнообразно, но постоянно и беспрерывно. Идея глядит отовсюду в его произведениях. Она стоит невидимо за всеми видами и формами его творчества. В частности, она дает смысл повести “Казаки”» (Энгельгардт Николай. История русской литературы XIX столетия. Том 2. 1850—1900. СПб., 1903, с. 70).
Историк русской литературы XIX века В. Ф. Саводник заметил, что в «Казаках» «впервые отразились некоторые взгляды Толстого, получившие впоследствии дальнейшее развитие и особенное значение во всем строе его миросозерцания» (Саводник В. Очерки по истории русской литературы XIX века. Ч. 2. Изд. 4-е. М., 1908, с. 180). Главное из этих новых взглядов — «отрицательное отношение к современной культурной жизни, в которой Толстой видит одну лишь фальшь и обман», «мечты об опрощении» (с. 185, 187). Тут Саводник указывал на предшественников Толстого — Руссо и «многих романтиков», хотя оговаривался: «Миросозерцание Толстого в его целом настолько своеобразно и настолько проникнуто отпечатком его личности, что он, вероятно, пришел бы к подобным же взглядам и без всякого знакомства с идеями Руссо» (с. 186). В позднейших произведениях, начиная с «Войны и мира», эти мысли будут иметь в основе не стремление к счастью, как у Оленина, а «мотивы моральные, т. е. понятия нравственного долга, требования совести, человеческой солидарности и т. д.» (с. 187).
Автор, сопоставлявший Толстого и Ф. Ницше, обратил внимание на философское содержание «Казаков»: «Толстой сочувствует философии старого казака, охотника Ерошки, который доказывал, что все люди равны, нет греха в пользовании благами природы и что нужно жалеть всех людей
- 313 -
и особенно любить природу» (Щеглов В. Г. Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше, Ярославль, 1898, с. 11). Д. С. Мережковский также особенно высоко оценил образ дяди Ерошки: «Эту первобытную мудрость воплощает действительный герой повести, старый казак дядя Ерошка, одно из величайших и совершеннейших созданий Л. Толстого, которое дает возможность заглянуть в самую темную, тайную, его собственному сознанию, может быть, никогда не открывавшуюся глубину существа его» (Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. СПб., 1901, с. 23). Дальше Мережковский вспоминал Ерошку много раз, когда писал о «язычестве» Толстого, его стихийной художественной силе «тайновидца плоти».
В том же 1901 г., когда появилась книга Мережковского, статья о Толстом вошла в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Здесь С. А. Венгеров определил «Казаки» как «первое из произведений, в которых великий талант Толстого дошел до размеров гения»: «Впервые во всемирной литературе с такою яркостью и определенностью была показана разница между изломанностью культурного человека, отсутствием в нем сильных, ясных настроений — и непосредственностью людей, близких к природе. <...> “Казаки” не были своевременно оценены. Слишком тогда все гордились “прогрессом” и успехом цивилизации, чтобы заинтересоваться тем, как представитель культуры спасовал пред силою непосредственных душевных движений каких-то полудикарей» (Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 65. СПб., 1901, с. 453—454).
В 1900-е годы продолжали появляться журнальные, газетные статьи, где разбирались «Казаки». Е. А. Соловьев, печатавшийся под псевдонимом В. Мирский, утверждал, что мысли, высказанные в повести, стали основой и сутью всего миросозерцания Толстого: «уже ясно слышны раскаты приближающихся громов против изолгавшейся культурной жизни» («Журнал для всех», 1902, № 11, стлб. 1336).
В статье 1907 г. «На закате дней. Величайший мастер слова» В. В. Розанов упомянул «Казаки» рядом с «Войной и миром», «Анной Карениной», «Детством и отрочеством»: здесь «выразился чистый “дар Божий”, без того “приумножения” его, какого от человека требует Бог» («Русское слово», 1907, 12 сентября, № 209). И в следующей статье, с подзаголовком «Л. Толстой и быт», говоря о «доброй памяти», вместе с «Детством и отрочеством» назвал «Казаки»: «...Кажется, тоже имеют причину написания себя в живом воспоминании» (там же, 5 октября, № 228).
Ю. И. Айхенвальд писал в связи с «Казаками» — «одним из самых гениальных проявлений» творчества Толстого — о роковой «отторженности человека от природы» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Вып. II. М., 1908, с. 125—126). «... Истинный смысл призыва назад, к природе, состоит не в том, чтобы вернуться в среду первобытных людей, а в том, чтобы природа была внутри нас, чтобы естественно было сердце, непосредственны и наивны были самые помыслы. Недаром у Толстого так часты мотивы обновления, страстное искание совершенства» (с. 128).
В. В. Вересаев, автор статьи «И да здравствует весь мир», в «Казаках» нашел подтверждение своим идеям. Об Оленине в лесу здесь сказано: «Средь прекрасного мира — человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, целостного единства» («Современный мир», 1910, № 10, с. 180). Сравнивая героя Толстого с Мышкиным из романа Достоевского «Идиот», Вересаев отдавал предпочтение Оленину: «Для Толстого же этот
- 314 -
праздник — свой, родной. Он рвется в самую его гущу, как ласточка в воздух» (с. 181). Впрочем, по мнению Вересаева, «кончается роман тускло и нудно»: «Он навсегда уезжает из станицы. Жалок его отъезд. С глубоким равнодушием все смотрят на уезжающего, как будто он и не жил среди них. И ясно: Оленин стал всем чужд не потому, что не сумел удержаться на высоте своего самоотвержения, а потому, что в нем не оказалось жизни, — той жизни, которая ключом бьет в окружающих людях, — в Лукашке, Марьяне, дяде Ерошке» (с. 193).
В «Истории русской литературы XIX века», появившейся в год смерти Толстого, статью писал Р. В. Иванов-Разумник: «Подобно всем произведениям Л. Толстого, автобиографична и эта повесть: Оленин — слишком явный Лев, чтобы это стоило доказывать. Два героя в этом произведении: Оленин —Толстой, попавший в первобытную, нетронутую среду и радостно смывающий с себя все румяна цивилизации, и второй герой — непосредственная, первобытная природа, представителями которой являются казаки и прежде всего дядя Ерошка» (История русской литературы XIX в. под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. Т. 5. М., 1910, с. 333). Сославшись на письмо Толстого 1863 г. Фету, автор утверждал: «Прошло еще тридцать лет, прежде чем Толстой вновь поставил и решил для себя те вопросы, которые ставил Оленин вслед за героем “Юности”... <...> Эта “сукровица” была в Толстом по существу одна и та же и в 1852 и в 1902 году» (там же, с. 334).
Переводы «Казаков» на иностранные языки начали появляться в 1870-х годах.
Газета «Русские ведомости» 26 мая 1870 г. в заметке «Иностранные известия» извещала о предстоящем выходе в Брюсселе избранных повестей русских авторов в переводе на французский язык. В первом выпуске предполагался «Набег» и «Метель», в одном из следующих — «Казаки». Издание, видимо, не состоялось.
В 70-е годы появился перевод на польский язык (отрывки) в газете «Dziennik Warszawski» (см. ЛН, т. 75, кн. 2, с. 253). В августе-сентябре 1878 г. «Journal de St.-Pétersbourg» напечатал французский перевод Е. И. Менгден.
Английский перевод «Казаков» вышел в Нью-Йорке в 1872 г.: «The cossacks: a tale of the Caucasus in 1852». Transl. by E. Schuyler; в 1878 г. издание было повторено и одновременно вышло в Лондоне. В том же 1878 г. в Нью-Йорке появился перевод Л. Винера (повторен в 1904 г. в собрании сочинений); в 1888 г. Л. Е. Кендэлл, Н. Х. Доула (этот повторен в 1889 г. в собрании сочинений). В 1910 г. серия «The world’s classics», выходившая в Лондоне, опубликовала перевод Л. и Э. Моод.
Первый переводчик, бывший консул США в Москве Ю. Скайлер располагал краткими биографическими сведениями о Толстом и поместил их во вступительной заметке (первая публикация такого рода). В октябре 1878 г. И. С. Тургенев известил Толстого о большом успехе нью-йоркского и лондонского изданий перевода «Казаков» (см. выше с. 303).
Появление английского перевода «Казаков» вызвало информационные заметки учено-библиографических лондонских изданий — «Athenaeum» и «Academy». Русский перевод статей поместил Ф. И. Булгаков в изд. «Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» (Изд. 2-е, ч. II. М., 1886, с. 102—106). В журнале «Academy» говорилось: «Граф
- 315 -
Лев Толстой, очевидно, гениальный человек. Рассказ не совсем удовлетворительно переведен на английский язык, но и в этой неудачной передаче нельзя не заметить в рассказе художественного чувства, силы и симпатичного направления». И затем приводился отзыв Тургенева, воспроизведенный Скайлером. В предисловии к третьему американскому изданию (1887) сам Скайлер заметил, что недостатки его перевода «не смогли заслонить великих достоинств автора».
Американский писатель Уильям Дин Хоуэлс писал, что его знакомство с Толстым началось с «Казаков», «этого вдохновенного описания природы и смутных, не вполне осознанных порывов юноши, стремящегося достичь гармонии с божественным идеалом истины и добра» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 86).
Биограф и секретарь У. Уитмена Гораций Тробель передает разговор с поэтом в декабре 1888 г. Уитмен согласился с мнением собеседника: «Сущность Толстого, в конце концов, Уолт, это суть “Листьев травы”» (Traubel H. With Walt Whitman in Camden. N. Y. 1961. Vol. 3, p. 336). Позднее, в 1900 г., английский врач и писатель Генри Эллис заметил о «Казаках»: «Книга своими великолепно написанными картинами красоты природной мощи и здоровья напоминает иногда лучшие фрагменты произведений Уитмена» (Ellis H. H. The New spirit. Chicago, 1900, p. 94). См. Алексеева Г. В. Л. Н. Толстой и У. Уитмен: ретроспектива типологических схождений и генетических контактов. — Толстовский сборник 2000. Материалы XXVI Международных Толстовских чтений. Ч. 1. Тула, 2000, с. 337.
Английские и американские авторы, писавшие о Толстом, много раз касались «Казаков». Ч. Э. Тёрнер в книге «Count Tolstoi as novelist and thinker», вышедшей в Лондоне в 1888 г., заметил: «Различие между культурой и природой, освящение грубой невозделанной природы духовным началом, на чем с таким энтузиазмом настаивает Толстой, формирует тему в рассказах о диких племенах Кавказа». И о герое повести: «Оленин забыл об одном: куда бы он ни направился, ему не уйти от самого себя, как бы ни изменились обстоятельства его жизни, сам он останется прежним» (с. 30—31).
В предисловии к сборнику, изданному в 1890 г., Эдмунд Госс писал о значении Кавказа в творчестве Толстого: «Это был край, овеянный романтической меланхолией, наполненный пушкинскими и лермонтовскими реминисценциями, куда Толстой, гений совершенно другого склада, отправился в 1851 г. Здесь и рождается Толстой как писатель, хотя он не опубликовал ничего из своих кавказских произведений до того, как покинул Кавказ в 1853 г.» (Work While ye Have the Light. By Lyof Tolstoi. With intr. of Edmund Gosse. London, 1890).
Несколько лет спустя Г. Перрис, соотечественник Госса, выпустил книгу под характерным заглавием «Великий мужик». Здесь о «Казаках» говорится: «Это безусловно великолепное художественное произведение с явными отзвуками Пушкина и Лермонтова, которое уносит нас далеко от этих поэтов байронической традиции и их чудного лиризма. Это проза о контрасте между цивилизованным человеком и естественным. <...> Здесь нет ни проповеди искусства для искусства, ни моральной дидактики. <...> Постепенное осознание власти исконных человеческих порывов и бессмысленности всех попыток скрыть их под покровом изящного или театрального — повторяющийся мотив в “Казаках”. <...> Оленин, немощное дитя цивилизации, в естественной среде оказывается беспомощным. Он явно проигрывает на фоне такой фигуры, как Ерошка <...> на фоне природной красоты
- 316 -
Марьянки и сообразительного и безжалостно-отчаянного казака Лукашки» (Perris G. H. Leo Tolstoy. The grand mujik. A study in personal evolution. London, 1898, p. 49).
Позднее Перрис писал об «отвращении от цивилизации», посетившем Толстого раньше и нашедшем на Кавказе подтверждение: «Главным результатом этих впечатлений стали “Казаки”» («The Bookmen» Booklets. Leo Tolstoy. By G. K. Chesterton, G. H. Perris etc. London, 1903, p. 12).
Год спустя американец Эдвард Штайнер выпустил книгу «Толстой как человек»: «Две мысли, которые Толстой начинает утверждать с самых первых рассказов, ярко выражены в “Казаках” и с еще большей силой получают развитие в каждом из последующих произведений. Первая мысль касается очищения и роста личности через освобождение от предрассудков и порочных наслоений нашей культуры. Вторая говорит о том, что при отсутствии влияния культуры мы обнаруживаем достоинства, которыми общество должно обогатить себя ради собственной эволюции и спасения. Он везде соединяет эти две мысли одним и тем же образом. Первую — воплощая в тщательном анализе собственного я, в котором видит не только самого себя, но и всех людей своего класса, запутавшихся в сетях цивилизации, испорченных культурой, которых он неутомимо анализирует, оценивает и обвиняет. Вторую мысль он развивает, рисуя характеры простых людей, которых видит чистыми, не испорченными культурой, будто они только что вышли из рук Творца. Подобно скульптору, который находит подходящий сорт глины и, нежно, но твердо касаясь ее, придает ей форму, Толстой использует этот сырой материал, чтобы выявить то прекрасное, что в нем сокрыто, забывая, однако, подобно скульптору, что это прекрасное он создает сам» (Edward A. Steiner. Tolstoy the man. N.-Y., 1904, p. 71).
В том же году в Лондоне и Нью-Йорке вышла книга Т. Ноулсона, где ранний период сопоставлялся с поздним. «Значение “Казаков” в неутомимой любви к естественной жизни <...> это чувство, столь характерное для современного толстовства, тогда только зарождалось <...> Жажда жить по законам природы заставила его предпринять длительное путешествие туда, где, казалось, все можно было оставить в прошлом; и по мере того, как он приближался к Кавказу, внутренний голос говорил ему: теперь начинается новая жизнь» (T. Sharper Knowlson. Leo Tolstoy. A biographical and critical study. L. and N.-Y., 1904, p. 37).
Всплеск переводов приходится на середину 80-х годов и связан с появлением статей и книги Мельхиора де Вогюэ о русском романе. В 1886 г. вышло сразу два французских издания: «Les cosaques. — Souvenirs de Sébastopol», повторенные затем в 1890, 1901 и 1903 гг. В 1901 г. повесть была издана в серии «Auteurs célèbres», а в 1902 г. в переводе Ж. В. Бинштока с комментариями П. И. Бирюкова вошла в собрание сочинений.
Мельхиор де Вогюэ, оценивая значение повести в истории русской литературы, написал: «“Казаки” начинают новую литературную эпоху, провозглашают окончательный разрыв с байронизмом и романтизмом в центре тех самых укреплений, где в продолжение тридцати лет удерживались эти могучие властители» (Вогюэ Мельхиор де. Современные русские писатели. Толстой — Тургенев — Достоевский. Лев Толстой. М., 1887, с. 14—15). Имелся в виду Кавказ. Толстой «заменил лирические видения своих предшественников прямым взглядом на вещи и людей» (с. 16). По поводу образа Марьяны Вогюэ заметил: «Тот, кто изучал восток и убедился в лживости восточных типов, сфабрикованных европейской литературой, найдет
- 317 -
в “Казаках” поразительное отражение этого нравственного мира, столь несходного с нашим» (с. 17). И далее утверждал, что никогда впоследствии Толстой, посвятивший себя изучению человеческого сердца, не находил в себе такого глубокого чувства природы, наплыва пантеизма.
Ромен Роллан, в конце 80-х годов увлеченный русскими писателями и философом Спинозой, подлинными откровениями «божественности жизни», нашел в «Войне и мире» и «Казаках» «ту же веру в жизнь в сочетании с великой любовью ко всему живому» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 79). Позднее в работах о Толстом Роллан с восторгом отзывался о «Казаках».
В 1885 г. «Казаки» были изданы в Берлине: «Die Kosaken. Kaukasische Novelle». Übers. v. G. Keuchel; издание повторено в 1886, 1888, 1890, 1893 гг. В 1889 г. появился перевод Л. А. Гауффа, в 1891 г. — Г. Роскошного, тогда же — Р. Лёвенфельда (повторен в 1897, 1901, 1910 г). В издании 1908 г. перевод и вступительная статья Ф. М. Балте.
Немецкий критик Е. Цабель (его книга «Очерки литературной России» появилась в 1885 г.) назвал повесть «Казаки» «перлом среди кавказских рассказов» (Цабель Евгений. Граф Л. Н. Толстой. Литературно-биографический очерк. Перев. с нем. Владимира Григоровича. Киев, 1903, с. 50). «...Содержание этой повести, целиком взятое из действительной жизни, по меньшей мере столь же поэтично, как и традиционная романтика» (с. 52).
Рафаил Лёвенфельд биографическую книгу о Толстом, вышедшую в 1892 г., закончил разбором «Казаков». Известно, что, работая над этой книгой: «Graf Leo Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung», автор встречался с Л. Н. и С. А. Толстыми, а Толстой просматривал корректуры. Подтвердив автобиографическую суть повести, Лёвенфельд заметил: «Впрочем, в основу самой фабулы рассказа легло событие не из жизни Толстого, а из жизни одного офицера, который рассказал о нем Льву Николаевичу ночью во время совместного путешествия» (Левенфельд Рафаил. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание. Перев. с нем. С. Шклявера. СПб., 1896, с. 72). Далее сказано: «В “Казаках” Толстой раскрыл перед нами целую область своей душевной жизни» (с. 82). Но, по мнению биографа: «В этом рассказе Толстой говорит уже не от себя: сила его творчества так окрепла, что он в состоянии отделиться даже от пережитого им лично и изобразить это пережитое как нечто для него чужое. “Казаки” самое зрелое из всех произведений первого периода литературной деятельности Толстого» (с. 84—85). Заключил свой разбор критик словами: «“Казаки” представляют собою произведение настолько законченное, что почти невозможно представить себе его продолжение. Неудивительно поэтому, что Толстой не осуществил своей мысли. Вторая часть не сделала бы его произведение более сильным и глубоким, а, вероятно, только нарушила бы чудное равновесие его частей» (с. 85).
На датском языке «Казаки» были впервые изданы тоже в 1885 г.: «Kosakkerne. Novelle fra Kavkasus». Overs. af W. Gerstenberg. Издание повторено в 1890 г. В 1886 г. изданы вместе с рассказами «Три смерти» и «Набег». В 1910 г. появился новый перевод М. Иенсена.
В 1886 г. повесть вышла в Стокгольме на шведском языке: «Kosackerna». Övers. av O. H. D. и в Амстердаме на голландском: «De kozakken. — Tafereelen uit het beleg van Sebastopol». Vert. door F. van Burchvliet. Позднее на шведском издавалась в 1903 и 1910 г., на голландском в 1904, 1908 и в 1905 г. (в переработанном переводе J. van Duuren).
- 318 -
Голландский почитатель Толстого Стенли Уизерс писал 28 января 1889 г.: «Не могу удержаться, чтобы не сообщить Вам, с каким восторгом встречают мои соотечественники ваши книги, которые стали выходить у нас по-английски. Многие из нас имели счастье познакомиться с ними несколько лет назад во французских переводах, но теперь, когда их переводят и на наш язык, интерес, с которым читающая публика встречает каждый ваш том, ни с чем не сравним. “Утро помещика”, “Казаки”, “Смерть Ивана Ильича” — вот пока то, что издано г. В. Скоттом» (ЛН, т. 75, кн. 2, с. 337).
В специальной статье, посвященной Толстому, видный историк литературы Конрад Бюскен Хюэт писал о русских романистах (Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом) как «сочетающих искусство и природу, глубокие познания и оригинальность, изящество и силу». В «Казаках» отмечал личный опыт автора «не столько в изображении молодого казака, сколько в образе молодого русского светского человека, сына века, полу-скептика, полу-верующего, тонко настроенной, ищущей души». В картинах казацкой жизни критик увидел «тонкость наблюдения, правдивость, живость» и выдвигал на первый план в Толстом и русской литературе вообще изобразительную силу писателя, а не идеи («Litterarische Fantasien en Kritieken», 23, Haarlem, 1886, p. 164—172).
Другой голландский автор, Frédéric Lyncée (наст. имя F. Lapidoth) в этюде «История развития Толстого» выделял свойственное создателю «Казаков» «настоящее чувство красоты природы», видел в Оленине «духовного брата, если не alter ego Толстого»: «Непреодолимая пропасть разделяет природного и цивилизованного человека. На этом основывается простая интрига, придуманная Толстым, чтобы эстетически оправдать и связать многочисленные описания природы» («Los en Vast», 1886, № 4, p. 360—364). (Сообщено Эриком де Хаардом.)
В 1886 г. отрывок из «Казаков» напечатан в румынском журнале «Revista generala»; в 1887—1888 гг. отрывки в сербскохорватских изданиях «Обзор» и «Неманьа». Полный перевод на сербскохорватский язык появился в 1904 г. в газете «Дневни лист»; в 1905 г. издана книга (перевод А. Харамбашича).
В 1889 г. в Праге вышел чешский перевод: «Kozáci». Přel. B. V. a L. K. — Spisy. Sv. 1; повторен в 1899 г. В 1908 г. появился новый перевод Борживоя Прусика.
В 1892 г. в Мадриде испанский: «Los casacos (Colleción de libros escogidos. 48)»; в 1905 г. — в т. 2 собрания сочинений.
В 1893 г. «Казаки» изданы в Японии. Перевод выполнил писатель Таяма Катай с «плохого американского издания», как заметил сам переводчик в следующем издании — 1904 г. В той же вступительной заметке 1904 г. говорилось: «“Казаки” Толстого — замечательное произведение. Толстой создает своего героя, молодого офицера из дворян (самого себя), и его глазами смотрит на жизнь людей, дает этнографические очерки Кавказа. Этого достаточно, чтобы узнать, как этот северный титан, мыслящий очень чисто, в молодости страдает».
В 1906 г. японец Сираянаги Сюко, писатель и публицист социалистической ориентации, поместил в журнале «Кабэн» («Огненный кнут»), № 4, статью «Толстой как литератор». Отметив «большое влияние» на молодого Толстого идей Руссо, японский критик писал о столкновении в «Казаках» естественной и неестественной жизни: «Молодой человек, увлекавшийся поверхностной цивилизацией, втайне презирал первобытное сознание простых людей, в станице он хотел предпринять какое-нибудь цивилизованное
- 319 -
дело, удивить их. Но ни в уме, ни в силе он не может превзойти этих естественных людей. В конце концов он надеялся, по крайней мере, на победу в любви, но и здесь был отвергнут как человек неприятный и слишком изнеженный». (Сообщено Янаги Томико.)
В 1895 г. появился итальянский перевод, затем — в 1900, 1903, 1904. В 1900 г. — венгерский (перев. M. Rósna); в 1904 г. — болгарский; в 1907 г. — финский; в 1908 г. — словенский.
С. 7. В одном из окон Шевалье... — Гостиница и ресторан И. Шевалье находились в Москве в Старогазетном переулке (Камергерский, 4).
С. 14. ...с образами Амалат-беков... — Аммалат-бек — герой одноименной повести (1832) А. А. Бестужева-Марлинского.
С. 18. ...лычи и раины... — Лыча, или алыча, дерево из породы сливовых; раина — ракита, южный пирамидальный тополь.
...кордоны... — В рукописях «Казаков» пояснено: «Казачий промежуточный пикет».
...буруны... — В рукописях пояснение Л. Н. Толстого: «Бурунами называются песчаные невысокие горы, которыми начинается Ногайская степь, лежащая на север линии».
С. 20. ...бешмет... — Восточное платье; у женщин — верхнее, у мужчин сверх него носится черкеска.
С. 21. ...с высокими князьками. — Князек — верхний стык стропил и скатов, гребень, конек.
...лозы травянок... — Травянка — несъедобная узкая и длинная тыква, из которой делают сосуды для жидкости.
С. 22. ...скрипящую арбу... — Арба — телега или повозка, обычно двухколесная.
...серебристых шамаек... — Шамая (шамайка) — рыба из семейства карповых.
...дым кизяка. — Кизяк — высушенный навоз, употребляемый на Кавказе как топливо.
Бабука... — В рукописях есть пояснение Л. Н. Толстого: «В гребенских станицах всех безразлично называют уменьшительными именами, но учтивость требует прибавления слов: нянюка для девки, бабука для бабы, батяка или дедука для мужчины, смотря по годам».
С. 23. ...из закуты... — Закута — хлев для скота.
...молоко переделывается в каймак... — Каймак — густо уваренные сливки или молоко.
С. 26. ...ноговицы... — Часть одежды, защищающая ноги.
...джигитам. — В рукописях «Казаков» пояснение: «Молодец-наездник».
С. 27. ...чихирь... — Красное вино домашнего изготовления.
С. 28. ...замордую... — Замордовать — затравить.
С. 31. ...карга... — См. объяснение в гл. XI.
С. 33. ...плывущие по нем карчи. — Карча — коряга, дерево с корнями, подмытое и снесенное водою.
...расставил подсошки... — Подсошка — подпора, подставка, на которую опирают ружье при стрельбе.
С. 34. Дай натруску... — Натруска — пороховница, прибор для подсыпанья пороху на полку ружья.
С. 36. ...каюк... — Небольшая лодка.
- 320 -
...монета... — Или монет, металлический рубль.
...байгуш... — Бедняк, нищий.
С. 37. ...чакалка... — Шакал.
С. 38. Фурштаты... — Солдаты, ведающие военным обозом.
С. 43. ...кунаки... — Друзья.
С. 45. ...нянюка... — См. прим. к с. 22.
...ливер... — Насос для натягивания напитков из бочки.
С. 48. ...дедука... — См. прим. к с. 22.
С. 49. ...уставщики длиннополые... — В рукописях пояснение Л. Н. Толстого: «Уставщик — раскольничий поп».
С. 50. Мамука... — Гребенская казачка.
С. 53. ...царица была... — Екатерина II, российская императрица в 1762—1796 гг.
С. 55. ...белом курпее на шапке... — Верх на шапке из овечьей шкурки (мерлушки).
...сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля... — В рукописях пояснение Л. Н. Толстого: «Гребенские казаки — раскольники, и их брак не признается нашим правительством».
С. 57. ...чамбары... — Штаны из выделанной козьей кожи.
С. 59. ...живучи в Сиони. — Сион — юго-западная часть Иерусалима. В фольклоре Сионом назывался Иерусалим.
С. 60. ...несколько пустых хозырей... — Хозырь — нашивки на черкеске для патронов.
С. 63. ...Нимврод Египетский ~ Ловец пред господином. — В ветхозаветной мифологии богатырь и охотник, «ловец пред Господом». Быт. 10: 8, 9.
С. 64. ...дары Терека. — Название стихотворения М. Ю. Лермонтова. «Дары Терека» (1839) «принадлежит к циклу песен и баллад, навеянных мотивами гребенского казачьего фольклора, с которым поэт познакомился во время поездок по предгорьям Кавказа» (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 126).
...испить родительского... — Родительское — виноградное вино (которым поминают и родителей).
С. 67. Карагачевый... — Карагач — черное дерево.
С. 68. ...о Куперовом Патфайндере... — Герое романа Ф. Купера «Следопыт» («The Pathfinder»).
Рогаль! — Олень.
С. 71. ...зарьявшая собака... — Зарьять — задохнуться, надорваться с перегону или от жажды.
...лактать... — То же, что лакать, — пить.
С. 74. ...коробчит. — Коробчить — воровать, обманывать.
С. 77. ...мюрид... — Послушник у мусульман.
С. 81. ...охлепью... — Верхом без седла.
С. 84. ...Les trois mousquetaires. — Роман А. Дюма.
С. 96. ...тавлинская песня. — Горская песня (тавло — гора). У. Б. Далгат в книге «Л. Н. Толстой и Дагестан» сделала пояснение: «Упоминаемый Толстым в “Казаках” припев “тавлинской песни” — “Ай, дай, далалай” — действительно очень распространен в Дагестане и является почти неотъемлемой принадлежностью большинства дагестанских песен. По этому припеву многие дагестанские песни так и называются “Даллай”. Несомненно, что самому Толстому не раз приходилось слышать этот типичный дагестанский
- 321 -
припев народных песен, который он и запечатлел с абсолютной точностью в своих “Казаках”.
В те времена, когда Толстым писались “Казаки”, дагестанская песня-припев “Даллай” еще нигде не была записана. Обстоятельство это полностью подтверждает нашу уверенность в том, что песню эту Толстой слышал и записал вполне самостоятельно. Упоминание же этой песни в печатных источниках появилось только спустя несколько лет после записи Толстого, когда в Тифлисе стал издаваться “Сборник сведений о кавказских горцах”. Любознательный Толстой не упустил пометить эту песню в “Сборнике” и кроме того записал ее и в своей записной книжке, относящейся уже к 1896 г.» (Далгат У. Б. Л. Н. Толстой и Дагестан. Махачкала, 1960, с. 16—17).
...погнал баранту... — Баранта — стадо овец.
С. 98. Запах чапры... — Чапра — виноградный сок.
С. 102. ...шепталок дам... — Шептала — сушеные персики.
С. 105. ...запахом душицы... — Душица — лесное растение, употребляется как пряность.
С. 115. ...за нитку монистов... — В рукописях пояснение Л. Н. Толстого: «Нитка с украшениями — большей частью серебряными или золотыми монетами, которую казачки» (фраза не закончена).
С. 125. ...вел проездом... — Проезд — ход лошади между шагом и бегом.
С. 126. ...предсмертную песню. — В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», первом ее разделе, появившемся в январской книжке журнала «Ясная Поляна» (вышла в феврале 1862 г.), Толстой писал о своих рассказах детям «об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате»: «Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. “Зачем же он песню запел, когда его окружили?” — спросил Семка. “Ведь тебе сказывали — умирать собрался!” — отвечал огорченно Федька. “Я думаю, что молитву он запел!” — прибавил Пронька. Все согласились».
С. 127. Ана сени! — Кумыцкое ругательство, означающее: Да умрет твоя мать!
ПОЛИКУШКА
Впервые: «Русский вестник», 1863, № 2, с. 587—644 (ценз. разр. 29 марта 1863 г.). Подпись: Граф Лев Толстой.
Рукописный фонд составляет 106 листов.
Печатается по тексту «Русского вестника» со следующими исправлениями:
С. 143, строки 17—18: подергивая бородкой — вместо: поддерживая бородку (по А).
С. 154, строка 10: подступил с сжатыми кулаками — вместо: подступил с сжатым кулаком (по А).
С. 155, строка 14: Ни от чего в свете столько греха, как от денег — вместо: Ничего в свете столько греха, как эти деньги (по К).
С. 158, строка 12: немытом платье — вместо: но мятом платье (по А).
С. 160, строки 34—35: эту разнородную толпу женщин, стариков, детей — вместо: эту разнородную толпу женатых, стариков, детей (по А и К).
- 322 -
С. 165, строка 34: отталкивая руку Дуняши — вместо: отыскивая руку Дуняши (по А).
Повесть «Поликушка» входила во все прижизненные собрания сочинений Толстого, начиная с двухтомника изд. Ф. Стелловского (СПб., 1864).
Точная дата начала работы Толстого над повестью неизвестна. Впервые она упомянута в дневниковой записи 6 мая 1861 г.: «Завтра с утра Поликушка и читать положения». Некоторые данные говорят о том, что к этому времени скорее всего уже существовала черновая рукопись и в записи, сделанной в Ясной Поляне, речь шла о намерении продолжить работу, начатую в марте этого года за границей. В «Кратком биографическом очерке, написанном со слов графа Л. Н. Толстого женой его гр. С. А. Толстой 25-го октября 1878 года» С. А. Толстая сообщала: «В Иере умер брат Льва Николаевича, и он, сам заболев сильно кашлем, поехал в Италию — Рим, Неаполь и, наконец, в 1861 в Лондон. <...> Брюссель. Тут написал он “Поликушку”, напечатанную уже в 1862 году в “Русском вестнике”» (ЛН, т. 69, кн. 1, с. 514). Толстой прибыл в Брюссель в начале марта, выехав из Лондона 5 марта 1861 г. по старому стилю, а покинул его в конце марта (28-го он был уже в Германии). Косвенными подтверждениями того, что дошедший до нас черновой автограф повести был написан в марте 1861 г. в Брюсселе, А. С. Петровский считал упоминание о лорде Пальмерстоне, которого автор «недавно видел» в Лондоне (речь идет о посещении Толстым английского парламента в конце февраля) и запись на обороте 47-го листа рукописи об Иоахиме Лелевеле, с которым Толстой познакомился в Брюсселе в марте 1861 г. (Юб., т. 7, с. 346).
Черновой автограф, хотя и не целиком сохранившийся, дает довольно полное представление о первоначальном этапе работы Толстого над повестью. По нему можно проследить формирование сюжета, изменения в расстановке действующих лиц и в их характеристике. Наибольшие изменения претерпел образ старика Дутлова. Сначала в связи с его пассивной ролью в сюжете в характере Дутлова подчеркивались черты, которые должны были вызвать жалость и сочувствие: «Семен Дутлов был мужичок невысокий, с кривыми от работы ногами, с раздвоенной полуседой бородой и с тонкими, но изнуренными чертами лица. Он был мужик степенный, молчаливый и рассудительный»; «Вся фигура и одежда его носила отпечаток аккуратности и довольства, расчетливо<сти>».
Уже пройдя эту сцену, Толстой снова вернулся к ней и сделал вставку на двух листах (6 и 7) с еще более подробным описанием внешности Дутлова. Эта вставка, хотя и не была вычеркнута в автографе, в копию не вошла. Из всех подробностей описанной здесь внешности Дутлова в окончательном тексте остались лишь огромные лапти и лутошка. Как видно из эпизода, следовавшего в черновом автографе сразу за сценой сходки (что соответствует концу VI главы), Дутлов первоначально не нес весь груз ответственности за печальную судьбу племянника. Его голос не был решающим в семье, потому что он уже передал хозяйство старшему сыну Игнату. «Что было, отдали Игнату, — сказал старик, — а мое дело теперь Богу молиться, к концу готовиться. Игнат знает. Он вам хозяин, его и слушай». Помимо чисто экономических мотивов нежелания купить рекрута за Илюшку («Где же нам 1000 рублев, легко ли дело 1000 рублев. Где их возьмешь? Продай все, да хуже Шинтяка (самый бедный мужик в деревне), да и то не одолеешь», — возражает Игнат на просьбу матери спасти Илью от солдатчины)
- 323 -
Толстой вводит мотивы психологические. Для этого потребовалось охарактеризовать членов семьи Дутловых и описать их взаимоотношения. Несомненной симпатией писателя пользуются молодожены Илюшка и Аксинья, которая «только недавно взята была из другой деревни, за 100 рублей куплена. Эта была первая красавица, игрунья, щеголиха и песенница, по всей деревне». «Игнатова хозяйка была худая курносая крикливая баба», которую не любила даже ласковая ко всем старушка свекровь. Она уверила Игната, «что отец хочет отдать Илье все и что Илья с Аксиньей подводят старшего брата». «Больше чем черная кошка пробежала между братьями, они и жены их ненавидели друг друга». Поэтому Игнат уверяет, что «невозможно выручить 300 рублей на рекрута».
В первоначальном варианте и в ставку Илью везет не старик Дутлов, а Игнат. Поверх текста эпизода на постоялом дворе Толстой написал: «Дутлова нет». Однако впоследствии Игнат везде заменен Дутловым. Колебался Толстой и в определении состава семьи Дутловых. В рассмотренном фрагменте, не вошедшем в окончательный текст, речь идет о трех братьях: старшем Игнате, среднем Василии и младшем Илье. В начале чернового автографа Илюшка (названный Лазуткой) является работником Дутлова, затем приемышем, которого Дутлов собирался женить на своей дочери, и наконец племянником. Племянников у Дутлова то двое, то один. В окончательном тексте в эпизоде сходки (глава V) говорится о племянниках, но в дальнейшем фигурирует один Илья.
В черновом автографе много внимания уделено жене Илюшки, прототипом которой в значительной мере послужила яснополянская крестьянка Аксинья Базыкина. В дальнейшем сюжетная линия Дутловых была сильно сокращена, и на первый план вышла трагедия Поликея.
Устраняя в процессе работы над повестью лишние описания, подробные характеристики второстепенных персонажей, Толстой укрупнял фигуру старика Дутлова, который наряду с Поликеем становился вторым главным героем произведения. В окончательном тексте Дутлов сам принимает все решения, его душа предстает полем битвы разноречивых чувств.
Следующий этап работы Толстого над повестью относится к осени 1862 г. По свидетельству Софьи Андреевны, Толстой дал ей переписывать черновую рукопись в первые же дни после их свадьбы, состоявшейся 23 сентября 1862 г. 26 октября этого года С. А. Толстая писала своей сестре Т. А. Берс: «Списываю повесть “Поликушку”, которую тоже пошлем печатать» (ГМТ). Сохранившаяся копия в основном точно воспроизводит черновой автограф, но есть и различия. В копию не попало, хотя и не было вычеркнуто в автографе, подробное описание внешности Дутлова — вставка на 26-й лист автографа, над которой Толстой работал очень тщательно (выделяются четыре варианта этого фрагмента). Отказался Толстой и от другой вставки — занимавшего несколько страниц описания семейства Дутловых. Начало вставки зачеркнуто в автографе, середина утрачена, конец не зачеркнут, но в копии отсутствует. Есть и противоположный случай, когда в копии рукой С. А. Толстой написана фраза, которой нет в автографе. Возможно, имело место устное указание на этот счет или диктовка.
Некоторые ошибки копии Толстой заметил и внес правку, не обращаясь к автографу и создав новый вариант; большую часть разночтений он оставил без внимания. В копии рукой Толстого вписано название «Поликушка» и сделано разделение на главы. Правка, проведенная по всему тексту, лишь местами (в главах IX, XIII, XIV) значительна: большие куски текста
- 324 -
вписаны на полях, вычеркнуты фрагменты. Так, в начале гл. XIV Толстой убрал внутренний монолог Дутлова, размышляющего о том, как употребить подаренные барыней деньги: «Новый штруб купить, поставить рядом?.. Нет, теперь семья меньше стала, солдатка уйдет, и в одной просторно будет, еще тройку собрать, работника нанять?» У него не возникает мысли купить за племянника рекрута. «Вот Бог даст, думал он, попади жребий сыну, все бы отдал...» В других случаях добавлены отдельные уточняющие слова или фразы, поставлен знак абзаца. В целом копия мало отличается от текста, напечатанного в «Русском вестнике». Однако конец (большая часть гл. XV) был переписан заново в несохранившихся наборной рукописи или корректуре.
Повесть была предложена Толстым М. Н. Каткову в письме от 9 октября 1862 г. Сообщая о том, что не успевает закончить обещанных «Русскому вестнику» «Казаков», Толстой спрашивал, нельзя ли вместо этого прислать «повесть листа в 3», написанную «года полтора назад». Посылая Каткову начало «Казаков», Толстой писал 28 ноября 1862 г., что другая повесть («Поликушка») готова и будет прислана «тотчас же после этой».
В январе 1863 г. Толстой читал неопубликованную еще повесть в Москве. 5 января он записал в дневнике: «Поликушка мне не нравится. Я читал его у Берсов».
Вторая, февральская книжка «Русского вестника» с «Поликушкой» вышла в свет с опозданием. Катков писал Толстому 11 марта 1863 г., что «очаровательный» рассказ «Поликушка» «печатается во 2-й книжке, которая скоро выйдет» (ЛН, т. 37—38, с. 199). Печатание № 2 «Русского вестника» было дозволено цензурой 29 марта, а 30 марта в № 70 «Московских ведомостей» объявлено о его выходе.
По свидетельству С. М. Гейден (урожденной Дондуковой-Корсаковой), в основу сюжета «Поликушки» положен случай, рассказанный Толстому во время его пребывания в Брюсселе в 1861 г. 13 апреля 1888 г. С. М. Гейден вспоминала в письме к Толстому: «27 лет тому назад, в Брюсселе, видались мы с Вами чуть ли не каждый день <...> Надеюсь, что из Вашей памяти не совсем изгладилось воспоминание <...> о сестрах моих, из которых одна рассказывала Вам фабулу “Поликушки” — быль из наших мест» (Юб., т. 7, с. 345). Имение князей Дондуковых-Корсаковых село Глубокое находилось в Псковской губ. Воспользовавшись рассказанным случаем, Толстой взял обстановку жизни крестьян, дворовых и барыни из знакомых ему мест — Ясной Поляны и ее окрестностей. С. А. Толстая писала Н. В. Давыдову 24 сентября 1919 г.: «Тип Поликушки взят Львом Николаевичем с яснополянского дворового человека. Тип барыни, как мы рассудили с сестрой Татьяной Андреевной, взят с гр. Елизаветы Александровны Толстой <...> Она была сестра Татьяны Александровны Ергольской, жила в своем имении Покровском, Чернского уезда» (там же, с. 347; в Ясной Поляне хранится черновик этого письма).
В записной книжке Толстого встречаются имена и фамилии реальных людей, использованные писателем в повести: Поликей, Дутловы, Резун, Ермилины. Фигурируют некоторые из них и в других произведениях Толстого этого времени. Так, плотник Резун с похожей характеристикой говоруна и умного мужика является персонажем неоконченного «Дневника помещика». Семейство Дутловых, с сыновьями Игнатом и Илюшкой описано в «Утре помещика», в «Идиллии»; они же в «Тихоне и Маланье» именуются
- 325 -
Ермилиными. По свидетельству С. Л. Толстого, прототипами Дутловых была яснополянская семья Зябревых, называвшаяся также Ермилиными (Толстой С. Л. Ясная Поляна в творчестве Л. Н. Толстого. — Ясная Поляна. Статьи. Документы. М., 1942, с. 98). Использованы в «Поликушке» имена и других реальных лиц. У графини М. Н. Толстой в Покровском был приказчик Егор Михайлович, а у бабушки Толстого П. Н. Толстой — горничная Агафья Михайловна. В Ясной Поляне была также и лошадь по имени Барабан.
Флигель, в котором жил Поликей с семьей, напоминает, по словам С. Л. Толстого, помещение для дворовых в Ясной Поляне (там же, с. 99).
Следующий фрагмент из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого свидетельствует о том, что в гл. XV повести, в сцене сна старика Дутлова, Толстой использовал рассказ одного из крестьян о встрече с домовым:
«Л. Н. вспоминал:
— В Угрюмах было четыре лошади. Когда они линяли, надо было их мазать. При них ночевал мужик. Он рассказывал, как пришел домовой в конюшню: “Сначала ударил лошадь по хребту, а потом навалился на меня и начал меня давить и душить”.
Я: Это описано в “Поликушке”» (ЛН. т. 90, кн.1. с. 207).
Первым на появление в печати «Поликушки» откликнулся А. А. Фет, прочитавший повесть 10 апреля. На следующий день он написал Толстому письмо с подробным разбором нового произведения. Оценка Фета, оговорившего предварительно право высказывать Толстому «свое мнение начистоту», была резко отрицательной. Речь в его отзыве шла не об отдельных недостатках в художественном исполнении — их он как раз не находил, а о неприятии произведения в целом. «Вам нечего радоваться, — писал он, — что Вы мастерски справились с тем или другим сюжетом. Это Вам Бог дал такой сильный живот. Но он же дал Вам нос художника. Зачем же Вы в угоду художнического искания нового позволяете себе искать его там, где претит». Фет выступал даже против самого незначительного расширения сферы изображения в литературе и упрекал Толстого за обращение к жизни дворовых. «Плесень народа не может иметь, то есть не должна иметь повествователя. А наши бывшие дворовые менее самых отвратительных негров (зри дядю Тома) имеют право на перо первоклассного писателя. Мужики — другое дело — они хоть варвары — но люди. Дворовые — не люди и никому не понятны в одежде претензии на людей. И каков же результат? Вы бились всеми силами стать на Божески недоступную точку, хотели быть отрешенным судьей, а стали как будто в отсталые ряды адвокатов. Это мне больно! Подумайте — Вы и адвокатура в поэзии. Возможно ли это. <...> Нет, Вы солнце, — ну и сияйте жарко, мягко, как хотите, но сияйте, а не стряпайте в темной закоптелой печи». Сравнивая «Поликушку» с «Казаками», в которых, по мнению Фета, «все человечно, понятно, ясно, ярко — сильно», он заключал: «В “Поликушке” все рыхло, гнило, бедно, больно <...>. Все верно, правдиво, но тем хуже. Это глубокий широкий след богатыря, но след, повернувший в трясину.
Скажу последнее слово. Я даже не против сюжета. А против отсутствия идеальной чистоты. <...> Самая вонь должна в создании благоухать, перешедши durch den Labirint der Brust <через лабиринт сердца> художника. А от “Поликушки” несет запахом этой исковерканной среды. Это какие-то вчерашние зады» (Переписка, т.1, с. 362, 363).
- 326 -
В ответном письме от начала мая 1863 г. Толстой не стал опровергать доводы Фета, объяснив, что не придает серьезного значения вышедшей из-под его пера повести: «Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же это такое написал “Казаки” и “Поликушку”? Да и что рассуждать об них. Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. <...> “Поликушка” — болтовня на первую попавшуюся тему человека, который “и владеет пером”...».
Первый отзыв в печати появился 15 апреля 1863 г. в № 90 «Сына отечества» и был также неблагоприятным для Толстого. Анонимный автор статьи «Что нового в журналах?», отдавая должное художественной стороне произведения («Как и все повести графа Л. Н. Толстого, она написана мастерским пером <...>; во всей повести вы найдете не одно место, от которого придете в восторг, — так хорошо передана сцена»), объявлял идею «Поликушки» ложной, ситуацию, изображенную в повести, нереальной и неестественной, характер Поликея выдуманным, а его внезапное нравственное перерождение невозможным. Критик обнаружил полное непонимание замысла писателя и свел всю проблематику повести к идее перевоспитания вора. В заключение он обвинил Толстого в «клевете на жизнь».
В напечатанном через месяц «Одесским вестником» обзоре «Литературные листки. VIII» В. Чибисов (подпись В. Ч.) объединил в своем анализе «Поликушку» с рассказом А. П. Голицынского «Дьявольское наваждение» в качестве примеров того, что «мотивы рассказов теперь не — любовь, а — деньги, корысть, на почве которых обрисовываются характеры людей». Признав, что рассказ Толстого «блещет, в частностях, живо схваченными красками и чертами быта, — и читается с интересом, благодаря мастерству изложения», критик отказал ему в значительности содержания: «... Затронуто любопытство, и только. Блестящие камешки, точно в калейдоскопе, занимают зрение, не дают ему пресытиться и влекут за собою все вперед и вперед...
А кончишь — и невольно является вопрос: к чему потрачено столько таланта, наблюдательности и ума? Какая высшая цель руководит такой работой?» («Одесский вестник», 1863, 16 мая, № 53).
Более благосклонен к «Поликушке» был критик «Северной пчелы», чья статья «Русская критика и художественная этнография», как следует из подзаголовка ( 1) Казаки (Кавказская повесть 1852 года). Графа Л. Н. Толстого. «Русский вестник». 1863 г. № 1-й. 2) Поликушка (Рассказ). Графа Л. Н. Толстого. «Русский вестник». 1863 г. № 2-й), имела в виду разбор двух произведений. Однако фактически вся рецензия посвящена «Казакам», которым дана высокая оценка, и только в последней фразе речь идет о повести «Поликушка», названной по ошибке «Пастушка»: «Все нами сказанное о “Казаках” относится и к другому прекрасному очерку гр. Л. Н. Толстого “Пастушка” также в “Русском вестнике”» («Северная пчела», 1863, 19 сентября, № 247).
По достоинству оценил повесть И. С. Тургенев, вернувшийся в январе 1864 г. из-за границы в Россию. В письме к А. А. Фету из Петербурга от 25 января (6 февраля) этого года Тургенев делился своим впечатлением: «Прочел я после Вашего отъезда “Поликушку” Толстого и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много потрачено — да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает — а ведь у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!» (Тургенев. Письма, т. 5, с. 216).
- 327 -
В том же году Ап. Григорьев упомянул «Поликушку» вместе с «Казаками» в статье «Отживающие в литературе явления» («Эпоха», 1864, № 7). Приветствуя возвращение Толстого к художественному творчеству после периода увлечения педагогическими теориями, критик в качестве примера того, что мастерство писателя «все то же, что и в прежних его произведениях: тонкость анализа и чутье человеческой натуры все те же — краски такие же», приводит сцену из «Поликушки»: «... Припомните — ну, хоть ночь — когда удавленник Поликушка смирно и смиренно висит себе на чердаке, а все живые в доме ходят под каким-то зловещим влиянием» (с. 7).
В апреле 1865 г. А. Пятковский, рецензируя «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Две части. СПб., 1864—1865», отнес «Поликушку» вместе с «Детством» и «Отрочеством», Севастопольскими рассказами, «Рубкой леса», «Набегом», «Записками маркера» к «разряду произведений, представляющих верную и безыскусственную комбинацию разных житейских фактов» («Современник», 1865, № 4, отд. II, Новые книги, с. 324).
Критики, писавшие о Толстом в 70-е годы, почти не уделяли внимания «Поликушке». Повесть была упомянута в «Библиографических заметках» «Московских ведомостей» в связи с выходом «Сочинений графа Л. Н. Толстого, в восьми частях» (М., 1873), где она названа «эскизами из народного быта» (1874, № 2). Исключение составляет Н. К. Михайловский, обратившийся к разбору «Поликушки» в статье «Десница и шуйца гр. Толстого», чтобы объяснить противоречия в мировоззрении писателя. Не берясь подтвердить свои мысли анализом романа «Война и мир», так как «это потребовало бы слишком много времени и слишком большого труда», Михайловский писал: «К счастью, у гр. Толстого есть одна небольшая, но высоко художественная повесть, содержащая в сжатом виде все нужные для меня элементы. К счастью также, наша критика, сколько мне, по крайней мере, известно, не занималась ею. Значит, я не рискую надоесть читателю. Повесть эта называется “Поликушка”...» («Отечественные записки», 1875, № 6, с. 330; Михайловский Н. К. Полн. собр. соч., т. 3. Изд. 4-е. СПб., 1909, с. 504).
Познакомив читателя с сюжетом повести и отметив мастерство в создании характеров Поликея, его жены и старика Дутлова, критик замечал: «Я рассказываю, так сказать, бегом; и несчастия семьи Поликушки, сбитые в кучу, могут показаться несколько аляповатыми. Но кто читал или прочтет “Поликушку” в подлиннике, тот этого не скажет» (там же, с. 331). Михайловский был убежден, что задача Толстого гораздо шире намерения рассказать трагический случай из жизни дворового: «Если смотреть на “Поликушку”, как на анекдот, т. е. как на рассказ об единичном, необыкновенном, исключительном, не подлежащем какому-нибудь обобщению случае, то можно, конечно, только сказать: да, очень странное стечение обстоятельств. Но широкий, преимущественно склонный к обобщениям ум гр. Толстого не годится для анекдотов: он их никогда не писал и, я думаю, не будет писать. <...> И в “Поликушке” следует видеть отражение некоторых задушевных, общих понятий автора. С точки зрения господствующих о гр. Толстом мнений, дело объясняется очень просто: недоверие к человеческому разуму, не способному понять целей Провидения, гордо помышляющему о своих собственных целях и терпящему в конце концов полное поражение» (там же, с. 332).
Михайловский соглашался с этим объяснением, но добавлял еще и свое, ради которого он и привлек к анализу «Поликушку». Признавая глубокую
- 328 -
противоречивость мировоззрения Толстого (отсюда «десница» и «шуйца» в названии статьи), критик видел «причины, толкающие его к противоречиям» (с. 329), в «столкновении потребностей гр. Толстого с его сознанием» (с. 330). Речь идет о том, что, принадлежа к так называемому «цивилизованному обществу», Толстой испытывает, как член этого общества, определенные потребности, но в то же время сознает ущербность этого общества и его глубокие противоречия с миром народной жизни. Идея противопоставления народа и людей образованных классов, пронизывающая, по мнению Михайловского, все творчество Толстого, лежит и в основе «Поликушки». «Мне кажется, — говорил Михайловский, — что корень несчастий, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого в чувствительной и бестолковой барыне, в цивилизованном человеке, слабом и исковерканном, но самоуверенно вмешивающемся в жизнь народа» (там же, с. 333).
В 1882 г. Е. И. Утин в очерке «Глеб Успенский» избрал повести Толстого «Утро помещика» и «Поликушка» для иллюстрации своей мысли о том, что предшественникам Г. Успенского в воспроизведении народной жизни «недоставало одного из самых существенных, необходимых элементов для такого воспроизведения, без которого оно совершенно немыслимо, это — близкого знакомства, знания этой жизни» («Вестник Европы», 1882, № 1, с. 286). О «Поликушке» Утин писал: «Повесть эта, по-видимому, взята прямо уж из народной жизни, но можно ли сказать, что она в действительности дает реальную картину этой жизни? Фабула повести такова, что она с одинаковым удобством могла бы быть применена к описанию любого общественного слоя. В ней нет никаких особенностей, которые приурочивали бы исключительно к изображению народного быта. Есть, правда, в повести одна или две сцены, удачно выхваченных из действительности, напр<имер> сцены галдящего мира, но почему мир только галдит, отчего в рассуждениях мужиков господствует такая бестолочь, отчего, словом, получается такая непривлекательная, дикая сцена, об этом в повести, воспроизводящей, по мысли автора, народный быт, нет и помину. Да, все это схвачено с натуры, творчество автора несомненно, но все схвачены только внешние черты, нисколько не подвигающие нас в знании народной жизни» (там же, с. 285—286).
С прямо противоположной оценкой выступил два месяца спустя критик «Русской мысли» (подпись «Х»; псевдоним не раскрыт). В рецензии «Новое произведение графа Л. Н. Толстого “Чем люди живы”» он писал: «Сказка взята из народного быта, в изображении которого гр. Толстой уже давно приобрел заслуженную славу неподражаемого мастера. По нашему мнению, теперь он делает новый шаг вперед в этом направлении. В прежних своих работах писатель поражал тою умелою и правдивою простотой, с какою он подходил к крестьянскому миру и освещал его в самых темных сторонах. Видно было, что он прекрасно знает и понимает этот мир и мастерски рисует его в пленительно простых рассказах; вспомните, например, “Поликушку”» («Русская мысль», 1882, № 3, с. 335).
В ноябре 1887 г. А. П. Ольденбург отметила выход «Поликушки» в серии книг для народного чтения: «Редакция “Русской мысли” весною нынешнего года начала свои издания рассказом Толстого “Поликушка”. Несмотря на то, что почему-то издатели сочли нужным сократить этот превосходный рассказ, он все-таки сохранил жизненную правду и производит глубокое впечатление» («Воспитание и обучение», 1887, № 11, с. 255. Подпись: А. О.).
- 329 -
Неодобрительно отозвался в 1890 г. о «Поликушке» К. Леонтьев, противопоставивший его более поздним толстовским «повестям из народного быта», написанным после «Анны Карениной». По его мнению, они «в смысле веяния народным духом — несравненно выше и правдивей, не говоря уже о том, что они гораздо изящнее». «Я прошу не верить мне на слово, — писал далее Леонтьев, — а потрудиться просмотреть только хоть начало ярко раскрашенной и рельефно расковыренной деревянной “Поликушки” и начало бледно и благородно-фарфоровых “Чем люди живы”, “Упустишь огонь...” или арабского рассказа “Вражье лепко”» (Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние (Критический этюд). Писано в Оптиной пустыни в 1890 г. М., 1911, с. 32).
В 1891 г. А. П. Чехов советовал двоюродному брату А. А. Долженко прочитать «Поликушку», «Казаки» и «Холстомера»: «Очень интересно» (Чехов. Письма, т. 4, с. 226).
В этом же году С. М. Степняк-Кравчинский в незавершенной статье, предназначавшейся для американского периодического издания, кратко и обобщенно охарактеризовал ранние произведения Толстого, включая «Казаков», «Поликушку» и «Семейное счастие» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 553).
А. М. Скабичевский в статье «Мужик в русской беллетристике (1847—1897 г.)», написанной по поводу выхода Собрания сочинений Н. Е. Каронина-Петропавловского, сослался на «Поликушку» для подтверждения своей мысли о «реально-трезвом, чуждом малейшей сентиментальной идеализации» подходе к изображению народной жизни у беллетристов сороковых годов, к которым он причислял наряду с Тургеневым и Григоровичем Л. Толстого (см.: «Русская мысль», 1899, № 4, с. 14).
С. А. Венгеров в статье о Толстом для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона писал: «Трагический характер барская затея принимает в <...> рассказе “Поликушка”; здесь погибает человек из-за того, что желающей быть доброю и справедливою барыне вздумалось уверовать в искренность раскаяния, и она не то чтобы совсем погибшему, но не без основания пользующемуся дурной репутациею дворовому Поликушке поручает доставку крупной суммы. Поликушка теряет деньги и с отчаяния, что ему не поверят, будто он в самом деле потерял их, а не украл, вешается» (т. 65, СПб., 1901, с. 453).
При жизни Толстого повесть переводилась на английский, голландский, датский, испанский, итальянский, немецкий, румынский, сербскохорватский, финский, чешский, шведский языки.
Первый перевод был сделан в Германии в 1863 г., сразу после публикации в «Русском вестнике». Переводчик В. Вольфзон, известный пропагандист русской литературы в Германии, напечатал повесть под названием «Paul» в своем журнале «Russische Revue» (1863, № 7, S. 28—50; № 8, S. 105—147). Перевод сопровождался кратким предисловием, знакомившим немецкого читателя с Толстым. Через двадцать лет этот перевод был переиздан дрезденским издательством «Minden» в сборнике переводов Вольфзона «Russische Geschichten». Позднее «Поликушку» переводили на немецкий язык Г. Роскошный, Г. Брендель, Л. А. Гауфф, Р. Лёвенфельд, А. Рёль.
В 1875 г. появился датский перевод: «Polikuschka». Overs. af W. Gerstenberg. — Udvalgte Fortaellinger af russiske Novellister; повторено в 1888 г.
- 330 -
Первое издание «Поликушки» на английском языке вышло в 1886 г.: «Polikushka». Transl. by N. H. Dole. London, 1886. Затем — в 1887 и 1888 гг. в том же переводе в составе сборника «The invaders and other stories» (London), а также в т. 7 Собрания сочинений Толстого («Complete works». New York, 1899). В других английских и американских изданиях переводчиками были Р. Р. Такер, K.Гарнет, Л. Винер.
Вскоре появился и первый отклик английской критики. Чарльз Эдвард Тёрнер замечал по поводу «Поликушки» в своей книге «Граф Толстой как романист и мыслитель»: «...Великая сила Толстого заключается в описании простой жизни. Каждое слово, которое он вкладывает в уста своих героев-крестьян, каждый их жест, их манера мыслить, их отношения между собой и к тем, кто стоит над ними, — все это настолько точно воспроизводит реальную жизнь, что даже те, кто незнаком с языком, верой и обычаями русского “мужика” или простого солдата, будут абсолютно уверены в полной правдивости изображения» (Charles Edward Turner. Count Tolstoi as novelist and thinker. London, 1888, p. 36—37).
Эдмунд Госс в предисловии к сочинениям Л. Толстого, изданным в 1890 г. в Лондоне, признавая «Поликушку» типичным произведением Толстого начала 1860-х годов, писал: «Хотя оно коротко и излагает лишь эпизод, автор щедро дарит нам поразительное количество типов, каждый из которых отчетливо очерчен. Сцена сдачи в рекруты демонстрирует мастерство, с которым вскоре в романе “Война и мир” будут изображены обширные пространства, кишащие массами людей. <...> Смесь тщеславия, жадности, гордости и глупости, которые бушуют в голове Поликушки, когда он едет, чтобы получить деньги, описана мастерски и в чисто толстовской манере» (Work While ye Have the Light. By Lyof Tolstoi. With introduction of Edmund Gosse. London, 1890).
В 1887 г. известный американский романист, публицист и критик Уильям Дин Хоуэлс в предисловии к переводу Севастопольских рассказов назвал «Поликушку» среди других произведений Толстого, чтение которых, по его мнению, «составляет целую эпоху в жизни каждого мыслящего читателя» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 85). Он писал: «“Поликушка” — беглая зарисовка, фрагментарный, почти незавершенный рассказ, обладает совершенством, силой и неисчерпаемым запасом милосердия и сочувствия к человеку» (там же, с. 87).
В начале 1890-х годов два американских критика отдали предпочтение «Поликушке» перед более поздними моралистическими произведениями Толстого.
«В этом очерке Толстой не убеждает, не спорит, не нападает на что-либо или кого-либо и не впадает в социальную или моральную назидательность. Он только очень просто и очень убедительно рассказывает небольшую обыкновенную историю. Если бы Толстой удовлетворился простотой “Поликушки” или свежестью и энергией “Казаков”, или даже иронией “Смерти Ивана Ильича”, а не был захвачен пагубной идеей того, что его особая миссия заключается в преобразовании общества и перестройке вселенной, он был бы счастливейшим человеком и превосходным писателем» (The Lasso. 1891. November, р. 20—21; The Kingdom of Art. Willa Cather’s first principles and critical statements 1893—1896. Lincoln. 1966, p. 377).
У. Д. Хоуэлс разделял это мнение: «... Я прочитал “Поликушку” и большую часть его рассказов с таким чувством единства с изображенными в
- 331 -
них людьми, какого я никогда не испытывал при чтении других художественных произведений <...> Простота чувств и кажущаяся неясность, неотчетливость, уклончивость таких повестей, как “Поликушка”, крестьянский новобранец, гораздо более ценны для мира в целом, чем все его притчи...» (W. D. Howells. My Literary passion, criticism and fiction. New York and London, 1910, p. 187).
Одновременно с первым переводом на английский язык «Поликушка» вышел во Франции тремя изданиями в авторизованном переводе Гальперина-Каминского: «Polikuchka. Trad. avec l’autorisation de l’auteur par E. Halpérine-Kaminsky» (Paris, 1886) и в переводе Цакни: «Un pauvre diable». Trad. par E. Tsakny. — «Dernières nouvelles» (Paris, 1886) (второе издание — в 1887 г.). Позднее «Поликушка» вошел в т.6 изданного в Париже в 1903 г. Собрания сочинений Толстого в переводе Бинштока: «Polikuchka». Trad. de J. W. Bienstock, revisée et annotée par P. Biroukov.
В 1887 г. «Поликушка» был переведен на голландский язык (с французского перевода Элеоноры Цакни): «Polikuschka. Roman». Vert. door A. J. van Dragt. Heerenveen, Land, 1887. Голландский критик Х. Вольфганг ван дер Мей в своем «Комментарии к Толстому» (журнал «Los en Vast», 1888), пересказав содержание повести, заметил: «Новелла показывает, что Толстой не всегда возвышает народ и не ставит себе целью идеализировать его. <...> Хотя народ живет более здорово и естественно, в нем можно найти и отрицательные черты, как, например, полное равнодушие к чужому горю». (Сообщено Эриком де Хаардом.)
В 1887 г. появились финский и шведский переводы: «Polikushka». Suom. Olga (Aalto). Helsingissä, J. ja G., 1887; «Polikaj». — Bilder ur ryska samhällslivet (Stockholm, 1887). В 1889 г. — перевод на чешский язык: «Polikuška. Povídka». Přel. V. P. — Spisy (Praha, 1889); в 1892 г. — на испанский: «El ahorcado (Polikushka)» (Madrid, 1892); в 1894 — на итальянский: «Un povero diavolo». — Ultime novelle e piaceri viziosi (Milano, 1894); в 1907 г. — на румынский: «Un dezmostenit al soartei». Trad. de P. Ionescu. — Nuvele (Bucuresti, 1907); в 1910 г. — на сербскохорватский: «Поликушка. Приповетка». Прев. H. Николајевuћ (Нови Сад, Матица српска, 1910).
С. 132. ...хотел отстоять тройника Дутлова... — Имеется в виду, что в семье Дутлова было трое мужчин призывного возраста.
С. 133. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон... — Во время пребывания в Лондоне в феврале 1861 г. Толстой посетил заседание парламента, где слушал речь премьер-министра Великобритании Г. Д. Т. Пальмерстона.
...до Покрова нужно свезти рекрут в город. — Покров — христианский праздник Покрова пресвятой Богородицы, отмечается 1 октября ст. ст.
...ему бы надо двойниковый жребий кидать. — При определении очередности сдачи крестьян в рекруты учитывалось количество взрослых сыновей в семье. В первую очередь брали рекрутов из семей с тремя сыновьями (тройники), затем с двумя (двойники).
...нанковые пуговицы... — Пуговицы из нанки, хлопчатобумажной ткани, получившей название от китайского города Нанкина, где ее производили.
С. 137. Месячины доставало... — Месячина — в России XVIII — первой половины XIX в. продовольственный паек, выдававшийся ежемесячно дворовым
- 332 -
и крестьянам, не имевшим земельных наделов. Получавшие месячину должны были шесть дней в неделю работать на помещика.
...насосы спускал... — Лечил путем надрезов болезненые опухоли, образующиеся у лошадей на небе вследствие застоя крови.
С. 139. ...чильчак... — Конская болезнь, паралич ног или крестца.
...почечуй... — Геморрой.
Wage du zu irren... — Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Тэкла» (1802).
...полезна от запала... — Запал — болезнь типа воспаления легких, возникающая у загнанных или опоенных лошадей.
С. 146. ...на селищах... — Селище — остатки жилого места, полностью выгоревшее или уничтоженное, снесенное селение.
С. 148. ...постукивая лутошкой... — Лутошка — липка, с которой снята кора, содрано лыко.
С. 149. ...едет как дворник какой... — Дворник — содержатель постоялого двора.
С. 150. ...к Одесту... — К Одессе.
С. 151. ...двое подставных... — Т. е. резервных рекрутов на случай браковки очередных.
Еще, Бог даст, затылок... — Если после медицинского осмотра новобранец признавался годным к военной службе, ему брили волосы надо лбом (отсюда выражение «забрить лоб»), если же он признавался негодным, ему выбривали волосы на затылке.
С. 152. ...дохтору синенькую мужик дал... — Пятирублевую ассигнацию.
С. 162. ...как только-только прочтется кафизма... — Кафизма — раздел Псалтири, на которые она делится для удобства употребления при богослужении.
С. 163. ...боров... — Горизонтальная часть дымохода, соединяющая печь с дымовой трубой.
...делала спуск. — Спуск — мазь или пластырь из воска с маслом или салом.
С. 169. Юлия Пастрана — бородатая женщина, которую в 1850-х гг. привозили в Россию и демонстрировали публике.
С. 170. ...глядя на перемет над печкой... — Перемет — поперечная балка, соединяющая стропила или столбы.
С. 172. Две красненьких... — Две десятирублевые ассигнации.
С. 173. ...угощение охотнику. — Охотник — здесь: человек, идущий на что-то добровольно, в данном случае подставной рекрут, наймит.
С. 174. ...дотронувшись головою до земи... — Земь — земля, в значении дол, низ, пол. Ср. выражение «Пади наземь!», «Ударился оземь».
...связки котелок... — В Тульской губ. котелка — крендель, сваренный в котле.
- 333 -
НЕОКОНЧЕННОЕ
ДЕКАБРИСТЫ
Впервые: «XXV лет. 1859—1884. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». СПб., 1884, с. 216—251.
Рукописный фонд составляет 104 листа: четыре автографа и копия рукой С. А. Толстой с авторской правкой (наборная рукопись).
Печатается по наборной рукописи с исправлениями по автографам:
С. 180, строки 13—14: писателей-художников, описавших — вместо: писателей-художников, описывающих (по А2)
С. 182, строки 38—39: раздался тот же смех, который слышался в возке и который, когда кто слышал — вместо: раздался тот же смех, который слышался в возке, который, когда кто слышал (по А2)
С. 186, строка 30: Sie flechten — вместо: Sie pflegen (по А2)
С. 188, строка 7: не знал, что ответить — вместо: не знал, что отвечать (по А2)
С. 188, строки 15—16: И долго еще сидел — вместо: И долго он еще сидел (по А2)
С. 188, строка 34: и первое бросается вам в глаза — накрытый стол — вместо: и первый бросается вам в глаза накрытый стол (по А2)
С. 189, строки 25—27: Женщина должна быть как персик, как эта сибирячка — тогда она приятна. Женщины — моя страсть. — вместо: Женщины — моя страсть. (по А2)
С. 190, строка 5: Спрашивайт у господа, которы — вместо: Спрашивайт у господа, которые (по А2)
С. 190, строка 15: развернул бумагу и прочел — вместо: развернул бумагу, прочел (по А2)
С. 190, строка 20: был чем-то знаменит — вместо: был чем-то знаменитым (по А2)
С. 190, строка 39: Садятся — вместо: Сидят (по А2)
С. 191, строка 22: Пучин — вместо: «Пучин» (по А2)
С. 191, строка 45: Анастасья, Анастасья — вместо: Анастья, Анастья (по А2)
С. 192, строки 6—7: И теперь так и вышло. — вместо: И теперь так вышло.
С. 192, строка 39: сановитого старичка — вместо: этого старичка (по А2)
С. 193, строка 12: сел на диване — вместо: сел на диван (по А2)
С. 193, строки 16—17: «умные» как эллипс — вместо: «умные» как прозвание (по А2)
- 334 -
С. 193, строки 17—18: начали обсуживать — вместо: стали обсуживать (по А2)
С. 193, строка 34: перевел — вместо: перевез (по А2)
С. 195, строка 6: поехал на вечер — вместо: отправился на вечер (по А2)
С. 195, строки 14—15: Натали Кринской — вместо: Наташей Кринской (по А2)
С. 195, строка 17: Натали — вместо: Наташа (по А2)
С. 195, строка 30: единственная дочь, самая богатая, самая красивая девушка — вместо: единственная дочь, самая богатая, самая красивая (по А2)
С. 195, строки 36—37: а как была — вместо: и как была (по А2)
С. 195, строка 38: сказала хозяйка дома — вместо: сказала хозяйка
С. 196, строка 13: молодой человек хорош — вместо: молодой человек так хорош (по А2)
С. 196, строки 23—24: надо представиться — вместо: представиться (по А2)
С. 197, строка 28: Кто этот — вместо: Кто это (по А1)
С. 197, строка 30: морщины, приобретаемые — вместо: морщины, приобретенные
С. 198, строка 4: стоять обедню — вместо: стоять обедни (по А1)
С. 198, строки 21—22: бывавших у Шевалье — вместо: бывших у Шевалье (по А1)
С. 198, строка 28: платье это — вместо: платье его (по А1)
С. 199, строка 30: спокойно опустился — вместо: спокойно спустился (по А1)
С. 200, строка 43: одним общим — вместо: одною общею (по А1)
С. 202, строка 30: собралась ехать — вместо: собиралась ехать (по А1)
С. 204, строка 15: что меня не приготовил — вместо: что не приготовил меня (по А1)
С. 204, строка 29: вставала и опять повторяла — вместо: опять вставала и повторяла (по А1)
С. 205, строка 24: сказала она весело, ласково и так тонко — вместо: сказала она весело и ласково и так тонко (по А3)
С. 205, строка 35: как был — вместо: как и был (по А3)
С. 205, строка 39: коготки — вместо: ноготки (по А3)
С. 206, строка 6: Соня, та будет хорошая жена — вместо: Соня-то будет хорошая жена (по А3)
С. 206, строка 13: грустно сделалось — вместо: грустно стало (по А3)
В сборнике «XXV лет» были помещены еще два фрагмента, относящиеся к 1878 г. (см. т. 9 наст. изд.).
Сличение наборной рукописи с опубликованным текстом показало, что печатание происходило без авторской корректуры: появились искажения и неточности и нет ни одной поправки, которую можно было бы считать принадлежащей Толстому. В самой рукописи (со следами типографской краски и разными пометами корректоров и наборщиков) грамматические и стилистические изменения, внесенные редакторским карандашом. Слово «эллипс», например (от французского ellipse), для которого, не разобрав его в автографе, С. А. Толстая оставила в копии пропуск, было заменено этим посторонним лицом словом «прозвание». Цитата из Шиллера (гл. I)
- 335 -
переписана на полях вместо зачеркнутого в копии текста, при этом исправлена неточность Толстого: сделано, как у Шиллера, «himmlische» (небесные) вместо «unsichtbare» (невидимые); но появилась ошибка, которой у Толстого не было: «pflegen» вместо верного «flechten». Кроме того, при наборе и не слишком тщательной корректуре появились довольно многочисленные отступления от оригинала.
Эта же копия служила для набора «Декабристов» во второй части пятого издания «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (1886).
С. А. Толстая, занимавшаяся в то время издательскими делами (по доверенности, выданной Толстым 21 мая 1883 г.), 9 сентября 1885 г. отправила Н. Н. Страхову, с которым постоянно советовалась, набросок предисловия к этому тому. Оно начинается словами: «Благосклонный прием, который оказали читатели небольшим отрывкам из романа “Декабристы”, появившимся сперва в сборнике “XXV лет Литературного фонда” (СПб., 1884) и вновь являющимся в этом томе, подал мысль поместить тут же еще два неизданных отрывка, написанных более 25-ти лет назад» (Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава, 2000, с. 183). Предполагалось напечатать черновики «Холстомера», относящиеся к началу 60-х годов. Однако около 20 сентября Толстой начал изменять эту повесть по копии, изготовленной Софьей Андреевной, завершил работу и «Холстомер» был опубликован в 3-й части пятого издания, вышедшей в ноябре 1885 г. Второй «отрывок» — «Деревенская идиллия» — в «Сочинениях» помещен не был.
«Декабристы» вошли и в шестое издание, которым С. А. Толстая занималась осенью того же года (в ноябре она ездила в Петербург по делам этого издания и для снятия запрета с 12-й части предыдущего). Упомянуты «Декабристы» в ее письме 22 октября 1885 г.: «Кое-что переписала для “Декабристов”, “Исповеди” и держала корректуры “Лошади” и “Стариков”. Дело подвигается тихо с изданием, все бумаги нет. <...> В субботу обещают бумагу. На той неделе отпечатают конец “Казаков”, “Декабристы” и начало 12-го тома» (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М. — Л., 1936, с. 332—333).
В «Сочинениях» было устранено около 20 погрешностей первой публикации (в соответствии с наборной рукописью — подтверждение того, что новый набор делался с нее). Но добавилось почти столько же новых. В наст. изд. эти разночтения, естественно, не учитываются; текст выверен по автографам и устранены ошибки копии1.
Впоследствии три главы неоконченного романа «Декабристы» входили во все прижизненные собрания сочинений.
Публикация в сборнике сопровождалась редакционным примечанием: «Печатаемые здесь три главы романа под заглавием “Декабристы” были написаны еще прежде, чем автор принялся за “Войну и мир”. В то время он задумывал роман, которого главными действующими лицами должны были быть декабристы, но не написал его, потому что, стараясь воссоздать время декабристов, он невольно переходил мыслью к предыдущему времени, к прошлому своих героев. Постепенно перед автором раскрывались все глубже и глубже источники тех явлений, которые он задумывал описать:
- 336 -
семья, воспитание, общественные условия и проч. избранных им лиц; наконец, он остановился на времени войн с Наполеоном, которое и изобразил в “Войне и мире”. В конце этого романа видны уже признаки того возбуждения, которое отразилось в событиях 14-го декабря 1825 года.
Впоследствии автор вновь принимался за “Декабристов” и написал два другие, печатаемые теперь начала (в конце статьи).
Таково происхождение предлагаемых отрывков романа, которому, по-видимому, не суждено быть написанным. Автор никогда не предполагал их печатать, но, уступая нашей просьбе, предоставил их для издаваемого нами сборника. Ред. 3-го октября 1884 г.» («XXV лет», с. 216).
Видимо, это «примечание» переписывала С. А. Толстая в 1885 г. для своего издания: копия, сделанная ее рукой, находится на первом листе сохранившейся наборной рукописи. Последняя фраза при этом опущена; подпись изменена: «Изд.» Первоначально в копии стояло не сокращенное «Изд.», а полное — «Издательница».
М. А. Цявловский полагал, что в 1884 г. это примечание было «написано или Толстым или с его слов Софьей Андреевной» (Юб., т. 17, с. 470). Скорее имело место последнее. Известно к тому же, что к публикации в сб. «XXV лет» имел отношение А. М. Кузминский, свояк Толстого, муж Татьяны Андреевны (его рукой переписаны отрывки 1878 г.), гостивший летом 1884 г. в Ясной Поляне.
При публикации в сборнике «XXV лет» часть третьей главы, где говорится о том, что сын декабриста Сергей, вместо того чтобы пойти в церковь, идет покупать себе новое платье, опущена. В копии это место зачеркнуто — вероятно, по цензурным соображениям — тем же карандашом, каким сделаны другие редакционные поправки. В издании «Сочинений» (1886 г.) эти страницы были восстановлены.
О начале работы над «Декабристами» Толстой писал в наброске предисловия к «1805 году»: «В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года...».
Что именно было создано в 1856 г. — неизвестно; вероятно, в этом году, когда из Сибири стали возвращаться ссыльные декабристы, роман был только задуман.
Первым достоверным свидетельством работы стало письмо Толстого из Брюсселя А. И. Герцену в Лондон (где незадолго до этого они встречались) от 14 (26) марта 1861 г.: «Я затеял месяца четыре тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о приличии и своевременности такого сюжета. Тургеневу, которому я читал начало, понравились первые главы». «Месяца четыре тому назад» — это ноябрь 1860 г. Толстой находился тогда за границей. В сентябре этого года в Гиере
- 337 -
умер брат Николай. «Страшно меня оторвало от жизни это событие», — сказано в дневнике 13 (25) октября. И в тот же день признание: «Пытаюсь писать, принуждаю себя, и не идет только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпенье работать». В работе находились «Казаки» («Беглец»), «Идиллия». Видимо, к «Декабристам» относится запись 16/28 октября: «Утро писал <...> Написал не больше половины главы. Писем не писал. Завтра до завтрака писать письма и докончить главу и 3-ю, ежели успею». 29 октября (10 ноября) в дневнике отмечено: «Лет 10 не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти 3 дня. Не пишу от изобилия».
В феврале 1861 г. в Париже Толстой читал главы «Декабристов» И. С. Тургеневу, о чем и сообщал А. И. Герцену. Тургенев так рассказывал об этом в письме 15 (27) февраля П. В. Анненкову: «На днях приехал сюда из Италии Толстой, не без чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата сильно на него подействовала. Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность» (Тургенев. Письма, т. IV, с. 199).
В письме Герцену от 28 марта (9 апреля) 1861 г. из Франкфурта-на-Майне Толстой вновь упоминал «Декабристов»: «Пишу только, чтобы вас поблагодарить за “Колокол” и добрый совет о романе. За слишком лестное мнение о мне не благодарю. Оно вредно. Огарева воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не знав ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм». Письмо Герцена к Толстому, где высказан «добрый совет о романе», неизвестно. Воспоминания Огарева — «Кавказские воды (Отрывок из моей исповеди)» опубликованы в 1861 г. в шестой книге «Полярной звезды».
Осенью 1862 г. Толстой еще работал над этим романом. С. А. Толстая писала в своей автобиографии: «Вскоре после свадьбы Лев Николаевич кончил “Поликушку”, отделал окончательно повесть “Казаки” и отдал ее Каткову в “Русский Вестник”. Потом взялся за “Декабристов”, участь и деятельность которых очень его заинтересовала» (Толстая С. А. Автобиография. — «Начала», 1921, № 1, с. 44).
Т. А. Кузминская, вспоминая о приезде С. А и Л. Н. Толстых на Рождество в Москву, писала: «Они часто ездили в концерты, театры и музеи. Нередко и меня отпускали с ними. Лев Николаевич, кроме выездов, посещал библиотеки, отыскивая разные мемуары и романы, где бы говорилось о декабристах. Он только что отдал в печать свои две повести: “Казаки” и “Поликушку”, как уже в нем зарождалось новое семя творчества. Он задумал писать “Декабристов”. Он идеализировал их и вообще любил эту эпоху. Но из маленького семени “Декабристов” вышел вековой величественный дуб — “Война и мир”» (Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986, с. 160). В другом месте Т. А. Кузминская приводит разговор Софьи Андреевны с матерью. С. А. рассказывала, что «Левочка за последнее время совсем охладел к школе. Его тянет к другой работе. Он хотел писать 2-ю часть “Казаков”, но, кажется, и это бросит. Задуманный роман о декабристах поглотил его всецело» (с. 166). Т. А. Кузминская приводит слова самого Толстого: «Я был у Аксакова, где встретил декабриста Завалишина; он так заинтересовал меня, что я и не заметил, как прошло время» (с. 167). Впрочем, мемуары Кузминской, содержащие эти ценные сведения, мало пригодны для точной датировки творческой работы Толстого.
- 338 -
В частности, встреча с Д. И. Завалишиным, вернувшимся из Сибири в Москву лишь осенью 1863 г., не могла произойти раньше этого времени (см. ниже).
По словам Кузминской, Толстой бросил вторую часть «Казаков», так как перевесили «Декабристы»: «Лев Николаевич с одушевлением говорил о Муравьеве, Свистунове, Завалишине и прочих, какие материалы он достал, и говорил, что хотел ехать в Петербург смотреть крепость, где они были заключены и повешены. “И так как надо было дать понятие, какие они были люди, откуда они, — говорил Лев Николаевич, — то я начал с 1805 года и подхожу к 1808 году. Но что выйдет из этого — не знаю”» (с. 247).
Рукописи дают довольно ясное представление о ходе работы. Основной автограф — на 20 листах большого формата; разделен на четыре нумерованных и еще одну ненумерованную главу. Первые две главы сохранились еще в одном автографе и представляют собою вторую редакцию текста. В обеих рукописях заглавия нет; обе начинаются словами: «Глава 1. Это было недавно...». Неполная вторая редакция хронологически вклинивается в процесс создания основного автографа. Жена декабриста, вначале названная Варя, Варвара Николаевна, во втором автографе получила имя Наталья Николаевна; это имя, кратко обозначаемое инициалами Н. Н. или Натали, устойчиво во второй половине основной рукописи. Содержатель гостиницы, в первом автографе фигурировавший как Швалье, во втором именуется Ложье, а в продолжении основного автографа — Шевалье. Ясно, что, продолжая сочинение, Толстой отказался от Ложье.
Большая рукопись пронумерована автором: 1—40; к ней присоединен выполненный на листах небольшого формата фрагмент, начинающийся словами: «Мое правило не вмешиваться в семейные дела...» (страницы пронумерованы 41—44). К этому тексту, созданному на заключительной стадии работы, сохранился и предварительный набросок: «М. И. пожалела, что первый день она не проведет в своей семье...» (см. т. 4 второй серии издания). Очевидно, что и сплошная пагинация основного автографа, и указания относительно переписки делались в одно и то же время. Указания были необходимы: начало копировалось со второго автографа (с Ложье); в копии везде Шевалье.
В разных местах автографа поперек текста и на полях заметки конспективного характера. Например: «Дочь практична. Мать задумчиво интересна, grande dame. У Шевалье спрашивает о семействе и делах»; «Стар<ик> одев<ается>, занят собою. Их вид. Сын дома завтракает. Пахтин и либерал ... Марья Ивановна: Какой ты дурак. [обедают] Зовет обедать».
Уже в первой редакции задан сатирически-публицистический тон начала. Пространные периоды, напоминающие ораторскую речь, панорамность и объемность этого вступления дали основание исследователям сближать его с началом «Двух гусаров», говоря о некоем общем стилистическом приеме. Публицистика Толстого не ограничивается начальной главой, а, прерывая собственно повествование, возникает и далее: рассуждение о либерализме, политических новостях, сатирические характеристики персонажей (И. П. Пахтин во второй главе). От публицистического вступления начала первой главы собственно повествование отделено фразой: «Но не о том речь», которая во второй редакции заменена на: «Но не в том дело». Далее в первой редакции следует: «В это же время [были прощены] возвращались из изгнания преступники 25 года. Один из этих изгнанников [есть герой настоящей истории] поздно вечером зимой 56 года...»
- 339 -
Во второй редакции текст сначала изменен так: «В это же время возвращались из Сибири политические преступники 25 года. Один из этих изгнанников поздно вечером зимой 56 года после 32-летнего отсутствия и путешествия, продолжавшегося два месяца, вернулся в Москву, на свою родину...». А затем окончательно исправлен: «Но не в том дело. В это самое время два возка и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы. Молодой человек вбежал в двери узнать о квартире. Старик сидел в возке с двумя дамами...». Таким образом, повествование началось картиной, а не исторической справкой.
По первоначальному замыслу, в Москву возвращается Декабрист. Именно так, как бы придавая этому слову свойства имени собственного, называет его автор в первой редакции. То же перешло и во вторую, где затем с настойчивой последовательностью «декабрист» заменялся на «старика» или «старичка». В вариантах второй редакции сделана попытка заострить идеологический пафос романа, но затем автор от этого отказался, зачеркнув написанное: «Он сидел в возке с женой и дочерью и с жаром рассказывал им о том, что поляки никогда не могли бы завладеть Москвою при самых выгодных условиях и как бы они ни были сильны, потому что в них не было того славянства, которое сосредоточивает в себе все стороны человека» (вариант: «потому что в них не было того порабощающего свойства, которое было у римлян, у германцев, у русских»). В напечатанном тексте приехавший в Москву после долгого отсутствия старик рассуждает, «каков был Кузнецкий мост при французе».
В ноябре 1884 г. «Обществу для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературному фонду) исполнялось двадцать пять лет. Решено было издать юбилейный сборник. Л. Н. Толстой в 1858—1859 гг. был одним из организаторов общества, и редакционный комитет (в него входили В. П. Гаевский, А. А. Краевский, А. М. Скабичевский и К. К. Случевский) обратился с просьбой дать в сборник что-нибудь из неопубликованных произведений. Толстой дал «Декабристов» 1860—1863 гг. и два начала 1878 г.
Две первые главы были переписаны С. А. Толстой с автографа второй редакции, третья — с первого автографа: во втором автографе этого текста не было. В копии половина каждой страницы оставлена чистой — для исправлений. Толстой прочитал копию и внес поправки, в основном стилистического характера. Очевидно, что не возникло намерения переделывать, кардинально изменять текст, как это случилось год спустя с повестью «Холстомер» (см. т. 14 наст. изд.)
В дневнике Толстого 4/16 и 9/21 июня 1884 г. находятся две записи, относящиеся, по всей вероятности, к «Декабристам» 1878 г.: «Переписанный отрывок прочел и чуть подправил» и «Перечел отрывок, переписанный Кузминским».
20 декабря 1884 г. в «Правительственном вестнике», № 280 было помещено объявление о выходе в свет сборника Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым — «XXV лет» (СПб., 1884). Но книга появилась раньше, в ноябре (см. ниже отзывы современников; ценз. разр. на помещенных в книге портретах: 24 октября).
Прототипом главного героя «Декабристов» принято считать князя С. Г. Волконского. О встречах с Волконским во Флоренции в декабре 1860 — январе 1861 г. Толстой вспоминал спустя 40 лет, в 1904 году: «Его наружность, с длинными седыми волосами, была совсем как у ветхозаветного
- 340 -
пророка. <...> Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы» (Гольденвейзер, с. 141).
М. А. Цявловский в комментарии к Юб. изд. писал: «На то, что в лице П. И. Лабазова выведен кн. С. Г. Волконский, намекают слова о том, что декабрист, “бывший князь”, носил “одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком и знакомом”. Но, кроме внешности, у Лабазова нет ничего общего с кн. С. Г. Волконским. Правда, у П. И. Лабазова так же, как и у Волконского, есть жена и двое детей — сын и дочь, но Волконский по манифесту 26 августа 1856 г. приехал в октябре этого года с сыном в Москву, где уже с осени 1855 г. жила жена его с дочерью Еленой, вышедшей замуж в 1850 г. за Дм. Вас. Молчанова» (Юб., т. 17, с. 471).
Вряд ли можно считать С. Г. Волконского несомненным прототипом П. И. Лабазова. Знакомство с С. Г. Волконским состоялось уже после начала работы, и главные черты толстовского героя — его портрет, манеры, привычки — были определены. Кроме того, в письме Герцену Толстой прямо писал, что «очень был горд тем, что, не знав ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм». Одного декабриста к тому времени Толстой все же знал. Это был М. И. Пущин, брат И. И. Пущина, член «Священной артели», бывший на совещании у Рылеева перед восстанием 14 декабря 1825 г. После восстания М. И. Пущин был разжалован в солдаты и сослан. Толстой познакомился с М. И. Пущиным в 1857 г. во время путешествия по Швейцарии. Т. А. Ергольской 17/29 мая 1857 г. Толстой писал о кружке своих русских знакомых: «1) Пущин — старик 56 лет, бывший разжалован за 14 число, служивший солдатом на Кавказе; самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире, и притом высокий христианин; 2) его жена — вся доброта и самопожертвование, очень набожная и восторженная старушка, но еще очень свежая».
Фамилия «Лабазов» никак не ассоциируется с одной из «тех русских фамилий» (Волконский); в ней звучит скорее что-то купеческое (от лабаза). Совсем не так будут звучать фамилии русских аристократов в «Войне и мире».
Предположение Б. М. Эйхенбаума о том, что фамилия «Лабазов» образована от фамилии «Завалишин» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы. Л. —М., 1931, с. 207), основана на прежней неправильной датировке написания «Декабристов». Д. И. Завалишин вернулся из Сибири 17 октября 1863 г., а Толстой познакомился с ним скорее всего в декабре этого года, когда приезжал в Москву. Между тем с фамилией героя Толстой определился уже в первой редакции (1860—1861).
Догадка Эйхенбаума по поводу прототипа жены Лабазова, Натальи Николаевны, по-видимому, верна. «Девическая фамилия Натальи Николаевны, Кринская, — писал Б. М. Эйхенбаум, — явно образована из фамилии жены Волконского — Марьи Николаевны Раевской (рай — крин)» (там же, с. 199). Это находит подтверждение в тексте: «Дочь Николая Кринского, тот, что при Бородино... — ну, известный». Как и у М. Н. Волконской, у героини Толстого двое детей — сын и дочь, выросшие и воспитанные в Сибири.
- 341 -
(Сходство, однако, не абсолютно: романическая история замужества Кринской не имеет параллели в судьбе М. Н. Раевской.) М. Н. Волконская жила в Москве с дочерью Еленой с осени 1855 г., и Толстой вполне мог познакомиться с ней и с ее историей.
Прототипом для И. П. Пахтина, по мнению исследователей, послужил писатель и поэт Николай Филиппович Павлов, муж известной поэтессы и переводчицы Каролины Павловой. Б. М. Эйхенбаум полагал, что фамилия «Пахтин», вероятно, смысловая — образованная от слова «пахтаться», что, по Далю, значит «нянчиться, пестоваться, возиться, хлопотать». Друг Толстого Б. Н. Чичерин (упомянутый в первой редакции под именем Чиферин), знакомый с Н. Ф. Павловым в 40-х годах, так описывал его: «Самая его наружность имела в себе что-то необыкновенно привлекательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Так же изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порой сдержанная, порой оживляющаяся, иногда приправленная тонкой шуткой <...> И в мужском, и в дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он одинаково хорошо выражался на русском и на французском языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на свободе, с ним никто не мог сравняться; тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой натуры: и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой мелочной подробности умело схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину» (Чичерин Б. Н. Воспоминания. В кн.: «Русские мемуары», М., 1990, с. 171—172). Безусловная положительность Павлова, которую отметил Чичерин, приобрела у Толстого черты приторности и пронизана беспощадной иронией.
Прототипом графа Северникова, по мнению Б. М. Эйхенбаума, послужил граф Ф. И. Толстой-американец. «Цыганы, карты и темперамент, с которым играет Северников, напоминают Турбина-отца, т. е. графа Ф. И. Толстого <...> фамилия Северников образована, вероятно, от прозвища “американец”, то есть от “Северной Америки”». Эйхенбаум полагал, что, хотя Толстой-американец умер в 1846 году и с вернувшимися декабристами встречаться не мог, Толстой использовал его как «типичную и интересную фигуру» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2, с. 192).
Фамилия Аксатовы заставляет вспомнить семью Аксаковых.
Первые отзывы о главах «Декабристов», напечатанных спустя двадцать лет после написания, появились немедленно.
В. В. Стасов писал Толстому уже 13 ноября 1884 г.: «Я сию секунду кончил Ваших “Декабристов” в Литературном Сборнике и не могу Вам сказать, в каком я восхищении. Но что это за беда такая, что Вы не хотите продолжать такой chef d’oeuvre!! <...> По-моему, эти немногие страницы — родные сестрицы всего самого совершенного, что есть в “Войне и мире” и в “Анне Карениной”, и мы все тут словно пьяны. Неужели этакие-то великие вещи должны оставаться недоконченными? Это мне напоминает греческие скульптуры в Британском музее — где рук нет, где ног, где туловища, где и головы самой, — но все-таки изумительное совершенство глядит
- 342 -
из каждой черты. И мне кажется, это сравнение верно, с которой стороны ни посмотри: что для греков были их богини, и Геркулесы, и герои всякие, что для них была вся эта чудесная скульптура, то для нас, нынешних, такие вещи, как вот эти Ваши страницы» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. Л., 1929, с. 68—69).
Восхищение выражал в письме Толстому (ноябрь-декабрь 1884 г.) И. Е. Репин: «Простите, не могу удержаться, чтобы не выразить Вам (как умею) своего восторга от тех счастливых минут жизни, которые доставило мне Ваше последнее произведение (“Декабристы”). Минуты эти постоянно повторяются, как только я вспоминаю эти живые страницы живой действительности, поставленной передо мною с такой спокойной ясностью, с таким самообладанием маститого художника, глубоко изучившего людей и жизнь, страстно любящего этих божиих созданий, даже с их слабостями. Как заразительна эта глубокая любовь автора! Как она увлекает читателя! Заставляет и его любить этих людей, прощать им. Что может быть выше этого чувства? Вот где сила искусства. А какое наслаждение смотреть на Наталью Николаевну! Как она успокаивает, дает силу, бодрость и веру в жизнь. Какая драгоценность!» (И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. М. — Л., 1949, с. 11).
Читатели «Декабристов» пытались противопоставить этот роман тому, чем занят был Толстой в 1884 г. И. Е. Репин писал В. В. Стасову (14 ноября 1884 г.): «Да, Толстой (“Декабристы”) — это гениальный отрывок! Какое спокойствие, образность, сила, правда! Да что говорить!.. Только чуть не плачешь, что человек, которому ничего не стоит писать такие чудеса жизни, не пишет, не продолжает своего настоящего призвания, а увлекся со всей глубиной гения в узкую мораль, прибегая даже к филологии для убедительности неосуществимых теорий... Жаль! Жаль и жаль!» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка. Т. 2. М., 1949, с. 86).
29 января 1885 г. И. Н. Крамской, прочитав отрывки из романа «Декабристы», писал Толстому: «Перед Вами искренний человек свидетельствует, что такие вещи, как “Декабристы”, “Война и мир”, “Казаки” и т. д. и т. д., делают меня лично гораздо более человеком, чем рассуждения» (Крамской И. Н. Письма, т. II. М., 1937, с. 328).
Славянофил Н. М. Павлов воспринял написанную двадцать лет назад повесть очень злободневно. Он писал издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу, что начало «Декабристов» «написано каким-то (его же слогом выражаясь в отзыве о растопчинских афишках) ерническим тоном» (Гусев, IV, с. 358).
В «Неделе», 1884, № 48, 25 ноября, появилась статья редактора газеты П. А. Гайдебурова:
«Собственно сборник вышел блестящим. Главный блеск сосредоточен на двух именах двух литературных антиподов, графа Льва Толстого и г-на Салтыкова-Щедрина, из которых оба за последнее время молчали, первый — с “Исповеди”, второй — со времени прекращения “Отечественных записок”. Если взять совокупную литературную деятельность обоих писателей, это действительно антиподы. Толстой весь — в вечности, в принципиальных философских вопросах, то в Библии, то в живой книге народной, массовой стихийной жизни, то на богомолье, то читает Конфуция. Даже там, где он наблюдает игру деталей и случайностей, он ищет основу и начало <...> Совсем не то Щедрин. Это не философ, а хозяин. Он хозяйничает, с раннего утра и до поздней ночи бегая по хозяйству, которое идет не так,
- 343 -
как ему хочется; тысяча забот, тысяча хлопот, иногда самых мелких и ничтожных, осаждают его, раздражают, злят, нередко выводят из себя. <...> Таков Щедрин, взятый “по совокупности”. Но в сборнике он является философом <...>
Граф Толстой явился в сборнике, наоборот, без философий, хотя и не совсем таки без. Их мы пропустим, ибо они уж чересчур глубоки и доказывают, что “все ничто в сравненьи с вечностью”, даже 12-й год, даже 56-й.
Отрывок графа Толстого назван “Декабристы” и содержит три первые главы <...> брошенного автором романа. Мы читаем о том, как возвращается в Москву прощенный декабрист, как общество, охваченное движением 56-го года, принимает его, и как сам декабрист — барин, либерал и “старый ребенок” — вступает в это волнующееся пред реформами общество. Центр рассказа, как и всегда у автора, не общество, а отдельное лицо, не общественное течение, а дела личные, семейные, родственные, неизвестными путями сплетающие жизнь массы, которая тоже тайными способами обратно влияет на отдельные жизни. Жизнь совокупного народа не объясняется, даже не изображается, а только передается впечатление ее несомненного присутствия и тяготения над людьми. Главным героем отрывка является старый декабрист, и он нарисован так, как это умеет сделать только один граф Толстой» (с. 1680).
В статье 1903 г. «О благодушии Некрасова» В. В. Розанов писал: «В “Декабристах” Толстого есть наблюдения, мелочные, едкие, но эпически спокойно переданные, которые выразились в своих последствиях, в гневных последствиях, не ранее как лет через десять после написания этого очерка. Вся “Исповедь” Толстого десятилетия зрела...» («Мир искусства», 1903, т. IX. № 1—2, с. 61). Спустя четыре года Розанов продолжил свои рассуждения в статье «На закате дней. Л. Толстой и быт» («Русское слово», 1907, 5 октября. № 228): «... обычный способ его работы — не сочинять, а видеть, любить и описывать, или видеть, любоваться и тоже описывать, — об этом свидетельствуют такие его отрывки, как начатый и не продолженный роман “Декабристы”. Кстати, о последнем, так удачно начавшемся романе, мне пришлось услышать мнение самого Толстого, хотя и не мне сказанное: “Декабристы не были серьезными людьми. Это не были серьезные характеры. 14 декабря было эпизодом их жизни, пожалуй, их возраста и настроения, а не плодом какой-нибудь страшной решимости, какую принимает убежденный человек как вывод из всей жизни. И я перестал писать роман, видя, что для него нет сюжета, не может хватить содержания”».
Критик А. Амфитеатров в том же 1907 г., оценивая прошедшую эпоху, сравнивая героя толстовского романа с декабристами Н. А. Некрасова («Дедушка», «Русские женщины»), писал: «...Настроению эпохи нужны были гражданские идеалы, а не действительность, нужны были возвышающие обманы, а не обыденная истина, — и до настоящего декабриста, моющегося в Сандуновских банях, никому не было дела, а декабрист, которому сын фантастически омыл ноги, всем оказался нужен, близок, дорог. Быть может, потому отчасти и остался неоконченным роман Толстого в 1861 году, потому и застрял он на первой главе, что гениальный художник сразу увидел, что прямолинейный реализм его придется уж очень не ко времени. Нет никакого сомнения, что если бы начальная глава “Декабристов” появилась в печати, когда была написана, а не четверть века спустя, она вызвала бы сильную и неприятную для Толстого бурю — не за декабриста только, конечно, но за весь сатирический и “реакционный” тон. Перечитав
- 344 -
эту главу, я нарочно снял с книжной полки для сравнения “Взбаламученное море” Писемского. <...> Отрицательный тон грубоватого и неглубокого ворчуна Писемского показался мне детским лепетом сравнительно с отрицательным замыслом и первым приступом к нему глубочайшего скептика — Толстого» (Амфитеатров А. Литературный альбом. СПб., 1907, с. 306—307).
В 1885 г. в «Journal de St.-Pétersbourg» был напечатан французский перевод «Декабристов».
Перевод на английский язык вышел в 1886 г.: «The Decembrists». Translated by N. H. Dole. London, 1886. Повторен в Собрании сочинений, вышедшем в Нью-Йорке в 1899 г. Позднее, в 1904 г. в Лондоне и Бостоне печатался перевод Л. Винера.
В 1888 г. появился перевод «Декабристов» на немецкий язык: «Die Dekabristen» Übers. v. H. Roskoschny. Leipzig. Cressner u. Schramm. 1888. Повторен берлинским издательством в 1891 г. в одной книге с «Альбертом» и «Люцерном». В 1906 г. в составе «Избранных сочинений» был напечатан перевод Р. Лёвенфельда.
В 1889 г. — во Франции: «Les décembristes». Trad. par E. Halpérine-Kaminsky. — Le chant de cygne. Paris, 1889. В том же году вышел перевод Б. Цейтлина и Э. Жубера. В составе Собрания сочинений (1903) помещен перевод Ж. В. Бинштока, просмотренный П. Бирюковым.
На испанский язык — в 1892 г. : «Los Decembristas». — El canto del cisne. Madrid, 1892.
На чешский язык «Декабристы» были переведены в 1902 г. К. Штепанеком: «Děkabristé». Přel. K. Štěpánek. — Spisy. Sv.7. Praha, 1902.
С. 179. ...уничтожение черноморского флота... — Черноморский флот был затоплен в Севастопольской бухте 27—28 августа 1855 г. при отходе русских войск после сдачи Севастополя
...Москва встречала и поздравляла... — Чествования севастопольских моряков состоялись в Москве 17—28 февраля 1856 г.: давались обеды, балы, гулянья. При встрече первых эшелонов моряков у Серпуховской заставы главный организатор торжеств откупщик-миллионер В. А. Кокорев сам преподнес им хлеб-соль на серебряном блюде и поклонился им в ноги. Здесь же морякам предлагалась традиционная русская чарка водки и угощение от купечества. По поводу этих торжеств М. П. Погодин написал сочувственную статью, о которой Толстой записал в дневнике: «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством. Новая штучка» (13 мая 1856 г.).
...дальновидных девственниц-политиков... — Имеются в виду камер-фрейлина гр. А. Д. Блудова и фрейлина А. Ф. Тютчева (дочь поэта Ф. И. Тютчева), впоследствии Аксакова. С обеими Толстой был знаком. В великосветских салонах, как и в славянофильских кругах, к которым были близки обе фрейлины, с энтузиазмом восприняли начало Восточной войны. А. Ф. Тютчева писала в дневнике накануне войны, что война эта — «в осуществление того предсказания, которое предвещает на 54 год освобождение Константинополя и восстановление храма Св. Софии. Возгорится страшная борьба, гигантские и противоречивые силы вступят между собой в столкновение: Восток и Запад, мир Славянский и мир Латинский, Православная
- 345 -
церковь в борьбе не только с Исламом, но и с прочими христианскими исповеданиями, которые, становясь на сторону религии Магомета, тем самым изменяют собственному жизненному принципу. <...> Россия сражается не за материальные выгоды и человеческие интересы, а за вечные идеи. Потому невозможно, чтобы она была побеждена, она должна в конце концов восторожествовать» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990, с. 52).
...мечтаний о молебне в Софийском соборе... — В соборе Ая-София в Константинополе; восстановление православных святынь провозглашалось задачей России в этой войне.
...потерю двух великих людей... — Речь идет об А. Н. Карамзине — сыне писателя и историка Н. М. Карамзина. А. Н. Карамзин командовал гусарским полком. 16 мая 1854 г. он повел два эскадрона гусар на безнадежно рискованную операцию под Каракалом в малой Валахии и был убит в бою. А. Ф. Тютчева так писала об этом в дневнике: «Несчастный Андрей защищался отчаянно, он и несколько офицеров были изрублены саблями у своих пушек, доставшихся затем врагам. Много людей погибло, остальные должны были искать спасения в бегстве. Тело Андрея не было найдено. Все ужасно в этой смерти, которая даже не искупается славой» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990, с. 63). Другой «великий человек» — М. М. Виельгорский, председатель комиссии по наблюдению за провиантской и госпитальной частью в Севастополе, куда прибыл в мае 1855 г. Умер от тифа в Севастополе 22 ноября 1855 г.
...на юбилее московского актера... — 26 ноября 1855 г. состоялся щепкинский обед — в честь пятидесятилетнего юбилея деятельности актера М. С. Щепкина. Перед обедом была прочитана статья С. Т. Аксакова о Щепкине. На обеде с речами выступали М. П. Погодин, С. М. Соловьев, С. П. Шевырев и др. К. С. Аксаков произнес тост: «Да создастся на Руси общественное мнение».
...целовальник... — Имеется в виду В. А. Кокорев. Его речь, подготовленная к обеду литераторов 28 декабря 1857 г. в купеческом собрании (по поводу царского рескрипта 20 ноября 1857 г. об освобождении крестьян) встретила цензурные трудности. После обеда у Кокорева 1 января 1858 г. обеды с речами были запрещены.
С. 180. ...журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием... — Судя по первой редакции — «Русский вестник» Каткова: «...когда появились объявления журналов “Русского Вестника”, развивающего европейские начала на европейской почве».
...появилось вдруг столько журналов... — Рост числа новых журналов и других периодических изданий во второй половине 50-х годов был поистине удивительным. Если в 1851 г. их было 7, в 1856 г. — 10, то в 1859 г. — 38, а в 1860 — 43. Часть названных журналов соответствует реально издаваемым в это время: «Вестник» — «Русский вестник», «Слово» — «Русское слово», «Беседа» — «Русская беседа». Журналов «Наблюдатель» и «Звезда» в то время не существовало, но продолжала выходить «Звездочка» (изд. А. О. Ишимова, с 1850 г. вторая часть именовалась «Лучи. Журнал для девиц»); в 1859 г. В. Кремпин начал выпускать журнал «Рассвет»; журнал «Орел» выходил с 1859 г.
...наука бывает народна и не бывает народна... — Полемика о «народности науки» велась в 1856 г. между «Русской беседой» и газетой «Московские ведомости».
- 346 -
...описавших рощу и восход солнца ~ дурное поведение многих чиновников... — Толстой имел в виду лирику А. А. Фета, романы И. С. Тургенева и И. А. Гончарова, «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Пишущий эти строки ~ был одним из деятелей того времени. — Толстой участвовал в вылазке из осажденного Севастополя в ночь на 11 марта и пробыл на 4-м бастионе с 30 марта по 15 мая 1855 г.
...написал о Крымской войне... — Имеются в виду Севастопольские рассказы, которые печатались в «Современнике» в 1855—1856 гг.
...прибыл в центр государства, в ракетное заведение... — Толстой приехал в Петербург из Севастополя 21 ноября 1855 г., был принят в Петербургское ракетное заведение, где и состоял до 11 мая 1856 г.
С. 182. ...Шальме... — Обер-Шальме, модная московская портниха-француженка (упоминается в «Войне и мире»).
С. 186. Sie flechten ~ irdische Leben. — Строки из стихотворения Ф. Шиллера «Würde der Frauen» — «Доблесть женщины» (1795).
С. 188. ...г-н Шевалье... — Гостиница с рестораном Ипполита Шевалье существовала в Москве в Старогазетном переулке. По воспоминаниям А. А. Фета, Л. Н. Толстой с женой, приехав зимой 1863 г. из Ясной Поляны в Москву, «остановились в гостинице Шеврие, бывшей Шевалье».
С. 190. ...написал «Энеиду». — «Энеида» — поэма римского поэта Вергилия.
С. 193. ...эллипс... — От фр. ellipse — опущение, пропуск слова или названия. С. А. Толстая, копируя автограф, не разобрала слово; редакторы сб. «XXV лет» поставили: прозвание (повторено в Юб., т. 17, с. 22); Н. Н. Гусев предлагал иной вариант: прозвище (пометы на личном экземпляре Юб., хранящемся в библиотеке ГМТ).
...«один из стаи славных»... — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Перед гробницею святой...» (1831).
С. 197. ...во время «Иже херувимской». — «Иже херувимская» — духовная песнь православной церкви, называющаяся так по первым словам текста «Иже херувимы».
С. 198. ...простоять двенадцать Евангелий... — То есть службу православной церкви в страстной четверг, когда читается составленное из двенадцати отрывков Евангелия жизнеописание Христа.
С. 200. ...его издание... — И. С. Аксакову в 1859 г. была разрешена газета «Парус» (закрыта цензурой после второго номера), а с 15 октября 1861 г. газета «День» (выходила еженедельно до 1865 г.).
С. 202. ...с венгеркой и генералами в одно общее презрение... — В литературе 1840—1850-х годов венгерка (переставшая быть военной формой) часто упоминалась в ироническом смысле как излюбленная одежда деревенских помещиков-консерваторов (см. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М., 2000, с. 269—273).
ИДИЛЛИЯ
Впервые: «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого», под ред. В. Г. Черткова. Т. II, М., 1911, с. 153—173, 245—249, по не вполне исправной копии. Затем по автографу: Юб., т. 7, с. 64—81, 82—86.
Рукописный фонд составляет 24 листа.
Печатается по автографам.
- 347 -
Работа над «Идиллией» относится к 1860—1861 гг. Были созданы две редакции. Одна, более обширная, состоящая из пяти глав, не имеет названия в рукописи. «Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того» — видимо, подзаголовок и вписан Толстым позднее. Другая редакция, озаглавленная «Идиллия», с подзаголовком «Не играй с огнем — обожжешься», была начата без разделения на главы, однако вторую главу Толстой уже обозначил. Рядом с заглавием помета С. А. Толстой: «Написана до 1862-го года». Эта редакция содержит всего две главы. Публикатор и автор комментария к «Идиллии» в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах А. С. Петровский обозначил более обширную редакцию как вторую, но поместил ее в т. 7 перед более краткой, которую считал первой. Вероятно, решающую роль в этом выборе сыграл объем рукописей. Однако очевидно, что большая рукопись создавалась раньше и ее следует считать первой редакцией.
Во-первых, она имеет более черновой вид, носит следы большой авторской правки, проводившейся в процессе писания. Меньшая рукопись явно беловая. Везде четко, полностью выписано имя героини: Маланья, Маланька; в черновике часто была одна буква М., как и Андрюшки, Андрюхи — А. Те же события, что и в большей рукописи, изложены сжато, авторской правки намного меньше.
Во время создания большей рукописи замысел Толстого еще не получил названия. В меньшей название и подзаголовок написаны до текста, продуманно, аккуратно. На обложке меньшей рукописи рукой С. А. Толстой помечено: «Идиллия. Гр. Л. Н. Толстого. 2-й вариант». На последнем, 18-м листе, во фразе: «С тех пор и забыла думать о дворнике», ею же исправлена смысловая описка Толстого: над словом «дворнике» надписано: «гуртовщике»; однако на предыдущей странице и еще раз ниже остался «дворник» (исправлено в наст. изд.).
Очевидно, что к первому черновику Толстой возвращался неоднократно и, конечно, пользовался им, когда создавал «2-й вариант». Более темными чернилами, жирным пером зачеркнуты целые фрагменты, в частности все начало первой главы — в полном соответствии с новым началом во втором автографе. Но эта правка не создала в черновике новой редакции в силу незавершенности и даже противоречивости. Зачеркнутые позднее отрывки сохранены в тексте (обозначены квадратными скобками).
На л. 7 черновика зачеркнут конец фразы: «баб уж такой подлый, что страх». Последнее предложение во второй рукописи: «Это бы все ничего было, только насчет баб такой подлый, что страх». Зачеркивание на л. 7 — явный знак того, что до этого места дошло переписывание, переделка.
Последующий текст — лишь в первом автографе, причем исправлений здесь мало и несколько зачеркиваний. Конец изложен конспективно; появились заметки поверх написанного, крупными буквами и теми же чернилами, что зачеркивания. На обороте л. 10 от слов «Особенно с того раза» до слов «а на другой день в валы греби» написано: «Андрюха решился серчать». На обороте л. 11 от слов «Мужики за ними копнят вилами» до слов «Расчет возьму» надпись: «С вечера приехали». На обороте л. 12 почти через всю страницу от слов «Не мил мне никто» в первой верхней строке до слов «села на колени к Андрюхе» надпись: «Заставила его борша водить. И что смешного, что бедный ушел, заплакал. Она пришла к нему». На обороте
- 348 -
л. 13 от слов «Баб возить заставили» до слов «успевай соскакивать» надпись: «Все чище, чище».
Возникновение замысла «Идиллии» относится, по-видимому, к маю 1860 г. 25 мая Толстой записал в дневнике: «Андреева мать много рассказывала. Как она побиралась и у богомолочек хлебушка попросила — слезы. Главное, от кого она понесла Андрея. “Положи ноги в телегу. Утешь мои телеса”. Отпечатала». В этой записи содержится зародыш ключевого эпизода «Идиллии» — встречи Маланьи с гуртовщиком в лесу и тайны рождения ее старшего сына.
По свидетельству С. Л. Толстого, мысль повести «Идиллия» подана Толстому рассказом яснополянской крестьянки, матери Андрея Ильича Соболева, «служившего много лет в Ясной Поляне во время опеки над малолетними Толстыми и позднее» (Толстой С. Л. Ясная Поляна в творчестве Л. Н. Толстого. — Ясная Поляна. Статьи и документы. 1942, с. 97, 98).
Обдумывание замысла продолжалось за границей, куда Толстой отправился 2 июля 1860 г. С большой долей уверенности к «Идиллии» могут быть отнесены следующие дневниковые записи этого года:
26 июля/7 августа: «Мысль повести. Работник из всех одолел девку или бабу. Формы еще не знаю».
27 июля/8 августа: «Форма повести: смотреть с точки мужика; уважение к богатству мужицкому, консерватизм; насмешка и презрение к праздности; не сам живет, а Бог водит». Запись вполне приложима к первой редакции, где повествование ведется от лица человека из крестьянской среды.
17/29 августа: «Дорогой пришла мысль о простоте рассказа, — живо представляя слушателя — Андрея». Эту запись с самой первой, от 25 мая, объединяет имя героя, а с записью от 8 августа — продолжающиеся поиски формы повествования.
Непосредственно перед 1/13 апреля 1861 г. в дневнике упомянуто имя главного прототипа произведения: «Что прошло в эти 4 месяца, трудно записать теперь — Италия, Ницца, Флоренция, Ливурно. Попытка писания Акс<иньи>». Таким образом, работа над «Идиллией» (и близким по замыслу сюжетом — «Тихон и Маланья») удостоверена дневником. Прототипом Маланьи в «Идиллии», «Тихоне и Маланье», как и в повести «Поликушка» (жена Ильи), послужила яснополянская крестьянка Аксинья Базыкина, которой Толстой был увлечен в течение нескольких лет.
Н. Н. Гусев, признававший, что замысел «Идиллии» возник у Толстого в 1860 г., время ее создания относил к 1862 г. «на основании внешнего вида бумаги», на которой написаны две редакции «Идиллии» и почти все рукописи «Тихона и Маланьи». Листы из расшитой тетради с двумя круглыми пробоинами слева, нелинованные, почти квадратного формата, характеризованы как вырванные из конторской книги, которой не могло быть с Толстым за границей (см.: Гусев, II, с. 471). Но это не конторская книга, а особого вида тетрадь.
В 1885 г., занимаясь пятым изданием «Сочинений», С. А. Толстая намеревалась включить в него отрывок «Деревенская идиллия» (вместе с «Декабристами» и с «Историей одной лошади»). В кратком предисловии «От издательницы», отправленном 9 сентября этого года для просмотра Н. Н. Страхову, говорится: «Второй отрывок, “Деревенская идиллия”, есть картина из деревенского быта» (Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава, 2000, с. 184). Завершенный Толстым «Холстомер», отрывки из «Декабристов» появились в пятом и шестом изданиях
- 349 -
«Сочинений»; «Деревенская идиллия» напечатана не была. В ГМТ сохранилась копия двух редакций «Идиллии», выполненная С. А. Толстой. В обеих рукописях подзаголовки: «Не играй огнем — обожжешься» (несколько измененный подзаголовок Толстого ко второй редакции); «(Из деревенского быта)», данный, по-видимому, С. А. Толстой. Ею же сделана помета: «Написано до 1862 года».
С. 207. ...только по сказкам числится... — Имеются в виду ревизские сказки — именные списки всего наличного населения.
...Дунаиха, за то что она первая хороводница... — В народной игровой песне «Как пошел же Дунай / Он на игрища гулять» вторым действующим лицом является девушка (см.: Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. Л., 1984, с. 57).
С. 208. ...на сына другую землю принял... — Т. е. взял для обработки еще один надел земли.
...уберется в ленты, галуны... — Галун — золотая, серебряная или мишурная тесьма.
С. 209. Петра и Павла отпраздновали... — День этих святых апостолов отмечается 29 июня ст.ст.
...вальками стучать... — Валек — приспособление, с помощью которого раскатывали при стирке белье, в виде плоской деревянной дощечки с поперечными зарубками и рукоятью.
...целовальник... — При казенной и откупной системе продажи вина сиделец в питейном заведении.
...подвязали брусницы... — Брусница — точильный камень.
С. 210. ...коты на веревочке... — Коты — женская обувь, полусапожки, ботинки, башмаки с высокими передами или круглые, как будто с отрезными голенищами, с алой суконной оторочкой.
...на 10 десятинах. — Десятина — русская единица земельной площади до введения метрической системы мер, равная 1,092 гектара.
С. 211. ...в самые Петровки... — В пост перед праздником св. апостолов Петра и Павла.
...камердин... — Искаженное «камердинер».
...синенькую, красненькую давал. — Синенькая — пятирублевая, красненькая — десятирублевая ассигнация.
...напихали хоботья... — Хоботье — мякина, избитый цепом хлебный колос, от которого отвеяно зерно.
С. 212. ...юнкер... — Унтер-офицер из дворян.
С. 213. ...пуще станового боялся. — Становой пристав — полицейский чиновник.
...рубашонка посконная... — Из поскони — крестьянского рубашечного холста.
...работнику лядащему... — Хилому, тощему.
С. 214. ...гладуху такому... — Гладух — толстяк, здоровяк, крепыш.
С. 215. ...затяглых много. — Тягло — мера земли и подать с нее. Тяглый крестьянин — обложенный податью, податной, тот, который тянет полное тягло, за две души — за себя и за жену. Крестьянин, если был здоров, оставался тяглым с женитьбы до 60 лет. Затем он шел на полтягла или на четверть тягла, или смещался с тягла совсем.
С. 217. ...хворосту на падрину рубить... — Падрина — подстожье, подстилка под хлебный скирд.
- 350 -
...в тавлинке... — В берестяной табакерке.
С. 219. ...подобрала паневу на голову... — Панева — шерстяная юбка, красная, синяя, клетчатая или полосатая, которую носили замужние женщины и просватанные девушки.
...рубаха александринская... — Из александрейки, красной бумажной ткани с прониткой другого цвета (белой, синей, желтой).
С. 221. ...на гумно... — На крытый ток, где молотят зерно.
...к овину... — Овин — строение для сушки хлеба в снопах.
С. 222. ...чересседельню свил... — Чересседельня — ремень, держащий оглобли.
С. 224. ...десятского пошлет... — Десятский — помощник старосты, избираемый от десяти дворов.
С. 225. По щетку лошадь на пашне вязнет... — Щетка — часть ноги лошади над копытным сгибом.
ТИХОН И МАЛАНЬЯ
Впервые: «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого», под ред. В. Г. Черткова. Т. II. М., 1911, с. 139—152, 241—246, по не вполне исправной копии, не полностью. Затем по рукописям, частично — с вариантами: Юб., т. 7, с. 87—98, 100—104, 111—116; ЛН, т. 37—38, с. 598.
Рукописный фонд составляет 40 л.
Печатается по копии рукой С. А. Толстой, с вставками и правкой Толстого, и по автографам. В части текста, дающейся по копии, внесены следующие исправления по автографу:
С. 229, строка 27: рученьки, ноженьки — вместо: ручонки, ножонки.
С. 230, строки 7—8: про соседей, про прохожих солдат — вместо: про соседа, про прохожих солдат.
С. 230, строки 11—12: посматривал — вместо: посматривая.
С. 231, строки 39—40: с солдаткой и еще с двумя бабами — вместо: с солдаткой и двумя бабами.
С. 232, строка 22: надо чем позабавиться — вместо: надо чем-нибудь позабавиться.
С. 235, строка 21: фельдъегарь — вместо: фельдъегерь.
С. 235, строка 34: о чем речь — вместо: о чем идет речь.
Сохранились две основные рукописи. Более ранняя — автограф Толстого, без названия, с очень значительной правкой (печатается полностью во второй серии наст. изд.). Вторая — частично (первые два листа — четыре страницы, несколько строк на л. 3 и 4, последние абзацы, от слов: «Потолковав с мужиками о лугах») автограф; остальное — запись С. А. Толстой под диктовку и копия ее рукой, с последующей правкой Толстого. Перед репликой: «Спасибо, Тишинька» на полях помета С. А. Толстой: «диктовано». Главное различие между двумя рукописями — разные редакции начала и дописанный Толстым во второй рукописи конец. Вторая озаглавлена самим Толстым «Тихон и Маланья». Это единственная рукопись, имеющая заглавие. Можно с уверенностью утверждать, что это начало произведения, чего нельзя сказать обо всех других фрагментах (поэтому она дается в начале, хотя является хронологически позднейшей).
- 351 -
Время создания второго начала можно определить довольно точно: после женитьбы, т. е. после 23 сентября 1862 г. Была закончена первая глава, о чем свидетельствует цифра 2 в конце, обозначившая переход ко второй главе. Однако на этом писание остановилось. Причиной отказа от дальнейшей работы были скорее всего обстоятельства личной жизни. Толстой, по-видимому, вынужден был принять во внимание непреодолимое чувство ревности, охватившее Софью Андреевну после того, как она увидала прототип Маланьи — яснополянскую крестьянку Аксинью Базыкину, многолетнюю любовную связь с которой Толстой прервал только перед женитьбой. Судя по дневниковой записи С. А. Толстой от 16 декабря 1862 г., работа над повестью была прервана в первой половине декабря (см.: Толстая С. А. Дневники в двух томах. Т. I. М., 1978, с. 44). Та же Аксинья под собственным именем возникнет в конце 1880-х годов в повести «Дьявол» и вызовет те же чувства у жены Толстого, когда она в 1909 г. случайно обнаружит рукопись.
Черновой автограф и все другие наброски, относящиеся к «Тихону и Маланье», располагаются между двумя временными вехами: после того, как Толстой оставил работу над второй редакцией «Идиллии», и до того, как осенью 1862 г. написал новое начало и приступил к созданию копии. Сочинение представляет собой попытку по-новому, более подробно и развернуто изложить сюжет «Идиллии». Оба произведения имеют общих героев, детали обстановки и быта. В обоих действие происходит летом, на Петров день, в пору сенокоса. Скорее всего отрывок, начинающийся фразой: «Всю ночь напролет слышны были песни, крики, говор и топот на улице», мог стать прямым продолжением основной рукописи, то есть 2-й главой. В Мисоедове, как называлась деревня в черновике, происходит действие двух отрывков, связанных между собою по содержанию, о плотниках: «Это было в субботу в самые Петровки» и «Прежде всех вернулись в деревню плотники...». Автограф, начинающийся словами «Как скотина из улицы разбрелась...», — второй полулист, оторванный от фрагмента «Это было в субботу...»; при публикации в наст. изд. они объединены. Но в целом сочинение, широко задуманное и далеко не завершенное, сохранилось в виде разрозненных набросков.
По свидетельству Д. П. Маковицкого, Толстой перечитал свою неоконченную повесть в октябре 1906 г. в связи с предложением тульского вице-губернатора дать какую-нибудь рукопись для благотворительного вечера. «Софья Андреевна спросила Л. Н. о тех рассказах, которые она ему положила на стол: прочел ли их. Там был рассказ “Тихон и Маланья” 1862 г.
Потом Л. Н. говорил про “Тихона и Маланью”:
— Как я тогда расплывался — писал на страницах, что можно было сказать в двух словах. Удивительно, что я это писал. — И не согласился отдать рассказ, потому что так наивен, многословен. — Приятно было читать. Там видна моя любовь и хорошее отношение к народу» (ЛН, т. 90, кн. 2, с. 287—288).
С. 227. ...тележный ящик... — Кузов, обшитый лубом, дранью.
...чалая... — Серая, с примесью другой шерсти.
...тронулась на изволок... — Изволок — отлогая гора; некрутой, длинный подъем.
С. 228. ...скинул петли постромок... — Постромка — ременная пристяжь в конской упряжи.
- 352 -
...рассупонил... — Супонь — ремень, стягивающий хомутные клешни под шеей лошади. Супонить лошадь — затянуть и закрепить супонь.
Карего-то променял что ли? — Карий (караковый) конь — темногнедой, почти вороной, с подпалинами, с желтизной на морде и в пахах.
Саврасую-то тоже купил что ль? — Саврасый конь — светлогнедой с желтизной.
С. 229. Осьминника два ли... — Осьминник — поземельная мера, равная четверти десятины.
...свекловичу — что ли всё полют. — Свекловица — сорт красной или белой свеклы, пригодной для варки сахара.
С. 230. ...чтобы пудовиками ворочать... — Пудовик — пудовая гиря.
С. 231. ...заново вымытых онучах... — Онуча — обвертка на ногу вместо чулка, под сапоги и лапти, род портянки.
...в красной занавеске. — Занавеска — длинный женский передник с лифом, а иногда и с рукавами.
...замчной солдат... — Захожий.
...гарусная занавеска... — Гарус — сученая белая или цветная шерстяная пряжа.
С. 232. ...в поддевках... — Поддевка — полукафтанье или безрукавный кафтанчик, поддеваемый под верхний кафтан.
...наймусь в выборные... — Выборный — у крестьян то же , что сельский староста (не волостной), старший на селе, нарядчик.
...так-то мы летось земского ~ завалили... — Земский — волостной, приказный или общинный писарь, старший писарь при вотчинной конторе или при бурмистре, начальнике вотчины.
С. 235. ...подскакал фельдъегарь... — Фельдъегерь — рассыльный, гонец, курьер при высшем правительстве, в военном звании.
С. 236. ...с исправником... — С начальником уездной полиции.
...сел фолетором наш Сенька. — Форейтор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом (гуськом).
С. 237. ...поехал в денное... — Денное — дневная пастьба.
С. 238. ...стукнул последний раз в пристенок... — Пристенок — игра в бабки, козны или в деньги, которые бросают в стену; чья ставка ляжет ближе к чужой, тот ее выиграл.
...собрал свои ладышки... — Ладышки — лодыжки, кости для игры.
...отставшего стригуна... — Стригун — годовалый жеребенок, у которого в эту пору остригают гриву.
С. 239. ...ошарила на печи серничек... — Лучинку, обмокнутую кончиком в растопленную серу, для добычи огня.
...калясь зеленой травой... — От глагола «кблять» (тул.) — марать или гадить.
С. 240. ...и офень... — Офеня — коробейник, мелочной торговец, развозящий или разносящий товар по малым городам, селам, деревням.
С. 241. ...ходила по отаве... — По траве, выросшей после косьбы.
...подвязали сволоки... — Сволок — вал.
С. 242. ...сошники он переладил и поперил... — Сошник — лемех, железный треугольник, насаженный на ногу сошного полоза. Попереть — сильно напереть и сдвинуть.
...до Ильина дни. — До 20 июля ст. ст.
- 353 -
...не убрал ~ полусаженя... — Полусажень — линейка длиной в полтора аршина, т. е. около одного метра, с нанесенными на ней делениями, служащая для измерения.
...к углу иструба. — Иструб — сруб, срубленная вчерне изба, без крыши.
С. 243. ...свою новую поярковую шляпу. — Сделанную из поярка, шерсти с овцы первой стрижки.
С. 244. ...на перемета разрезали. — На жерди.
<ОТРЫВКИ РАССКАЗОВ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ>
Впервые: 1-й отрывок — Юб., т. 7, с. 106—109; 2-й отрывок — Л. Н. Толстой. Избранные произведения. М. — Л., 1927, с. 124—126.
Рукописный фонд составляет 5 л.
Печатается по автографам.
Точное время работы Толстого над этими текстами установить невозможно: какие-либо упоминания о них в дневнике отсутствуют. Содержание позволяет отнести их к началу 1860-х годов, времени создания «Идиллии» и «Тихона и Маланьи». Не исключено, что задумывалась большая повесть из народной жизни, как она и названа в дневниковых записях 1860 г. (см. комментарии к «Идиллии»). О близости отрывков к этим произведениям говорит и наличие общих персонажей, прототипами которых стали яснополянские крестьяне. Федор и Сергей Резуновы из первого отрывка, Резун из «Тихона и Маланьи», плотник Федор Резун из «Поликушки» могли быть частично списаны с яснополянского крестьянина Сергея Резунова, «бойкого и самостоятельного мужика, с задорным характером» (Юб., т. 5, с. 345), по словам С. Л. Толстого. Одного и того же прототипа имели старик Семен из второго отрывка и Фоканыч из «Тихона и Маланьи». О приезде барина рассказывается во втором отрывке и в «Тихоне и Маланье» («Прежде всех в селе узнали у Копыла, что в ночь приехал барин»).
Датировку второго отрывка уточняет упоминание в нем института мировых посредников, введенного указом от 25 марта 1861 г. В Тульской губернии мировые посредники начали действовать в мае—июне этого года. Толстой сам служил мировым посредником. Та часть отрывка, где говорится о негодовании дворянства, которое возбудил своей деятельностью помещик, основана на автобиографическом материале. То же можно сказать и о попытках помещика полюбовно договориться с крестьянами.
В отрывках отразились те же поиски формы повествования, которые побудили Толстого перейти от сказа в двух редакциях «Идиллии» к нейтральному повествованию в «Тихоне и Маланье». В первом отрывке повествование ведется от лица человека, близкого описываемой среде, и стилизовано под крестьянскую речь, во втором — нейтральный повествователь.
С. 247. ...чтобы больше двойников и тройников было... — Т. е. семей с двумя и тремя совершеннолетними сыновьями.
...велел отсыпное выдавать... — Отсыпное — паек, месячина, отпускаемые мерой.
С. 248. ...замашки стелила. — Замашки — посконный холст из конопли.
- 354 -
С. 249. ...в Троицу... — В Троицын день, праздник, установленный првославной церковью в честь догмата Св. Троицы, один из двунадесятых праздников, отмечается на 50-й день после Пасхи.
С. 250. ...содрал с него на косушку. — Косушка — мера жидкости, равная четверти штофа или половине бутылки, то же, что шкалик.
К посредственнику ездил. — К мировому посреднику.
...когды царская межевка придеть... — В связи со слухами о начавшейся по воле Александра II крестьянской реформе крепостные крестьяне повсюду не доверяли помещикам и надеялись на справедливый раздел земли самим царем.
...кошедатраная межевка... — От слова «кош», в южных говорах селенье, станица.
С. 251. ...ниже Положения... — Имеются в виду условия раздела крестьян с помещиками, предложенные правительственной программой освобождения крестьян. Существовали разные варианты решения этого вопроса: бесплатное освобождение без земли, выкуп личности крестьянина с полным земельным наделом, выкуп только земельной оседлости, т. е. усадьбы.
...предлагал оставить барщинскую работу, только оценив ее в деньги... — Для освобождения крестьян был установлен срок в несколько лет, в течение которого они считались «временнообязанными» и должны были продолжать работу на помещика.
СОН
Впервые: Толстой Л. Н. Полное собрание художественных произведений: В 15 т. Под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Т. III. М. — Л., 1928, с. 501—502.
Сохранились три автографа и копия рукой С. А. Толстой (в общей сложности 5 листов).
Печатается по рукописи.
Истоки «Сна» — в размышлениях об искусстве и жизни, о поэзии и действительности, о любви и семье, которые сильно занимали Толстого в 1857—1859 гг. и отразились в сочинениях тех лет: «Из записок князя Нехлюдова. Люцерн», «Альберт», «Семейное счастие». В дневнике 23 ноября 1856 г. характерная запись: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто».
Н. Н. Гусев считал, что разговор о стихотворениях в прозе, когда Толстой дал И. С. Тургеневу эту мысль, происходил в Париже в марте 1857 г.: «к 1857 году относится стихотворение в прозе, написанное самим Толстым и озаглавленное “Сон”» (Гусев, II, с. 180).
31 декабря 1857 г. о трех последних днях этого года сказано: «Писал Николенькин сон. Никто не согласен, а я знаю, что хорошо». Более раннюю дневниковую запись, 24 ноября: «Дописал сон недурно» — следует отнести к повести «Альберт» («Погибший»). Видимо, сюжет «Сна» имел какое-то отношение к брату Николаю Николаевичу: живя эту зиму в Москве, Толстой часто встречался с братьями. Это была первая редакция — полторы страницы текста на листе тонкой заграничной бумаги. Здесь много исправлений по ходу письма и при повторном обращении к рукописи
- 355 -
(см. т. 4 второй серии). Следующий автограф — в письме В. П. Боткину, отправленном в Рим 4 января 1858 г. Замысел и стиль прояснялся, исправлений уже немного. Толстой просил Боткина показать посланное Тургеневу («прочтите это ему и решите, что это такое, дерзкая ерунда или нет») и противопоставлял свое сочинение политической злобе дня («небывалый кавардак, поднятый вопросом эмансипации»): «Я устал от толков, споров, речей и т. д. В доказательство того при сем препровождаю следующую штуку, о которой желаю знать ваше мнение. Я имел дерзость считать это отдельным и конченным произведением, хотя и не имею дерзости печатать». Ответ ни Боткина, ни Тургенева неизвестен.
Находясь 11—17 марта 1858 г. в Петербурге, Толстой читал А. А. и Е. А. Толстым только что законченные «Три смерти» и, видимо, рассказывал про «Сон». Вернувшись в Москву, написал А. А. Толстой 24 марта: «Не могу сыскать Сна, чтобы прислать вам. Другую же вещицу <«Три смерти»> отдал переписывать и пришлю на днях». Скорее всего, в этой связи возник третий автограф «Сна», который впоследствии был использован при работе над «Войной и миром».
Спустя пять лет, в конце февраля — начале марта 1863 г. Толстой предпринял попытку напечатать «Сон». Видимо, к этому произведению относится дневниковая запись 23 февраля 1863 г.: «Перебирал бумаги — рой мыслей и возвращение или попытка возвращенья к лиризму. Он хорош. Не могу писать — кажется — без заданной мысли и увлеченья». Во всяком случае, в ближайшее к этой дате время лишь одна вещь — «Сон» — была отдана в печать.
Текст выполненной С. А. Толстой копии не совпадает ни с одним автографом: возможно, имела место диктовка, или какой-то источник не дошел до нас (см. во второй серии варианты последнего автографа 1858 г.). Подпись в копии: Н. О. И далее письмо (тоже рукой С. А. Толстой), адресованное И. С. Аксакову, редактору газеты «День»:
«Милостивый государь
Иван Сергеич,
Посылаю для напечатания в Вашей газете мой первый литературный опыт, разумеется, если вы найдете это удобным. Прошу вас покорно дать ответ по следующему адресу:
В Тулу. Наталье Петровне Охотницкой. До востребования».
Н. П. Охотницкая — жившая в Ясной Поляне при Т. А. Ергольской обедневшая дворянка.
Ответ Аксакова от 28 марта 1863 г. сохранился: «Статейка ваша “Сон” не может быть помещена в моей газете. Этот “Сон” слишком загадочен для публики, его содержание слишком неопределенно, и может быть вполне понятен только самому автору. Для первого литературного опыта слог, по моему мнению, недурен, но сила вся не в слоге, а в содержании» (ГМТ).
Так в 1863 г. завершилась история стихотворения в прозе «Сон», которое Толстой считал законченным произведением, хотя и не пожелал публиковать под своим именем.
Позднее текст еще раз изменялся, но в составе уже другого произведения — «Война и мир». Ненапечатанный «Сон» превратился в сочинение неоконченное.
В 1865 г. при работе над ранней редакцией второй части романа, опубликованной в 1866 г. под заглавием «1805 год», «Сон», с небольшими поправками в последнем автографе (главная из них: замена «я» на «он», хотя
- 356 -
сделано это лишь на первой странице, дальше так и осталось «я»), вошел в ту главу, где рассказывается о падении Николая Ростова. Но при дальнейшей работе над романом вся глава оказалась выпущена. Видно, впрочем, что содержанием «Сна» Толстой очень дорожил и еще раз намеревался его воплотить: в главе о Пьере, ночующем в доме умершего своего «благодетеля» Баздеева. И на этот раз дело не дошло до печатного текста.
Между тем, начав «Войну и мир» во вдохновенном творческом порыве, сознавая, что принялся за грандиозное создание, которое призвано покорить всех («толпа» во «Сне»), Толстой остро ощущал несоизмеримость, противоречие между искусством и жизнью, даже если эта жизнь освещена любовью, возможной, желанной (как во «Сне»), или свершившейся. Спустя год после женитьбы, 6 октября 1863 г. в дневнике записано: «Я ею счастлив, но я собой недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, а хочу и люблю бессмертие».
ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ
Впервые: Юб., т. 5, с. 214—218.
Сохранилось 9 листов с рукописями «Отъезжего поля»: три автографа с началами повести.
Печатается по автографам.
Характер замысла яснее всего раскрыт в дневниковой записи 30 сентября 1865 г.: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Braddon, мои Казаки, будущее; 2) в картине нравов, построенных на историческом событии — Одиссея, Илиада, 1805 год; 3) в красоте и веселости положений — Пиквик, Отъезжее поле и 4) в характерах людей — Гамлет, мои будущие...». Согласно словарю В. И. Даля, «отъезжее поле — псовая охота в дальности от жилья своего, в пустошах, где ночуют табором, станом». Предполагалась, стало быть, «красота и веселость положений» во время охоты, описание деревенской помещичьей жизни. Ни одной охотничьей сцены в рукописях нет, хотя герой — страстный охотник, и говорится про сборы на охоту. В записных книжках 1856—1857 гг. много заметок этого рода. Во всех трех автографах заглавие: «Отъезжее поле».
Записи о работе над повестью находятся в дневниках 1856—1857 и 1865 гг. Но датировать автографы на основании дневника не представляется возможным. Достоверные данные находятся лишь в рукописях. Во втором начале на л. 1 об. есть текст: «Человек этот, Иван Телошин, как его звали в свете, был женат на богатой кузине кн. Вас. Илар. В осень 1863 года Телошин почувствовал...». Ясно, что это не могло быть написано раньше осени 1863 г. Дополнительные доводы для датировки — на л. 3 этого же автографа. Здесь развернут разговор Телошина с женой о ее брате, живущем постоянно в деревне — развитие фрагмента, первоначально набросанного на отдельном листке (зачеркнут). На обороте этого листка всего шесть строк текста Толстого, остальное заполнено примитивными детскими рисунками, вернее, линиями, штрихами; точно такие же — на л. 3 основного автографа. Очевидно, что «рисунки» эти могут принадлежать одному человеку — трехлетнему сыну Толстого Сергею, оказавшемуся в кабинете отца. Таким образом, два автографа со вторым началом могут
- 357 -
быть уверенно приурочены к 1865 г., когда и в дневнике Толстого отмечено писание «Отъезжего поля».
Первое начало, открывающееся словами: «Это было [еще до Тильзитского мира] в 1807 году [от Рожд<ества>Христова]», на основании почерка и бумаги может быть отнесено к концу 1863 или началу 1864 г.: на такой же бумаге сделаны копии «Зараженного семейства» и написаны ранние автографы «Войны и мира». Начальная фраза первого наброска поразительно соотносится с одной из рукописей будущего романа, открывающейся словами: «Это было между Тильзитом и пожаром Москвы...».
Писание «Отъезжего поля» удостоверено дневником 1856—1857 гг., но самих рукописей нет. Очевидно, прав был С. Л. Толстой, предполагавший, что часть автографов «Отъезжего поля» погибла (Юб., т. 5, с. 325).
Тем большую ценность приобретают заметки в дневнике и записных книжках, относящиеся к раннему периоду, раскрывающие зарождение и развитие замысла.
Летом 1856 г. в Ясной Поляне, сам увлеченный охотой, Толстой 22 августа, закончив «начерно» «Юность», записал: «...Придумал О<тъезжее> П<оле>, мысль которого приводит меня в восторг». На следующий день: «Начал О<тъезжее> П<оле>».
В записной книжке заметки к повести начались с июля. Многие обозначены: «К “Отъезжему полю”».
«...Аккуратный становой имеет тайную страсть буянить. Не охотник. Буян чужой. — Ты граф, а я князь. На закате солнца сафирная вершинка, половина в зеленях, паутина, былинки озими трясутся от ветра. Арапник цепляет за ноги зайца. Жена станового поет русские песни. Старичок граф один в леску неудачно любезничает с бабой. — Музык<ант> с ним, играют в карты. Бабы овец стригут».
«Думаю, собаки про меня думают, что я умный».
«...По мягкой пашне только слышно побрякиванье ошейников».
«...Глупый теленок. Туманное утро — солнце круг».
«...Один выговаривает племяннику за то, что его собак поил, а племянник поет тирридиндин, тиридиндин для лютой скорби, ну, что вы глупости стервецу страшные. Племянник говорит другому из кучеров: ваш барин сердитый, у него глаза вылуплены. Отколол штуку, острит племянник.
Коробочник не имел счастия видеть волка».
«...Лошадь пофыркивает».
Затем в сентябре—октябре того же 1856 г.:
10 сентября. «Чиновник, верящий в нынешний свет, молодой, веселый, встречается в дальней деревне и ссорится с достоинством, говоря, что состояние первое......
Старушка в гробу завязана».
«Лакей с барином травят лисицу».
«...Встречаешь 2 мальчишек в сапогах, с голыми ногами, один в картузике с галуном, несут в поле яблоки».
«...Посылает бабу, листья на скамейке. Отвечает с выражением. Не боюсь, если что?»
23 сентября. «Девка кокетничает, как будто неловка, вертится, завязывает щеку молодому человеку, собака лежит на солнце, смотрит на муху».
7 октября. «Пахнет яблоком в чулане и печеным хлебом».
«В туман тихо слышно звяканье. <...> стадо кажется лесом».
- 358 -
«Возвращаться домой темно, мга, на горизонте неясные очертания крыш и деревьев деревни».
15 октября. «“Ангел водки!” Барышни собрались для компании графа, попадья всех заняла, шутиха. Играют, что болит? по какому цвету. Попадья желтый, желтая пупавка, поповка, пуп».
Возможно, и некоторые другие записи 1856—1857 гг. относятся к «Отъезжему полю»; поскольку рукописи не сохранились, судить об этом предмете чрезвычайно трудно.
15 октября 1856 г., находясь в Покровском у сестры, Толстой «много болтал о своих планах об Отъезж<ем> поле». Сам он тогда целую неделю провел на охоте в отъезжем поле.
В начале следующего, 1857 г. продолжалось обдумывание повести. 12 января среди произведений, которые следует «писать, не останавливаясь, каждый день», на первом месте поставлено «Отъезжее поле». То же — в дневниковой записи 22 марта/3 апреля, сделанной в Париже во время первого заграничного путешествия: «Думаю начать несколько вещей вместе. Отъезжее поле и Юность1, и Беглеца». В мае в Швейцарии отмечено писанье. 27 мая/8 июня: «Писал Отъезжее поле мало, но идет порядочно». 31 мая/12 июня в записной книжке подчеркнуто задание: «Писать Казака и Отъезжее Поле, не останавливаясь для красоты, а только чтобы было гладко и не бессмысленно».
Одновременно в записную книжку вносились заметки, помеченные самим Толстым к «Отъезжему полю».
20 апреля/2 мая. «Помещики дают обещания и для них чудеса совершаются».
24 апреля/6 мая. «Семейство Пальчиков, работы, занятия, самоотвержение друг для друга, вечная деревенская жизнь, prestige образованья».
4/16 мая. «14-летняя девочка, влюбляется. Она развита не по годам. Ему стыдно, неловко. Она: не понимает, так чиста». Сюжет этот обозначен в одном из автографов 1865 г.
10/22 мая. «Старик главный Пущин и чахоточный племянник».
28 мая/9 июня. «Барин соглашается легко с либеральными идеями, но что ему делать?»
«Жена умерла прежде, старик сделался угрюм, подозрителен, боится, что он в тягость, и перед смертью только размяк».
«Уезжают гости, ночь в саду — барышня влюбленная провожает. Приживалка».
25 июня/7 июля в дневнике отмечено: «О<тъезжее> П<оле> бросил», а на другой день: «Передумал О<тъезжее> П<оле> и начал иначе».
27 июня/9 июля из Люцерна Толстой сообщал В. П. Боткину: «Я занят ужасно, работа — бесплодная или нет, не знаю — кипит». Спустя две недели в дневнике (11/23 июля) обобщающая запись: «О<тъезжее> П<оле> — комизм живейший, концентрировать — типы и все резкие».
Продолжались заметки в записной книжке:
4/16 июля. «Из-за карт выходит старый помещик, музыка играет, ногами поталкивает».
«Собаки сыты и свежи».
Возможно, к «Отъезжему полю» относятся и заметки 7/19 июля:
- 359 -
«Солнце блестит на его глянцовитом сертуке на сильных плечах».
«У старичка волнистые широкие чистые сапоги и ужасно чистый старый сюртук».
Запись 8/20 июля прямо отнесена к «Отъезжему полю»: «4 брата и сестра».
18 августа, уже в Ясной Поляне, Толстой записал: «Отъезжее поле совсем обдумалось...». И затем 28 августа: «Читал 2-ую часть “Мертвых душ”, — аляповато. О<тъезжее> П<оле> надо одно писать. И тетеньку туды».
Тетенька — Т. А. Ергольская, о которой мечталось что-то написать давно, еще в 1851 г. (см. т. 1 наст. изд.). На другой день, однако, иное настроение и писательское самочувствие: «Все мысли о писаньи разбегаются, и Казак, и Отъезжее поле, и Юность, и Любовь. Хочется последнее — вздор. На эти три есть серьезные матерьялы».
В записной книжке 1857 г. заметки к «Отъезжему полю» продолжались до октября.
20 августа. «В редком лесу гоняют, никто не знает что».
«Праздник для мужиков. За сапоги».
«Как глупы молодые люди. Полуулыбаются. Недобрые люди».
«Щелин брата доказывает незаконные с кучером».
«Все хорош, добр, пошел по мужикам, — ты злодей».
23 сентября. «Две старушки толкуют о воле Божьей, ничего без воли Божьей».
Октябрь. «Страх аду, молодой невинный ужас».
Спустя восемь лет, работая над романом «Война и мир», где такое большое место занимают сцены деревенской жизни, в том числе охоты, Толстой вспомнил «Отъезжее поле». 9 октября 1865 г., находясь в Покровском, отметил в дневнике: «Писал О<тъезжее> П<оле>. Выходит неожиданно». Тонкая почтовая бумага с овальной печатью (в ней — литеры Ï. T.) была взята у сестры — в яснополянских рукописях такой бумаги нет. Но заключительный фрагмент второго начала писался в Ясной Поляне, на другой бумаге.
В дальнейшем Толстой не возвращался к этому произведению.
С. 253. В приспешной... — Приспешная, или приспешня — кухня, поварня.
С. 255. Уставные грамоты... — Введенные Положением 19 февраля 1861 г. бумаги, определявшие отношения помещика с временнообязанными крестьянами (размер надела и повинности за пользование им).
Блажен... Кто постепенно жизни холод С годами вытерпеть умел. — Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина: «Блажен, кто смолоду был молод, // Блажен, кто вовремя созрел, // Кто постепенно жизни холод // С летами вытерпеть умел» (гл. 8, строфа X).
С. 256. ...назад в остров... — В небольшой, отдельно стоящий лес.
СноскиСноски к стр. 267
1 Песня «Сиротинушка, сиротинушка, добрый молодец...», вошедшая в рукописи «Казаков».
Сноски к стр. 272
1 В Юб., т. 46, с. 224, ошибочно расшифровано «Р<оману>175
Сноски к стр. 274
1 Имеется в виду «вторая половина» «Юности».
Сноски к стр. 277
1 Подлинник письма — на посланных П. В. Анненкову воспоминаниях М. И. Пущина «Встреча с А. С. Пушкиным за Кавказом» (РНБ. Ф. 23, е.х. 6, л. 5–5 об.). Любопытно, что в письме от 14 марта 1857 г., адресованном в Париж Тургеневу и Толстому (Толстой к тому времени уже уехал из Парижа), Анненков отзывался об очерках Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе», напечатанных в № 1 и 2 «Современника» за 1857 год (и Тургенев и Толстой находили их «прелестными»): «Кавказские рассказы Вашего брата, Толстой, страдают, по моему мнению, тем, что не имеют никакого центра. Он слишком человек только глазеющий — поэтому и его превосходные картины охоты разорваны, бегут все врозь без оглядки, и читатель их догнать не может: оттого и малый успех этих, в сущности, замечательнейших описаний. Связующего элемента мысли, воззрения, события или, наконец, просто приятной авторской личности им недостает — вот что» (Переписка, т. 1, с. 305).
Сноски к стр. 278
1 В Юб., т. 47, с. 212, расшифровано: К<азакам> но это неверно. Заглавие «Казаки» появилось позднее.
Сноски к стр. 280
1 В автографе письма слово «почти» вписано и зачеркнуто.
Сноски к стр. 282
1 В автографе описка: 6.
Сноски к стр. 284
1 В Юб., т. 48, с. 430, неверно сказано, что это очерк «Тревога», набросанный в Севастополе в 1854 г. («Как умирают русские солдаты»). См. т. 2 наст. изд.
Сноски к стр. 288
1 Соболька — молодая казачка станицы Старогладковской. Мать ее звали Улита, как и в повести «Казаки». Сослуживец Толстого, штабс- капитан А. П. Оголин, живший в доме бабуки Улиты, в письме от 16 сентября 1854 г. (Толстой в это время уже уехал с Кавказа) в числе разных новостей сообщал о бабуке Улитке, о том, что она передает поклон, а Соболька из своего угла искоса поглядывает.
Сноски к стр. 295
1 И. И. Сахаров, переписчик.
Сноски к стр. 296
1 «Ясная Поляна».
Сноски к стр. 301
1 И. П. Борисов, орловский помещик, муж сестры Фета, приятель Тургенева, Фета и братьев Толстых.
Сноски к стр. 335
1 В подготовке текстов раздела «Неоконченное» принимала участие Н. П. Великанова.
Сноски к стр. 358
1 Имеется в виду «вторая половина» «Юности».