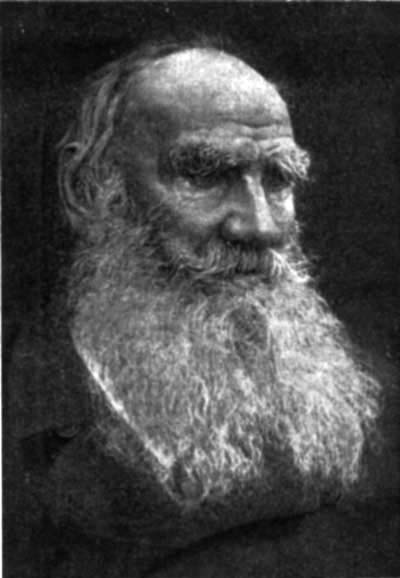 |
Л. Н. ТОЛСТОЙ
- 1 -
Н. К. ГУДЗИЙ;
Лев
ТОЛСТОЙ
Критико-биографический очерк
Издание 3-е, переработанное
и дополненноеГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960
- 2 -
Оформление художника
В. НОВОСЕЛОВОЙ
- 3 -
ВВЕДЕНИЕ
Лев Толстой оставил великое художественное наследство, вошедшее в сокровищницу не только русской, но и мировой литературы. Произведения, созданные его гением, исполнены такой реалистической мощи, такой силы жизненной правды и психологической наблюдательности, такого необычайного мастерства в изображении человеческих характеров, что в этом отношении Толстой поистине не имел себе равных среди современных ему русских и зарубежных писателей. Еще при жизни Толстого Ленин назвал его великим, гениальным писателем, давшим «первоклассные произведения мировой литературы»1, а в 1910 году, отзываясь на смерть Толстого и отмечая кричащие противоречия в его произведениях и учении, Ленин в то же время говорил, что «Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе» и должны рассматриваться «как шаг вперед в художественном развитии всего человечества»2. В 1919 году в беседе с А. М. Горьким Ленин сказал, что рядом с Толстым-художником в Европе некого поставить.
Чем же, по мнению Ленина, определялись мировое значение Толстого как художника и его мировая известность как мыслителя и проповедника? Тем, что и в
- 4 -
творчестве и в учении Толстого отразилось мировое значение русской революции, революции 1905—1907 годов, тем, что Толстой был «зеркалом» этой революции, что в своих произведениях — художественных, публицистических и философских — он с поразительной рельефностью воплотил черты исторического своеобразия первой русской революции как крестьянской буржуазной революции с ее силой и ее слабостью.
Ленин писал, что литературная деятельность Толстого относится к тому периоду русской истории, который находится между двумя поворотными пунктами — 1861 и 1905 годами. Это было время, когда явные пережитки крепостного права характеризовали всю хозяйственную и всю политическую жизнь России, когда в стране усиленно развивались капиталистические отношения. Правда, деятельность Толстого как писателя началась раньше и окончилась позже этого периода, но вполне сложился он как художник и мыслитель, по словам Ленина, именно в этот период, переходный характер которого определил все отличительные черты и художественных произведений Толстого и «толстовщины».
Величие Толстого, по Ленину, состоит в том, что его критика «с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России»1. Ленин считал, что действительно великий художник должен отразить в своих произведениях хотя бы некоторые из существенных сторон революции, и Толстой, по его мнению, был именно таким художником, хотя он явно не понял революции, как не понимали ее порой и многие непосредственные ее участники.
Во всех высказываниях Ленина о Толстом как о писателе, наиболее глубоко отразившем своеобразие первой русской революции, и в той высокой оценке, какая дана Толстому Лениным именно по этому признаку, устанавливается та точная мера, которой следует мерить значение каждого писателя и его литературного наследства: подлинно великим может быть назван лишь тот писатель, который отразил в своем творчестве самые
- 5 -
существенные стороны исторической действительности, а Толстой как раз отразил такие явления современной ему русской жизни, которые в истории его родины имели решающее, первенствующее значение для дальнейших ее судеб. Поэтому-то Ленин определил величие Толстого следующими словами: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции»1.
- 6 -
ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО ДО «ВОЙНЫ И МИРА»
Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в имении Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии. В семидесятипятилетнем возрасте он написал «Воспоминания», в которых, разделяя свою жизнь на четыре периода, выделил «чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет». Детские впечатления так ярко отложились в душе Толстого, что в глубокой старости он припоминает не только людей, окружавших его в то далекое время, но и малейшие события той поры и самые мелкие подробности в его жизни, вплоть до того, как с левой стороны касается его волос рука отца «с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони». Только в необыкновенно живой памяти могло отчетливо запечатлеться такое количество фактов, какое мы находим в воспоминаниях Толстого, и только выдающийся художник мог с такой поэтической, заражающей прелестью передать их читателю.
Среди тех, о ком Толстой вспоминает с особенной теплотой, на первом месте стоит его мать Мария Николаевна, рожденная княжна Волконская. Она умерла, когда Толстому было около двух лет. Портретов ее в семье Толстых не сохранилось, и в представлении сына жив был лишь ее духовный облик, в течение всей его жизни будивший в нем высокие, чистые сердечные движения. Некоторые события ее жизни и черты характера
- 7 -
воплощены были Толстым в образе княжны Марьи Николаевны Болконской в «Войне и мире». Высокий моральный облик матери Толстого, внутреннее богатство ее натуры угадываются и в образе maman из повести «Детство».
Замуж она вышла тридцати двух лет за графа Николая Ильича Толстого, который был моложе ее на четыре года. Брак устроили родные жениха, получившего в наследство от отца расстроенное состояние и женитьбой на богатой невесте решившего поправить свои материальные дела. Это был красивый, веселый, обходительный, по тому времени относительно гуманный человек, не злоупотреблявший своей властью помещика, владельца крепостных душ. Поступив в юности на военную службу и проделав заграничные походы в 1813—1817 годах, он вышел затем в отставку и после женитьбы занялся сельским хозяйством. Оставив военную службу, он потом уже никогда не служил, «по чувству собственного достоинства» не считая для себя возможным служить ни в конце царствования Александра I, ни в царствование Николая I. Ни с одним чиновником, как вспоминает Толстой, его семья не имела близкого знакомства. Умер Николай Ильич, когда Льву Николаевичу было девять лет. Значительного влияния он на сына не оказал, но оставил у него по себе добрую и благодарную родственную память. В основном он послужил прототипом Николая Ильича Ростова в «Войне и мире».
Наибольшее нравственное влияние на Толстого, по его собственному признанию, оказала Татьяна Александровна Ергольская, дальняя родственница Толстых, с детского возраста оставшаяся сиротой и взятая бабушкой Льва Николаевича на воспитание. Она была одних лет с его отцом Николаем Ильичом и за свой твердый, решительный и самоотверженный характер пользовалась в семье большим уважением и любовью. Не только в пору детства, но и в юности и в зрелом возрасте (Ергольская умерла в 1874 году) Толстой делился с ней всем, что его занимало, волновало и тревожило. К ней он обращался за советом, когда нужно было найти нравственную поддержку и душевное участие.
У Льва Николаевича было три старших брата: Николай, Сергей и Дмитрий — и младшая сестра Мария,
- 8 -
родами которой умерла их мать. Все три брата и сестра были людьми по-своему незаурядными. Самым одаренным из них был, по-видимому, Николай, умерший, как и Дмитрий, совсем еще молодым. С его именем связано одно из самых волнующих и самых значительных воспоминаний раннего детства Толстого.
Однажды Николай объявил мальчикам, что он знает тайну «муравейных братьев». Очевидно, под «муравейными братьями» крылись «моравские братья» — религиозная секта, возникшая в XV веке в Чехии и стремившаяся к водворению на земле справедливой жизни, как ее представляли себе первые христиане. О ней Николай мог узнать либо по книге, либо из рассказов. Своим братьям он сказал, что, когда эта тайна откроется, все люди станут счастливыми, не будет ни у кого ни болезней, ни неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут друг друга любить, все сделаются «муравейными братьями». Самая тайна, которая должна была осчастливить людей, как уверял Николай, была им написана на зеленой палочке, зарытой у дороги на краю оврага Старого Заказа. Дети не раз играли в «муравейных братьев», и зеленая палочка стала почти на всю жизнь для Толстого символом нравственного самосовершенствования и всеобщего человеческого счастья. Записывая воспоминания детства, он просил, в память брата Николеньки, похоронить его в том месте Старого Заказа, где, по детскому преданию, была зарыта зеленая палочка. В 1908 году Толстой эту просьбу продиктовал своему секретарю Н. Н. Гусеву, а за два с лишним года до этого написал статью, озаглавив ее «Зеленая палочка». «И, как я тогда верил, — писал он на склоне лет, — что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает»1.
Таковы были ближайшее окружение и нравственная атмосфера детских лет Толстого. Бабушка, слуги, гувернер Федор Иванович Рессель, родственники и близкие знакомые, наезжавшие в Ясную Поляну, о которых
- 9 -
Толстой писал в «Воспоминаниях», дополняли собой картину патриархальной помещичьей идиллии, так любовно нарисованную в рассказе о его детских годах. Эта идиллия в сознании ребенка еще не нарушалась существованием крепостного права. А между тем именно оно и обусловливало собой привольную жизнь барской семьи в огромном доме, с большим штатом прислуги и дворни; именно оно создавало условия для беззаботной жизни господ, для тех радостных впечатлений от псовой охоты, от приезда ряженых на святках, от веселых поездок в окрестности и от многого другого, что так запомнилось Толстому. Оборотная сторона благополучной барской жизни была скрыта от глаз ребенка, а то, что окружало его в повседневной жизни, что близко его касалось, представлялось ему почти сплошным праздником, лишь изредка нарушаемым скоропреходящими огорчениями.
Осенью 1836 года семья Толстых переехала в Москву: старшего сына Николеньку нужно было готовить в университет. Летом следующего года внезапно умер отец — Николай Ильич, а меньше чем через год после этого скончалась бабушка — Пелагея Николаевна. Смерть отца потрясла мальчика Толстого. Он впервые, по его собственным словам, глубоко задумался над вопросами жизни и смерти. Осложнилось и материальное положение семьи; пришлось прежде всего переменить обширную квартиру в Москве на меньшую, более дешевую. Чтобы уменьшить расходы, часть семьи, в том числе и Лев Николаевич, не только на лето, но иногда и на зиму переселялись в Ясную Поляну.
Отроческие годы Толстого омрачены были напряженными отношениями, сложившимися у него с новым гувернером Saint Thomas. Своим формально-педантическим, нечутким, часто жестоким обращением с мальчиком гувернер вызывал в нем чувство протеста, переходившего в раздражение, а иногда и в упорную ненависть к нему. «Не помню уже, за что, но за что-то самое не заслуживающее наказания, — вспоминает Толстой, — St. Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к St. Thomas, но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мною. Едва ли этот случай не был причиной того
- 10 -
ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которые я испытывал всю свою жизнь»1.
Нужно думать, поводов для столкновения со строгим гувернером у Толстого было немало, если принять в расчет, что он был мальчиком не только очень бойким и шаловливым, но и склонным к неожиданным чудачествам и странным выходкам. Так, однажды, лишь для того чтобы сделать что-нибудь необыкновенное и удивить окружающих, он выпрыгнул из окна второго этажа, и только благодаря счастливой случайности шалость эта прошла для него безнаказанно.
Вместе с тем мальчик жил напряженной внутренней жизнью. Честолюбивые мечты о военной славе, жажда необыкновенных подвигов уживались у него с очень энергичной работой сознания, со стремлением разрешить отвлеченные вопросы о назначении человека и о смысле человеческой жизни. То, что сказано об этом в отношении Николеньки Иртеньева в повести «Отрочество», целиком характеризует и отроческие годы самого Толстого.
В эту пору перед ним впервые стали вопросы, выходившие за пределы личной жизни. И поводом для них послужили факты, связанные с крепостным правом. Однажды дети встретили уже немолодого помощника кучера, которого управляющий за какую-то провинность вел на расправу. Догадавшись, в чем дело, Толстой испытал, по его словам, «ужасное чувство». В другой раз из разговора помещика Темяшева с отцом он узнал, что помещик отдал своего слугу в солдаты за то, что тот ел во время поста скоромное. И это произвело на мальчика удручающее впечатление.
Лет одиннадцати Толстой пережил первое чувство влюбленности. В письме к своему биографу П. И. Бирюкову он писал в 1903 году: «Первая самая сильная (любовь. — Н. Г.) была детская к Сонечке Колошиной». Это была любовь восторженная, мечтательная, переполнившая мальчика счастьем, любовь без мысли о взаимности. О ней Толстой вспоминал в 1890 году, думая написать роман на тему о целомудренной любви. Этот детский роман Толстого нашел яркое и трогательное художественное отражение в ночном разговоре Николеньки
- 11 -
Иртеньева с братом Володей о Сонечке Валахиной, который описан в «Детстве».
В 1841 году умерла опекунша детей Толстых — тетка Александра Ильинична Остен-Сакен, и опека над ними перешла к другой тетке — Пелагее Ильиничне Юшковой, жившей в Казани. Туда и переезжает осенью того же года вся семья Толстых. В Казани Толстой прожил пять с половиной лет, выезжая каждое лето с семьей в Ясную Поляну. В 1844 году он поступил в Казанский университет на арабско-турецкое отделение восточного факультета, с намерением стать дипломатом. В ту пору Толстой как бы ощупью отыскивал свое жизненное призвание. Вскоре он понял, однако, что этим жизненным призванием его не могла быть дипломатия. Учился он без особого рвения, тем более что в Казани юноша сразу же попал в водоворот светских развлечений, в которых протекала жизнь местного «высшего общества».
Вскоре Толстой перешел с восточного факультета на юридический, но и перспектива сделать себе карьеру по судебному ведомству также не могла прельстить его. В 1847 году он вышел из университета, не окончив курса.
Казанский университет отличался в тот период солидным профессорским составом. Особенно выделялся в нем восточный факультет, где высоко было поставлено изучение и преподавание различных отраслей восточной филологии. На юридическом факультете преподавал передовой по своим политическим взглядам профессор Д. И. Мейер, выдающийся знаток русского гражданского права, учебник которого по этому предмету был принят в русских университетах еще накануне Октябрьской революции. Не забудем, что до 1846 года ректором Казанского университета был великий математик Лобачевский. Но для систематического прохождения университетского курса Толстому не хватало выдержки, да и охоты. Он, по его словам, мог заниматься только тем, что его живо занимало; он читал множество книг, но чтение у него всегда шло по одному строго определенному направлению, продиктованному его личным интересом в данную пору.
Особенно усиленно в студенческие годы занимался Толстой философией. К ней его влекла не простая любознательность, а стремление найти разрешение тех
- 12 -
жизненных вопросов, которые не переставали его волновать. Он очень увлекался сочинениями Руссо. Французскому профессору Полю Буайе Толстой в 1901 году говорил, что с пятнадцатилетнего возраста Руссо был его учителем, которого он боготворил, и носил на шее вместо нательного креста медальон с его портретом. Толстой сам написал в это время несколько философских сочинений, преимущественно на тему о нравственных основах человеческого поведения. По совету профессора Мейера он занялся сличением «Наказа» Екатерины II с «Духом законов» Монтескье, и эта работа очень увлекла его. Объясняя причины своего ухода из университета, Толстой указывал два обстоятельства: отъезд его брата из Казани в связи с окончанием университета и работа над сличением «Наказа» с «Духом законов». «...как это ни странно сказать, — писал Толстой, — работа с Наказом и Esprit des lois Montesquieu, она и теперь есть у меня, — открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет с своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей»1. Оставить университет побудило Толстого, между прочим, и то, что как раз в это время состоялся раздел отцовского имущества между всеми детьми. Толстому досталась, в частности, Ясная Поляна, где, поселившись с начала мая 1847 года, он пытался заняться сельским хозяйством и устройством быта яснополянских крестьян, что позднее нашло отражение в неоконченном «Романе русского помещика» и в повести «Утро помещика».
В последние месяцы жизни в Казани Толстой начал вести дневник. Поводом для этого было стремление к самосовершенствованию во всех областях — в умственной, нравственной и физической. Однако началом всего, как говорил Толстой, было самосовершенствование нравственное. Дневник должен был быть, с одной стороны, средством систематического контроля над собой, с другой — заключать в себе «правила», которым намеревался следовать Толстой. В дальнейшем дневник на всю жизнь стал почти постоянным его спутником. Ему он поверял самые сокровенные мысли, в него заносил замыслы своих произведений, отмечал этапы работы над ними; дневниковые записи — особенно на первых порах
- 13 -
— были иногда подступами к художественному творчеству. Так, органически связанным с дневниками Толстого является одно из самых ранних его произведений — «История вчерашнего дня», написанное в 1851 году под значительным влиянием «Сентиментального путешествия» Стерна, которое в это время Толстой переводил на русский язык (перевел около одной трети романа). В дневниковых записях Толстой также фиксировал факты и события личной жизни и жизни близких ему людей.
Яснополянское одиночество вскоре становится в тягость Толстому. В октябре 1848 года он переезжает в Москву, затем в феврале следующего года — в Петербург, приступает к сдаче экзаменов на степень кандидата прав, но, успешно сдав два экзамена, отказывается от их продолжения, делает попытку поступить на военную службу, потом возвращается в Ясную Поляну, взяв с собой талантливого, но весьма неравнодушного к вину немца-музыканта Рудольфа, с которым сам занимается музыкой. Некоторое время Толстой служит в Тульском губернском правлении, живя то в Ясной Поляне, то в Туле, то в Москве, ведя беспорядочный образ жизни, увлекаясь цыганами, охотой, кутежами, карточной игрой. Жизнь без серьезных целей и перспектив угнетает его и создает ощущение глубокой неудовлетворенности. Самообличением и самоосуждением наполнены многие страницы его дневника той поры. Чтобы положить конец такому образу жизни, Толстой решает уехать на Кавказ, где в то время шла упорная война с горцами, и в апреле 1851 года отправляется вместе со своим братом-офицером Николаем Николаевичем, получившим туда назначение.
На Кавказе Толстой пробыл до 1854 года, участвуя — сначала в качестве волонтера, а затем юнкера и офицера — в военных действиях. Там он написал повести «Детство», «Отрочество» и рассказы «Набег», «Записки маркера». На Кавказе же начаты были «Роман русского помещика», на основе которого была создана впоследствии повесть «Утро помещика», рассказ «Рубка леса» и повесть «Казаки». Появившееся в 1852 году в журнале «Современник» «Детство» было первым печатным произведением Толстого, сразу же создавшим ему репутацию талантливого писателя. Напечатанные там
- 14 -
же «Набег», а затем и «Отрочество» укрепили эту репутацию за молодым автором, только с 1856 года, со времени напечатания рассказа «Севастополь в августе 1855 года», подписывавшим свои произведения полной фамилией, до тех же пор инициалами — сначала «Л. Н.», потом «Л. Н. Т.». Следует отметить, что литературный дебют Толстого, кроме естественного писательского удовлетворения, доставил ему и сильное огорчение. В письме к Некрасову он с раздражением жаловался на значительное количество цензурных искажений в повести, а также на то, что она была напечатана под произвольным заглавием — «История моего детства». Толстому очень важно было сохранить первоначальное название «Детство», так как оно подчеркивало типичность описываемых событий.
Подвижная и часто рассеянная жизнь Толстого на Кавказе была одновременно и жизнью внутренне очень сосредоточенной и духовно напряженной. В мае 1859 года он писал своей родственнице А. А. Толстой: «...я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением»1.
Военная служба тяготила Толстого, и он стремился оставить ее. В 1853 году он подал прошение об отставке, которая, однако, не была принята, так как в это время началась русско-турецкая война и до окончания войны выход в отставку был запрещен. Толстой предпочел в таком случае воевать не на Кавказе, а против Турции и добился перевода в Дунайскую армию. Отправляясь на место своего нового назначения, он ненадолго заехал в Ясную Поляну, побывал в Москве и в Туле и 12 марта 1854 года прибыл в Бухарест, где был зачислен в артиллерийскую бригаду. Служа в Дунайской армии, Толстой по служебным командировкам совершал поездки
- 15 -
по Молдавии, Валахии, Бессарабии, находился при осаде русскими войсками турецкой крепости Силистрии, несколько раз был под неприятельским огнем.
После снятия осады Силистрии Толстой приезжает в Кишинев, где находился штаб Южной армии. Там он вместе с группой офицеров-артиллеристов задумывает основать общество для распространения просвещения среди военных вообще и солдат в особенности. Общество это организовано не было, и вместо него решено было издавать дешевый популярный журнал для солдат. Первоначально он должен был называться «Солдатский вестник», позднее — «Военный листок». Целью журнала было «поддерживать хороший дух в войске». В журнале предполагалось помещать, как писал Толстой брату Сергею Николаевичу, «описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах; подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темненьких (т. е. простых людей. — Н. Г.); военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном, артиллерийском искусстве и т. д.»1. Толстой вместе с журналистом О. И. Константиновым должен был редактировать журнал и с увлечением взялся за это дело, написал для журнала статью и два рассказа, но журнал был запрещен Николаем I.
В ноябре 1854 года Толстой был переведен в Крым и принял участие в Крымской войне и в защите Севастополя. Он сам стремился перевестись в Севастополь, по его же собственным словам в письме к брату, «больше всего из патриотизма», который, как он выразился, «сильно нашел» на него2.
Еще до приезда в Севастополь Толстой знал о крупных неудачах русской армии в ее сражениях с англо-французскими войсками, но это не подрывало у него веры в духовную стойкость русского народа, способного, по его убеждению, вынести самые тяжкие испытания и закалить свой дух для предстоящей созидательной работы. Об этом можно судить по следующей записи в дневнике Толстого, сделанной им в Одессе 2 ноября 1854 года на пути в Севастополь: «Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет
- 16 -
наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства»1.
Прибыв в Севастополь, Толстой был свидетелем героической обороны города и беспримерного мужества русских солдат. Общий патриотический подъем в войсках не мог не захватить Толстого. Вскоре по приезде в Севастополь он писал брату: «Дух в войсках свыше всякого описания. В времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание... Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-ой, было 160 человек, которые, раненные, не вышли из фронта. Чудное время!»2 Толстой благодарит бога за то, что видел этих людей и живет «в это славное время».
Четвертого сентября 1855 года Толстой писал Т. А. Ергольской: «Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах»3. Сам Толстой во время севастопольской осады обнаружил незаурядную храбрость. Больше месяца он служил в самом опасном месте — на знаменитом четвертом бастионе. Его впечатления от севастопольской осады нашли отражение в трех замечательных рассказах, из которых два первых закончены были еще в Крыму.
- 17 -
Здесь же Толстой начал и последнюю часть трилогии — «Юность», напечатанную в 1857 году. В Крыму он закончил и начатый им еще на Кавказе рассказ «Рубка леса». Тут же, убедившись в том, что неудачи русских войск под Севастополем являются результатом крайне неудовлетворительной организации русской армии, он пишет проекты реформы военного дела в России, одновременно разоблачая нравственные устои тогдашней офицерской среды, и предпринимает, хотя и безуспешно, ряд шагов для издания военного журнала, предназначенного им, как сказано, преимущественно для солдат.
Войдя в литературу с «Детством», «Отрочеством» и военными рассказами, Толстой сразу же нашел глубокого истолкователя своего творчества в лице Н. Г. Чернышевского. В небольшой статье великий критик так много и содержательно сказал о самой сути дарования Толстого, что и теперь сказанное им сохраняет всю свою непререкаемость.
В творчестве Толстого Чернышевский отметил две существенные черты: во-первых, «глубокое знание тайных движений психической жизни», способность очень тонко улавливать «психический процесс, его формы, его законы», удивительное умение изображать «диалектику души», часто вскрываемую при помощи «внутреннего монолога», отражающего не только результаты психического процесса, но и самый процесс и «едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием», и, во-вторых, «непосредственную чистоту нравственного чувства»1. С поразительной прозорливостью Чернышевский предсказал, что эти две черты останутся основными особенностями таланта Толстого, какие бы новые стороны ни обнаружились в его последующих произведениях.
И действительно, обе эти черты характеризуют творчество Толстого на всем протяжении его жизни. Они явственно обнаруживаются уже в его раннем крупном произведении — в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», оформившейся из первоначально задуманного им и начатого на Кавказе романа «Четыре эпохи развития»,
- 18 -
в котором он намеревался описать детство, отрочество, юность и молодость своего героя. Толстой, однако, рассказал лишь о двух первых периодах жизни героя и частично о его юности. В дальнейшем написанное обработано было в три отдельные повести, каждая из которых, прежде чем отлиться в окончательную форму, прошла еще через три редакции. Четвертая задуманная для описания эпоха жизни — молодость — послужила темой для незаконченного «Романа русского помещика», произведения по замыслу «догматического», то есть программного, учительного, из которого выделилась в качестве законченного целого лишь часть его — повесть «Утро помещика».
В «Четырех эпохах развития» рассказ ведется в форме записок, адресованных рассказчиком лицу, которое он называет своим «исповедником и судьею». Персонажами повести являются члены хорошо знакомой Толстому семьи Александра Михайловича Исленьева и его гражданской жены княгини Софьи Петровны Козловской, дети которых получили фамилию Иславиных. Этот роман в гораздо большей степени, чем трилогия в ее окончательной редакции, отразил в себе влияние поэтики произведений сентиментального стиля и традиций «натуральной школы». Здесь прежде всего обращает на себя внимание большое количество отступлений, содержащих авторские рассуждения по поводу различных вопросов и фактов, о которых идет речь в «Четырех эпохах». Таковы рассуждения о признаках «аристократического сложения», об отношениях между мужем и женой, определяемых расположением комнат, об охоте, о существе молитвы, о психологии игрока и т. д. Рассказчик здесь сосредоточивает внимание на самом себе и членах своей семьи. Целый ряд глав окончательного текста трилогии, в которых выведены персонажи посторонние, тут еще отсутствуют. Значительную эволюцию претерпели образы Карла Ивановича, отца Иртеньева, юродивого Гриши и некоторых других персонажей.
Трилогия Толстого, как и многие последующие его художественные произведения, соединила в себе объективное наблюдение над жизнью с отражением субъективного мира художника, через сознание которого преломляется все то, о чем он повествует. В трилогии встречаются персонажи, прототипами которых явились
- 19 -
родные Толстого, близкие его семье люди, его друзья и учителя, но в центре ее стоит Николенька Иртеньев, душевный мир которого в его постепенном росте и раскрытии отражает внутреннюю жизнь самого Толстого в период детства, отрочества и ранней юности. От лица Николеньки ведется повествование, его впечатлениями и оценками характеризуются действующие в трилогии лица. Рассказанное в ней написано как воспоминания взрослого человека о ранних годах своей жизни, и потому многое, особенно в «Детстве», изложено и осмыслено так, как это могло быть сделано тем, кто обращается к своему прошлому, далекому, но внутренне еще близкому.
Сам Толстой в воспоминаниях, написанных в старости, указывая на то, что в «Детстве» нашли отражение события жизни его приятелей детства и его собственной, признавался в том, что в период писания повести он находился под сильным влиянием двух произведений — «Сентиментального путешествия» английского писателя Стерна и «Библиотеки моего дяди» швейцарского писателя Тепфера. Оба эти произведения, особенно «Сентиментальное путешествие», на самом деле не только оказали на Толстого влияние, преимущественно в работе над «Четырьмя эпохами развития», но и укрепили в нем ту склонность к детальному психологическому анализу, которую он обнаружил еще в юношеских дневниках и которая поддержана была чтением Диккенса и Руссо, очень увлекавших Толстого в ту пору и позднее, а также Стендаля. Но, в сущности, уже в начале творческого пути он был самобытен и оригинален, в процессе упорной работы все более освобождаясь от постороннего воздействия.
Самобытность и оригинальность, проявившиеся еще в раннем творчестве Толстого, объясняются прежде всего тем, что все его произведения, начиная с юношеских дневников, были результатом напряженной, притом своеобразной и самостоятельной внутренней работы. С первых же шагов своей сознательной жизни он стремился к тому, чтобы на все смотреть своими собственными глазами и все проверять собственным критическим судом. Эта независимость взглядов и суждений неизбежно влекла за собой и свободу от подчинения популярным литературным образцам, особенно если они не
- 20 -
шли навстречу самостоятельным философским и литературным исканиям Толстого.
Уже в «Детстве» Толстой обнаружил исключительное мастерство психологического анализа. Николенька Иртеньев — необыкновенно впечатлительный ребенок, внутренне очень подвижной, склонный к рефлексии и самоанализу, но в то же время умеющий наблюдать окружающую жизнь. Эти черты натуры Николеньки еще сильнее проявляются в его отрочестве и юности. Переломный момент перехода от детства к отрочеству определяется у него прежде всего сознанием того, что на свете существуют не только он сам и его семья, но и другие люди, которые живут своей собственной жизнью, своими интересами и заботами и которым нет дела до семейства Иртеньевых. Он задумывается над тем, как же складывается жизнь этих людей, чем она заполняется. Неожиданно ему становится ясно, что разница в материальном достатке способна разлучить даже самых близких людей.
По мере превращения Николеньки из ребенка в отрока сильно повышается его эмоциональная жизнь, растет чувство личности и крепнет сопротивление посягательствам на нее. Экспансивная натура мальчика не способна уложиться в поставленные рамки; он совершает ряд проступков, за которые ненавистный гувернер-француз наказывает его заключением в чулан и угрожает выпороть розгами. Уязвленное самолюбие и болезненно разыгравшееся воображение вызывают в его душе целую бурю отчаяния и самых сложных переживаний. Сознание несправедливости наказания рождает в голове Николеньки первые религиозные сомнения и первый протест против божеской несправедливости.
Николенька ведет «уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь», и в его уме встают важнейшие вопросы человеческого бытия, очень волнующие его и требующие от него своего разрешения. Он проделывает различные эксперименты, чтобы повысить тон своей душевной жизни, вплоть до причинения себе физических страданий, которые должны быть побеждены напряжением его духовного существа. Для того чтобы уяснить себе сложные философские проблемы, Николенька пользуется чертежами, при помощи которых наглядно конкретизируются неясные и недостаточно точно
- 21 -
оформленные мысли. Так поступал Толстой и в старости, прибегая в дневниках к чертежам для уяснения самому себе сложнейших отвлеченных вопросов. В мучительных поисках истины Николенька приходит к своеобразному философскому солипсизму, заставляющему его думать, что, кроме него, никого и ничего не существует во всем мире и что окружающие его предметы существуют не реально, а лишь в его представлении о них.
Эти непрестанные размышления не только обостряют моральный самоанализ Николеньки, но и ослабляют в нем силу воли и свежесть непосредственного чувства. Из состояния душевного разброда выводит Николеньку его восторженная дружба с Дмитрием Нехлюдовым, в образе которого отразились черты характера не только друга Толстого Д. А. Дьякова, но и самого Толстого (недаром позднее в ряде его произведений под Фамилией Нехлюдов встречаются персонажи автобиографического характера).
Нехлюдов в «Отрочестве» заставляет Николеньку вполне обнаружить то свойство своей натуры, которое всегда было ему присуще, но которое подавлялось неупорядоченностью его психической жизни и чрезмерной рефлективностью, а именно — стремление к самосовершенствованию и к достижению нравственного идеала. «Восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться» — вот то, что Нехлюдов пробуждает в Николеньке. «Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым», — пишет Толстой в заключение «Отрочества».
Как наступление отрочества связывалось у Николеньки с новым взглядом на вещи, состоявшим в том, что, кроме него и его семьи, существуют еще и другие люди, отличающиеся от семейства Иртеньевых и своим имущественным положением, и своими интересами, так наступление юности было связано у него также с новым, открывшимся под влиянием Нехлюдова взглядом на жизнь и ее цель, по которому задача человека состоит в стремлении к нравственному самосовершенствованию.
- 22 -
Николенька с раскаянием думает о том, сколько времени он потерял даром, и решает, ни на секунду не откладывая, применить этот взгляд к личной жизни с твердым намерением никогда уже не изменять ему. Он пробует писать правила своего поведения, с душевным подъемом исповедуется священнику в своих грехах, стремится к чистой и возвышенной жизни, но реальная жизнь с ее соблазнами и приманками берет свое, и он не в силах побороть ни суету светского тщеславия, ни предрассудки аристократических взглядов.
Его жизненный идеал — быть человеком «comme il faut», обладающим всеми аристократическими замашками и манерами, какие в его представлении свойственны людям «порядочным», в отличие от людей «непорядочных», людей не «comme il faut», которых он презирает.
Усомниться в ценности «комильфотности» Николеньку в конце повести заставляет общение с демократической частью студенчества, в которой он признает превосходство над собой в знаниях, способностях, в общем развитии, несмотря на полное отсутствие у нее каких бы то ни было признаков «comme il faut». Характерно, однако, что Толстой, изображая демократическое студенчество, подчеркивает в нем наряду с высоким умственным развитием удаль, молодечество, страсть к разгулу и совершенно проходит мимо тех идейных и общественных вопросов, интерес к которым был так характерен для демократической студенческой молодежи, особенно второй половины 50-х годов, когда Толстым заканчивалась повесть.
Николенька — по-прежнему неисправимый и страстный мечтатель. Мечтает он и о любви к ней, воображаемой женщине, которую каждую минуту ожидает где-нибудь встретить, и о том, чтобы сделаться самым богатым и самым знатным человеком мира. И одновременно его гнетет чувство отвращения к самому себе и раскаяния в своих поступках. Однако он верит в то, что страстно желаемое им нравственное совершенство осуществимо и будет непременно им достигнуто.
Так, уже в начале своего творчества Толстой стал на тот путь, каким он шел и в дальнейшем. Это — путь необыкновенно зоркого и наблюдательного художника, который стремится к тому, чтобы осмыслить поведение человека в свете тех нравственных норм, которые представляются
- 23 -
ему единственно правильными. И вместе с тем это путь не самодовлеюще объективного созерцателя жизни, а человека, в котором художник неотделим от моралиста, для которого искусство является прежде всего средством самопознания, духовного самоопределения и одновременно познания жизни. Работе художественного претворения действительности у него предшествуют поиски идеальных нравственных ценностей, мерой которых можно было бы мерить все поступки людей и все проявления их душевной жизни. Толстой беспощаден в своем анализе. Он не боится показывать, как в самых близких ему по духу и по внутреннему строю персонажах рядом с высокими помыслами и влечениями уживаются мелкие и суетные склонности вроде пристрастия Николеньки Иртеньева к предрассудкам «комильфотности». Очень показательно, что еще в «Детстве» Толстой с большой симпатией изображает человека из народа — няньку Наталию Савишну, которой совершенно чужды фальшь, неискренность и притворство, свойственные окружающей Николеньку светской среде.
Уже на самом пороге своей литературной деятельности Толстой придерживался того взгляда на свойства человеческой природы, который был сформулирован им позднее в «Воскресении». «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, — писал он в этом романе, — что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою».
Русская критика, высоко оценившая огромное дарование молодого Толстого, поставила его рядом с Тургеневым,
- 24 -
Гончаровым, Григоровичем и Писемским, уже успевшими завоевать себе положение выдающихся писателей. Некрасов открыл Толстому писательскую дорогу, напечатав в редактировавшемся им «Современнике» «Детство», а затем ряд других его произведений. Он сразу же почувствовал в начинающем писателе крупное художественное дарование, за развитием которого очень внимательно следил, видя в Толстом продолжателя лучших, передовых традиций русской литературы и одновременно художника-новатора, с большой правдивостью изображавшего русскую жизнь. Спустя всего три года, после того как Толстой впервые выступил в печати, Некрасов уже писал ему о том, что не знает писателя, который заставил бы любить себя больше, чем любят его, Толстого. В то же время Некрасов не стеснялся прямо и откровенно указывать Толстому на его литературные неудачи, как это, в частности, случилось с его рассказами «Записки маркера» и позднее с повестью «Альберт».
Мы знакомы с замечательным по своей глубине отзывом о Толстом Чернышевского. Литературный критик того же времени П. В. Анненков, говоря о первых двух частях трилогии, писал: «У повествователя нашего уже почти нет малозначительных внешних признаков для лица, ничтожных подробностей для события. Наоборот, каждая черта в тех и других доведена до значения, иногда до разумности, смеем выразиться, поражающей даже и такие глаза, которые от привычки к темноте мало способны к различению предметов. Отсюда рождается замечательная выпуклость как лиц, так и происшествий. Автор доводит читателя неослабной проверкой всего встречающегося ему до убеждения, что в одном жесте, в незначительной привычке, в необдуманном слове человека скрывается иногда душа его и что они часто определяют характер лица так же верно и несомненно, как самые яркие, очевидные поступки его»1.
С именем Толстого неразрывно связано представление о нем как о несравненном мастере в изображении природы, которую он рисует в тесной связи с внутренним миром своих героев. Эта черта Толстого-художника
- 25 -
в полной мере сказалась уже в его трилогии. Стоит вспомнить замечательное описание грозы в «Отрочестве» или лирически-взволнованное описание весны и летнего дня в I и XXII главах «Юности».
Одновременно с работой над трилогией Толстой был занят произведением, которое в рукописных текстах и в дневниковых записях носило заглавие «Роман русского помещика». Этому произведению Толстой придавал очень большое значение и считал его важнейшим делом своей жизни. В нем Толстой, судя по дневниковой записи, намеревался изложить «зло правления русского», которое он усматривал в существовании в России неограниченной царской власти и крепостного права. Как мы уже знаем, вернувшись из Казани в Ясную Поляну, юноша Толстой задался целью улучшить быт своих крепостных. Чем дальше, тем больше крестьянский вопрос и проблема взаимоотношений крестьян с помещиком при существовании крепостного права волновали Толстого. Работая над «Романом русского помещика», он, стоя еще на дворянских позициях, подходил к разрешению крестьянского вопроса с точки зрения просвещенного помещика, совесть и сознание которого не мирились с самим фактом крепостной зависимости человека от человека. 2 августа 1855 года, находясь в Севастополе, Толстой записал в дневнике: «Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством. Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны»1.
Как и трилогия, «Роман русского помещика» в основном носил автобиографический характер. Герой его, Дмитрий Нехлюдов (сначала он назывался даже Николенькой, как и Иртеньев в трилогии), покидает университет, не окончив его, чтобы всецело отдаться заботам об устройстве своих крестьян, перед которыми он чувствует нравственную ответственность. Однако в своих попытках прийти на помощь крестьянам он терпит неудачу: исконное недоверие и подозрительное отношение закрепощенного мужика к барину становятся непреодолимой преградой между помещиком и его крепостными. Это приводит Нехлюдова к тяжелому сознанию невозможности
- 26 -
разрешить поставленную им перед собой задачу — стать благодетелем своих крестьян, самому же ему не приходит в голову мысль, что единственный выход из тупика — это полное уничтожение крепостного права. Роман, над которым Толстой с перерывами работал около пяти лет, не был закончен, потому что Толстой не мог найти решения основного вопроса, стоявшего перед ним, — как сочетать интересы крестьян с интересами помещика1. В 1856 году был опубликован значительный фрагмент романа, озаглавленный «Утро помещика».
Русская литература за несколько лет до того, как в нее вступил Толстой, обогатилась выдающимися произведениями так называемой «натуральной школы», созданными Герценом, Григоровичем, Тургеневым, Достоевским, Гончаровым, Островским, Некрасовым, Щедриным. Еще у всех в памяти были горячие выступления Белинского, разъяснявшего идейное и общественное значение этой школы в судьбах русской литературы. Развивая его идеи, Чернышевский выступил в защиту «гоголевского периода» русской литературы, воплотившего в себе самые существенные особенности школы.
«Натуральная школа», оформившаяся в русской литературе в 40-е годы, определила направление творчества наиболее передовых русских писателей того времени. Объединяя авторов различных по степени своей политической и общественной прогрессивности, она характеризовалась общими основными признаками: глубиной и серьезностью идейного содержания, гуманистической тенденцией, антикрепостнической направленностью, стремлением откликнуться на живые вопросы и потребности современности, преимущественным вниманием к обездоленным и угнетенным слоям общества, интересом к народной жизни.
«Натуральная школа» вела борьбу с романтическим приукрашиванием жизни, «риторикой», с «вольным или невольным искажением действительности», «фальшивым идеализированием жизни» (Белинский). Она утверждала трезвый, критический реализм, не чуждаясь откровенного и неприкрытого изображения «низкой натуры»
- 27 -
и отрицательных сторон жизни, порой намеренно подчеркнуто изображая подробности неприглядного городского и деревенского быта. Писатели новой школы насыщали художественные произведения обличительным содержанием, прибегая при этом к сатире, иронии и юмору. Они разрушали устоявшиеся каноны в построении сюжета и композиции произведения, вводя в него «отступления, рассуждения, дидактику» (Белинский), культивируя часто мемуарные жанры. В обращение входит «физиологический очерк», авторы которого стремились к изображению типических характеров и к индивидуализации языка персонажей. Подробностям в изображении быта у ряда писателей, принадлежавших к «натуральной школе», сопутствуют подробности в изображении психологии литературных персонажей.
Критики ранних произведений Толстого (Чернышевский, Некрасов) усматривали тесную связь творчества молодого писателя с направлением современной ему передовой русской литературы, то есть литературы, примыкавшей к «натуральной школе», и всячески приветствовали эту связь. Сам Толстой очень высоко ценил писателей — основоположников школы: Гоголя, Григоровича, Тургенева, Гончарова, Островского. Крупнейшие явления русской литературы, развивавшиеся в русле «натуральной школы», привлекли к себе внимание Толстого в пору его литературных дебютов и получили у него высокую оценку. Во вторую половину 50-х годов его очень интересуют и привлекают сочинения Белинского, теоретически обосновавшего принципы школы.
Для иллюстрации связи Толстого с традициями «натуральной школы» очень показателен как раз «Роман русского помещика» с вылившимся из него «Утром помещика». Связь эта обнаруживается прежде всего в том, что темой тут послужила народная жизнь, изображенная и освещенная с явным авторским участием к судьбе закрепощенного крестьянства, с сознанием нравственного долга барина перед мужиком. В обоих произведениях в центре повествования — описание различных типов крестьян, которых Нехлюдов посещает во время своего обхода деревни. Это своего рода физиологические очерки, лишенные сюжетных признаков, присущих обычно большинству беллетристических произведений.
- 28 -
Характерные черты стиля «натуральной школы» сказываются отчетливее всего в первых шести главах «Романа русского помещика», исключенных при переработке его в «Утро помещика», и наиболее наглядно в 2—6 его главах. В них фигурирует деревенский кулак — кабатчик, прозванный Шкаликом, плут, мошенник, ростовщик и пьяница, нещадный эксплуататор крестьян-бедняков, «когда можно, грубиян, когда нужно, нахальный, ничтожный человек, иногда пьяный и распутный, иногда притворно-набожный и смирный, но всегда сколдырник и кляузник». Он ладит с соседними приказчиками, с зажиточными мужиками и со становым и враждует с бедными мужиками. Но он не только эксплуатирует крестьян, а и наживается на помещиках, попавших в затруднительное материальное положение, за бесценок скупая у них лес. В своих грязных проделках он пользуется услугами пропойцы чиновника, подпольного ходатая по кляузным делам, приобретшего репутацию «умнейшего человека», потому что он писал бумаги вычурным канцелярским языком, нравившимся безграмотным его клиентам. Отправляясь к чиновнику за выручкой, Шкалик не застает его дома (он сидит под арестом в съезжей за то, что в пьяной драке откусил палец семинаристу). На дворе, у развалившегося чиновничьего домика, Шкалик видит такую картину: «Исхудалая, болезненная и оборванная женщина в чепце стояла в углу сорного, вонючего двора и мыла белье. Десятилетний мальчик в одной рубашонке, одном башмаке с ленточкой, но в соломенном картузике сидел около нее и делал из грязи плотину на мыльном ручье, текшем из-под корыта; шестилетняя девочка в чепчике с засаленными розовыми лентами лежала на животе посреди двора и надрывалась от крика и плача, но не обращала на себя ничьего внимания».
Говоря о Шкалике и о пьянице чиновнике, Толстой, не ограничиваясь ролью повествователя, высказывает свое авторское отношение к поступкам обоих.
Первые шесть глав «Романа русского помещика» в первой редакции не были включены в «Утро помещика» прежде всего потому, что такое включение композиционно могло быть оправдано лишь при условии дальнейшего развития сюжета произведения, но от этого Толстой отказался. Не забудем также, что в пору работы над
- 29 -
«Утром помещика» он несколько раз признавался, что сатирическое ему не по душе. Наконец, в исключенном материале было такое количество избитых штампов, которыми часто злоупотребляли некоторые представители «натуральной школы», что при дальнейшей работе они должны были быть замечены Толстым и ощущаться им как художественный недостаток. Вспомним, что и Тургенев при включении рассказов из крестьянского быта в книгу «Записки охотника» старался избавиться от подобного рода штампов, являвшихся, так сказать, стилистическими издержками «натуральной школы».
Устранив при переработке «Романа русского помещика» в «Утро помещика» некоторые стилистические крайности «натуральной школы», Толстой тем не менее сохранил в «Утре помещика» все те существенные черты, которые сближали его повесть с основополагающими художественными и идейными признаками, лежавшими в основе этой школы: интерес к обездоленным слоям народа, сочувственное отношение к их судьбе, а также глубокое знание народной жизни, трезвый и суровый реализм в изображении «низкой действительности», не боящийся со всей откровенностью и правдивостью вскрывать темные и неприглядные ее стороны.
Все эти особенности «Утра помещика» сказываются и в описаниях крестьянского быта и обстановки, в которой живет деревенская беднота, и в характерах и в портретах крестьян. Вот, например, описание избы Чуриса: «Неровные, закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки в потолке была большая щель, и, несмотря на то что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением». Изба Давыдки Белого «криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы».
- 30 -
Мать Юхванки изображена в «Утре помещика» выразительными и резкими красками: «Юхванкина мать... была... одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная, изорванная рубаха и бесцветная панева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою».
Что касается принципиальных идейных позиций «натуральной школы», как их мыслили Белинский и Чернышевский, то Толстой не обнаружил тут последовательности и прямолинейности. Он начал литературную деятельность в «Современнике», который был оплотом школы, и напечатал в нем большинство своих произведений до «Войны и мира», но в своих литературных симпатиях и взглядах на задачи искусства одно время сближался с Дружининым, Анненковым, Боткиным, противопоставлявшим себя демократическому лагерю писателей и критиков.
И тем не менее нужно признать, что Толстой в развитие принципов «натуральной школы» сделал значительный вклад — преимущественно рассказами и повестями из военного и крестьянского быта. Художественное творчество Толстого не только в молодости, но и на протяжении всей его жизни было органически родственно этим принципам по своей высокой идейности, стремлению откликнуться на животрепещущие вопросы современности, защите общественной роли искусства,
- 31 -
призванного служить интересам народа и выполняющего тем самым высокую общественную миссию. Как в раннем своем творчестве, так отчасти и в позднем Толстой испытал влияние и специфических особенностей стиля «натуральной школы». В то же время в процессе работы над своими произведениями он преодолевал крайности и излишества этого стиля, если они переставали соответствовать его эстетическим вкусам или идейным замыслам.
Что касается «Утра помещика», то следует сказать, что никто до Толстого в русской литературе не изображал с таким трезвым реализмом русского крепостного крестьянина, как сделал это Толстой в своей повести. В сравнение с нею по силе таланта могут идти лишь «Записки охотника» Тургенева, но по реализму, с которым Толстой вскрыл пропасть, отделяющую барина от крепостного мужика, «Утро помещика» превосходит и «Записки охотника». По поводу «Утра помещика» Чернышевский писал: «... граф Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик чрезвычайно верен своей натуре, — в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат.
В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в «Рубке леса». В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата»1.
Много позднее Ленин говорил о том, что «Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы»2, а в беседе с Горьким Ленин сказал о Толстом: «И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было»3.
- 32 -
Отмечая замечательное умение Толстого вживаться в душевный мир крестьянина, Чернышевский, однако, намеренно не говорит о недостатках произведения, не критикует той рефлексии, какой предается Дмитрий Нехлюдов, неспособный как следует понять истинную причину бедствия крестьян и неустройства крестьянской жизни. Делает Чернышевский это потому, что не считает идейное развитие Толстого окончательно установившимся и верит в дальнейшее поступательное движение Толстого в «правильном» направлении. По поводу «Утра помещика» Чернышевский оговаривается: «Мы упоминаем об этом рассказе не с намерением рассматривать основную идею его, — от этого нас удерживает уверенность, что определять идеи, которые будут выражаться произведениями графа Толстого, вообще было бы преждевременно... мы должны подождать второго, третьего рассказов из простонародного быта, чтобы определительнее узнать взгляд автора на вопросы, которых касается он в первом своем очерке сельских отношений»1.
Совершенно очевидно, что Чернышевского, революционного демократа, не вполне удовлетворяла идейная сторона «Утра помещика», но, очень высоко ценя Толстого как художника-реалиста, продолжавшего лучшие традиции «натуральной школы», и наблюдая расширение и углубление идейного содержания его произведений, Чернышевский ждал от него дальнейшего творческого развития и старался помочь ему в этом.
Непосредственное участие Толстого в военных действиях на Кавказе, а затем в Крыму, в пору севастопольской осады, дало ему материал для рассказов на тему о войне и о военном быте. Кавказские военные впечатления Толстого отразились главным образом в рассказах «Набег» и «Рубка леса»; севастопольские — в севастопольских рассказах. Вслед за появлением кавказских военных рассказов критик «Отечественных записок» С. Дудышкин указывал на то, что Толстой «может быть назван родоначальником тех прелестных военных эскизов, в которых простота, естественность, истина вступили в полные свои права и совершенно изменили
- 33 -
прежнюю литературную манеру рассказов подобного рода», и что, в частности, «Набег» является «истинным и счастливым нововведением в описании военных сцен»1.
По поводу рассказа «Рубка леса», созданного, как считал сам Толстой, под влиянием «Записок охотника» Тургенева и ему посвященного, Некрасов писал Толстому: «Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; все остальное принадлежит вам, и никем, кроме вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали вы все, что знаете об этом предмете, — все это будет в высшей степени интересно и полезно»2.
Действительно, Толстой уже в кавказских военных рассказах показал войну с такой стороны, с какой до тех пор она не изображалась в литературе. Его занимает не столько батальная тема сама по себе, сколько то, как ведут себя люди в военной обстановке, какие свойства натуры обнаруживает человек на войне. Уже в этих рассказах настоящими героями являются люди простые, с виду неказистые, скромные, часто даже застенчивые, совершенно лишенные тех специфических черт декоративного молодечества, какие обычно соединялись с представлением о военной среде.
Таков капитан Хлопов в «Набеге», в отличие от романтически-эффектного, всегда позирующего поручика Розенкранца, таковы капитан Тросенко и солдат Веленчук в «Рубке леса». Совершенно новым для литературы было изображение солдат в этом рассказе. Определяя характер храбрости русского солдата, Толстой говорит: «Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме; его так же трудно разжечь, как и
- 34 -
заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера». Рассказ севастопольского периода «Как умирают русские солдаты» («Тревога»), при жизни Толстого не напечатанный, заканчивается такими словами: «Велики судьбы славянского народа. Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..»
Отношение самого Толстого к войне было противоречивым. Будучи патриотом, он знал о высоких проявлениях патриотического чувства русского народа и имел возможность наглядно убедиться в этих чувствах. В то же время, человек мужественный по природе, еще с детства стремившийся к тому, чтобы испытать себя в трудных и рискованных жизненных положениях, Толстой, естественно, чувствовал потребность проверить себя и силу своей душевной стойкости в опасном деле войны. Он осуждал жестокости, с которыми всегда связаны войны, но войны справедливые неизменно вызывали у него патриотический подъем. Однако отношение Толстого к войне приходило в столкновение с его морально-философскими взглядами, которые заставляли его становиться на путь пацифистского христианского отрицания войн вообще, на путь поисков отвлеченной моральной правды, ставившей его в тупик, когда он пытался разобраться в том, как отличить в войне добро от зла, героизм от злодейства.
И «Набег» и «Рубка леса» — по существу привившиеся «натуральной школой» образцы очерковой литературы, лишенные сюжетной структуры. В первом из этих рассказов, где существенное место занимает вопрос о том, что такое храбрость и каковы ее отличительные черты, под строкой дается значительное количество пояснений местных кавказских слов и выражений, что в особенности характеризует очерковую природу рассказа; во втором — перечисляются главные типы солдат с подразделением их на своего рода «подтипы», а затем
- 35 -
дается обстоятельная характеристика подразделений, присущих каждому типу. Наряду с солдатскими типами в «Рубке леса» выведены и типы офицерские, но главное внимание отводится в рассказе солдатам. В обоих рассказах повествование ведется от лица рассказчика.
Севастопольские рассказы — следующий этап в изображении Толстым войны. Здесь он первый, в сущности, правдиво показал войну, говоря его собственными словами, «не в правильном, красивом, блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а «в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти», и все это в ореоле героизма и величественного воинского подвига русского народа (рассказ «Севастополь в декабре месяце»).
Главное, что увидел Толстой в осажденном Севастополе, — это душевное величие скромного русского солдата, спокойно, уверенно и без похвальбы защищающего свою родину. В рассказе «Севастополь в декабре месяце», говоря о «стыдливом чувстве любви к родине», лежащем в глубине души каждого русского человека, он писал: «Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».
«Севастополь в декабре месяце», как и «Набег» и «Рубка леса», отличается всеми особенностями, присущими очерку. В нем к тому же совершенно отсутствует упоминание каких-либо имен, фамилий. Тут изображена преимущественно собирательная солдатская масса. Написанный вслед за «Набегом» и «Рубкой леса», от лица рассказчика, этот рассказ с такой бесстрашной правдивостью повествует о скорбных и вместе с тем величественных буднях войны, какой не знала предшествовавшая и русская и зарубежная литература. Тут сначала показан осажденный город со своей внешне как будто ничем не потревоженной уличной жизнью, протекающей так, как она должна протекать там, где живут люди с их каждодневными насущными житейскими
- 36 -
заботами. Затем рассказчик приводит нас в здание Севастопольского собрания, обращенного теперь в госпиталь, в котором в муках лежат тяжело раненные солдаты — защитники Севастополя, стойко и терпеливо переживающие свои страдания, заставляющие нас склоняться «перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством».
И, наконец, читателю во всех самых удручающих подробностях показывается самое опасное и самое мрачное, грязное, вонючее место севастопольской обороны — 4-й бастион, на котором смерть витает над головой каждого, кто там находится. Но естественный страх за свою жизнь тут соединяется с ощущением особенной прелести в опасности, «в этой игре жизнью и смертью». Спокойно, твердо и неторопливо совершают отважные воины свой мужественный подвиг, руководимые сознанием своего достоинства и высокой мыслью и чувством, рожденным не тщеславными инстинктами, не жаждой заработать воинскую награду, а редко проявляющимся, но лежащим в глубине души, стыдливым чувством у русского человека любви к родине. Простота в соединении с духовным величием — основной пафос первого севастопольского рассказа Толстого, с талантом и смелостью новатора в небольшом по размеру очерке вскрывшего такие стороны войны, какие недоступны были восприятию тех, кто до него касался военной темы.
Первый севастопольский рассказ Толстого рожден чувством высокого патриотизма, пробужденного в душе автора преклонением перед доблестью и мужеством рядовых защитников Севастополя. Тема второго рассказа этого цикла — «Севастополь в мае», описывающего события севастопольской осады спустя шесть месяцев после ее начала, — уже не героизм и беззаветный подвиг русского солдата, а мелкая изнанка, которая сопутствует тому великому и благородному, что происходит на поле битвы.
Как написанные впоследствии «Два гусара», главы неоконченной повести «Декабристы», «Воскресение», «Севастополь в мае» открывается своего рода интродукцией, осмысляющей все содержание рассказа и отношение автора к его теме. Интродукция эта содержит
- 37 -
безрадостные размышления о войне, о противоречии ее здравому человеческому смыслу, о ее безумии и жестокости. Контрастирующие друг с другом картины, описанные в рассказе, особенно подчеркивают безумие того, что совершается во время войны. С одной стороны, в осажденном городе на бульваре под звуки полковой музыки гуляют в праздничном настроении толпы военного народа и молодые женщины, а поблизости на бастионах и в ложементах идет жаркий бой, уносящий человеческие жизни или уродующий людей. На цветущей долине, освещенной солнцем, лежат сотни изуродованных трупов или в нестерпимых страданиях стонущих людей, воздух наполнен тяжелым запахом разлагающихся тел, и тут-то на время устанавливается перемирие; только что переставшие быть врагами мирно и дружелюбно беседуют друг с другом, с тем чтобы вскоре, после того как сняты белые флаги, вновь засвистели орудия смерти и страданий, снова полилась человеческая кровь и послышались стоны и проклятия.
Второй севастопольский рассказ Толстого — «Севастополь в мае», в котором изображена преимущественно офицерская среда, главным образом аристократическая, в противоположность первому рассказу — «Севастополь в декабре месяце», где показан героизм простого народа, одетого в солдатские шинели, — написан в основном в резко разоблачительном духе. Рассказ этот, впервые напечатанный в «Современнике», в сильнейшей степени, как ранее и «Набег», был «обезврежен» цензурой, почему редакция напечатала его даже без обычных авторских инициалов. В рассказе выведена группа офицеров, у которых нет и в помине тех положительных качеств, какими восхищался Толстой, когда говорил о солдатской массе. Таковы недалекий, внешне неказистый пехотный офицер Михайлов, юнкер барон Пест, офицеры-аристократы Калугин, князь Гальцин, Праскухин, перед которыми Михайлов заискивает. Разоблачительная направленность рассказа объясняется тем, что, присмотревшись к вопиющим противоречиям между мужеством и патриотизмом солдат, с одной стороны, и низким уровнем оснащения царской армии, ее продажным командованием, с другой, Толстой глубоко разочаровался в офицерстве. В связи с этим он написал в Севастополе очень гневную «Записку о переформировании армии», где он
- 38 -
говорил об ужасающих условиях, в которые поставлена жизнь «угнетенных рабов» — солдат, принужденных повиноваться «ворам, угнетающим наемникам и грабителям», — о низком моральном и воинском уровне офицерской среды.
В рассказе «Севастополь в мае» сила и мастерство психологического анализа, «диалектика души», употребляя выражение Чернышевского, смелость в изображении тончайших, часто противоречивых состояний душевной жизни сказались особенно ярко по сравнению с написанным Толстым ранее. Стремление к самой суровой и трезвой правде — отличительная особенность этого рассказа, заканчивающегося словами: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши, и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».
В связи с этим определением Толстым самой сути своего рассказа большой интерес представляет оценка его, данная Некрасовым в письме к молодому писателю: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда — правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в вашем даровании. Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое»1.
Толстой, однако, понимал, что многие люди, погрязшие в тине житейских мелочей и дрязг, когда от них это потребуется, могут оказаться настоящими героями. Так, изображая в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» безобразную ссору офицеров во время карточной игры, он пишет: «Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно... На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть
- 39 -
ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела».
В этом рассказе описываются последние дни одиннадцатимесячной осады города и его сдача, последовавшая за штурмом Малахова кургана 27 августа. Защитники Севастополя, особенно солдаты, продолжают мужественно исполнять свой долг, но во всем, что делается в полуразрушенном городе, в том, как ведут себя рядовые участники обороны, чувствуется ослабление духа армии, утрата того нравственного благородства и неподкупности, которые были в самом начале осады. Среди персонажей рассказа выделяются офицеры братья Козельцовы: старший, Михаил, уже прошедший суровую и строгую школу войны, и младший, Володя, юноша лет семнадцати, только что выпущенный из военной школы и сразу же — по собственному желанию — попадающий в тяжелейшие условия защиты обреченного на катастрофу города. У обоих братьев в «роковую минуту» разгорается та «благородная искра», о которой Толстой говорит по поводу ссоры офицеров во время карточной игры. В этой ссоре, между прочим, принимает участие старший Козельцов. Толстой характеризует его как человека одаренного, наделенного, однако, чисто житейскими, заурядными талантами, крайне самолюбивого, любившего всюду первенствовать. И вот, когда ему велит воинский долг, он смело идет навстречу смерти, увлекая за собой солдат. Смертельно раненный, зная, что он умирает, Козельцов-старший, целуя крест, поданный ему священником, читающим над ним отходную молитву, спрашивает у него: «Что, выбиты французы везде?» И когда священник, чтобы не огорчить умирающего, отвечает ему, что победа везде осталась за нами, в то время как на самом деле на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя, Козельцов радостно восклицает: «Слава богу, слава богу», — и по его лицу текут слезы, и он испытывает невыразимый восторг от сознания того, что вел себя как герой, и такого же счастья желает своему младшему брату.
Под стать старшему брату и Володя Козельцов, преодолевающий страх и трусость, охватившие его при первом соприкосновении с ужасами войны, мужественно вступающий в сражение, когда до него доходит очередь, и гибнущий в первой же схватке с врагом. Его впечатлительному
- 40 -
внутреннему миру, его внутренним монологам, в которых раскрывается смена настроений и волнующих мыслей о своей судьбе, в рассказе уделяется наибольшее внимание сравнительно с другими персонажами рассказа, не исключая и его старшего брата.
Во всех трех севастопольских рассказах, особенно во втором, Толстой не ограничивается объективным описанием того, что сопутствовало севастопольской осаде, но дает и свою субъективную авторскую оценку смысла происходящего, выступая при этом убежденным противником войны, влекущей за собой неисчислимые бедствия для человечества, противоречащей естественным законам человеческого бытия и человеческой морали и тем законам, по которым живет окружающая людей прекрасная и мудрая природа.
Севастопольские рассказы — очень крупный шаг вперед не только в отношении овладения Толстым батальной тематикой, но и в умении мастерски раскрыть «диалектику души». И в том и в другом плане Толстой двигался по пути к созданию «Войны и мира».
Приехав после падения Севастополя, во второй половине ноября 1855 года, в Петербург, Толстой впервые попал в литературную среду, познакомился с крупнейшими русскими писателями — Некрасовым, Тургеневым, Чернышевским, Гончаровым, Островским, Писемским, Фетом — и встретил с их стороны как писатель и человек очень внимательное и часто даже восторженное отношение к себе, несмотря на разность, а подчас противоположность идейных устремлений и литературных позиций этих писателей.
Толстой вступает в тесное общение с журналом «Современник», где в ту пору уже обнаружились явное расслоение и борьба между либеральным лагерем, возглавлявшимся Дружининым, и лагерем революционно-демократическим, во главе которого стал Чернышевский, наиболее ярко отразивший все усиливавшееся нарастание крестьянского протеста против крепостнической системы и непримиримость к компромиссной тактике полумер со стороны дворянских либералов. Толстой, не примыкая по существу ни к либерально-«западническим», ни к славянофильским воззрениям, но, будучи проникнут сословно-дворянскими интересами, отрицательно относился к революционно-демократическим
- 41 -
тенденциям, все более настойчиво проводившимся в журнале Чернышевским, которого поддерживал фактический редактор «Современника» Некрасов. Неприязненное отношение к позициям Чернышевского вскоре привело Толстого, впрочем ненадолго, к сближению с Дружининым и его единомышленниками в общественных и эстетических вопросах — Анненковым и Боткиным, «бесценным триумвиратом», как именовал Толстой эту группу сторонников «чистого искусства», отрешенного от злободневных общественных проблем.
В апреле—июне 1856 года Толстой был серьезно занят вопросом освобождения от крепостной зависимости яснополянских крестьян. К твердому решению заняться этим вопросом он пришел еще в Севастополе, где общение с крестьянской массой в солдатских шинелях было для него наиболее впечатляющим.
Духовный рост Толстого был очень сложным и противоречивым. Принадлежавший по рождению и воспитанию к помещичьей знати, он, хотя и с колебаниями на первых порах, приходил, однако, постепенно к сознанию социальной несостоятельности своего класса и тех общественных и политических основ, на которых зиждилось существование дворянства. Для Толстого очевидно было превосходство простого народа над привилегированными классами. Еще в 1853 году он записывает в дневник: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное... Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго»1. А в старости, приветствуя Григоровича в связи с пятидесятилетием его литературной деятельности, Толстой пишет о том восторге, какой вызвала у него, шестнадцатилетнего мальчика, повесть «Антон Горемыка», ставшая для него «радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца — и хочется сказать: нашего учителя — можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом»2.
- 42 -
Усилившиеся после севастопольского поражения крестьянские волнения, принимавшие в некоторых местах очень серьезные формы, пугали и помещиков и правительственные круги, опасавшиеся возникновения новой «пугачевщины». Толстой внимательно прислушивался к различным проектам крестьянской реформы, принимал живое участие в обсуждениях способов проведения этой реформы, которые велись в западнических и славянофильских кругах. Занимая в этом вопросе компромиссную позицию, при которой гарантировались интересы поместного землевладения, сам Толстой написал несколько проектов освобождения крестьян, созывал в Ясной Поляне крестьянские сходы, но все его попытки договориться с крестьянами ни к чему не привели, так как они считали, что предложения Толстого клонились к защите интересов помещика в ущерб крестьянским интересам. Крестьяне, надеявшиеся, что земля перейдет вскоре в их пользование бесплатно, не соглашались на условия выкупа, предложенные им Толстым, и подозревали его в том, что он свяжет их выкупными обязательствами даже тогда, когда они получат вместе с освобождением безвозмездно и всю землю.
Недоверие крестьян очень взволновало и огорчило Толстого, тем более что он считал необходимым срочное освобождение их, хотя бы без земли, для предотвращения неизбежных, по его мнению, крестьянских восстаний против помещиков.
За год с небольшим, прошедший со времени отъезда из Крыма, Толстой закончил рассказ «Севастополь в августе 1855 года» и повесть «Юность», написал рассказы «Метель», «Разжалованный» («Из кавказских воспоминаний»), повести «Два гусара» и «Утро помещика» (последняя, как сказано, представляет собой лишь часть начатого еще на Кавказе «Романа русского помещика»). Кроме того, он продолжал работу над «Казаками».
В «Двух гусарах» Толстой изобразил представителей двух поколений русской военной аристократии: отца — графа Федора Ивановича Турбина с его бурным, неуемным темпераментом, чуждым всякого мелочного расчета и практицизма (прототипом для него послужил двоюродный дядя Л. Н. Толстого, известный бретер и авантюрист граф Федор Иванович Толстой, прозванный
- 43 -
«Американцем»), и его сына, которому недостает не только отцовской удали и размаха, но даже и простой порядочности. Действие повести, связанное с отцом, относится к двадцатым годам XIX века, связанное же с сыном — к 1848 году. Эпизоды из жизни двух гусар развертываются на фоне бытовой обстановки губернского дворянства, в центре которого находится помещичье семейство, состоящее из легкомысленной и простодушной хорошенькой вдовы, увлекшей Турбина-старшего и через двадцать лет после начала рассказа превращающейся в скупую и прозаическую женщину, ее брата — кутилы кавалериста, к старости окончательно промотавшегося, живущего нахлебником в деревне сестры, и ее дочери, деревенской красавицы, привлекательной не только внешним обликом, но и всем своим душевным складом. С большой лирической теплотой нарисовал Толстой пробуждение в душе девушки чувства первой влюбленности, глубоко оскорбленное пошлым и циничным поведением графа Турбина-сына, намерения которого не шли дальше легкой интрижки с попавшейся ему на пути неопытной девушкой.
Толстой с явным добродушием и даже со снисходительной симпатией отзывается о наивных и патриархальных нравах и обычаях в пору разгульной и по-своему колоритной жизни Турбина-старшего. За двадцать лет, то есть за промежуток времени между появлением на сцену обоих гусар, по словам Толстого, «много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло, и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий». Таким образом, по прямому смыслу этих последних слов Толстого выходит, что нравы старого поколения Турбина-отца были благороднее, чище нравов пустого, легкомысленного поколения, к которому принадлежал Турбин-сын.
В конце ноября 1856 года Толстой, совсем уже охладевший к военной службе, вышел в отставку. Через два месяца после этого он совершил первое свое заграничное путешествие, продолжавшееся полгода. Он посетил Францию, Швейцарию, северную Италию, Германию. В Париже он часто бывал в театрах, музеях, слушал отдельные лекции в Сорбонне и в Collège de France. Зрелище гильотинирования на одной из площадей Парижа
- 44 -
произвело на Толстого настолько потрясающее впечатление, что он покинул Францию и отправился в Швейцарию. За границей Толстой продолжал работу над начатыми ранее художественными произведениями, в том числе над «Казаками». Здесь же он написал повесть «Из записок князя Л. Нехлюдова. Люцерн», явившуюся непосредственным откликом на бессердечие английских буржуа, свидетелем которого он был в швейцарском городке Люцерне и которое лишний раз убедило его в порочности основ европейской буржуазной цивилизации.
В этом рассказе Толстой негодующе ополчился против современной ему европейской буржуазной действительности, не знающей ни жалости, ни участия к человеку, равнодушной к искусству и его служителям, покровительствующей лишь сытым, душевно черствым богачам. Свой гневный протест против общественных устоев привилегированных классов Толстой выражает как бы в протокольной записи, резюмирующей содержание повести: «Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним». И затем этот факт комментируется следующими словами: «Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях». По адресу Швейцарии, слывшей оплотом демократии, Толстой возмущенно восклицает: «Паршивая ваша республика!.. Вот оно, равенство».
Но, обличая в этой повести отрицательные стороны западноевропейской буржуазной цивилизации, Толстой склонен отрицать целиком и общественно-экономический и технический прогресс. Человеку, по мысли Толстого, остается взять себе в руководители «Всемирный Дух», который представляется ему единственно непогрешимым. Толстой не может решить, в чем настоящее добро и в чем настоящее зло, да он и не знает подлинных средств борьбы со злом, и потому повесть неожиданно для читателя
- 45 -
заканчивается призывом к всепрощению, к отказу осудить зло, обличению которого посвящено это произведение.
Имея в виду, между прочим, «Люцерн», Ленин писал о Толстом: «Он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии...» Говоря специально о «Люцерне», Ленин писал далее: «...Л. Толстой объявляет, что признание «цивилизации» благом есть «воображаемое знание», которое «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре». «Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, — восклицает Толстой, — Всемирный Дух, проникающий нас»1.
Вернувшись в конце июля 1857 года в Россию, Толстой жил то в Ясной Поляне, то в Москве. Литературная работа его шла не так энергично, как раньше. За два с лишним года он создал лишь рассказ «Три смерти» и повесть «Семейное счастие», которой, однако, остался неудовлетворен. Помимо этого, он закончил начатый еще за границей рассказ «Альберт» и продолжал работу над «Казаками».
В рассказе «Три смерти» показано, как умирают барыня, мужик и дерево. В смерти барыни, вся жизнь которой далека была от жизни по законам природы, есть что-то отталкивающее и жалкое; мужик, который жил и трудился как раз по законам природы, умирает спокойно и деловито; но прекрасна лишь смерть дерева, потому что она ощущается даже не как смерть, а как возрождение к новой радостной жизни никогда не умирающей природы. Прекрасно и мудро все то, что связано с природой и что живет по ее законам; ложно, немощно и внутренне бесплодно и бесталанно все, что живет нарушая эти законы, — вот мысль, проводившаяся во всем том, что писал до тех пор Толстой, что он напишет позже и о чем идет речь в «Трех смертях».
Сам Толстой в письме к А. А. Толстой так определил смысл своего рассказа: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для
- 46 -
нее вопроса жизни и смерти... Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет»1. Таким образом, и в этом рассказе Толстой, проходя мимо острых социальных проблем, ставших особенно актуальными накануне 60-х годов, сосредоточивает свое внимание на проблемах отвлеченного, религиозно-нравственного характера.
Толстой очень остро ощущал оторванность привилегированного меньшинства от той жизни, которой живет большинство трудового человечества; на стороне последнего еще в молодые годы были все его симпатии. В его представлении основная масса трудового народа была связана с землей, следовательно жила жизнью близкой к жизни природы. Позднее, начиная с 80-х годов, Толстой обратит внимание на невыносимые условия жизни городского рабочего люда. Вот почему, не удовлетворенный всем направлением современной ему цивилизации, по его взгляду, бездушной и механической, вытравляющей в человеке лучшие его природные инстинкты, расслабляющей его волю и притупляющей чувства, Толстой видит все спасение человека в обращении к природе и в сближении с теми, кто живет в непосредственном соприкосновении с нею.
Написанная Толстым в 1858—1859 годах повесть «Семейное счастие» в значительной мере отразила, по признанию самого Толстого, его личные отношения с В. В. Арсеньевой, на которой одно время он собирался жениться. События в повести передаются от лица женщины. Юной девушкой она влюбляется в соседнего помещика — своего опекуна, который старше ее почти на двадцать лет, и выходит за него замуж.
Молодая женщина, всецело находящаяся во власти своего чувства к мужу, духовно подчиняющаяся беспрекословно
- 47 -
его руководству, живущая его мыслями и смотрящая на все его глазами, вскоре после свадьбы начинает испытывать неудовлетворенность своей однообразной жизнью в усадьбе мужа, занятого повседневными хозяйственными заботами и не склонного разделять романтическую мечтательность своей молодой жены. Она томится в повседневности помещичьего деревенского быта, у нее возникает потребность не испытанных еще впечатлений, каких она не может получить в спокойно-размеренной жизни, которой удовлетворяется ее муж, живущий своим особым миром, в который не считает нужным вовлекать свою жену. Между супругами возникает внутреннее отчуждение. Чтобы развлечь жену, муж увозит ее в Петербург, где она увлекается светской жизнью, от которой ее не отвлекает даже рождение ребенка и которая глубоко чужда мужу. Отчуждение и размолвка между супругами становятся все сильнее, а во время пребывания их за границей жена поддается мимолетному увлечению обольстителем иностранцем, едва не став жертвой его настойчивых любовных притязаний. Глубокое раскаяние в том, что она хотя бы в помыслах изменила мужу, приводит ее к сознанию необходимости порвать с тем образом жизни, который вскружил ей на время голову, и вернуться духовно к мужу, чтобы продолжать жизнь с ним в любви-дружбе, которая пришла теперь на смену романтической любви-страсти. Между мужем и женой происходит откровенный разговор, своего рода взаимная исповедь, в результате которой принимается решение жить по-новому. «С этого дня кончился мой роман с мужем, — говорит жена, — старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту».
Толстой большею частью не был удовлетворен написанными им художественными произведениями, но ни к одной из своих вещей он не относился с таким осуждением и с такой суровой оценкой, как к «Семейному счастию», называя свою повесть «постыдной мерзостью». Он раскаивался в том, что напечатал ее, хотел отказаться от печатания второй части и считал, что он «теперь похоронен и как писатель и как человек».
Трудно безошибочно объяснить, чем вызвано было
- 48 -
такое отношение Толстого к своей повести. В художественном отношении она во многом незаурядна; в ней психологически многое угадано; она проникнута тонким лиризмом. Правда, не вполне раскрыт внутренний мир героини повести в переломный момент ее супружеской жизни, когда кончился «роман с мужем»; повесть стилистически перекликается с романами и повестями Тургенева, в частности в изображении картин природы, слишком уж насыщающих повесть и не всегда оправданных контекстом, с которым они соотнесены; но не эти причины, нужно думать, определили отрицательное отношение Толстого к «Семейному счастию». Скорее всего причину тут нужно искать в чисто субъективных настроениях писателя, остро ощутившего несоответствие между прототипом повести В. В. Арсеньевой и ее художественным воплощением в повести. Судя по дневниковым записям Толстого, Арсеньева была внутренне несравненно беднее, чем героиня повести; она была умственно недалекой и духовно мало привлекательной, в чем в конце концов убедился сам Толстой, окончательно охладев к ней и отказавшись от мысли жениться на ней. Внешне и отчасти внутренне повесть была слишком автобиографична, хотя Толстой, быть может для затушевывания ее автобиографичности, очень увеличил разницу лет между супружеской парой «Семейного счастия» (разница в возрасте между Толстым и Арсеньевой составляла лишь восемь лет). Разрыв с Арсеньевой сопровождался у Толстого несомненно недоброжелательным чувством к ней, ощущением досады обманувшегося в своем чувстве человека, и перенесение личных отношений с ней в план художественного претворения не могло в конце концов не восприниматься Толстым как известного рода фальшь, как ничем не оправданная идеализация того, что такой идеализации не заслуживало, как сильное приукрашивание внутреннего облика героини повести в сравнении с ее прототипом.
Имея в виду «Семейное счастие», Толстой писал Фету в начале октября 1859 г.: «А повести писать все-таки не стану. Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать, «как она его полюбила». Глупо, стыдно. Без шуток»1. Через несколько дней
- 49 -
Толстой писал Дружинину: «Я не пишу и не писал со времени Семейного счастья и, кажется, не буду писать. Льщу себя по крайней мере этой надеждой. Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главное же — жизнь коротка и тратить ее в зрелых летах на писанье таких повестей, какие я писал, — совестно. Можно, и должно, и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу, — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год ей-богу руки не поднимаются. Даже смешно, как подумаешь, что — не сочинить ли мне повесть?»1
Можно думать, что в заглавие повести — «Семейное счастие» — Толстой вкладывал иронический смысл, судя по раздраженной реплике мужа, сказанной им во время размолвки с женой: «Какого же еще семейного счастия?» Слова «семейное счастие» нигде в повести больше не встречаются.
Критическое отношение Толстого к идейным и эстетическим позициям Чернышевского, временно, впрочем, сменявшееся признанием его положительных качеств как человека и мыслителя, и сближение Толстого с защитниками «чистого искусства» — Дружининым, Боткиным, Анненковым, отрицательно отразились на его творческой деятельности. Этим сближением следует объяснить создание таких далеких от живых интересов современности произведений, как «Альберт», «Семейное счастие», отчасти «Юность». Недаром все эти произведения не пользовались популярностью у читателя и прошли почти незамеченными в критике. В конце концов с 1859 года Толстой порвал связь с «Современником» и стал печататься главным образом в журнале Каткова «Русский вестник». Журнал в пору вступления в него Толстого стоял еще на либеральных позициях, но вскоре превратился в оплот крайней реакции. Чернышевский, с самого начала, как мы знаем, очень высоко оценивший художественный талант Толстого, в свою очередь не мог разделять его взглядов, и в 1862 году на страницах «Современника» резко полемизировал с ним по поводу его педагогических статей, напечатанных в журнале «Ясная Поляна».
- 50 -
К концу 1859 года Толстой с увлечением отдался школьным занятиям с крестьянскими детьми и помышлял даже о том, чтобы совсем отказаться от литературной деятельности. В середине 1860 года он вторично поехал за границу, главным образом с целью навестить лечившегося там от чахотки брата Николая Николаевича. На этот раз путешествие его продолжалось более девяти месяцев. Он побывал опять в Германии, во Франции и Италии и, кроме того, посетил Лондон и Брюссель. Больше всего за границей теперь его интересовали вопросы педагогики. Он усиленно посещал школы, особенно в Германии, причем тогдашняя немецкая школа произвела на него тягостное впечатление. «Ужасно, — записывает он в дневник после посещения одной школы в Киссингене. — Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети»1. Впрочем, Толстого не удовлетворяла постановка школьного дела не только в Германии, но в Западной Европе вообще. В статье «О народном образовании» он говорит: «Я мог бы написать целые книги о том невежестве, которое видел я в школах Франции, Швейцарии и Германии». В Берлинском университете Толстой слушал лекции известных профессоров — историка Дройзена, физика и физиолога Дюбуа-Реймона. На обратном пути, проезжая через Берлин, Толстой посетил немецкого писателя Ауэрбаха, автора «Деревенских рассказов», и ученого-педагога Дистервега. В Лондоне он познакомился с Герценом, которого всегда высоко ценил как писателя и мыслителя, посетил парламент и слушал лекцию Диккенса о воспитании; в Брюсселе встречался с Прудоном и вел с ним длительные беседы, с польским революционером Лелевелем, во Флоренции познакомился с декабристом С. Г. Волконским. Брата своего он застал уже в безнадежном состоянии, и смерть его произвела на Толстого в высшей степени тяжелое впечатление.
По возвращении из-за границы, желая прийти на помощь крестьянам, только что освобожденным от крепостной зависимости, Толстой принял должность мирового посредника, но через год должен был оставить ее ввиду крайне враждебного отношения к нему дворян, негодовавших на него за то, что он в своей общественной
- 51 -
деятельности руководствовался интересами крестьянства.
В то же время Толстой в целях служения народу со страстью предается педагогической деятельности. Не ограничиваясь работой в яснополянской школе, открытой им для крестьянских детей еще в 1859 году, он организовывает ряд школ в своем посредническом участке и с 1862 года в течение года с лишним издает педагогический журнал «Ясная Поляна», в котором помещает ряд своих статей. В качестве приложения к журналу издавались книжки для детского и народного чтения, в составлении которых принимал участие и сам Толстой.
Реформа 1861 года обострила внимание Толстого к крестьянскому вопросу. Он понял теперь, что такая реформа не способна облегчить крестьянские тяготы. В письмах к Герцену, написанных в марте и апреле 1861 года, он называет манифест 19 февраля «совершенно напрасной болтовней», говорит, что ни одному слову в нем нельзя верить, что манифестом «мужики положительно недовольны», что в нем нет ничего, кроме обещаний1.
Своей педагогической работой Толстой искренне хотел помочь народу в деле его просвещения, так же как деятельностью мирового посредника стремился защитить интересы народа от посягательств на них со стороны помещиков. Он был твердо убежден в том, что его педагогические теории идут навстречу народным нуждам. И действительно, источником их были любовь к народу, признание его высоких моральных качеств, вера в его интеллектуальные и творческие силы. Но вместе с тем эти теории страдали абстрактностью, непоследовательностью, противоречивостью и во многом шли вразрез с передовыми идеями эпохи. В программной статье «О народном образовании», напечатанной в № 1 «Ясной Поляны», Толстой выступил с резкой критикой затхлой, бездушной казенной педагогики, насаждавшейся в западноевропейских и русских школах, против оторванности школы от живых потребностей народа, и в этом была положительная сторона статьи. Но тут же Толстой безосновательно утверждал, что народ противится образованию, к которому принуждает его общество или правительство, что народу
- 52 -
нужно только такое образование, которое связано с его практическими интересами, которое не выходит за пределы его быта и не противоречит его мировоззрению. Защищая всецело свободу учащихся в выборе образования, требуя, чтобы им предоставлена была возможность учиться чему они хотят и как хотят или вовсе не учиться, Толстой в то же время допускает исключение лишь для религиозного образования, «в истине и законности которого, — по его словам, — никто не может сомневаться» и в отношении которого единственно допустимо насилие.
По взгляду Толстого, «мы не только не знаем, но и не можем знать того, в чем должно состоять образование народа». Толстой вообще был убежден в том, что педагогики как науки об образовании и воспитании не существует.
В статье «О методах обучения грамоте» Толстой отрицает пользу для народа грамоты самой по себе, а воскресные школы грамоты, заводившиеся демократической интеллигенцией, считает бесполезными и даже вредными; говоря об учителе с университетским образованием, он утверждает, что «пономарь, без всякого сравнения, учит лучше его».
По выходе в свет первого номера журнала «Ясная Поляна» Толстой обратился к Чернышевскому с просьбой высказаться в «Современнике» о журнале. Сочувственно отозвавшись в рецензии на две первые книжки «Ясной Поляны» о практической постановке обучения в яснополянской школе, об отсутствии в ней всякого принуждения по отношению к детям со стороны учителя, Чернышевский в то же время едко осудил самые педагогические принципы Толстого и его высказывания по вопросам народного образования. Для Чернышевского очевидно было, что народ не есть нечто единое, что и у народа существуют консервативные и прогрессивные тенденции, и противодействие образованию свойственно как раз консервативной, отсталой части народа, которая, в глазах Толстого, и воплощала в себе все русское крестьянство. Недоумение вызывало у Чернышевского и утверждение Толстого о том, что неизвестно, чему и как учить народ и вообще нужно ли учить его, а также его мнение о законности принудительного религиозного образования народа. Отрицательно отнесся Чернышевский
- 53 -
и к тому, что Толстым компрометировались учителя воскресных школ — «честные люди, любящие народ, делающие для него все что могут». Все статьи Толстого в этих двух номерах «Ясной Поляны» появились без подписи автора, и потому Чернышевский все время в своей полемике адресуется к редакции «Ясной Поляны», отлично понимая, конечно, что полемизирует он с Толстым, которого так высоко вознес как художника.
Ответом, полным раздражения, на рецензию Чернышевского была статья Толстого «Воспитание и образование», появившаяся с авторской подписью в июльском номере «Ясной Поляны» за 1862 год, когда Чернышевский был уже арестован. Эта статья в значительной мере развивала положения, высказанные уже в статье «О народном образовании», но, будучи подогрета рецензией Чернышевского, которую Толстой расценивал как «недоброжелательное пустословие», она была полемически заострена против идей революционных просветителей. Толстой настаивает на том, что мы не вправе воспитывать народ, а должны лишь стремиться к его образованию в соответствии с его потребностями. «Воспитание есть образование насильственное, — утверждает он. — Образование свободно... Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму». И через несколько страниц, явно противореча основному своему тезису о недопустимости воспитания народа вообще, но вместе с тем столь же явно выступая против передовой русской мысли, Толстой пишет: «Семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные плоды, — каковы университеты и университетское образование». В крайнем полемическом задоре Толстой обрушивается на студенческие кружки, задачей которых является «чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и т. п.», а также чтение имеющих шумный успех в Европе сочинений Льюиса, Бокля и т. п., чтение и переписывание запрещенных в России сочинений Фейербаха, Молешотта, Бюхнера и в особенности Герцена и Огарева и нецензурных стихотворений Пушкина и Рылеева.
- 54 -
В статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Толстой, давая положительный ответ на второй из поставленных им вопросов, пишет: «Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы».
Последняя статья Толстого, напечатанная им в «Ясной Поляне», — «Прогресс и определение образования» — явилась ответом на статью педагога Е. Л. Маркова «Теория и практика Яснополянской школы». По своему содержанию она, больше чем другие педагогические произведения Толстого, выходит за пределы собственно педагогики. Субъективно защищая интересы крестьянской массы, втягивавшейся со времени реформы в капиталистические отношения, Толстой, отрицая существование прогресса в истории, считает, что то, что называется прогрессом, выгодно для эсплуататорских классов и невыгодно для трудовой народной массы, за счет которой прогресс — в формах буржуазной цивилизации — осуществляется. С большой остротой Толстой разоблачает использование достижений цивилизации господствующими классами. Он убежден в том, что и телеграф, и книгопечатание, и художественная литература, и журналистика, и железные дороги, и пароходы существуют только в интересах эксплуататоров. Он не принимает во внимание, что всем этим пользуются и передовые слои общества, борющиеся за интересы народа. Имея в виду лишь жизненный уклад примитивной, отсталой массы крестьянства, который Толстой считает чем-то постоянным, навсегда определившимся, он утверждает, что яснополянский и какой бы то ни было русский мужик «никогда не послал и не получил и долго не пошлет и не получит ни одной депеши», что тульский мужик не нуждается в быстрых переездах из Тулы в Москву, на Рейн, в Париж и обратно, что сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева не нужны народу и не приносят ему никакой выгоды. Утверждение историков, что прогресс является общим законом для человечества, Толстой пытается опровергнуть ссылкой на восточные народы, якобы не знающие прогресса. В связи с этим утверждением Толстого Ленин, приводя цитаты из статьи «Прогресс и определение образования», пишет: «Вот именно идеологией восточного строя, азиатского
- 55 -
строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании»1.
Совершенно очевидно, что в своих педагогических статьях, в особенности в статье «Прогресс и определение образования», Толстой выступает апологетом патриархального крестьянства.
В свою школу Толстой привлек в качестве учителей студентов, вызывавших у властей подозрение в неблагонадежности. Подозрительной казалась властям общественная и педагогическая деятельность и самого Толстого, и по предписанию из Петербурга в Ясной Поляне в июле 1862 года, когда он, лечась кумысом, жил в самарских степях, был произведен тщательный двухдневный обыск, не давший, однако, никаких существенных результатов. В связи с этим обыском Толстой написал письмо Александру II, в котором просил о том, «чтобы были ежели не наказаны, то обличены виновные». Обыск настолько возмутил его, что он готов был, в случае если ему не дадут удовлетворения, покинуть Россию и уехать за границу. Александр II распорядился замять дело.
Из событий личной жизни Толстого за это время, взволновавших его, должна быть также упомянута его ссора с Тургеневым, происшедшая в мае 1861 года, когда Толстой и Тургенев гостили в имении Фета. Ссора сопровождалась взаимными оскорблениями, зачинщиком которых был Тургенев, и обоюдными вызовами на дуэль, впрочем не состоявшуюся. Ссора эта тяготила Толстого, и он вскоре после нее сделал попытку к примирению, но так как к этой попытке Тургенев отнесся сдержанно, Толстой в письме к Фету очень резко отозвался о Тургеневе, решив прекратить с ним всякие отношения. Примирение между обоими писателями состоялось лишь через семнадцать лет. В апреле 1878 года Толстой написал жившему в то время в Париже Тургеневу письмо, в котором предлагал ему полное примирение и дружбу. В ответ на это письмо Тургенев «с величайшей охотой» соглашался возобновить «прежнюю дружбу»2 и через несколько месяцев после этого, вернувшись в Россию, гостил у Толстых в Ясной Поляне. С тех пор дружеские
- 56 -
отношения между Толстым и Тургеневым не прерывались. Тургенев несколько раз потом бывал в Ясной Поляне. Толстой однажды ездил в гости к Тургеневу в его имение Спасское-Лутовиново. Узнав в мае 1882 года о болезни Тургенева, Толстой в письме к нему выразил чувства приязни и беспокойства по поводу его недуга, собирался было ехать в Париж, чтобы навестить его, и закончил это письмо словами: «Обнимаю вас, старый, милый и очень дорогой мне человек и друг»1. Лежа уже на смертном одре, Тургенев в конце июня 1883 года написал свое последнее к Толстому письмо, в котором, выражая радость по поводу того, что был его современником, горячо просил его вернуться к литературной деятельности, имея в виду художественное творчество, которое в то время у Толстого уступало место религиозно-философским сочинениям. «Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!» — умолял Тургенев2. После смерти Тургенева Толстой собирался выступить с речью, посвященной его памяти, в Московском обществе любителей российской словесности, но заседание, на котором должна была быть произнесена эта речь, не было разрешено властями.
***
В сентябре 1862 года Толстой женился на дочери врача придворного ведомства Софье Андреевне Берс. На первых порах он чувствовал себя счастливым мужем и счастливым отцом все умножавшегося семейства. Став семьянином, он увлекся хозяйственными делами, не мешавшими, впрочем, его напряженной литературной работе, которая вновь его захватила, на время отодвинув педагогические интересы. Толстой закончил давно начатых «Казаков», не сделав из них, однако, того большого полотна, которое намечено было в планах и черновых рукописях, и напечатал их в 1863 году. В том же году вышла в свет повесть «Поликушка», начатая Толстым во время второго заграничного путешествия.
«Казаки» писались Толстым с перерывами на протяжении десяти лет. Эта повесть по характеру изображения
- 57 -
в ней Кавказа и обитателей казацкой станицы противостоит повестям о Кавказе писателей-романтиков вроде Марлинского, рисовавших картины кавказской жизни и кавказской природы в приподнято-эмоциональном стиле, с фигурами горцев — экзотических героев или злодеев, наделенных бурными страстями и ищущих необыкновенных приключений. Очень характерно, что Толстого привлекает сюжет не из жизни горцев, исконных обитателей Кавказа, как это было у романтиков, а из жизни русского населения Кавказа. Быт и характеры гребенских казаков-старообрядцев, в станице которых поселился Оленин, нарисованы при этом кистью художника-реалиста, трезвого и зоркого наблюдателя, чуждающегося всяких псевдопоэтических прикрас, сумевшего показать читателю новые, до тех пор не находившие в русской литературе правдивого отражения стороны русской действительности — нравы, обычаи и образ жизни мало кому ведомого кавказского казачества. На казачество как на социально-политическую силу Толстой возлагал большие надежды, о чем свидетельствует следующая заметка, сделанная в 1857 году в записной книжке: «Будущность России — казачество, — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого»1.
«Казаки» — одно из самых поэтических созданий Толстого, в котором люди и природа Северного Кавказа изображены во всей своей покоряющей силе. Дядя Ерошка, красавица казачка Марьянка, казак Лукашка — свободные и сильные дети величественной в своей простоте природы, которым неведом тот душевный разлад, каким заражен столичный аристократ Оленин. «...люди, — думает Оленин о казаках, — живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет».
Оленин, полный неизрасходованных жизненных сил, чувствующий в себе присутствие «бога молодости», уходит из великосветской среды, не дающей простора его порывистой, не мирящейся с обыденностью натуре. Он отправляется на Кавказ с мечтами о подвигах, соединенных с
- 58 -
опасностями для жизни, о славе, о романтической любви к дикой черкешенке. Сблизившись с казаками, Оленин решает окончательно порвать со своей средой, вся внутренняя фальшь и моральное ничтожество которой теперь ему особенно ясны (об этом свидетельствует неотправленное им письмо знакомым). Он думает о том, чтобы приписаться в казаки и зажить их жизнью, купить избу, скотину, жениться на казачке, проводить дни с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и рыбную ловлю, а с казаками — в походы. Влюбленность в Марьянку больше всего заставляет Оленина мечтать о такой жизни. Привлекает его и языческая стихийность натуры дяди Ерошки, который живет весело и беззаботно, не видя греха в том, чтобы брать от жизни все те радости, какие она может дать человеку. Дядя Ерошка убежден в том, что «все бог сделал на радость человеку» и что «ни в чем греха нет», а умрешь — «трава вырастет на могилке — вот и все».
Но, как и пушкинский Алеко, Оленин, попав в среду, чуждую условностей цивилизации, терпит крушение в своих попытках слиться с этой средой. Его любовь к Марьянке, такой же, в сущности, стихийной язычнице, как и дядя Ерошка, оказывается неразделенной, так как чувство душевно изломанного пришельца не может по-настоящему увлечь ее вольную душу и ее горячее сердце. Любовь у нее может пробудить только такой близкий ей по натуре человек, как Лукашка, и она, внутренне всегда далекая от Оленина, с отвращением отталкивает его, когда узнает, что ее суженый Лукашка смертельно ранен в схватке с чеченцами.
«Казаки» писались Толстым в пору, когда в стране назревала коренная ломка общественных и социальных отношений, а вышли в свет, когда Россия вступила во второй — разночинный — этап освободительного движения. Но эти события не нашли никакого отражения в повести. Главный герой ее, Оленин, весь поглощенный интересами своей личной жизни, далек от каких-либо злободневных вопросов современности, они даже не приходят ему в голову. Именно поэтому «Казаки» вызвали со стороны прогрессивной журналистики, особенно со стороны «Современника», остро критическое, хотя и одностороннее, к себе отношение как произведение, написанное на тему, которая не могла занимать передовое
- 59 -
русское общество, на тему, далекую от насущных вопросов, выдвигавшихся русской жизнью. Повесть в этом отношении расценивалась как своего рода литературный анахронизм, что, однако, не препятствовало восхищаться ее художественными достоинствами. Тургенев, например, даже после появления в печати «Войны и мира», в 1874 году писал Фету о «Казаках»: «Чем чаще перечитываю я эту повесть, тем более убеждаюсь, что это chef d’oeuvre Толстого и всей русской повествовательной литературы»1. В 1881 году в заметке о Толстом, напечатанной на французском языке, Тургенев выделял «Казаков» как «подлинный шедевр», в котором находил «бесподобное изображение кавказцев и кавказского быта»2.
Внутренняя ложь и уродство жизни привилегированных классов художественно очень ярко и смело показаны Толстым в его повести «Холстомер», задуманной еще в 1856 году, в большей своей части написанной в 1863 году, но окончательно отделанной лишь в 1885 году, причем социально-обличительная тенденция повести была значительно усилена. В повести рассказано о жизни замечательного рысака — от его цветущей молодости до печальной старости, когда он превратился в жалкого старого мерина, послужившего людям и после своей смерти снятой с него шкурой. Поведение и поступки хозяев, поочередно владевших Холстомером, расцениваются и осмысливаются в повести им самим. Ему непонятна и недоступна та масса условностей и предрассудков, которыми люди опутали свою жизнь и которые так губительно сказываются на всех тех, кто зависит от людей. Ему представляется бессмысленным и противоречивым институт собственности, который самим же собственникам не приносит никакого добра. Жизнь лошади, живущей по законам, предписанным природой, оправдана вся с начала до конца, жизнь же хозяев, которым принадлежала лошадь, — постыдная и жалкая жизнь. И смерть их не приносит окружающим ничего, кроме досадных хлопот; Холстомер же и после смерти приносит пользу: собаки, птицы и голодные волчата съели его мясо, а кости употребил мужик для своего хозяйства.
- 60 -
И в «Трех смертях», и в «Казаках», и в «Холстомере» Толстой стоит на точке зрения отвлеченной защиты «вечных» духовных начал и отрицания благ цивилизации и прогресса, как это было характерно и для повести «Люцерн».
К числу наиболее значительных произведений Толстого, написанных им до «Войны и мира», относится также повесть «Поликушка» (1863). Это вторая после «Утра помещика» повесть, в которой Толстой, опираясь на лучшие традиции «натуральной школы», вновь обращается к изображению крестьянской жизни.
В основу фабулы «Поликушки» лег действительный случай, рассказанный Толстому одной из его знакомых во время пребывания его в Брюсселе в марте 1861 года. Имена и фамилии крестьян, выступающих в «Поликушке», однородны с именами и фамилиями яснополянских крестьян. В повести нашли отражение и некоторые особенности яснополянской обстановки. Как и в «Утре помещика», в «Поликушке» Толстой показал непреодолимую преграду, стоящую между помещиком и крепостным крестьянином. Самоубийство Поликея, совершенное им, чтобы восстановить утраченную репутацию честного человека после потери большой суммы денег, и все несчастья, обрушившиеся на семью после его смерти, — все это в конце концов явилось результатом отчужденности помещиков от народа, судьбой которого они призваны были распоряжаться. Потерянные Поликеем деньги по воле чувствительной барыни достаются нашедшему их и без того зажиточному крестьянину Дутлову.
Еще ярче, чем в «Утре помещика», в «Поликушке» показано социальное расслоение крестьян, засилье имущих. Галерея крестьянских образов и их речевые характеристики здесь — по сравнению с «Утром помещика» — отличаются большим богатством и разнообразием. Идея гибельной власти денег, их греховности, так настойчиво развивавшаяся Толстым в его произведениях, написанных после духовного кризиса, уже здесь выступает очень явственно. И трагическая судьба Поликея и его семьи, и моральная деградация крестьянства, и нарастание враждебных отношений в его среде — все это, по смыслу повести, неизбежный результат власти денег над человеком.
Тургенев в письме к Фету так передал свое впечатление
- 61 -
от повести: «Прочел я... «Поликушку» Толстого и удивился силе этого крупного таланта... есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает... Мастер, мастер!»1
Еще в 1856 году Толстой стал пробовать свои силы в драматическом жанре, написав наброски нескольких комедий, далеко, однако, не завершенных им. В конце 1863 и в начале 1864 года он написал комедию «Зараженное семейство», представляющую собой очень неудачный во всех отношениях, грубый памфлет, направленный против демократов-разночинцев и их идейного вождя — Чернышевского. Попытка Толстого поставить комедию на сцене московского Малого театра окончилась для него, как и следовало ожидать, неудачей. Очень неодобрительно о пьесе отозвался Островский.
«ВОЙНА И МИР»
В 1863 году Толстой принялся за работу над романом «Война и мир». Работа эта, протекавшая главным образом в Ясной Поляне и законченная лишь в 1869 году, была очень интенсивной и сосредоточенной. Толстой в эту пору был в расцвете своих жизненных и творческих сил. Семейные интересы заполняли его досуг; острые моральные и социальные проблемы тревожили его теперь меньше, чем прежде, хотя и в это время он задумывался над ними. В 1865 году, в связи с угрозой голода, Толстой писал Фету: «Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно: у нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт — голод — делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыты скотины и всех их проберет и расшевелит,
- 62 -
пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде — достанется»1. В этих словах пока еще глухо звучит тот мотив возмездия, который стал одним из главных в творчестве Толстого в 80-е годы.
Вскоре после того как были написаны приведенные в письме к Фету строки, Толстой заносит в свою записную книжку: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности»2. Таким образом, уже в 60-х годах главное средство разрешения социальных противоречий он видел в упразднении частной собственности на землю.
Очень важным событием в личной жизни Толстого в этот период было его выступление в 1866 году в качестве защитника по делу солдата Шабунина, ударившего офицера, систематически его преследовавшего и издевавшегося над ним. Толстому, однако, не удалось добиться смягчения участи своего подзащитного, и по приговору военного суда Шабунин был расстрелян. Вспоминая незадолго до смерти о казни Шабунина, Толстой писал П. И. Бирюкову: «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей»3.
«Пять лет непрестанного и исключительного труда, при наилучших условиях жизни», как говорил сам Толстой4, ушло у него на написание «Войны и мира». В действительности он работал над «Войной и миром» свыше шести лет. Результатом этого труда был роман из эпохи Отечественной войны 1812 года, роман, принадлежащий к величайшим созданиям мировой литературы. Начало «Войны и мира», первые две части романа, под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год», заканчивавшиеся описанием Шенграбенского сражения и при включении в «Войну и мир» значительно переработанные, Толстой начал печатать в журнале «Русский вестник» в 1865—1866
- 63 -
годах, но затем отказался от журнальной публикации романа, решив печатать его сразу в законченном виде отдельным самостоятельным изданием, которое осуществилось — одно вслед за другим — дважды: в 1868 и 1869 годах.
Тургенев, осуждая философскую сторону романа, тем не менее признавал, что некоторые вещи, «которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать», возбудили в нем «озноб и жар восторга»1. Ознакомившись с «Войной и миром» во французском переводе, Флобер, благодаря Тургенева за присылку ему толстовского романа, писал о нем: «Мне кажется, что кое-где есть места шекспировские! Я вскрикивал от восторга во время чтения... а оно продолжается долго! Да, это сильно, очень сильно».
Отрывок из письма Флобера, касающийся «Войны и мира», Тургенев «с дипломатической точностью» в январе 1880 года сообщил в оригинале Толстому2. Английский романист Голсуорси сказал, что «Война и мир» — «величайшее из когда-либо написанных произведений»3.
Вскоре же после напечатания «Войны и мира» об этом романе стали говорить как об эпопее, то есть как о литературном произведении, которое создано на тему об историческом событии, имеющем всенародное значение, и притом написано так, что с исключительной художественной силой отражает сущность этого события. Сам Толстой в беседе с Максимом Горьким говорил о «Войне и мире»: «Без ложной скромности — это как Илиада»4. Мы сказали бы, что «Война и мир» — одновременно и «Илиада» и «Одиссея» русской литературы.
К «Войне и миру» Толстой пришел от повести «Декабристы», события которой были приурочены к 1856 году — ко времени возвращения из Сибири героя этой повести, Петра Ивановича Лабазова. К декабристам Толстой относился неизменно с чувством большого уважения и симпатии. В их поведении и в их духовном облике он
- 64 -
видел воплощение высоких моральных принципов, нравственной стойкости и гражданского мужества. В декабристах Толстого привлекала не столько их политическая программа сама по себе, сколько идейные побуждения, которыми они руководствовались в своей деятельности. В глазах Толстого, как и в глазах Герцена, они были рыцарями общественного долга, принесшими себя в жертву во имя торжества правды и справедливости, ради обновления и очищения русской жизни.
Замысел «Декабристов» связан был у Толстого с его отношением к злободневным вопросам русской общественной жизни, возникшим после севастопольского поражения, в годы, предшествовавшие крестьянской реформе. Во вступлении к «Декабристам» Толстой иронически отзывается о том общественном возбуждении, которое охватило Россию в эту пору. Ирония его одинаково распространяется и на консервативные, и на либеральные, и на радикальные проявления этого возбуждения. Внутренний мир героя повести и его образ мыслей должны были стать той меркой, с которой Толстой подходил к оценке современности и острых проблем, какие она выдвигала. Он писал Герцену: «Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгой и несколько идеальной взгляд к новой России»1 Помыслы и сочувствие Лабазова обращены к народу. «А я должен сказать,— говорит он,— что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе».
Но, начатая в конце 1860 года, повесть вскоре была Толстым оставлена: он почувствовал необходимость для объяснения судьбы своего героя в 50-х годах обратиться сначала к 1825 году — ко времени, как он говорил, «заблуждений и несчастий» героя, когда он был уже возмужалым, семейным человеком, потом — к 1812 году, поре его молодости, которая совпала со «славной для России эпохой». Но и на этот раз Толстой оставил начатое: личность героя, как говорит он в черновом наброске предисловия к роману, отступила в его изображении на второй план, а на первое место выступила сама эпоха, предшествовавшая 1812 году, с ее людьми, молодыми и старыми,
- 65 -
мужчинами и женщинами. Толстой начал роман с 1805 года, побуждаемый чувством «застенчивости», подсказавшим ему, что нельзя писать о торжестве России в борьбе с бонапартовской армией, «не описав наших неудач и нашего срама»1.
Отойдя таким образом от 1856 года к 1805 году, Толстой, судя по тому же наброску его предисловия, намерен был провести своих героев и героинь через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 годов. Следовательно, роман должен был охватить большой исторический период — с лишком в полстолетие. Однако в процессе работы над романом Толстой постепенно суживал его хронологические рамки. До нас дошли черновые материалы, последовательно иллюстрирующие попытки Толстого начать роман, иной раз с некоторыми небольшими отклонениями, с указанных им хронологических дат, за исключением 1825 года, который, очевидно, был совсем обойден Толстым. Постепенно события, рассказанные в романе, заключены были в те рамки, какие установились в окончательном его тексте. Гораздо более короткий, чем задумано было первоначально, хронологический период постепенно вобрал в себя такой материал, который не мыслился на самых ранних стадиях работы над романом.
Отдельные герои романа в основном были еще далеки от персонажей, выступающих в окончательном его тексте, особенно если говорить о Пьере Безухове и Андрее Болконском. Лишь эпизодически выступали Александр I, Наполеон и Кутузов, причем Наполеон рисовался не так разоблачительно, как рисуется он в завершенной редакции «Войны и мира», а в изображении Кутузова Толстой был еще далек от того, чтобы придать полководцу тот ореол душевного величия, каким окружил он его позднее.
Набрасывая в 1863 году вступление к начальной части «Войны и мира», обнимающей события 1805 года, Толстой так определял характер своего романа: «Пишу о том времени, которое еще цепью живых воспоминаний связано с нашим, которого запах и звук еще слышны нам. Это время первых годов царствования Александра в России и первых годов могущества Наполеона во Франции... Но не Наполеон и не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду писать историю
- 66 -
людей более свободных, чем государственные люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни, людей, свободных от бедности, от невежества и независимых, людей, не имевших тех недостатков, которые нужны для того, чтобы оставить следы на страницах летописей»1.
В 1867 году Толстой начерно закончил роман и намеревался дать ему заглавие «Все хорошо, что хорошо кончается» (в этой редакции и Андрей Болконский и Петя Ростов оставались в живых). Тут народ и народная война не были еще показаны в такой мере активной силой в борьбе с Наполеоном, как это сделано было в окончательной редакции романа, не был выведен и Платон Каратаев, ставший затем для Толстого воплощением народной мудрости и мужицкой правды. И лишь по мере того как работа подвигалась вперед, роман «Война и мир» превращался в величественную эпопею народной доблести и славы, не утратив, однако, черт семейно-исторической хроники, намеченных и в первоначальном его замысле.
Роман писался Толстым вскоре после поражения николаевской России в Крымской войне и постепенно все более и более становился апофеозом нашего исторического прошлого. Толстой, как мы уже знаем, был очень взволнован падением Севастополя. Ему, как и большинству его современников, было ясно, что севастопольская драма была следствием гнилости всей системы, характеризовавшей николаевское царствование, но в поисках путей возрождения России к здоровой общественной жизни он обращался не к живой современности, не к нуждам и потребностям сегодняшнего дня, как это делала передовая русская мысль, особенно в лице революционной демократии, а к прошлому. В этом, и не только в этом, сказалась полемическая направленность романа против шестидесятников, с которыми, однако, Толстой сходится в признании решающей роли народа в победоносном для России исходе войны 1812 года. И в глазах Толстого, в завершительной стадии работы над романом, и в суждениях революционных демократов решающей силой, обеспечившей России победу над Наполеоном, оказался народ, подчинивший своей нравственной
- 67 -
мощи все живые, здоровые слои русского общества. Не удивительно, что Толстой пришел в конце концов к мысли создать эпопею, посвященную Отечественной войне 1812 года. Он принялся за работу над романом, когда только что отмечено было ее пятидесятилетие, когда еще живы были некоторые участники войны, а сыновья и дочери умерших уже к тому времени ее героев хранили в памяти и в сердцах рассказы отцов об их подвигах и о доблести русского войска.
В процессе работы над романом Толстой использовал значительное количество печатных, а также рукописных источников, исторических трудов, архивных материалов; он посетил Бородинское поле, на котором происходила битва. В большой мере он пользовался и семейными преданиями, нашедшими свое отражение в характеристиках ряда важнейших персонажей романа. Несомненно, что окончательный замысел «Войны и мира» сложился у Толстого под влиянием его воспоминаний и размышлений о Крымской войне. Об этом говорит следующее противопоставление двух войн в I главе его «Декабристов»: «Состояние, два раза повторявшееся в истории России в XIX столетии: в первый раз, когда в 12-м году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56-м году нас отшлепал Наполеон III».
Обращение Толстого к эпохе 1812 года в конечном счете подсказывалось ему желанием показать в недавнем историческом прошлом России те героические страницы в судьбах русского народа, которые должны были утолить боль от неудачи в Крымской кампании. Роман, когда созрел окончательный его план, ставил себе целью обнаружить нравственные силы, заложенные в русском народе и бывшие порукой его общественного возрождения после падения Севастополя. Однако «Война и мир» — произведение не только апологетическое, но и обличительное. В нем мы находим апофеоз русской народной стихии, ее нравственной мощи и в то же время острое изобличение ничтожных представителей высшего круга, выскочек и карьеристов, существовавших подачками и милостью двора.
Критик Н. Н. Страхов, суждение которого о «Войне и мире» Толстой особенно ценил, писал с известной долей преувеличения: «Можно подумать, что он (Толстой в «Войне и мире». — Н. Г.) не только изображает свои
- 68 -
лица с неподкупной верностию действительности, а как будто даже умышленно совлекает их с идеальной высоты, на которую мы, по вечному свойству человеческой природы, так охотно и легко ставим людей и события... Если смотреть на «Войну и мир» с этой точки зрения, то можно принять эту книгу за самое ярое обличение александровской эпохи — за неподкупное разоблачение всех язв, которыми она страдала. Обличены — своекорыстие, пустота, фальшивость, разврат, глупость тогдашнего высшего круга... повсюду показаны люди, которые, среди крови и битв, руководятся личными выгодами и приносят им в жертву общее благо; выставлены страшные бедствия, происходившие от несогласия и мелочного честолюбия начальников, — от отсутствия твердой руки в управлении; выведена на сцену целая толпа трусов, подлецов, воров, развратников, шулеров...»1
Толстому чужды штампованные, принятые на веру, не добытые самостоятельным опытом оценки, суждения, взгляды. То, о чем он говорит, он стремится освободить от мертвых шаблонов и привычных схем, будь то традицией установленные представления о героях и героическом или обычные толки о красоте, правде, добре и зле. Он всюду, по выражению Ленина, срывает все и всяческие маски, и не только для того, чтобы вскрыть за этими масками злое и порочное, но и для того, чтобы освободить от них то подлинно значительное и прекрасное, что за ними укрыто.
Как и в ранних военных рассказах, в «Войне и мире» самое представление о героизме подвергнуто переоценке. Как там, так и здесь оно освобождено от декоративности. Все качества подлинных героев в «Войне и мире» обнаруживают такие скромные, не показные, внешне не блестящие люди, как Кутузов, Тимохин и Тушин и вся солдатская, народная масса, с настоящим величием духа совершающая большое историческое дело защиты родины.
Тем, кто привык мыслить героизм в исстари укоренившихся понятиях, представлялось, что Толстой снижал героический характер Отечественной войны, принижал выдающихся русских полководцев. В великосветских
- 69 -
кругах в упрек ему ставилось и то, что в романе в очень неприглядных красках изображена столичная аристократическая среда. Так, А. С. Норов, крупный сановник и литератор, на страницах «Военного сборника» писал о том, что читатели романа, большей частью с детства знакомые по рассказам с эпохой 12-го года, «поражены при первых частях романа сначала грустным впечатлением представленного им (Толстым. — Н. Г.) в столице пустого и почти безнравственного высшего круга общества, но вместе с тем имеющего влияние на правительство; а потом отсутствием всякого смысла в военных действиях и едва не отсутствием военных доблестей, которыми всегда так справедливо гордилась наша армия». Норов жаловался на то, что у Толстого «громкий славою 1812 год как в военном, так и в гражданском быту представлен... мыльным пузырем», что целая фаланга наших генералов, заслуживших себе военную славу, «составлена была из бездарных, слепых орудий случая, действовавших иногда удачно», причем даже об этих удачах «говорится только мельком и часто с ирониею»1.
Вскоре после Норова в «Русском архиве» выступил со своими «Воспоминаниями о 1812 годе» поэт кн. П. А. Вяземский. Он утверждал, что «Война и мир», «за исключением романической части... есть... протест против 1812 года, есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям, и на авторитете русских историков этой эпохи». В глазах Вяземского, в «Войне и мире» присутствуют «нравственно-литературный материализм» и «историческое вольнодумство и неверие». Толстого он причисляет к «историческим прекращателям»2. Вяземскому представлялось, что Толстой в русском обществе героической эпохи нашел только Бобчинских, Добчинских и Ляпкиных-Тяпкиных.
Вяземского в том же «Русском архиве» поддержал сын московского губернатора в 1812 году Растопчина, благодаривший автора воспоминаний за то, что он заступился за память осмеянных и оскорбленных отцов
- 70 -
здравствующих их детей, и за то, что он восстановил истину об его отце, характер которого будто бы искажен у Толстого. К суждениям о «Войне и мире» Норова и Вяземского примыкал историк П. К. Щебальский, в прошлом гвардейский офицер. Свою статью, разоблачающую Толстого — автора «Войны и мира», он озаглавил «Нигилизм в истории».
Не нужно слишком много распространяться о том, как несправедливы были упреки Толстому в недостатке у него патриотических чувств по отношению к событиям 1812 года. Эти упреки вызывались преимущественно отрицательным отношением Толстого к вельможной знати, за которую, в сущности, заступались его оппоненты.
Толстой однажды сказал Софье Андреевне, что в романе своем он «любил мысль народную вследствие войны 12-го года»1, а в неопубликованной статье по поводу «Войны и мира» говорил: «...я старался писать историю народа»2. И действительно, подлинным героем «Войны и мира» является русский народ, защищавший и защитивший родную землю от вторгшегося в нее непобедимого до тех пор и увенчанного военными лаврами Наполеона. Война России с иностранными захватчиками показана Толстым как война народная, а победоносный исход ее и бесславная участь наполеоновского вторжения осмысливаются Толстым с правдивостью историка и художника-реалиста как результат патриотического подъема народных масс, по своему почину организовавших партизанские отряды, наносившие вражеской армии удары один сокрушительнее другого. Народ, в понимании Толстого, является главной движущей силой истории и, следовательно, главной силой Отечественной войны 1812 года. Вот как говорит об этой силе один солдат, встретившийся с Пьером Безуховым накануне Бородинского сражения: «Всем народом навалиться хотят, одно слово Москва. Один конец сделать хотят». Толстой с убеждающей силой показал, что война 1812 года, как и все народные войны, была не захватнической, а освободительной, значит справедливой, и это действительно
- 71 -
было так. Народ защищал свою национальную независимость, свое историческое право самому решать свои судьбы. В этом была сущность войны для русского народа, а высокий нравственный подъем был источником той человечности, которую проявили в войне русские солдаты.
Но представление о народном патриотизме в войне 1812 года у Толстого не было чисто внешним, как у многих его современников, и это также давало повод к тем нареканиям в отсутствии у него чувства патриотизма, о которых говорилось выше. Толстой подсмеивался над патриотизмом крикливым и показным, проявлявшимся в высокопарных речах, в шумливых афишах Растопчина, в том, что скучающие барыни щипали корпию, никогда не доходившую до раненых. Но вместе с тем он неоднократно говорил о скрытом чувстве патриотизма русских людей, чувстве, которое обнаруживалось, когда они лицом к лицу сталкивались с врагом и отказывались вступать с ним в какие-либо соглашения, пока он не будет изгнан из пределов родины. Чуждыми этому чувству оказались лишь те персонажи романа, которые всецело поглощены заботой о личной карьере и личном преуспеянии.
Настоящий патриотизм обнаруживают и купец Ферапонтов, сжигающий свою лавку при занятии французами Смоленска, чтобы ничего не досталось врагу, и мужики Карп и Влас, отказывающиеся продавать французам сено даже за большие деньги и сжигающие его, и княжна Марья Болконская, которая не в состоянии без содрогания думать о том, что, оставаясь в Лысых Горах, она может оказаться под покровительством надвигающихся на деревню французских войск. Сам Андрей Болконский, вначале преклонявшийся перед Наполеоном, после занятия французами Смоленска все более и более ожесточается против них и их императора как виновников несчастья России и досадует на Барклая-де-Толли за сдачу Смоленска. «...он, — говорит Болконский, — не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесятерял наши силы».
Проигрыш русскими войсками Аустерлицкого сражения Андрей Болконский объясняет тем, что при Аустерлице
- 72 -
им не за что было драться, и потому, заранее сказав себе, что проиграют сражение, они действительно его проиграли. Предстоящая же битва (при Бородине), по твердому убеждению Болконского, должна быть русскими выиграна, потому что, по его мысли, победа зависит от того чувства родины, которое есть у него самого, у капитана Тимохина, у каждого русского солдата. В озлоблении против французов, разоряющих русскую землю, Андрей Болконский хотел бы быть беспощадным к ним, и, если бы это было в его власти, он не брал бы пленных. «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, — говорит он, — оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. И так думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить».
Болконский имел все основания для того, чтобы предвидеть конечное торжество русского войска на Бородинском поле. Он чутко подметил в солдатах ту волю к победе, которая обнаружилась потом в самом сражении. Своей верой в успех русского оружия он заразил и Пьера Безухова, который «понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения». Теперь для Пьера все значительные, строгие лица готовящихся к бою солдат осветились «новым светом». «Он понял ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти». Эти люди, идя на сражение, накануне его надевали белые рубахи и отказывались от водки, потому что теперь «не такой день», а в самый разгар боя, «как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня».
Нужно было обладать незаурядной отвагой и сознанием важности и значительности совершающегося дела, чтобы вести себя так, как вели себя солдаты полка Болконского, стоявшего во время Бородинского боя в резерве. Силой обстоятельств полк обречен был на полное бездействие. То и дело он усиленно обстреливался ядрами и гранатами; иногда в течение минуты из него вырывало несколько человек, и в конце концов он потерял
- 73 -
треть своего состава, но продолжал до конца стоять на своих позициях, не поддаваясь панике и не обращая внимания на то пиршество смерти, которое тут творилось. Если бы солдаты принимали активное участие в бою, они, естественно, отвлекались бы и забывались в пылу битвы, как забывался капитан Тушин в Шенграбенском сражении. Но они были лишь мишенью для вражеских орудийных выстрелов и в молчаливой мрачной сосредоточенности придумывали себе занятия, вроде возни с кивером, переобувания, чистки штыка, которые помогали бы им сохранять выдержку и внешнее спокойствие.
Поняв после Бородинского боя, как солдаты «все время до конца были тверды, спокойны», Пьер стал «ясно и резко» отделять этих солдат в своей мысли от других людей. Ему представлялось даже, что самое лучшее для него «солдатом быть, просто солдатом». Он захотел «войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими», но он не знал, как «скинуть с себя все то лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека». Их главное свойство — простота. «Они не говорят, но делают». И Пьер испытывал непреодолимое для него ощущение своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой этих людей.
Расценивая значение Бородинского сражения, Толстой пришел к выводу, что оно было нравственной победой русского войска над наполеоновской армией. Русские, потеряв половину своего войска, стояли так же грозно в конце, как и в начале сражения. Французы поняли нравственное превосходство своего противника, как поняли и то, что сами они были нравственно истощены. Это и предопределило последовавшую затем капитуляцию французов. Докатившись до Москвы, французская армия, уже без новых усилий со стороны русской армии, должна была погибнуть от смертельной раны, полученной ею при Бородине. Оставление жителями Москвы, вопреки распоряжению и уговорам Растопчина, по убеждению Толстого, произошло вследствие «скрытого патриотизма», присущего различным слоям русского общества и заставившего людей выезжать с тем, что они могли с собой захватить, бросая свои дома и имущество. Выезжали потому, что для «русских людей не могло быть
- 74 -
вопроса: хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего». И благодаря тому что жители покинули Москву, «совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшею славою русского народа». Но в совершенно явном противоречии с таким толкованием поведения русских в войне с Наполеоном находится утверждение Толстого, что «только одна бессознательная деятельность приносит плоды» и что во время решающих исторических событий большинство не проявляет интереса к общему ходу дел, а живет своей личной жизнью, своими частными интересами.
Народный характер войны 1812 года особенно явственно сказался в стихийном росте партизанских отрядов. Партизанская война началась еще со времени вступления неприятеля в Смоленск, но особенно усилилась после отступления его из Москвы. Это была война, противоречившая обычным теоретическим правилам военного искусства, но тем не менее наносившая сокрушительные удары врагу. «Дубина народной войны, — пишет Толстой, — поднялась со всею своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Как о выдающихся героях партизанских отрядов Толстой говорит не только о ротмистре Василии Денисове, прототипом которого в значительной степени послужил известный поэт-партизан Денис Давыдов, но и о крестьянине Тихоне Щербатом, славившемся своей удалью и находчивостью, и о каком-то дьячке, ставшем начальником отряда и за месяц взявшем несколько сот пленных, и о старостихе Василисе, побившей сотни французов.
Надо подчеркнуть также и то, что русское войско, как это показано в «Войне и мире», проявило мужество и героизм, сражаясь не только на своей земле и за свою землю, но и в чужих странах. Толстой явно преувеличивал, говоря о наших «неудачах» и особенно о нашем «сраме» в пору заграничных столкновений с Наполеоном в 1805 году. Тогда русская армия сделала все, что было для нее возможно в труднейших условиях заграничной войны, в сотрудничестве с австрийскими войсками, руководимыми
- 75 -
бездарными полководцами. Толстой необычайно ярко рисует одно из серьезнейших испытаний русского войска в 1805 году — переход его под начальством Кутузова от Кремса до Цнайма для соединения с войсками, двигавшимися из России. Ослабленная, очень плохо экипированная сорокатысячная армия Кутузова вследствие разгрома австрийской армии генерала Макка и захвата французами моста в Вене оказалась в самом критическом положении. Ей грозила неминуемая, казалось бы, опасность быть отрезанной и уничтоженной армией Наполеона. В таком отчаянном положении Кутузов приказывает четырехтысячному отряду под начальством отважного генерала Багратиона сделать сорокапятиверстный переход по труднейшему пути, чтобы задержать наступление французских войск и дать возможность русской армии избежать рокового для нее удара во фланг. И небольшой отряд в одну ночь, преодолевая огромные препятствия, достигает намеченного пункта около деревни Шенграбен, предупреждая на несколько часов прибытие французских сил и тем спасая армию Кутузова от разгрома и пленения. В Шенграбенском деле особенное мужество и неустрашимость проявляет батарея капитана Тушина, и не только скромный, невзрачный по виду ее командир, выказывающий поразительную храбрость, но и вся его команда.
Сила народного духа родит и выдающихся полководцев, осуществляющих в своей деятельности то, что нужно народу и чего хочет народ. Подлинно полезное народу дело, приводящее к торжеству над врагом и к победе, выполняет, по мысли Толстого, лишь тот полководец, который умеет улавливать и постигать народный дух, умеет прислушиваться к настроению солдатской массы. Таков у Толстого Кутузов, взращенный военным гением Суворова и воплощающий в своей военной практике дух всего народа, на себе выносящий всю тяжесть ответственности за исход великого военного испытания.
Впервые мы знакомимся с Кутузовым, когда он вместе с австрийским генералом производит смотр русским войскам в 1805 году под Браунау. И уже при этом первом знакомстве Кутузов выступает перед нами не как декоративная фигура полководца, торжественно и величественно красующаяся перед войсками, а как простой, добрый, умудренный жизненным опытом, внешне самый
- 76 -
обыкновенный человек. Он медленно и вяло обходит ряды, говорит по нескольку ласковых слов офицерам и солдатам, молча сокрушается о том, что у солдат плохая обувь. Остановившись около капитана Тимохина, красный нос которого выдавал неравнодушие к вину, Кутузов узнал в нем своего Измайловского товарища и похвалил его за храбрость. Чтобы не смущать скромного офицера, очень взволнованного обращенным на него взглядом главнокомандующего, он, улыбаясь, поспешно отворачивается от Тимохина. С той же улыбкой он отворачивается и от разжалованного Долохова, высокопарно заявляющего ему о своем желании загладить свою вину и доказать свою преданность государю и России. «Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что все это уже прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно». Приблизительно так же реагирует позже Кутузов на энергичное заявление Денисова, говорящего, что он имеет сообщить ему «дело большой важности для блага отечества», что честным, благородным словом русского офицера он заверяет главнокомандующего в том, что разрушит планы Наполеона. «Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер-интендант, как приходится?» — перебивает его Кутузов. И, услышав, что он дядя Василия Денисова, весело говорит: «О, приятели были. Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим», — затем отворачивается от него и занимается бумагами. Так же отворачивается он от всех тех, кто выступает с разнообразными военными проектами, цена которых, по мнению Кутузова, ничтожна. Не сочувствуя готовящемуся наступлению на французов русских и австрийских войск под Аустерлицем, Кутузов на военном совете накануне Аустерлица спит и не принимает никакого участия в спорах членов совета.
У Кутузова общие чувства и общий язык со всей солдатской массой, и потому он не только герой, но герой народный, одинаково близкий и понятный Андрею Болконскому и рядовому солдату. Когда Кутузов под Красным видит изуродованные обмороженные лица французских пленных, он проникается к ним состраданием и говорит солдатам о том, что врагов, теперь уже бессильных, можно и пожалеть, а затем тотчас же добродушно,
- 77 -
по-стариковски, ругает их непечатными словами за то, что они пришли к нам незваные. И слова сострадания и беззлобная ругань главнокомандующего, «сердечный смысл» его речи, «чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты» — все это было понято солдатами, потому что «это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкающим криком».
Толстой изумляется тому, что Наполеон, «ничтожнейшее орудие истории», никогда и нигде, даже в изгнании, не обнаруживший в своем поведении человеческого достоинства, для ряда русских историков явился предметом восторга и восхищения, в то время как Кутузов, всегда, на протяжении всей своей деятельности, верный своим принципам, бывший необычайным в истории примером самоотвержения и глубокого понимания исторических событий, трактовался ими как жалкая и неопределенная личность. Толстой пишет: «А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно и постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и более совпадающую с волею всего народа». И далее он спрашивает: «Но каким образом тогда этот старый человек, один, в противность мнению всех, мог угадать так верно значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему?» И, отвечая на этот вопрос, Толстой говорит: «Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями его, в немилости находящегося старика, выбрать, против воли царя, в представители народной войны, и только это чувство поставило его на ту высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их».
Последняя фраза была написана Толстым в связи с обвинением Кутузова в официальных сферах в том, что он не истребил остатков французской армии и дал им возможность вместе с Наполеоном и высшим французским командованием уйти из России. Толстой настойчиво убеждает читателя в том, что Кутузов сознательно
- 78 -
не ставил себе целью воспрепятствовать бегству французов, потому что это было сопряжено с большими потерями для русской армии, и без того измученной, полуголодной, дурно одетой и обутой. Достойная народа цель была достигнута, русские люди сделали все, что можно было сделать, и не их вина в том, что «другие русские люди, сидевшие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно».
Кутузов до самой смерти утверждал, что Бородинское сражение было победой русских войск и что эта победа повлекла за собой катастрофу наполеоновской армии. В одном из черновых вариантов романа Толстой писал о Кутузове: «Приняв командование армиями в самую трудную минуту, он вместе с народом и по воле народа делал распоряжения для единственного сражения во все время войны, сражения при Бородине, где народ напряг все свои силы, и где народ победил, и где Кутузов, чувствовавший всегда вместе с народом, противно всем толкованиям своих генералов, противно преданиям о признаках победы, предполагающим занятие места, знал то, что знал весь русский народ, то, что народ этот победил». Кутузов это знал потому, что отчетливо понимал нравственное превосходство русского войска над французским. Когда генерал Вольцоген по приказанию Барклая-де-Толли доносит Кутузову, что все пункты наших позиций у Бородина в руках неприятеля, что вернуть их нельзя, что наши войска бегут и нет возможности остановить их, Кутузов с возмущением кричит: «Как вы... как вы смеете... Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему». При попытке Вольцогена что-то возразить Кутузов резко перебивает его: «Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге... Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля... Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской».
Военное чутье не обмануло Кутузова: как раз в это время к нему подъезжает генерал Раевский, находившийся в самой гуще боя, и сообщает, что наши войска
- 79 -
стоят твердо на своих местах и что французы не смеют больше атаковать. Кутузов распоряжается писать приказ о завтрашнем наступлении (которое, однако, по стратегическим соображениям оказалось невозможным) и велит объявить войскам о предстоящей атаке. Приказ главнокомандующего тотчас становится известным в армии, и измученные люди утешены и ободрены. Дух войска окрылен не самими словами приказа, который доходил до армии в искаженном виде, но смыслом его, потому что сказанное Кутузовым вытекало из чувства, «которое лежало в душе главнокомандующего так же, как в душе каждого русского человека».
Кутузов сдает Москву Наполеону для того, чтобы спасти Россию, и в полной убежденности, что сдача Москвы не означает еще сдачи армии. Когда он затем узнает, что Наполеон ушел из Москвы, взволнованный при этой вести, он почти не может говорить и плачет от радости, что спасена Россия.
Еще Пушкин, как бы предвосхищая Толстого, удивительно глубоко осмыслил значение Кутузова как полководца в Отечественную войну 1812 года. Он писал: «Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю; один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал»1.
Насколько Наполеон в своих поступках и речах декоративен, рассчитанно эффектен, настолько Кутузов внешне неказист и далек от того привычного трафарета, который обычно связывается с представлением о великом полководце. Никакого намека на позу, в противоположность Наполеону, у него нет. «Кутузов, — пишет Толстой, — никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи».
- 80 -
Толстой достигает огромного художественного эффекта, изображая Кутузова на военном совете в Филях перед сдачей Москвы. Самая обстановка, в которой происходит совет, очень гармонирует со всем обликом Кутузова. Русские генералы во главе с главнокомандующим собираются в крестьянской избе вокруг елового стола, и на них смотрят «не сорок веков с египетских пирамид», а шестилетняя крестьянская девочка Малаша, робко забравшаяся на печь. Все симпатии Малаши на стороне «дедушки» Кутузова, не забывшего приласкать ее и дать ей за чаем сахару. В тех спорах, которые завязываются между «дедушкой» и «длиннополым», как она мысленно называла Бенигсена, она всецело на стороне «дедушки».
Рядом с Кутузовым представляется ничтожным пигмеем, тупицей и бездарностью не только Бенигсен, но и любой генерал, воспитанный на прусской военной доктрине и принимавший участие в войне 1812 года. Самоуверенная ограниченность этих генералов русской службы из иностранцев как военных деятелей ярче всего воплощена Толстым в образе генерала Пфуля, незадачливого организатора Дрисского укрепленного лагеря, оказавшегося совершенно непригодным для ведения войны.
Оценивая Кутузова как полководца, Андрей Болконский, которого в данном случае Толстой наделяет своими взглядами на Кутузова, думает о нем: «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, но он все выслушает, все запомнит и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, — это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и в виду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое». И это сознание дает уверенность Болконскому в том, что все будет у нас так, как должно быть. Уже от самого себя Толстой говорит о Кутузове: «Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этою силой и руководил ею, насколько это было в его власти».
- 81 -
Сталкиваясь с чрезмерным возвеличением в буржуазной историографии роли личности в историческом процессе и игнорированием в этом процессе народных масс, Толстой объективно стоял на прогрессивных позициях, отводя решающую и определяющую роль в ходе мировой истории народу, но он допускал при этом слишком прямолинейное, отвлеченное и потому не соответствующее действительности разрешение сложной проблемы взаимоотношения личности и руководимой ею массы, сводя значение исторической личности лишь к роли покорного орудия этой массы, отрицая значение военной инициативы полководца. В собственных же рассуждениях Толстого кроется явное противоречие: с одной стороны, Кутузов понимает, что одному человеку нельзя руководить действиями сотен тысяч людей, с другой — он все же, насколько может, руководит той силой, которая называется духом войска. Действительно, весь характер поведения Кутузова как полководца, насколько мы знаем об этом из исторических источников, свидетельствует о том, что отношение Кутузова к происходившим военным событиям, лишь внешне казавшееся пассивным, по существу было весьма активным, дальнозорким, правильно рассчитанным и глубоко продуманным. Кутузов был не только выдающимся стратегом, но и крупным государственным деятелем и дипломатом.
Сам Толстой считал, что роль личности тем значительнее, чем выше поставлен человек в обществе, в котором он действует. Толстой различает две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личную, тем более свободную, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийную, или, как он говорит, «роевую», в которой человек неизбежно выполняет предписанные ему законы. Живя сознательно для себя, человек в то же время является бессознательным орудием исторических, общечеловеческих целей. «Чем выше стоит человек на общественной лестнице, — пишет Толстой на первых страницах III тома «Войны и мира», — чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка». Таким именно человеком, высоко поставленным на исторической лестнице, располагавшим большою властью и в то же время выполнявшим в своих поступках
- 82 -
возложенную на него историческую миссию, был, по мысли Толстого, Кутузов.
Слабой стороной воззрений Толстого, особенно обнаружившейся и в его педагогических статьях и в «Войне и мире», в частности в трактовке роли Кутузова как полководца, было его недоверие к разуму и предпочтение, отдаваемое непосредственному инстинкту, всегда якобы подчиняющему себе разумное начало в человеке. «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни», — утверждает Толстой. «Кутузов, — говорит он, — презирал и знание и ум, а знал что-то другое, что должно было решить дело, — что-то другое, независимое от ума и знания». Такое недоверие к разуму и выдвижение на первое место инстинктивных движений человеческой души вообще характерно для большинства произведений Толстого. Сказывается оно и в одностороннем порой изображении в «Войне и мире» и Наполеона и Сперанского, в деятельности и воззрениях которых особенно явственно проявляется их рационалистическая природа.
Умаление разума, характерное для мировоззрения Толстого, имело и полемическую направленность против представителей передовой русской культуры, выдвигавших на первый план в человеке разум как руководящее начало в его жизни и поведении.
Пренебрежение Толстого к законам, диктуемым разумом, обнаруживается и в его мистическом толковании тех основных сил, которыми приводятся в движение человеческие массы. Тут он становится на точку зрения фатализма. По его взгляду, «ход мировых событий предопределяется свыше» и направляется «провидением», которое когда-то запустило всю эту машину, и вот массы человечества двигаются, подчиняясь изначально данному толчку, сперва с запада на восток, затем обратно. И здесь Толстой, как и в «Люцерне», повторяет в сущности, говоря словами Ленина, «апелляции к Всемирному Духу»1, управляющему, по его мнению, судьбами человечества. Обоснованию своих философских взглядов на историю он отводит в романе целые главы, переключая таким образом художественное произведение в философский трактат.
- 83 -
В полном соответствии с философскими взглядами Толстого на сущность исторического процесса находится и его идеализация Платона Каратаева, проникнутого также фаталистическим мировоззрением, кротостью, покорностью судьбе, незлобивостью, пассивным и терпеливым отношением к жизни. Каратаев — олицетворение всего «русского, доброго, и круглого», яркое выражение благодушно-благожелательного поведения и безвольного принятия добра и зла. Этот образ — заметный шаг Толстого на пути к апологии патриархального, политически наивного крестьянства, к проповеди непротивления злу насилием. В Платоне Каратаеве, во всем его душевном облике Пьер Безухов, когда он зашел в тяжелый нравственный тупик, нашел такую же нравственную поддержку, какую в патриархальном крестьянстве нашел сам Толстой, когда он окончательно разуверился в своем классе и стал на позиции этой патриархальной массы. Однако ошибочно было бы думать, что Каратаев отражает сущность национального характера русского крестьянства вообще и в эпоху Отечественной войны 1812 года в частности: в основном оно ведь показано у него не пассивной, а активной силой, движимой волей к победе над врагом, поднявшей «дубину народной войны».
Та духовная сила, которую обнаружил русский народ в Отечественной войне 1812 года, которая воплотилась в деятельности Кутузова и благодаря которой Россия вышла победительницей в ее столкновении с наполеоновской армией, дает себя знать и в Андрее Болконском, и в Пьере Безухове, и в Наташе Ростовой, и в других персонажах «Войны и мира». В самые значительные моменты своей жизни они прибегают к народной правде и проявляют ту величественную простоту, какую находят в тесном соприкосновении с народной стихией, с народным чувством родины. Даже такой аристократ с головы до ног, как Андрей Болконский, тянется не к своему аристократическому кругу, а к людям, близким народу. Ему не по душе служба в штабах, где засели офицеры из светского общества, и он действует на самых опасных участках боя бок о бок с солдатами, там и получает смертельную рану.
Все положительные персонажи «Войны и мира» — исторические и вымышленные — всем своим существом связаны с традициями русской национальной культуры.
- 84 -
В отличие от персонажей, живущих своекорыстными интересами, мелочными расчетами и заботами, занятых вопросами личного преуспеяния и служебной карьеры, они органически вросли в родную почву, питаются ее животворными соками. Все они — от Кутузова до Наташи Ростовой — плоть от плоти и кость от кости русского народа. Самая победа русских над французами в изображении Толстого — это победа здоровых национальных начал, проявивших себя и в деятельности русских полководцев, и в поведении русских людей, всецело преданных своей родине.
Гениальное изображение народного героизма, понимание того, что народ является движущей силой истории, глубочайшее проникновение в психическую жизнь своих героев, необычайная острота зрения, давшая Толстому возможность увидеть и показать всю совокупность тех невидимых неискушенному глазу черт, движений, поступков, из которых складываются человеческие индивидуальности, тонкое чувство природы, необычайная свежесть и непосредственность восприятия — все эти качества сделали «Войну и мир» величайшим произведением подлинного реалистического искусства.
Существенной особенностью «Войны и мира» является то, что батальная тема романа тесно переплетена с широким изображением всего хода жизни, ее сплошного потока в эпоху 1812 года. То, что совершается на полях сражений, здесь теснейшим образом связано с многообразными обстоятельствами человеческого бытия. Персонажи романа выступают перед нами в сложном комплексе часто противоречивых чувств, настроений, поступков, образующих психологическую целостность личности. Этим достигается тот всеохватывающий психологический синтез, при котором приобретает органическое единство поведение людей в обстановке фронта и тыла или, говоря словами Толстого, в обстановке войны и мира.
Война в романе, как и в военных рассказах Толстого, возбуждает к себе его внимание не только сама по себе, но и в связи с тем, как и какие свойства своего характера обнаруживают люди, принимающие в ней либо непосредственное участие, либо так или иначе вовлекаемые в ее события. Большинство персонажей «Войны и мира», действующих на войне, проявляет себя и в мирной обстановке. Война для них, как и для тех, кто физически
- 85 -
стоит в стороне от нее, является своего рода экзаменом, дающим возможность выявиться в полной мере их душевным качествам, положительным или отрицательным. Для положительных персонажей она — великое испытание, поднимающее их на новую высоту, вскрывающее заложенные в их натуре здоровые нравственные силы, для отрицательных — она наиболее подходящий повод, чтобы во всей полноте могло сказаться их нравственное ничтожество.
Свое замечательное умение живописать человеческие характеры Толстой проявил в изображении огромного числа действующих в романе лиц, от главных до второстепенных и третьестепенных, проходящих в широкой перспективе романа лишь мельком. Оно обнаруживается прежде всего в изображении двух центральных фигур «Войны и мира» — Андрея Болконского и Пьера Безухова. В них нашли воплощение два незаурядных по своему внутреннему содержанию психологических типа, некоторыми особенностями своего душевного и умственного склада выходящие за пределы эпохи, во многом отразившие процессы душевной жизни самого автора.
Характерной чертой Андрея Болконского является его незаурядная умственная одаренность, напряженная работа мысли, проявляющаяся, между прочим, в склонности к постоянному самоанализу и самоконтролю. Ум Андрея Болконского трезвый, с наклонностью к иронии и резким суждениям. Но самая напряженность его мысли — результат большого, хотя и скрытого темперамента, внешне сдерживаемого внутренней дисциплиной и выдержкой человека, умеющего управлять своими душевными движениями. Князь Андрей — натура волевая, стремящаяся проявить себя в деятельности, к которой его особенно влекут честолюбие, жажда власти и славы. Однако в нем сильны нравственные устои, не позволяющие ему быть неразборчивым в средствах для достижения своих целей: он — человек долга и чести, готовый на самопожертвование во имя того, что считает высшими ценностями, способный на самые бескорыстные поступки и доступный самым высоким душевным порывам.
Андрей Болконский головой выше светской среды, которую он презирает за пустоту и нравственное ничтожество. Его тянет к людям, выделяющимся по своей внутренней сущности и по своей человеческой значительности,
- 86 -
будь то главнокомандующий Кутузов или скромный армейский капитан Тушин. Аристократическая гордость и самоуважение, унаследованные им от отца, не позволяют ему приспособляться к обстоятельствам, искать легких путей к достижению жизненных успехов, идти проторенными дорогами. Душевный мир его сложен и противоречив. Жажда славы и героического подвига вдруг кажется ему суетной, ничего не стоящей, когда он, раненный, лежит на Аустерлицком поле и смотрит на высокое небо. Теперь ему представляется, что «все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба», и его герой — Наполеон — в эту минуту «казался ему столь маленьким, ничтожным человеком, по сравнению с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом и бегущими по нем облаками». Под влиянием испытанного им душевного кризиса он решает больше не служить на военной службе, замыкается в своем имении и посвящает себя воспитанию сына, оставшегося у него после умершей родами жены, и улучшению быта своих крепостных крестьян. К мужику он относится пренебрежительно и если считает нужным освободить крестьян, то думает при этом не об их интересах, а об интересах рабовладельцев-дворян, которых рабство развращает и которых он единственно жалеет.
Увлечение Наташей Ростовой на время возвращает Болконскому утраченную душевную молодость, привязывает его к жизни и побуждает отдаться общественной деятельности в сотрудничестве со Сперанским, но вскоре он разочаровывается и в нем самом, и в его проектах законодательных реформ. Разрыв с Наташей доставляет ему глубокие страдания, от которых он стремится отвлечься, снова приняв участие в войне. Нашествие Наполеона на Россию вызывает у него подъем патриотических чувств и ненависть к захватчикам. Смертельная рана, полученная Болконским на Бородинском поле, приводит его к новому духовному кризису. По мере приближения к смерти он все более и более отрешается от земных интересов и все более проникается чувством христианской любви и всепрощения. Еще на перевязочном пункте, сейчас же после ранения при Бородине, мучительно страдающий, он испытывает любовь и нежность не только к Наташе, но и к лежащему рядом с ним с
- 87 -
отрезанной ногой своему врагу Анатолю Курагину, разлучившему его с невестой. Через неделю после этого Болконский просит достать ему Евангелие, читая которое он непрестанно ощущает, как распускается в нем «цветок любви». Тут Толстой наделил образ Андрея Болконского такими чертами, которые отразили его собственное мировоззрение. И здесь мы имеем отзвук «его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п.»1.
Пьер Безухов — побочный сын екатерининского вельможи, унаследовавший большое богатство, грузный, неловкий, рассеянный человек, застенчивый и чувствительный, подверженный разнообразным увлечениям — духовным и чувственным. По отсутствию внутренней собранности, последовательности в своих поступках он представляет собой фигуру, в значительной степени контрастирующую с Андреем Болконским. Его характеризует не столько напряженная работа мысли, сколько непрестанные поиски нравственного идеала, не исключающие у него, однако, и нравственных падений, как следствия слабости воли. Отрезвившись после беспорядочного прожигания жизни, после разрыва с женой, Безухов усиленно сосредоточивается на искании смысла жизни, увлекается масонством, а затем остывает и к нему. События Отечественной войны глубоко волнуют его, поглощают целиком и в высшей степени обостряют его патриотические чувства. Попав в плен к французам, он сближается с Платоном Каратаевым и испытывает на себе влияние его фаталистического миросозерцания. Душевную гармонию, избавление от внутреннего разброда и личное счастье он находит в браке с Наташей Ростовой, но счастливая семейная жизнь не уводит его от общественных и политических интересов, и через семь лет после женитьбы, в 1820 году, мы видим его членом тайного общества, с возмущением говорящим о безудержной реакции, наступившей в России, о тирании Магницкого, Аракчеева и им подобных, о потворстве им со стороны государя и о полном его безучастии к положению дел в государстве.
- 88 -
Он видит, что «все гибнет». «В судах, — говорит он, — воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет...»
В тайное общество Пьер вступает потому, что он, как и Андрей Болконский, — горячий патриот, болеющий за судьбы своей родины, своего народа, потому, что он, в отличие от Николая Ростова, чей внутренний мир классово ограничен, живет широкими общественными интересами, чуждыми рядовой дворянской среде. События Отечественной войны 1812 года, в которые он активно вмешался, сблизили его с солдатской массой. Он усмотрел в ней такие высокие нравственные качества, такой подъем патриотического сознания, которые духовно переродили его и укрепили его в чувстве любви к своему народу. Еще до войны его заботит положение крепостных крестьян, и он в ожидании полного освобождения их от крепостной зависимости делает распоряжение об улучшении их участи в своих имениях, об облегчении их работы, об устройстве для них больниц, приютов, школ. Путь внутреннего и общественного развития Пьера вел ко все большему нарастанию у него демократизма, который не мог мириться с самодержавным произволом, душившим в стране все живое и духовно здоровое.
Не следует, однако, преувеличивать политический радикализм Пьера. Так, отвечая на вопрос Николая Ростова, в какие отношения станет тайное общество к правительству, он говорит: «Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого боремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности».
Речи Безухова жадно, с волнением слушает сын Андрея Болконского, Николенька, который в ответ на вопрос, заданный им Пьеру: «Если бы папа был жив... он бы согласен был с вами?» — слышит в ответ: «Я думаю, что да».
- 89 -
Из женских образов романа наибольшим художественным совершенством отличается образ Наташи Ростовой. В галерее женских образов мировой литературы он один из самых ярких и увлекательных. Во всем ее облике нас пленяют живая непосредственность, искренность, сердечная чуткость и отзывчивость, сила и глубина чувства, чисто человеческая одаренность ее натуры, тянущейся к самым истокам народной жизни, ее патриотизм. Она — воплощение внутренней прелести и душевной грации. Недаром в нее влюбляются и Андрей Болконский, и Пьер Безухов, и Василий Денисов, ее любят и любуются ею ее родители, и братья, и старуха Ахросимова, и все, кто ее близко знает. Лишь в эпилоге романа с Наташи — теперь уже жены Пьера Безухова — снимается тот ореол поэтического очарования, в каком она выступает перед нами до своего замужества. Она целиком поглощена интересами прозаического домашнего быта и семейного благополучия. Сознательно депоэтизируя образ Наташи, ограничивая ее внутренний мир исключительно мыслями и заботами о семейном очаге, Толстой тем самым лишний раз вступает в прикрытую полемику с передовыми взглядами своего времени по вопросу о женской эмансипации, отрицая равноправие женщины и мужчины в их личной и общественной жизни.
С большим жизненным правдоподобием и замечательной выразительностью встают перед нами со страниц «Войны и мира» фигуры и Николая Ростова, и старого князя Болконского, и его дочери княжны Болконской, и многих других персонажей романа.
В художественных образах «Войны и мира» — главных и второстепенных — нас привлекает не только глубокое проникновение художника в человеческие характеры и в исторический быт, но и та радостная сила жизни, которая действует необыкновенно заражающе. Написанный в период полного расцвета творческих сил Толстого, роман «Война и мир», пожалуй, больше, чем любое другое его произведение, отражает полноту утверждающего восприятия жизни, и в этом одна из причин неувядаемой мощи и непреходящей художественной ценности романа.
Радостная, здоровая, жизнеутверждающая стихия «Войны и мира» дает себя знать не только в изображении торжества русского войска и русского народа над
- 90 -
врагом, но и в сценах частной жизни, в которых с огромным художественным мастерством и с явным авторским сочувствием нарисованы картины быта, времяпрепровождения, развлечений и увлечений молодежи, рассказано о сердечной жизни любящих и влюбленных пар. Достаточно вспомнить хотя бы описание именин у Ростовых, бала «подростков» у Иогеля, поездки князя Андрея к Ростовым в Отрадное, новогоднего бала у екатерининского вельможи, на котором танцует Наташа, описание охоты и последующей за ней поездки к «дядюшке», святочного веселья молодежи и многого другого, относящегося не к военной, а к мирной жизни.
Критика указывала, что на фоне усадебного дворянского быта Толстой не показал жизнь закрепощенного крестьянства или показал ее не в полном соответствии с действительностью, как, например, в изображении богучаровского бунта. Упреки критики в этом отношении имели свои основания; нужно только сказать, что Толстой в соответствии с общим своим авторским замыслом, с идейной направленностью романа в целом не ставил своей задачей показать сколько-нибудь широко положение крепостных крестьян в эпоху Отечественной войны 1812 года, но все же в той главе, где идет речь о поездке Пьера в Киевскую губернию, в свои поместья, дана неприглядная картина бедственного положения его крестьян, которое всячески старается скрыть от своего доверчивого барина главноуправляющий его имениями.
Впрочем, нужно иметь в виду, что во время работы над «Войной и миром» Толстой не только не порвал еще со своим классом, но во многом разделял общественные и социальные его воззрения. Этим объясняются и любование Толстого бытом и поведением усадебного дворянства, и отсутствие в романе глубокого интереса к судьбе крепостного крестьянства.
Говоря о «Войне и мире» и определяя жанровую природу этого произведения, мы традиционно именуем его романом, точнее — историческим романом. По существу это, конечно, правильно, хотя сам Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» писал: «Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме,
- 91 -
в которой оно выразилось»1. А в одном из черновых набросков предисловия к «Войне и миру» Толстой утверждал, что «европейская форма» романа не годится для выражения русского национального содержания: «русская художественная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя новой»2.
В определении жанровой природы «Войны и мира» затруднялись и некоторые критики, обращавшие внимание на большое количество в романе философских рассуждений чисто статейного характера, переключавших его в историко-философский трактат, а также на то, что в характеристике ряда персонажей (например, Андрея Болконского, Пьера Безухова) Толстой, нарушая историческую перспективу и руководствуясь своими общественно-философскими воззрениями, наделяет их такими особенностями их внутренней жизни и такой усложненной психологией, какие не свойственны были людям начала XIX века и скорее характеризуют уже современников писателя. Нужно, однако, сказать, что сама форма романа, как и всякого другого литературного жанра, не является чем-то каноническим, раз навсегда установленным, и каждый большой художник волен усложнять и видоизменять ее в зависимости от поставленных им перед собой задач, что и сделал Толстой в «Войне и мире». «Война и мир» не перестает быть историческим романом или, еще точнее, исторической эпопеей, несмотря на то что с точки зрения исторической некоторые характеры «Войны и мира» могут считаться спорными.
Все те особенности художественного стиля, которые характеризовали предшествующее творчество Толстого и которые с таким мастерством были вскрыты Чернышевским, в «Войне и мире» нашли свое дальнейшее развитие и обогащение. Глубина и проникновенность психологического анализа, смелое изображение «диалектики души», между прочим при помощи «внутреннего монолога», удивительно меткая характеристика персонажей посредством описания их жестов, движений, «немых» разговоров глазами, улыбкой, использование отдельных характерных деталей в портретной живописи, в картинах природы и в батальных сценах, наконец высокое реалистическое
- 92 -
искусство, присущее роману на всем его протяжении, — все это в «Войне и мире» выступает как новый шаг вперед в художественном мастерстве Толстого.
Ряд критиков, откликнувшихся на выход в свет «Войны и мира», упрекали Толстого за его философские экскурсы, перемежающиеся с художественным материалом романа, а также за то, что в романе слишком большое место занимает французский язык. В ответ на упреки второго рода Толстой писал: «Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая лица русские известного общества, и Наполеона, и французов, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлекся формой выражения того французского склада мысли больше, чем это было нужно»1.
Из этих слов Толстого можно заключить, что он, очевидно, сознавал известное излишество не только в употреблении в романе французского языка, но и в передаче французского склада мысли русской речью. Действительно, не только в речах персонажей «Войны и мира», но и в авторском повествовании встречается значительное количество галлицизмов — лексических, фразеологических и синтаксических, которые вводились Толстым главным образом с целью воспроизведения колорита эпохи и для более выразительной речевой характеристики представителей великосветской среды, выведенных в романе. Как бы сам подчиняясь складу речи своих персонажей, Толстой и в своем авторском языке допускал большее количество галлицизмов, чем в предшествующих и последующих своих произведениях.
Толстой часто вкладывает французский язык в уста своих персонажей с целью их разоблачения, с тем чтобы показать, насколько они далеки от внутренне полноценных русских людей, которым он симпатизирует. Эти последние реже прибегают к французскому языку или прибегают к нему лишь тогда, когда общаются с представителями галломанствующих слоев светского общества. Простонародной, крестьянской речью, с большим мастерством использованной Толстым в «Утре помещика» и «Поликушке», говорят в «Войне и мире» не только крестьянские персонажи, в частности Платон Каратаев, но нередко и сам автор в своем повествовании.
- 93 -
В 1873 году в очередное издание своих сочинений Толстой включил текст «Войны и мира» в значительно переработанном виде. Помимо того что роман был разбит на четыре тома вместо прежних шести, что философские и исторические экскурсы, входившие в 4-й, 5-й и 6-й тома первых двух изданий романа (3-й и 4-й тома всех последующих изданий), отнесены были в виде приложения в конец последнего тома под заглавием «Статьи о кампании 12-го года», а отдельные философские вступления к некоторым главам совсем удалены, — все написанное на иностранных языках, в основном — на французском, было творчески переведено Толстым на русский язык, и этот перевод включен был в роман взамен иностранного текста. Одновременно по всему тексту сделаны были стилистические исправления.
Очевидно, замена иностранного текста русским, а также отнесение философских глав в конец романа сделаны были Толстым под влиянием упомянутых выше упреков критики. Текст «Войны и мира» в издании 1873 года был повторен и в следующем издании сочинений Толстого — 1880 года, но в 1886 году, в пятом издании сочинений, «Война и мир» была напечатана по тексту 2-го издания 1868—1869 годов, то есть с удержанием иностранных текстов с подстрочными переводами их на русский язык и с первоначальным расположением философских экскурсов между беллетристическими главами. От изданий 1873 и 1880 годов в 5-м издании удержано было только деление романа на четыре тома. Несмотря на то что Толстой активного участия в издании своих сочинений в ту пору уже не принимал, передав распоряжение ими своей жене, нельзя допустить, чтобы возвращение к первоначальному тексту «Войны и мира» было сделано без согласия Толстого. К тому же известно, что он просматривал корректуры 5-го издания своих сочинений. Таким образом, имеются все основания для того, чтобы в основу т. н. канонического текста «Войны и мира» положить первоначальный текст романа с сохранением иностранного словарного материала и с расположением философских рассуждений внутри текста романа.
При жизни Толстого вышло еще таких четыре издания его сочинений, в которых иностранные тексты в «Войне и мире» заменены русским переводом, но философский
- 94 -
материал помещен внутри текста романа. Эти удешевленные издания рассчитаны были на широкий круг читателей, и нет оснований предполагать участие в них Толстого.
Стремлением соблюсти колорит эпохи объясняется и наличие в «Войне и мире» элементов архаического официально-делового стиля и устарелых оборотов речи, характеризующих книжный язык конца XVIII — начала XIX века и особенно обнаруживающих себя в традиционных формах эпистолярной речи. Некоторым критикам «Войны и мира» казалось, что такого рода стилистические особенности романа повлекли за собой длинные и усложненные периоды, которыми изобилует «Война и мир» и которые одному из критиков напомнили средневековую латынь или стиль наших старых приказных и рассматривались им как отход к стилю докарамзинского периода. На самом же деле употребление Толстым трудных, подчас стилистически шероховатых периодов было следствием того, что стремление уяснить сложные исторические и философские вопросы, показать напряженную работу мысли заставляло Толстого, не считаясь с грамматическим пуризмом, прибегать к усложнению своего синтаксиса. Это очень хорошо понимал Чехов. «Вы обращали внимание на язык Толстого? — спрашивал он. — Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы»1.
«АННА КАРЕНИНА»
Вскоре после окончания работы над «Войной и миром» Толстой принялся за роман из эпохи Петра I, надеясь в этой эпохе, о которой он говорил, что «весь узел
- 95 -
русской жизни сидит тут», найти разгадку исторических судеб России и русского национального характера. Убеждение в том, что Россия должна развивать самобытную национальную культуру, должно было стать, как и в «Войне и мире», одной из центральных идей романа, и в этом заключалась органическая связь этих произведений. Очень показательна запись Толстого, сделанная им в самом начале работы над новым романом: «Петр, т. е. время Петра, сделало великое необходимое дело, но, открыв себе путь к орудиям Европ. цивилизации, не нужно брать цивилизацию, а только ее орудия для развития своей цивилизации. Это и делает народ»1. Однако, заготовив для романа много материала и написав ряд художественно полноценных фрагментов его, Толстой не довел до конца эту работу, с трудом ему дававшуюся, хотя и вновь возвращался к ней в конце 70-х годов. Ему трудно было, как он сам признавался, проникнуть в отдаленную от его времени эпоху, в психологию тогдашних людей, представить себе их быт, обстановку их жизни. Очень охлаждало Толстого в его работе и то, что, по мере углубления в исторический материал, личность Петра все более и более отталкивала его.
Летом 1871 года Толстой жил в самарских степях, лечась кумысом. Вскоре он приобрел в Самарской губернии имение, куда начиная с 1872 года ездил на летние месяцы несколько раз подряд, иногда со всей семьей. В 1873 году Самарскую губернию постиг голод, и Толстой принял участие в помощи голодающим. По его инициативе был организован сбор денежных пожертвований в пользу голодающих, давший значительную сумму и облегчивший нужду самарских крестьян.
С большой энергией принялся Толстой в 1871—1872 годах за составление своей обширной «Азбуки». К этому побудило его новое увлечение педагогикой, которая теперь, по его признанию, интересовала его больше, чем литературная деятельность. «Азбуке» Толстой придавал исключительно большое значение. А. А. Толстой он писал: «Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей — от царских до мужицких — и первые впечатления поэтические получат из нее, и что,
- 96 -
написав эту «Азбуку», мне можно будет спокойно умереть»1. Ей же он писал в другом письме: «Эта азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно»2. И Толстой в связи с этой новой, увлекавшей его работой усиленно занимается греческим языком и естественными науками, особенно физикой, а также астрономией, для составления популярных статей по этим дисциплинам.
Говоря об «ужасной» работе над языком «Азбуки», Толстой имел в виду преимущественно работу над языком детских рассказов, вошедших в «Азбуку». Язык этих рассказов, образцом которых и лучшим достижением, по справедливому отзыву самого Толстого, является «Кавказский пленник», Толстой довел до предельной степени простоты и ясности, так, чтобы он мог пройти «через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок». Язык этот Толстой вырабатывал, прислушиваясь к языку крестьянских ребят, вчитываясь в написанные ими рассказы, используя материал сказок, пословиц, былин. Это был в полной мере народный язык, общепонятный, доступный всякому и потому чуждый диалектизмов и местных лексических особенностей. В марте 1872 года Толстой писал Н. Н. Страхову: «Бедная Лиза» выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже не прочтет, а песни, сказки, былины — все простое будут читать, пока будет русский язык.
Я изменил приемы своего писания и язык... язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того, — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит...»3
В этот период Толстой тратил много времени на организацию школьного дела, на составление учебных руководств, на публичные выступления и литературную полемику по вопросам народного образования, в частности
- 97 -
по вопросу о методе обучения грамоте. В декабре 1874 года он писал А. А. Толстой: «Я теперь весь из отвлеченной педагогики перескочил в практическое, с одной стороны, и в самое отвлеченное, с другой стороны, дело школ в нашем уезде. И полюбил опять, как 14 лет тому назад, эти тысячи ребятишек, с которыми я имею дело. Я у всех спрашиваю, зачем мы хотим дать образование народу, и есть пять ответов. Скажите при случае ваш ответ. А мой вот какой. Я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить! И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе. И дело у меня идет хорошо, очень хорошо. Я вижу, что делаю дело и двигаюсь вперед гораздо быстрее, чем я ожидал»1.
В марте 1873 года Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», задуманным еще в 1870 году и законченным лишь в 1877 году. Толстой первоначально хотел показать в нем судьбу «потерявшей себя» замужней женщины из высшего общества. Замысел этот был связан с вопросом о свободе чувства для женщины, ставшем на очередь дня особенно в пореформенную эпоху. Но чем дальше подвигалась работа над романом, тем все шире раздвигались его рамки, как это большей частью бывало у Толстого.
До нас дошло большое количество черновых материалов, относящихся к «Анне Карениной»2, в том числе ранний конспективный набросок всего произведения, в котором для отдельных глав намечен был только схематический план. По этому конспективному наброску легко судить о тех рамках, в которых должна была развиваться тема романа.
- 98 -
Эти рамки определялись первоначальным замыслом Толстого. Героиня — неверная жена, жалкая, но не преступная. Она молода, полна неизрасходованных жизненных сил, страстно хочет любить и быть любимой, но муж ее, кроткое и доброе существо, — человек невзрачный, рассеянный и чудаковатый, в полном смысле слова «не от мира сего». Он никак не мог импонировать ни обществу, в котором вращаются супруги, ни жене. Жена, встретившись на своем жизненном пути с красивым молодым аристократом, который пробуждает в ней не выявившийся до сих пор инстинкт настоящей женской любви, теряет голову и смело и дерзко, не считаясь с моральными преградами, ведет борьбу за свое счастье. Без той напряженной рефлексии и мучительного самоконтроля, которые характеризуют поведение Анны в окончательной редакции романа, она преступает обычные моральные устои, не считаясь с горем и страданиями своего незлобивого мужа, пренебрегая установившимися нормами поведения замужней женщины. Она беззастенчиво лжет мужу и его любимой сестре, впоследствии замененной отталкивающей ханжой графиней Лидией Ивановной, и подчас бравирует свободой своего поведения и своих суждений о любви. Она «дьявол» в образе женщины; в ее облике — «дьявольский блеск», в душе — «решимость ни перед чем не останавливаться на своем порочном пути».
И при всем том она действительно жалка в своем любовном угаре. Ни Анна, ни Вронский не находят счастья в своей связи. Светское общество отвернулось от них, а признание людей свободомыслящих, «нигилистически» настроенных, «дурно воспитанных» писателей, музыкантов и художников, посещающих их, не доставляет им радости. Анна не может отделаться от мысли о лживости своего положения; она, кроме того, ревнует Вронского. Чтобы спасти себя от одиночества, она придумывает себе разные средства: пробует блистать красотой и нарядами и завлекать мужчин, пытается «построить себе высоту, с которой бы презирать тех, которые ее презирали», но все это оказывается не в ее натуре. Остаются одни «животные отношения» с любимым человеком и роскошь жизни, да еще «привидение» — покинутый муж, «осунувшийся, сгорбленный старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья на
- 99 -
своем сморщенном лице». Анна не выдерживает такой жизни и кончает самоубийством.
Каренина, уже в раннем воплощении Толстым его замысла, не виновата в том, что она «потеряла себя» и стала неверной женой. Она, правда, эгоистична и безучастна к своему жалкому, хотя и доброму мужу, но это потому, что не в ее силах совладать со своей страстью и преодолеть нахлынувшее на нее любовное влечение, которого она никогда не испытывала к супругу, обделенному природой и лишенному таланта любви. Уже в одном из ранних вариантов романа появляется библейский эпиграф, отнимающий у людей право судить грешницу. Первоначально этот эпиграф, в котором идет речь о божьем, а не человеческом суде над женщиной, изменившей мужу, был заимствован из Шопенгауэра и звучал так: «Отмщение мое», затем дан был точный его библейский текст на церковнославянском языке: «Мне отмщение, и аз воздам». И раз поставленный эпиграф уже не снимался, несмотря на то что он далеко не исчерпывал усложнившегося впоследствии внутреннего смысла романа.
В процессе работы над романом Толстой все более и более отходил от первоначальной обрисовки характера Анны и Каренина. Чем дальше, тем больше морально повышался и духовно обогащался образ Анны и одновременно снижался моральный облик Каренина, постепенно превращавшегося в педантически самоуверенного и сухого бюрократа, пытающегося регламентировать свою семейную жизнь по принципам канцелярского уклада.
Художник, умевший найти настоящую правду жизни и считавший, что только о ней и нужно говорить, зорко подметил в дворянском семейном и общественном укладе своей эпохи типическое и характерное и отказался от изображения единичного и потому не характерного. Он в завершительной редакции романа рассказал о трагедии молодой, внутренне незаурядной женщины, погибшей в тисках светского общественного быта и его морали, наиболее типичным выражением которой было поведение ее постылого мужа и ближайшей аристократической среды. Холодной и бездушной морали Каренина и его круга и душевно ограниченной, формальной правоте поведения Вронского противопоставлена правда
- 100 -
впервые горячо полюбившего женского сердца, которое не выдержало непомерной тяжести легшего на него нравственного бремени.
Но трагедия Анны в трактовке Толстого коренится не только во внешних обстоятельствах, сопутствовавших ее жизни, но и в самих свойствах ее натуры. Анна — воплощение страсти, до времени не находившей себе проявления, как бы заглушенной привычным укладом повседневного быта светской женщины, супруги сановника и матери любимого сына. Когда же Каренина на своем пути встретила человека, пробудившего у нее дремавшее чувство никогда еще не испытанной любви, она, глубоко захваченная этим чувством, радуясь ему и борясь с ним, все более и более отдается во власть его и всецело подчиняет ему свою внутреннюю жизнь. Она любит сына, рожденного ею от нелюбимого мужа, потому что сын дал ее душевному миру то, чего не мог дать муж, и равнодушна к дочери, рожденной от Вронского, потому что страстью к нему до конца была заполнена ее жизнь, и в ее душе для дочери уже не оставалось места. Все, чем жила Анна после встречи с Вронским, все, о чем она думала и что делала, диктовалось ее страстью к нему и стремлением удержать его любовь к себе.
Тема опустошительной и испепеляющей страсти, не находящей себе выхода в мир широких человеческих интересов, не растворяющейся в чувстве семейных связей и отношений и в самой себе таящей роковую развязку, в творчестве и воззрениях Толстого занимает существенное место. Любовь — страсть, в себе замкнутая и превращающаяся в «поединок роковой», в представлении Толстого приводит к гибели и Анну Каренину.
В согласии с первоначальным замыслом, по которому в центре повествования должна была быть судьба несчастной в любви женщины, в первых набросках романа еще нет образов Левина и Кити. Лишь через некоторый, правда небольшой, промежуток времени Толстой решил, как это он делал часто в своих художественных произведениях, связать судьбу посторонних его биографии персонажей с судьбой персонажей, непосредственно связанных с его личной жизнью и с жизнью его близких. Так параллельно с линией Анна — Каренин — Вронский определилась как равноправная линия Левин — Кити, отразившая в существенных своих чертах
- 101 -
личные отношения самого Толстого с его невестой, потом женой, а также духовные искания и приближавшийся духовный кризис автора романа. К тому времени, когда задумана была «Анна Каренина», в творческом сознании Толстого возник ряд типов и образов, ждавших своего воплощения и пока еще не объединенных вокруг какого-либо центрального образа. И вот, как только он определился, так, говоря словами самого Толстого, «все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины»1, то есть Анны.
Осложнение рассказа о судьбе «потерявшей себя» женщины рассказом о жизни Левина и его общественных интересах и религиозно-философских исканиях неизбежно повлекло за собой введение в роман элемента злободневности. И это прежде всего потому, что сам Толстой — прототип Левина — живо откликался на важнейшие вопросы, занимавшие и волновавшие современное ему русское общество.
В «Анне Карениной» пореформенный помещичий и крестьянский быт и происшедшие в нем сдвиги и экономическое расслоение нашли самое живое и художественно убедительное отражение. Недаром Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» пользуется цитатой из «Анны Карениной» для уяснения того, «в чем состоял перевал русской истории» за полвека с 1861 по 1905 год, считая, что «трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов», чем та, которая выражается мыслью Левина: «У нас теперь... все это переворотилось и только укладывается...»2
Развитие и усложнение капиталистических отношений воочию предстает перед нами в изображении жизненного пути Левина, его брата Николая, другого брата — Кознышева, Вронского, Облонского, семьи Щербацких, помещика Свияжского, кулака Рябинина, знаменитого петербургского адвоката, крестьянского люда, фигурирующего в романе. Личная, интимная жизнь персонажей романа выступает на фоне глубоких социальных противоречий эпохи и этими противоречиями в конечном
- 102 -
счете определяется. Заглавие романа, как и его эпиграф, соответствовавшие объему темы в первоначальном замысле, применительно к законченному его тексту оказываются слишком узкими.
В промежуточных стадиях работы над романом Толстой порой полнее и определеннее характеризует некоторых из своих персонажей, отражающих общественные движения эпохи и в окончательном тексте лишь бегло упоминаемых. Так, о Крицком, приятеле и сотруднике Левина в деле насаждения в деревне производительных артелей, прямо сказано, что он социалист, проповедующий коммунизм и утверждающий необходимость насильственной борьбы с существующим общественным строем. В этом смысле в черновых текстах Крицкий и высказывается, и его речи, как и речи Николая Левина, — непосредственный отзвук идей революционного народничества 70-х годов, которые Толстой так или иначе склонен был ассоциировать с нигилизмом.
В первоначальных планах и набросках «Анны Карениной» несколько раз упоминаются нигилисты, принимающие своими советами какое-то участие в семейной драме Анны и Каренина. В дальнейшей работе над романом нигилисты в этой ситуации и вообще никак прямо не фигурируют, возможно, потому, что в 70-х годах нигилизм в том его понимании, какое утвердилось в 60-е годы, становится уже анахронизмом. Но в одной из черновых редакций романа все же имеется эпизод с выпадом против нигилистов. Тут мы читаем впоследствии исключенную главу, в которой в связи с заботами Каренина о воспитании его сына Сережи рассказывается о совещании Каренина с приглашенным им педагогом. Воззрения и поведение этого педагога очень подходят к тем, которые обычно связывались с понятием нигилизма. Педагог относится с презрением к Каренину и к его взглядам на воспитание и не пытается даже скрыть этого. Он возражает против религиозного элемента и против «чувственной стороны» в воспитании и считает основной его задачей образование в душе ребенка «правильных понятий». В окончательном тексте ни о планах Каренина относительно воспитания сына, ни о споре Каренина с педагогом, ни о поведении и взглядах педагога ничего не говорится, и единственным намеком на его нигилизм является лишь фраза, обращенная к Сереже:
- 103 -
«Вы бы лучше думали о своей работе, а именины никакого значения не имеют для разумного существа. Такой же день, как и другие, в которые надо работать».
В окончательном тексте романа Анна, находясь в «обществе партии крокета» у Бетси, спрашивает ее: «Вы будете на празднике у Роландаки?» Из текста неясно, кто такой этот Роландаки, так как больше о нем здесь нигде не упоминается. Чтобы понять, каким образом в завершенный текст попала эта фамилия, нужно обратиться к черновым редакциям, в которых о Роландаки, вначале фигурирующем под фамилией барона Илена или Ильмена, говорится довольно подробно. Это финансовый делец нового типа, очень богатый, умный, образованный и прекрасно воспитанный человек. «Общество партии крокета» собирается на его богатой даче, а не на даче Бетси, как в окончательной редакции. У него бывают представители высшего света, вплоть до великого князя, которые ездят к нему, чтобы приятно провести время, вкусно поесть, посмотреть его картины, но они вместе с тем относятся к нему как к чуждому им по положению человеку, с которым общаются лишь в известных, строго очерченных границах. Среди гостей Роландаки-Илена — и Вронский и Анна. Этот впоследствии отброшенный Толстым эпизод очень хорошо иллюстрирует социальную эволюцию русской аристократии в 70-е годы — по тому же приблизительно пути, через который прошел и Стива Облонский.
«Анна Каренина» писалась на протяжении 1873—1877 годов, и Толстой, по мере того как работа над романом подвигалась вперед, отзывался в нем на многое из того, что возбуждало умы русского общества и находило отклики в печати как раз в эти годы или незадолго до этого. Научные и философские проблемы, вопросы искусства, исторические политические события, отдельные правительственные мероприятия, факты общественной жизни за это время в той или иной мере подверглись обсуждению в «Анне Карениной»1.
Так, в ней нашли себе отражение споры русских ученых
- 104 -
и философов по вопросу о границах между психическими и физиологическими явлениями, главным образом развернувшиеся на страницах «Вестника Европы» в 1872—1874 годы. Левин, интересующийся естествознанием, сам в курсе этих споров. Он же критикует популярное учение о теплоте Тиндаля, книги которого были переведены в России в конце 60-х и в первой половине 70-х годов. С ним ведет беседу помещик Свияжский о теории воспитания, высказанной Спенсером в статье, появившейся в русском переводе в 1874 году в журнале «Знание». Свияжский говорит также о «Шульце-Деличевском направлении», о «Мильгаузенском устройстве», занимающем теперь лучшие умы Европы, о громадной литературе по рабочему вопросу «Лассалевского направления». (В 1870 году вышло в русском переводе В. Зайцева собрание статей Лассаля.) Тот же Свияжский пытается заинтересовать Левина журнальной статьей о причинах раздела Польши. Этот вопрос в начале 70-х годов привлек ряд русских историков во главе с Костомаровым; на эту тему в «Вестнике Европы» за 1874 год напечатана была статья Щебальского, о которой, видимо, и идет речь в романе.
Каренин читает брошюру о путешествии, очевидно, известного путешественника П. Я. Пясецкого в Китай, вышедшую в 1874 году. Он же читает сочинение о евгюбических надписях — видимо, статью на эту тему Мишеля Бреаля, напечатанную в «Revue des deux Mondes» за 1874 год. Анна читает «новую книгу» Тэна, то есть его сочинение «L’ancien règime», первый том которого вышел в 1870 году. В черновых текстах она, кроме того, читает «модные серьезные книги» Токвиля, Карлейля, Льюиса. Полные собрания сочинений первых двух авторов вышли в оригиналах в 60-е и 70-е годы, наиболее же популярная книга Льюиса «Вопросы о жизни и духе» вышла на английском языке в 1874 году, а в русском переводе — в 1876 году. Князь Львов, озабоченный воспитанием сына, читает учебник русской грамматики Буслаева, вышедший в 1869 году. За обедом у Облонского в одной из черновых редакций романа ведется разговор на тему о неверности жены в браке в связи с полемикой по этому вопросу между Дюма-сыном и Жирарденом, завязавшейся во французской печати в 1871—1872 годах. (В окончательной редакции спор уже ведется отвлеченно —
- 105 -
на тему о правах и обязанностях женщины, без упоминания французских авторов.) В доме Щербацких спорят о спиритизме, особенно занимавшем некоторые круги русского общества начиная с 70-х годов; к помощи заезжего шарлатана-спирита обращается Каренин для решения своих семейных дел. Вместе с графиней Лидией Ивановной он в своей душевной тревоге одновременно старается опереться на учение о спасении одной лишь верой, без добрых дел. Это учение проповедовалось известным лордом Редстоком, приезжавшим в Россию в 1874—1875 годах и снискавшим себе здесь в великосветской среде усердных последователей, особенно в лице В. А. Пашкова, основателя секты «пашковцев».
Текущие вопросы и события в области искусства также находят себе значительное отражение в романе. Страницы, на которых говорится о встрече в Италии Вронского, Анны и Голенищева с художником Михайловым, как и некоторые другие страницы романа, не связаны тесно с его фабулой и без особого ущерба для нее могли бы отсутствовать, но они понадобились Толстому для того, чтобы отозваться на основные вопросы живописного искусства, тогда у нас обсуждавшиеся. Образ художника Михайлова и его реалистическая манера письма, особенно сказавшаяся в изображении Христа перед Пилатом, скорее всего связаны с личностью и творчеством художника И. Н. Крамского, написавшего в 1872 году картину «Христос в пустыне», в которой дан весьма очеловеченный образ Христа, близкий по идее к тому, какой вышел и из-под кисти Михайлова. В 1873 году Крамской рисовал известный портрет Толстого, и тогда, по свидетельству самого Крамского, между ним и Толстым велись долгие беседы по вопросам искусства, нашедшие, нужно думать, отражение в романе. «Ивановско-Штраусовско-Ренановское отношение к Христу и религиозной живописи», в котором Голенищев упрекает Михайлова, было свойственно и художнику Н. Н. Ге, автору картин «Тайная вечеря» (1863), «Вестники воскресения» (1867), «Христос в Гефсиманском саду» (1868). Толстой познакомился с Ге лично лишь в 1882 году, но, несомненно, знал его как художника значительно ранее.
Во время визита Левина с Облонским к Анне завязывается беседа о новом направлении в искусстве, о новой
- 106 -
иллюстрации Библии французским художником (очевидно, имеются в виду иллюстрации к библейскому тексту Доре, появившиеся в 1866 году). Анна говорит о торжестве реалистического направления в искусстве и литературе, в частности у Золя и Доде, романы которых стали выходить в свет с начала 70-х годов. Вронский и Кити на балу говорят о будущем общественном театре, о чем шли у нас усиленные толки со времени Политехнической выставки 1872 года, при которой был организован общедоступный народный театр. В романе упоминаются певицы Нильсон, Патти, Лукка, с большим успехом выступавшие в 70-х годах в Петербурге и Москве. Левин, слушая концерт, в беседе с Песцовым высказывается о недостатках вагнеровского направления в музыке, которые состоят в том, что музыка переходит в область чужого искусства. Как пример такой же ошибки, он приводит скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, стоящие вокруг фигуры поэта на пьедестале. Скульптором этим, окружившим фигуру поэта как бы тенями персонажей его поэтических произведений, был Антокольский, выставивший в 1875 году в Академии художеств свой проект памятника Пушкину.
Наконец, в романе мы находим отклики большею частью на свежие общественные события времени. В салоне Бетси говорят о всеобщей воинской повинности, введенной указом 1 января 1874 года. Каренин высказывается против чрезмерного притеснения башкир, подвергшихся в начале 70-х годов особенно жестокому угнетению со стороны местной администрации. На обеде у Облонского происходит спор о преимуществах классического и реального образования — отголосок того общественного возбуждения, которое связано было с введением нового гимназического устава 31 июля 1871 года, по которому в гимназиях для борьбы с вольнодумством введено было усиленное преподавание классических языков и лишь воспитанники гимназии получали доступ в университеты. На квартире у Катавасова в присутствии Левина идет разговор об университетском вопросе, являющийся отзвуком резких разногласий в профессорской среде Московского университета в 1867 году, результатом которых был уход в отставку трех молодых профессоров. Во время визита Левина к графине
- 107 -
Боль завязывается беседа о процессе иностранца, которого в виде наказания предложено было выслать за границу. Тут очевидный намек на громкий процесс железнодорожного афериста Струсберга, арестованного в Москве в 1875 году, преданного суду и приговоренного к ссылке в Сибирь, но в конце концов благодаря своему иностранному подданству высланного за границу.
Самым крупным общественным событием той поры был, конечно, «славянский вопрос». По словам Толстого, он пришел «на смену вопросам иноверцев, американских друзей, самарского голода...», то есть на смену разговорам, связанным с празднованием в 1875 году присоединения униатов к православной церкви, толкам о приезде американской депутации в 1866 году для поздравления Александра II с благополучным исходом покушения на него Каракозова и для выражения благодарности за вмешательство России в гражданскую войну в Соединенных Штатах; наконец, на смену общественному возбуждению, вызванному страшным голодом в Самарской губернии в 1873 году.
«Славянский вопрос» особенно обострился у нас со времени возникновения в июне 1876 года сербско-черногорско-турецкой войны, в которой приняли участие русские добровольцы. С самого начала добровольческое движение вызвало у Толстого отрицательное к себе отношение. Когда 1 апреля 1877 года Россией была объявлена война Турции, он писал А. А. Толстой: «Как мало занимало меня сербское сумасшествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня»1.
Добровольческое движение в пользу славян наряду с духовным кризисом Левина являются, как известно, центральными темами последней, восьмой части «Анны Карениной». Катков, редактор «Русского вестника», в котором печатался роман, воспротивился тому, чтобы печатать на страницах своего журнала выпады против добровольческого движения, но Толстой, в черновых редакциях восьмой части, или «эпилога», как она тогда обозначалась, отзывавшийся о «славянском вопросе» еще более резко, чем в окончательном тексте, настолько упорно отстаивал свои позиции, что, как мы знаем,
- 108 -
пошел на разрыв с Катковым и выпустил эту часть отдельной книжкой.
Так широко раздвинул Толстой рамки романа, задуманного первоначально лишь как повествование о судьбе неверной жены и об истории одной семьи. Морально-психологическая тема, легшая в основу замысла, получила всестороннее уяснение лишь после того, как она включена была в тему социально-общественную, и «Анна Каренина» оказалась романом одновременно и семейным и социальным.
Через двенадцать лет после его окончания, в 1889 году, Толстой в письме к своему знакомому Г. А. Русанову сам подчеркнул широту охвата жизни в романе и идейную его значительность. «Иногда, — писал он, — хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман, широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы все, что кажется мне понятым мною с новой, необычной и полезной людям стороны»1. Отсюда страницы и целые главы в «Анне Карениной», которых не ввел бы в роман писатель, взыскательный только к архитектурной стройности произведения (например, встречи Вронского и Карениной с художником Михайловым и в связи с этим рассуждения о сущности искусства, картина дворянских выборов; тема сербско-турецкой войны).
Толстой же, как правило, никогда не знал, как продолжит и как кончит он то, что начал писать, и на какие занимавшие его вопросы он отзовется в процессе работы над какой-либо сложной темой. «Знаете ли вы,— говорил он одному своему знакомому, — что я очень часто сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается»2. Так именно обстояло дело с «Анной Карениной», как ранее с «Войной и миром», как впоследствии с «Воскресением». И это происходило потому, что у Толстого работа над художественным произведением всегда сопровождалась стремлением уяснить себе существенные проблемы, волновавшие его и выдвигавшиеся живой современностью. Он смело нарушал установившиеся литературные каноны и жертвовал ими, когда ему нужно было откликнуться
- 109 -
на факты и события реальной жизни, так или иначе задевавшие и заставлявшие работать его сознание. Художественный образ для Толстого был прежде всего средством возможно более точно и наглядно сообщить читателю свои мысли о жизни и одновременно самому себе помочь оформить их в конкретном выражении. Как раз по поводу «Анны Карениной» Толстой писал критику Н. Н. Страхову: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, — сначала... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами, описывая образы, действия, положения»1.
Вот эта-то система «сцепления» мыслей при помощи художественных образов и сделала «Анну Каренину» произведением, в котором глубина идейного замысла органически и неразрывно сочеталась с неослабевающей мощью словесного искусства. По силе и мастерству изображения живых людей с их душевными переживаниями, с их радостями и страданиями, волнениями и заботами, нравственными исканиями и блужданиями «Анна Каренина» не уступает «Войне и миру». В «Анне Карениной» Толстой все тот же великий художник-психолог, необыкновенный знаток человеческой души, от глаз которого не укроется малейшее ее движение. Казалось бы, что во всем, ранее им созданном, он исчерпал все разновидности человеческой психологии и человеческих характеров, доступные писательскому и жизненному опыту одного художника. Однако в «Анне Карениной» Толстой, не повторяя себя, показал нам новые человеческие индивидуальности и проник в новые психологические глубины, им почти еще не затронутые или затронутые лишь мимоходом. Анна, Вронский, Каренин, Левин, Кити, Стива Облонский, его жена Долли — все
- 110 -
эти образы — замечательные художественные открытия, которые были под силу только все крепнувшему таланту Толстого, нашедшего и новые, свежие краски для изображения в романе быта и природы, и новые формы композиционного построения романа. В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский, сам как романист уступая пальму первенства Толстому, писал: «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение... и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться»1.
Основные социальные проблемы романа нашли особенно полное выражение в идейных исканиях Левина и в его неустанных попытках определить линию своего поведения в условиях развития капиталистических отношений, подрывавших экономические устои, на которых держалось помещичье хозяйство. Левин болезненно переживает процесс экономического оскудения дворянства. Ему, по его словам, «досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства». Он готов помириться с тем, что мужик скупает помещичью землю: Левин считает это справедливым, потому что «барин ничего не делает, а мужик работает и вытесняет праздного человека». Но ему трудно примириться с тем, что арендатор покупает за полцены чудесное имение у барыни, живущей в Ницце, что купцу отдают в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей.
Самая сложная проблема, непрестанно занимающая Левина, — установление рациональной экономической системы в области земледелия. Он отвергает те способы разрешения этой проблемы, которые имеют хождение в Западной Европе, куда он едет специально затем, чтобы проверить возможность приложения заграничных экономических систем к русской действительности. Отвергает он и теории либеральных помещиков, ориентирующихся на западную практику. Он пишет книгу, в которой старается доказать, что капиталистический путь развития гибельно отражается на судьбах земледелия в России. «Он доказывал, что бедность России происходит не
- 111 -
только от неправильного распределения поземельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, а особенно пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника — биржевой игры».
Левина больше всего волнует и заботит вопрос о том, как наладить такие отношения между помещиками и крестьянами, при которых можно было бы согласовать их интересы. С одной стороны, Левин испытывал «кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы». Считая переделку экономических условий «вздором», он тем не менее «всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». С другой стороны, Левин признает, что «никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе»; личный же интерес его, помещика, как это прекрасно видит Левин, находится в противоречии с интересами крестьян: «он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, — была только жестокая и упорная борьба между им и работниками». Наибольшая трудность в отношениях между барином и мужиком «состояла в непреодолимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, кроме желания обобрать их сколько можно». Левин и сам сознает, что он фактически эксплуатирует крестьянский труд. Он стремится к тому, чтобы устранить преграды, разделяющие помещика и крестьянина, путем создания таких условий, при которых крестьяне были бы заинтересованы в успехе помещичьего хозяйства, работая с помещиком на артельных началах, как пайщики в общем хозяйственном предприятии. Для такой согласованной работы нужно, по мнению Левина, «спустить уровень хозяйства». Ему в его утопических мечтаниях представляется, что это приведет к полному экономическому преобразованию страны. «Все хозяйство, главное, — положение всего народа, — думает Левин, — совершенно должно измениться. Вместо бедности — общее богатство, довольство; вместо вражды — согласие и связь интересов. Одним словом, революция бескровная,
- 112 -
но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира».
Однако Левин в конце концов приходит к сознанию бесплодности всех своих проектов установить гармонию во взаимных отношениях между помещиками и крестьянами на основе сохранения патриархального уклада, при котором помещичьи привилегии в землевладении останутся незыблемыми. Исторический ход вещей разрушает его утопические иллюзии. Неудовлетворенность своей хозяйственной деятельностью приводит Левина к неудовлетворенности жизнью вообще, к крайнему пессимизму, овладевшему им особенно после смерти брата. Он чувствует, что из-под его ног уходит та почва, на которой он старался держаться. Его одолевают религиозные сомнения, он теряет былую веру в бога. «И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».
Но хлопоты и заботы повседневной жизни, связанные с ведением хозяйства, с выполнением нравственных обязательств по отношению к родным, на время отвлекают Левина от мучительных и неразрешимых для него вопросов о смысле жизни. Реальная, практическая жизнь предъявляет ему свои требования; он старается ухватиться за них, и тогда тяжелые думы, преследовавшие его, на время оставляют его в покое. «Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды. Жить семье так, как привыкли жить отцы и деды, — то есть в тех же условиях образования и в тех же воспитывать детей, было несомненно нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется; и для этого так же нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в Покровском так, чтобы были доходы. Так же несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын, получив ее в наследство, сказал так же спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за все то, что он настроил и насадил. И для этого нужно было не отдавать землю внаймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать леса».
- 113 -
Но все же Левин не в состоянии подавить в себе внутреннюю тревогу. Мысли о тщете жизни, о смерти, делающей бессмысленной всякую деятельность человека, вновь и вновь продолжают преследовать его. Выход из создавшегося душевного тупика он находит в том, что глубоко проникается услышанными им от крестьянина-подавальщика Федора словами, сказанными о другом крестьянине — Фоканыче: «Он для души живет. Бога помнит». Эти слова потрясли Левина, «ослепляя его своим светом», принесли ему внутреннее успокоение, внушили сознание, что жизнь его «не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра», который он властен вложить в нее.
Так Толстой в преддверии своего собственного духовного кризиса наделяет Левина тем «просветлением» и тем душевным перерождением, которые несколько позднее пережиты были самим Толстым, но которые в романе в применении к Левину показаны очень неясно, схематично и недостаточно мотивированны.
Время, когда писалась «Анна Каренина», было отделено от времени работы Толстого над «Войной и миром» десятью годами, и это наложило свою печать на все содержание нового романа, определив господствующее в нем настроение. Если «Война и мир» по всему своему тону — роман, проникнутый оптимистическим отношением к жизни, то «Анна Каренина», наоборот, проникнута пессимизмом. В. И. Ленин указывал на «глубокие нотки пессимизма» в творчестве Толстого1. Такими нотками как раз изобилует «Анна Каренина». «Война и мир» — апофеоз здоровой, полнозвучной жизни, ее земных радостей и земных чаяний. Здесь утверждается прочное семейное начало, изображается настоящее «семейное счастье» двух супружеских пар — Пьера и Наташи Безуховых, Николая и Марии Ростовых. Личная жизнь людей тесно и благотворно сплетается с гражданской и общественной жизнью страны. Победоносный исход Отечественной войны, явившийся результатом сплочения всех моральных сил русского народа, великие очистительные испытания, через которые прошли в эту войну главные герои романа, нравственно закаляют их и открывают им путь для счастливой и удовлетворенной
- 114 -
жизни. Наиболее близкий по духу Толстому герой «Войны и мира» Пьер Безухов смысл своего существования находит в радостях семейной жизни и в работе политического деятеля, помышляющего о либеральных реформах. Его душевный мир, на время оказавшийся в плену у масонской мистики, в дальнейшем наполняется интересами не религиозными, а общественно-политическими, тесно связанными с реальными запросами современности.
Совсем другое видим мы в «Анне Карениной». Здесь господствует настроение напряженной тревоги и глубокого внутреннего смятения. Это обнаруживается уже в самой композиции романа, в которой присутствуют иррациональные соответствия и совпадения, мистические сны, предчувствия и предзнаменования, таинственные символы, навязчивые галлюцинации (гибель сторожа под колесами вагона, символически предрекающая такую же судьбу Анны; странный, уродливый, лохматый старичок, работающий над железом и произносящий при этом таинственные французские слова, несколько раз возникающий в галлюцинациях Анны, показавшийся ей в ее смертный час и привидевшийся во сне одновременно Анне и Вронскому в один из тревожнейших периодов их отношений; метель и буря во время возвращения Анны в Петербург, символизирующие ее душевную взволнованность; гибель Фру-Фру как предвестие гибели Анны; вспыхивающая и потухающая свеча как аллегорический образ смерти).
Все стремления героев романа создать себе счастье в любви, в семейных отношениях, в общественной деятельности терпят крушение. К трагедии приводит любовь Анны и Вронского. Но и в любви Левина к Кити, в их семейном союзе, таком поначалу, казалось бы, ясном и прочном, вскоре после их брака создаются мучительная пустота и неудовлетворенность. Кипучая и напряженная хозяйственная работа Левина, попытки принять участие в общественной деятельности, так же как и любовь, не избавляют его от тяжелого душевного тупика. От него он, близкий к совершенному отчаянию, спасается мужицкой религиозной верой, утверждающей жизнь для бога и для души, а не для личного эгоистического счастья, к которому он все время стремился до этого. Черствый и антипатичный Каренин, жизнерадостный, легкомысленный и по-своему симпатичный Облонский —
- 115 -
оба они делают несчастными своих жен. Анна разрывает брачные узы, но не находит счастья и в соединении с Вронским; Долли же терпеливо несет бремя спутницы своего ветреного и беспечного мужа и вся уходит в хлопоты и заботы о своих детях, о скудеющем изо дня в день материальном быте семьи. Нечего и говорить о том, как непригляден, мелок и ничтожен нравственный уровень личных и семейных отношений таких персонажей, как Бетси Тверская и ее светское окружение, собирающееся на партию в крокет.
Бесплодно и далеко от подлинных запросов жизни и все то, что делают государственные люди, общественные деятели и ученые, выведенные в романе, — от Каренина до участников дворянских съездов и авторов научных книг. Беспочвенны, обречены на полную неудачу попытки Крицкого и Николая Левина претворить в жизнь их радикальные социальные проекты, незадачлива судьба художника Михайлова. В конце концов даже система взглядов Левина на отношения между помещиком и крестьянами, на способы рационального ведения хозяйства, на средства поднятия народного благосостояния — взглядов, так упорно и сосредоточенно вынашивавшихся Левиным, — тоже оказывается не такой уж прочной и устойчивой при столкновении с теми сомнениями и разочарованиями, которые одолевают Левина после смерти его любимого брата. Самая смерть — Николая Левина и затем Анны — ни в одном из предшествующих произведений Толстого не показана с такой силой внутреннего трагизма, как в «Анне Карениной».
Вообще печать отрицания легла на все страницы романа, кроме тех, где идет речь о возрождении Левина в религиозной вере и где изображается целительная стихия природы, радость крестьянского труда (покос на Калиновом лугу) или красота крестьянской семейной идиллии и материнской любви Долли Облонской. Критикуются в романе и современная наука, и философия, и искусство, и идейные движения эпохи. Отрицательно изображается в «Анне Карениной» и добровольческое движение в пользу сербов, возникшее в среде русской интеллигенции в связи с сербско-турецкой войной, в противоположность тому, как Толстой расценивал патриотический подъем всего русского народа в Отечественную войну 1812 года в «Войне и мире».
- 116 -
Пессимизм, пронизывающий роман, станет нам понятен, если мы будем его рассматривать как реакцию Толстого на стремительное развитие в России капиталистических отношений, когда у нас, по мысли Левина, «все это переворотилось и только укладывается». Капитализм разрушал старые, устоявшиеся формы жизни и в дворянском и в крестьянском быту и насаждал в России новые формы буржуазного уклада, органически чуждого Толстому. «То, что «переворотилось», — писал Ленин, — хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что «только укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот «только укладывающийся» буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой «Англии», связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй»1.
Капиталистическая система, подчиняя жизнь Облонского буржуазным порядкам, разоряла и унижала Облонских, а на благосостоянии разоряющихся помещиков, как и на благосостоянии крестьян, строили свое благополучие кулаки-мироеды Рябинины. Те же порядки ставят непреодолимую преграду между Левиным и крестьянами, когда он пытается организовать свое хозяйство по новейшим западноевропейским образцам, и он приходит к заключению о необходимости «снизить уровень хозяйства», для того чтобы разрушить эту преграду. Распад семьи в глазах Толстого также косвенно связан с развитием капиталистических отношений: недаром в черновых редакциях романа Анна пытается найти себе поддержку среди тех слоев общества, которые были близки к радикальной буржуазии, — именно среди «нигилистов».
- 117 -
Роман создавался накануне той переоценки ценностей, которая вполне определилась у Толстого в начале 80-х годов и сопровождалась окончательным его переходом на идейные позиции патриархального крестьянства, окончательным отходом от официальной церковной религии и утверждением нового вероучения.
Очень напряженный и сложный внутренний процесс, связанный с критическим пересмотром своих религиозно-моральных взглядов, борьба старого в сознании Толстого с тем, что теперь представлялось единственной настоящей правдой, — все это постепенно нарастало в период работы над «Анной Карениной» и в свою очередь обусловливало тот пессимистический тон, которым проникнут роман и который отразил не только личное настроение Толстого, но и настроение широких народных масс, болезненно переживавших острую ломку нажитых традиций, не понимавших самой сути того нового, что приходило на смену старому, и не знавших, где искать помощи для борьбы с тем злом, какое приносила эта ломка. «Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу», — по словам В. И. Ленина, — есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, какие общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»1.
После того как закончена была «Анна Каренина», Толстой вторично с большим увлечением принялся за работу над романом из эпохи декабристов, ездил в Петербург для ознакомления с материалами, относящимися к декабристам, и в Москву для свидания с некоторыми декабристами и за нужными ему для работы книгами. Но этот роман не был закончен, он не давался ему, порой доставлял большие мучения; однако, как он сам писал, ни одна работа не занимала его так, как эта.
- 118 -
ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО В 80-е И 90-е ГОДЫ
Ко времени окончания «Анны Карениной» уже вполне созрел тот перелом во взглядах Толстого на жизнь, на ее нравственные основы, на религию, на общественные отношения, который лишь углублялся в 80-е годы и позднее, находя отражение во всем том, что теперь писал Толстой. В 80-е годы из-под его пера вышли такие сочинения, как «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», в 90-е — «Царство божие внутри вас». Во всех этих сочинениях он с большим волнением и искренностью пересматривал и свои собственные нравственные, религиозные и общественные взгляды и все то, чем жило современное ему общество и что усердно охранял социальный и государственный строй царской России.
«Я отрекся от жизни нашего круга, — пишет Толстой в «Исповеди», — признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей»1.
«Простой трудовой народ», в понимании Толстого, — это русское многомиллионное крестьянство, идейные, социальные и политические позиции которого теперь стали особенно близки Толстому. Критика Толстого направлена, впрочем, не только против отрицательных сторон лишь русской действительности, но и против устоев жизни привилегированных классов вообще во всех буржуазных странах.
Чтобы окончательно проверить себя в своем отношении к церковной вере, Толстой в 1879—1881 годах предпринимает поездку в Троице-Сергиеву лавру, путешествует пешком в Оптину пустынь (Калужской губернии), беседует о вере с монахами, в том числе со схимниками, архиереями, но эти беседы лишь укрепляют его в отрицательном отношении к официальной церкви.
Начав с отрицания церковной веры, Толстой все более проникался отрицательным отношением к официальной
- 119 -
православной церкви и к современному ему государственному строю. Ему внушает отвращение фигура Победоносцева, ставшего опорой реакции. В 1881 году он пишет Александру III письмо, в котором просит его не казнить революционеров, убивших Александра II, но Победоносцев отказывается передать это письмо по назначению. Вскоре Толстой записывает в дневник: «Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет»1. Когда десять народовольцев по «процессу 20» были приговорены к смертной казни, он, справляясь в письме к жене об участи приговоренных, пишет ей: «Не выходят у меня из головы и сердца. И мучает, и негодование поднимается...»2 Возникновение революционной ситуации в России в 1879—1880 годах не могло не вызвать у Толстого обострения его политической оппозиционности.
В сентябре 1881 года Толстой с семьей поселился на длительное время в Москве ввиду необходимости дать образование детям. Посещение им московского Хитрова рынка и ночлежного дома, а также участие в январе 1882 года в трехдневной московской переписи открыло ему глаза на ужасы городской нищеты, о чем он рассказал в трактате «Так что же нам делать?», явившемся в то же время изложением основных взглядов на коренные вопросы, волновавшие его. Он попытался разрешить в нем не только проблемы религии, морали, науки, искусства, но и проблемы социальные, экономические и педагогические.
В книге «Так что же нам делать?» вполне определились те позиции Толстого, которые сблизили его с идеологией патриархального русского крестьянства, протестовавшего против разорения и обнищания, связанных с проникновением в деревню капиталистических отношений.
Предвидя неизбежность русской революции, Толстой писал в этой книге: «Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, опасность эта
- 120 -
растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас, и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов...»1
В мировоззрении Толстого отразилась вся противоречивость крестьянского мышления и крестьянской психологии в пору стремительного наступления капитализма и подготовки в России буржуазно-демократической революции. В своих статьях о Толстом Ленин показал, что эта противоречивость у русского крестьянина и у Толстого сказалась в том, что страстный протест против гнета полицейско-самодержавного государства совмещался у него с политической незрелостью и религиозной мечтательностью.
Наиболее сильной стороной творчества Толстого Ленин считал его «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок»2. Это было результатом беспощадно-критического отношения Толстого ко всем тем уродствам общественной и государственной жизни, против которых он так страстно протестовал. «Критика Толстого, — по мысли Ленина, — потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д.». Тут же Ленин указывает на то, что «Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление
- 121 -
злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег»1.
К какому периоду жизни и творчества Толстого следует отнести все эти высказывания Ленина? Из всего контекста ленинских статей явствует, что Ленин имел в виду преимущественно последний период, начиная с 80-х годов, когда для Толстого действительно становятся характерными «беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс» и в то же время «юродивая проповедь «непротивления злу» насилием»2, когда мы слышим от него «горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви»3, когда Толстой предстает перед нами как «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик»4.
Это явствует и из следующих слов Ленина: «По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»5. Это, наконец, явствует и из тех резких и суровых обличений, которые Ленин направлял по адресу представителей казенной и либеральной прессы, лицемерно восхвалявшей Толстого в связи с восьмидесятилетним его юбилеем и через два года в связи с его кончиной.
Эта пресса выдвигала на первый план в обход конкретных вопросов демократии и социализма, поставленных Толстым, не то, что выражало его «разум», а то,
- 122 -
что выражало его «предрассудок». То же, в сущности, делали и меньшевики-ликвидаторы, против которых Ленин выступил со статьей «Герои «оговорочки».
Но вместе с тем необходимо иметь в виду, что Ленин неоднократно говорит о Толстом как о художнике и мыслителе, вполне определившемся, со всеми особенностями своего мировоззрения, не в последние десятилетия XIX века, а начиная с пореформенного периода, и отразившем в своих произведениях длительную эпоху — с 1861 по 1905 год. Ленин говорил о том, что «противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века»1, а затем указывал на то, что, принадлежа главным образом к эпохе 1861—1904 годов, Толстой и как художник, и как мыслитель и проповедник поразительно рельефно воплотил в своих произведениях «черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость»2.
В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» Ленин характеризует Толстого как мыслителя, которому чужда определенная конкретно-историческая постановка вопросов общественной жизни, который рассуждает отвлеченно, допуская «только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии»3, не сознавая, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение крепостного строя. Ленин ссылается при этом не только на позднейшие его произведения, но и на такие, как «Анна Каренина» и даже «Люцерн» (1857) и «Прогресс и определение образования» (1862). Это значит, что Ленин некоторые черты того мировоззрения, которое сложилось у Толстого окончательно в 80-е годы, в годы его духовного кризиса, относит еще к дореформенной эпохе, когда Толстой только начинал свою литературную деятельность. И действительно, окончательный переход Толстого на позиции патриархального крестьянства, сопровождавшийся острой критикой всей государственной, церковной и экономической системы современной ему России, очень долго подготовлялся и органически вырос
- 123 -
из тех взглядов, какие были присущи ему в молодости.
Еще молодому писателю были свойственны те отвлеченно-моралистические, лишенные исторической конкретности взгляды, которые характеризуют позднего Толстого. Еще в молодые годы он обнаруживает влечение к патриархальным началам жизни, обусловленное отрицательным отношением к буржуазной цивилизации и признанием положительных качеств простого народа, противопоставляемого им привилегированным слоям общества. Уже в эту пору Толстой считает руководящим принципом в поведении людей религиозно-нравственное начало, побуждающее их к непрестанному внутреннему самосовершенствованию, при помощи которого, по его убеждению, могут быть преодолены все социальные конфликты и достигнуто благо человечества. В мировоззрении молодого Толстого проявляется своеобразный демократизм, в конце концов определивший его переход на позиции патриархального крестьянства. Одно из предвестий этого перехода нашло свое отражение в педагогических статьях Толстого начала 60-х годов и в «Войне и мире».
Само собой разумеется, что религиозно-философские и публицистические сочинения Толстого по цензурным условиям не могли печататься в России. Они издавались за границей, сначала в Швейцарии (Женева), а затем в Англии, при посредстве В. Г. Черткова. При ближайшем участии Толстого в конце 1884 года в Москве было основано издательство «Посредник», ставившее себе задачей создание литературы для народа в духе тех идей, которые Толстой проводил в своих произведениях. В этом издательстве вышел также ряд его собственных рассказов.
Стремясь следовать своему учению, Толстой прилагает усилия к тому, чтобы приблизить свой образ жизни к жизни трудового народа. Он ограничивает свои потребности и чередует литературную работу с физическим трудом.
Проповедь взглядов, резко расходившихся со взглядами и практикой официальных представителей государства и церкви, вызвала со стороны правительства и церковных властей резко враждебное отношение к Толстому. Только огромный авторитет в русском обществе
- 124 -
и во всем мире спасал его от преследований, но сочинения его запрещались цензурой и многие из них распространялись в России подпольно революционными организациями в нелегальных литографированных или заграничных печатных изданиях и в рукописных копиях.
В дальнейшем Толстой все более и более укреплялся в том мировоззрении и в том отношении к жизни, которые определились у него в 80-е годы. В 1891 году он, преодолев сопротивление жены, публично заявил об отказе от литературной собственности на свои произведения, написанные после 1881 года. В 1891—1893 и 1898 годах он принимал энергичное участие в помощи пострадавшим от голода, сам посещал голодающие деревни в Рязанской, Тульской и Орловской губерниях, устраивал для голодающих столовые, организовал сбор денежных пожертвований, писал статьи о способах борьбы с голодом. В этих статьях Толстой не мог не ставить тяжелые народные бедствия в тесную связь со всем государственным и общественным строем современной ему России и не мог не осуждать сурово этот строй. Реакционная газета «Московские ведомости», перепечатывая в 1892 году выдержки из статьи Толстого «Почему голодают русские крестьяне?», так озаглавленной в образном переводе с английского языка, в редакционной статье писала: «Письма графа Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которой бледнеет даже наша подпольная пропаганда».
После этой статьи в сферах, близких ко двору, высказывалось мнение о необходимости выслать Толстого или засадить его в дом умалишенных. Раздавались голоса, требовавшие заточения его в тюрьму Суздальского монастыря. Философ К. Я. Грот, близкий знакомый Толстого, писал ему, что весь Петербург уже целую неделю только и говорит о его статье о голоде и что все богатые тунеядцы раздражены против него донельзя. В. Н. Ламздорф, занимавший видный пост в министерстве иностранных дел, отмечает в своем дневнике, что недавно захваченные прокламации находились в прямой зависимости от мыслей, высказанных Толстым в его статье, и
- 125 -
это доказывает действительную ее опасность. Тут же Ламздорф добавляет, что в городе в связи с этим было произведено несколько обысков.
В своих письмах к Александру III и потом к Николаю II Толстой смело и энергично протестовал против всяческих проявлений произвола и насилия, характеризовавших самодержавный режим.
Толстой принимал близко к сердцу народное горе, смело и энергично обличая все то, что считал причиной бедственного положения народа, последние тридцать лет своей жизни упорно и настойчиво проповедовал свое учение, которое, по его убеждению, должно было способствовать водворению «царства божия» на земле, то есть такого общественного строя, при котором уничтожатся всякое насилие и эксплуатация человека человеком. Но его проповедь и его учение были бессильны в деле переустройства жизни на началах добра и справедливости, как того хотел Толстой, потому что в своих воззрениях и своем отношении к волновавшим его вопросам он исходил не из непреложных законов общественного развития, а из отвлеченных моральных и религиозных положений. Чисто рационалистически, а не исторически осмысляя формы человеческого общежития, Толстой чрезмерно большое значение придавал силе убеждения и вразумления и слишком малое — силе исторических обстоятельств. Ему казалось, что все несовершенство нашей жизни происходит оттого, что люди не хотят следовать тому нравственному закону, который издавна предписан им выдающимися религиозными мыслителями и проповедниками. «Нельзя не признать того, — писал он в статье «Неделание», — что если бы люди делали то, что им предписывали тысячи лет тому назад не только Христос, но все мудрецы мира, то есть хотя бы не только любили других, как себя, но не делали бы хоть другим того, чего не хотят, чтобы им делали, что если бы люди вместо эгоизма предались альтруизму, если бы склад жизни из индивидуалистического переменился в коллективистический, как на своем дурном жаргоне выражают ту же самую мысль люди науки, то жизнь людей, вместо того чтобы быть бедственной, стала бы счастливой»1.
- 126 -
Толстой утверждал, что почти все завоевания культуры и цивилизации ничего, кроме вреда, не принесли трудовому народу, и потому ополчился против этих завоеваний, как ополчился, в частности, против научного и технического прогресса. В статье «Рабство нашего времени», написанной в 1900 году и, по заявлению самого Толстого, углубляющей и развивающей мысли, высказанные в трактате «Так что же нам делать?», Толстой раздраженно говорил: «Прекрасно электрическое освещение, телефоны, выставки и все сады Аркадии с своими концертами и представлениями, и все сигары и спичечницы, и подтяжки, и моторы; но пропади они пропадом, и не только они, но и железные дороги и все фабричные ситцы и сукна в мире, если для их производства нужно, чтобы 99/100 людей были в рабстве и тысячами погибали на фабриках, нужных для производства этих предметов». И Толстой тут же провозглашает свой девиз: «Пусть погибнет культура, но да восторжествует справедливость»1.
Толстой не мог и не хотел понять, что завоевания культуры могут быть полностью использованы трудовым человечеством в его интересах при условии социалистического переустройства общества.
Единственно полезным и справедливым видом человеческого труда Толстой считал труд земледельческий, а идеальным общественным строем — строй своеобразного патриархального «христианского коммунизма». Утопическая система Толстого находилась в явном противоречии с реальной действительностью и благодаря этому не могла сыграть положительной роли в социальном строительстве.
Ленин, признавая в целом учение Толстого утопичным и реакционным, говорил: «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России»2.
- 127 -
Пережитый Толстым кризис, естественно, не мог не сказаться на всем характере его художественного творчества, как не мог не сказаться и на взглядах его на задачи искусства. Во многом, что в эту пору писал Толстой, еще в большей мере, чем раньше, сказалась слабость его мировоззрения, но одновременно и сила его обличения, протеста, «самый трезвый реализм». Еще в 1851 году Толстой, предваряя основные положения своего трактата «Что такое искусство?», который создавался с 1896 по 1898 год, записал в своем дневнике: «Ламартин говорит, что писатели упускают из виду литературу народную; что число читателей больше в среде народной; что все, кто пишут, пишут для того круга, в котором живут, а народ, в среде которого есть лица, жаждущие просвещения, не имеет литературы и не будет иметь до тех пор, пока не начнут писать для народа»1. Толстой, однако, тогда сомневался в том, чтобы писатели, стоящие на более высокой ступени культурного развития, чем народ, способны были создать произведения, доступные народу. «Ежели даже сочинитель, — писал он, — будет стараться сойти на ступень народную, народ не так поймет. У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая, но она не подделка, она выпевается из среды самого народа»2.
В 80-е годы Толстой уже не думает, что образованный писатель не способен создавать произведения, доступные пониманию народа. Наоборот, теперь он, восставая против того искусства, которое рассчитано на удовлетворение вкусов привилегированных классов, защищает искусство всенародное, способное объединить большинство людей в их духовной деятельности. Такое искусство должно быть общепонятным, и оно должно отвечать на те запросы, которые предъявляет к жизни трудовая народная масса, то есть, по взгляду Толстого, в первую очередь крестьянство, но основой этого искусства Толстой считает религиозное начало и тем самым уводит его от подлинных жизненных интересов народа. Он и теперь, как и в молодые годы, очень высоко оценивает творчество народа — сказки, песни, легенды, былины, пословицы — и берет это творчество за образец для
- 128 -
себя как писателя. Так создаются народные рассказы Толстого, в которых присущее Толстому художественное мастерство сочетается с проповедью религиозного смирения и каратаевского непротивления. Многие из этих рассказов, отличающихся таким же простым и ясным языком, как и детские рассказы Толстого, лишены того изощренного психологизма, который типичен для большинства произведений Толстого, написаны в форме притч, и этим еще больше подчеркивается их поучительный, сугубо моралистический характер.
Наряду с народными рассказами Толстой пишет в ту пору и народные драмы, которые противостояли балаганным представлениям так же, как народные рассказы — низкопробной лубочной литературе. По своим художественным качествам эти драматические опыты в большинстве уступают народным рассказам, но среди них выделяется такой драматический шедевр, как пьеса «Власть тьмы», написанная в 1886 году и созданная на материале подлинного судебного дела. Толстой прибегает в ней к тем средствам проникновенного психологического анализа, которые так хорошо знакомы нам по его предшествующим произведениям и к которым он намеренно не прибегал ни в народных рассказах, ни в других народных драмах. Патриархальная, отсталая русская деревня в столкновении с проникающими в нее капиталистическими отношениями показана в пьесе с огромной художественной силой. Несмотря на то что через всю пьесу слишком обнаженно проходит специфическая для Толстого 80-х годов апология патриархального крестьянского уклада в противопоставлении его той «заразе», которую несет с собою капиталистическая культура с ее денежным соблазном, пьеса поражает мастерством, с каким изображены в ней человеческие характеры.
Хранителем старозаветных деревенских устоев в пьесе выступает косноязычный Аким, богобоязненный крестьянин-бедняк, живущий «по правде» и стремящийся навести на путь истины своего беспутного сына Никиту — женского угодника и щеголя, живущего на средства молодой вдовы, которая отравой извела своего мужа. Никита женится на ней из-за денег и вскоре же изменяет ей с падчерицей. Разнузданная жизнь доводит
- 129 -
его до преступления — убийства ребенка, прижитого им с любовницей. Злым гением, толкающим Никиту на убийство, является его мать Матрена, лживое, корыстное существо, любящее животной любовью своего сына. Запутавшись в своих любовных делах, безвольный Никита с отчаянием и внутренним противоборством идет на преступление, но не выдерживает всей его тяжести и после убийства испытывает чувство сильнейшего душевного потрясения. Муки совести приводят его к решению наложить на себя руки, но его вовремя останавливает пьяный отставной солдат Митрич, внушающий ему, что не нужно бояться людей. В душе Никиты под влиянием этих слов, как в душе Левина под влиянием слов подавальщика Федора, происходит «просветление», и он перед народом кается в своем преступлении. Борьба за душу Никиты между Акимом и Матреной оканчивается победой Акима.
Таким образом, «власть тьмы», то есть, по взгляду Толстого, власть всех тех зол, которые присущи патриархальной деревне и вторгаются затем в ее жизнь вместе с проникновением в деревню капиталистических порядков, побеждается христианским покаянием в тяжком грехе, совершенном под влиянием этих порядков, смирением и искуплением преступления через наказание. Старому, патриархальному крестьянскому укладу, воплощенному в мировоззрении и поведении юродствующего Акима, принадлежит нравственное торжество над греховными соблазнами, порожденными капиталистической действительностью и доведшими Никиту до преступления. Борьба с уродствующими и разлагающими деревенскую жизнь новыми формами экономических отношений оказывается, по Толстому, единственно возможной и действенной лишь путем укрепления патриархальных традиций, чуждых какого бы то ни было компромисса с капиталистической «заразой».
Большим совершенством отличается язык пьесы, особенно в речах Матрены и Митрича. То же нужно сказать и об искусстве диалога во «Власти тьмы». Так, например, разговор Митрича с девочкой Анюткой, из которого зритель узнает, что в это время за сценой происходит убийство Никитой ребенка, изумителен по своей красочности, по проникающему его мягкому и задушевному юмору. Сцена Митрича и Анютки представляет
- 130 -
собой очень удачный вариант основной редакции последних явлений IV действия, рисующих эпизод убийства ребенка не за сценой, а на сцене, и вызывавших в критике небезосновательный упрек в излишнем натурализме. На большой высоте в пьесе и чисто драматическая техника. Впечатление, произведенное «Властью тьмы» как в России, так и в Западной Европе, было очень велико. Пьеса далеко не сразу была разрешена к представлению на русской сцене, но вскоре после опубликования она в переводах с большим успехом ставилась во многих заграничных театрах.
В основу «Власти тьмы» легло судебное дело, с которым познакомил Толстого его близкий знакомый — прокурор тульского окружного суда Н. В. Давыдов. Крестьянин Тульской губернии Ефрем Колосков, 37 лет, женатый на вдове Марфе Ионовой, 50 лет, изнасиловал ее шестнадцатилетнюю дочь от первого брака, свою падчерицу Елену, и в дальнейшем, когда бывал пьян, насилием и угрозами принуждал ее к сожительству. Последствием этой связи было рождение ребенка. В своих показаниях на следствии и на суде Колосков об этом и о дальнейших событиях рассказал следующее. Когда Елена забеременела и время родов приближалось, он, чтобы уберечь девушку от позора, решил покончить с ребенком, приказав жене своей Марфе, когда ребенок родится, спрятать его в погребе. Марфа поступила так, как приказал ей муж. Отправившись в погреб, Колосков долго плакал и, удалив зашедшую туда жену, придавил новорожденного доской. Ночью, подойдя к погребу, он еще слышал плач ребенка, умершего лишь к утру. Вечером Колосков закопал труп у себя на задворках. Елена, бывшая еще в беспамятстве, когда у нее унесли ее ребенка, ничего не знала о случившемся. Марфа хотела было заявить о происшедшем властям, но Колосков заставил ее молчать, угрожая в противном случае покончить с нею.
Через некоторое время Елена была просватана, и 18 января 1880 года у Колосковых праздновалась свадьба. Когда пришло время жениху и невесте отправиться в церковь, Колосков спрятался в риге, не чувствуя себя в состоянии благословить к венцу девушку, с которой он сожительствовал. Когда же его в риге нашла сестра и привела на улицу, он, упав на колени,
- 131 -
сознался перед находившимся тут народом в своем преступлении и стал было откапывать труп убитого им ребенка. В это время около него находилась его шестилетняя дочь Евфимья, которая не переставала плакать. Любя дочь и подумав о том, что она останется без него одна, он, схватив кол, ударил им ее по голове: «Пусть лучше умрет на моих глазах», — решил он. Когда Евфимья упала (она не особенно пострадала и осталась жива), Колосков крикнул: «Теперь берите меня».
Как сообщает Н. В. Давыдов, ознакомившись по должности прокурора суда с делом Колосковых, он тотчас же сообщил его Толстому, очень им заинтересовавшемуся и дважды видевшемуся с Ефремом Колосковым.
Сам Толстой в беседе с сотрудником газеты «Новости» Н. Ракшаниным подтвердил связь своей пьесы с судебным делом Колосковых. «...Фабула «Власти тьмы», — говорил Толстой, — почти целиком взята мною из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в тульском окружном суде. Сообщил мне подробности этого дела мой большой приятель, тогдашний прокурор, а теперешний председатель суда, Давыдов... В деле этом имелось именно такое же, какое приведено и во «Власти тьмы», убийство ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник убийства точно так же каялся всенародно на свадьбе этой падчерицы... Отравление мужа было придумано мною, но даже главные фигуры навеяны действительным происшествием. Сцена покаяния в пьесе выражена мною значительно слабее. Прототип Никиты так же, как и в драме, не хотел было идти благословлять молодых, и звать его действительно приходили разные члены семьи. Пришла, между прочим, и девочка-подросток, вроде моей Анютки... Мучимый совестью, виновник преступления чувствовал, что у него нет сил идти и благословлять, в озлоблении схватил оглоблю и так ударил девочку, что она упала замертво. Под впечатлением этого нового преступления он и решился, охваченный ужасом, на всенародное покаяние... Я не ввел этой сцены, во-первых, ввиду сценических условий, а во-вторых, не желая сгущать краски — ужасов в пьесе и без того ведь достаточно... Но когда я увидел «Власть тьмы» на сцене, я понял, что конец ее гораздо сильнее рисовался
- 132 -
моему воображению под впечатлением уголовного дела»1.
В августе 1886 года Толстой, ударившись ногой о гряду телеги, в то время как он нагружал в нее сено, сильно ушибся и около трех месяцев пролежал в постели с рожистым воспалением, грозившим осложниться заражением крови. Во время болезни и вынужденного лежания он и написал «Власть тьмы».
Есть все основания думать, что толчком для работы над «Властью тьмы» послужило письмо директора московского народного театра «Скоморох» М. В. Лентовского, просившего Толстого о том, чтобы он поддержал его начинание своей пьесой.
Так как с самого начала работы над пьесой Толстой предназначал ее для постановки на сцене народного театра, то и следует полагать, что работа его над пьесой была вызвана желанием пойти навстречу просьбе Лентовского.
В развитии сюжета драмы Толстой, как сказано выше, отправлялся от судебного дела Колосковых. Оттуда и прототипы четырех персонажей пьесы — Никиты, Анисьи, Акулины и Анютки (Ефрем и Марфа Колосковы, Елена и Евфимья). Но реальные прототипы в их творческой переработке были значительно видоизменены с явным намерением подчеркнуть отрицательные стороны женской натуры. Анисья в пьесе нравственно значительно более отталкивающий тип, чем Марфа Колоскова в жизни, насколько о ней можно судить по судебному делу. Для усиления темных красок в облике Анисьи в пьесу введен эпизод отравления ее первого мужа Петра. Падчерица Колоскова Елена, несчастная жертва своего отчима, по отзывам свидетелей-крестьян — «девушка добрая, смирная, работящая и ни в чем
- 133 -
дурном не замеченная»1, у Толстого превратилась в дурковатую, злую, грубую и чувственную Акулину, видимо добровольно вступающую в связь с Никитой. С другой стороны, Никита в пьесе морально выигрывает по сравнению со своим прототипом Ефремом Колосковым. Он не насильник и по существу не злой человек (его Толстой в плане пьесы характеризует даже как мягкосердечного), в то время как Колосков насилует безответную Елену и по отзывам свидетелей — «человек нехороший, нетрезвый и суровый»2.
Очевидно, в интересах романической интриги Толстой уменьшил возраст Анисьи и Никиты по сравнению с возрастом Марфы и Ефрема Колосковых: Анисье — тридцать два года, Марфе Колосковой — пятьдесят; Никите — двадцать, Ефрему Колоскову — тридцать семь. Для того чтобы сделать Анютку действующим лицом в пьесе, возраст ее был увеличен сравнительно с возрастом Евфимьи (Анютке — десять лет, Евфимье — шесть). Эпизод покушения Колоскова на убийство дочери, судя по плану, предполагавшийся в пьесе, не был, однако, использован Толстым.
Что касается других персонажей пьесы, то некоторые из них, несомненно, подсказаны были Толстому встречавшимися ему в жизни реальными прототипами.
В идейном содержании «Власти тьмы» сказались очень наглядно особенности миросозерцания Толстого в 80-х годах.
Апологетическое отношение к нравственным устоям патриархальной деревни заставило его ввести в пьесу фигуру Акима и — для контраста ему — фигуру Матрены, отступив в этом отношении от тех фактических данных, которые он нашел в судебном деле. Поведение Никиты и его судьба, как о них рассказано в пьесе, — продукт разлагающего влияния городской капиталистической культуры, о язвах которой Толстой с большой обличительной силой рассказал в своем только что законченном перед этим трактате «Так что же нам делать?». Рядом с Никитой покинутая им девушка Марина — положительный
- 134 -
образ, сложившийся, как и образ Акима, в условиях все того же патриархального крестьянского уклада. Так осмыслен был Толстым — в согласии с его мировоззрением поры его духовного кризиса — материал бытового явления, объективно подлежавшего, очевидно, совершенно другому осмыслению и объяснению.
Вскоре после «Власти тьмы» Толстой написал комедию «Плоды просвещения» (1890), в которой изобразил праздное барство, увлекавшееся модным в ту пору спиритизмом. Это злая и очень остроумная сатира на господские причуды и господское безделье, которым противопоставляется острая нужда трудового безземельного крестьянства.
По своему содержанию «Плоды просвещения» перекликаются с трактатом «Так что же нам делать?», а в драматургическом отношении продолжают традицию Гоголя-драматурга.
За работу над пьесой Толстой принялся под влиянием впечатления, испытанного им в 80-х годах от спиритического сеанса, бывшего в Москве на квартире его знакомого, князя Н. А. Львова. Спектакль предварительно поставлен был на домашнем театре в Ясной Поляне силами большей частью молодежи — детей Толстого и их знакомых и друзей. Непосредственно вслед за постановкой «Плодов просвещения» на яснополянской сцене Толстой взялся за основательную их доработку и переделку. Прототипами персонажей комедии послужили многие знакомые Толстого.
Несмотря на то что «Плоды просвещения» были разрешены к представлению драматической цензурой, не нашедшей в них ничего предосудительного, Главное управление по делам печати приостановило представление пьесы ввиду толков в некоторых кругах общества, будто Толстой намеревался осмеять в своей комедии дворянское сословие. Пьеса первоначально разрешена была к постановке лишь на любительской сцене, и только в 1894 году последовал циркуляр о разрешении ее представления во всех столичных и провинциальных театрах.
По своей живости, сценичности, по несравненному юмору, брызжущему чуть ли не в каждой реплике действующих в ней персонажей, эта комедия занимает значительное место в мировом комедийном репертуаре. В ней Толстой — все тот же обличитель зла, каким он
- 135 -
выступал и во многих своих ранних и поздних произведениях, но обличает он тут не суровой нравственной проповедью и серьезным поучением, а веселым и заразительным смехом. Смешны и никчемны со своими затеями и претензиями все эти Звездинцевы, Петрищевы, Кругосветловы; пусты и ничтожны все, кто так или иначе потворствует прихотям и предрассудкам столичных бездельников и пустозвонов. Сочувственно изображен в комедии только деревенский люд, не развращенный атмосферой барского дома, и особенно безземельные крестьяне, добившиеся продажи им господской земли лишь при помощи изобретательной, смышленой и веселой односельчанки-горничной, дурачащей своих бар, поверивших во вмешательство духов, которое она сама ловко подстроила.
В один год с «Властью тьмы» вышла в свет одна из замечательных повестей Толстого — «Смерть Ивана Ильича», написанная на тему об ужасе умирания человека, все существование которого было наполнено ничтожной и жалкой житейской суетой. Ничего сколько-нибудь значительного, что поднималось бы над мелочным распорядком прозаически-размеренной жизни, не было в скудной биографии крупного чиновника Ивана Ильича Головина; никакие серьезные вопросы, никакие заботы, выходящие за пределы служебной карьеры и обеспеченного домашнего быта, не приходили ему в голову.
Никого вокруг не было, с кем его связывали бы подлинно человеческие, прочные духовные отношения, — ни в его семье, ни в том обществе, в котором он вращался. Содержание жизни его домашних было таким же банальным, как и содержание его собственной жизни. И вот его неожиданно настигает тяжелая, мучительная болезнь, приключившаяся от случайного легкого ушиба, полученного им как раз в то время, когда он с увлечением занимался отделкой и меблировкой своей новой квартиры, что было чуть ли не пределом его мечтаний о своем жизненном комфорте. С гениальной интуицией Толстой изображает все течение его болезни, со всеми подробностями показывая, как впервые у Ивана Ильича в это время возникает работа внутреннего сознания, приводящая его к суровой самопроверке и к безнадежному отчаянию человека, которому нечем
- 136 -
оправдать себя в предчувствии грядущей смерти. Никто до Толстого, да и после него не вскрыл с такой правдивостью душевную и физическую муку умирающего, жизнь которого была сплошным самообманом.
Тяжесть физического страдания у Ивана Ильича усугубляется ощущением полного своего одиночества, сознанием, что никому нет дела до него и до его несчастья, что никто его по-настоящему не жалеет. Даже семье своей он в тягость, и она хотя терпеливо, но внутренне безучастно относится к его болезни и страданиям. Только буфетный мужик Герасим, молодой, «всегда веселый и ясный», один только он доставлял утешение нестерпимо страдавшему Ивану Ильичу. И если сила, здоровье и бодрость у всех других людей оскорбляли Ивана Ильича, то все это у Герасима не только не оскорбляло больного, а, наоборот, успокаивало его, потому что все эти качества своей натуры Герасим употреблял на то, чтобы помочь своему барину облегчить его страдания. Он один по-настоящему жалел его, не только не тяготясь заботами о нем, но с большой добротой и участливостью, с деликатной предупредительностью стараясь делать для него все как можно лучше, проводя бессонные ночи у его постели. Иван Ильич понимал, что Герасим не лгал перед ним, не притворялся, что только он один понимал всю тяжесть его страданий и бескорыстно, от чистого сердца был предан ему, и это умиляло Ивана Ильича и привязывало к этому простому человеку из народа, всю душевную привлекательность которого он понял, только приближаясь к смерти.
Перед ним открывается ужасающая ложь всей его жизни и жизни его окружающих. Он не может примириться с мыслью о неизбежном своем конце, и нет меры ужаса его перед смертью, и нет сил у него победить этот ужас.
Но за час до смерти, перед самой агонией, Иван Ильич постигает то, что примиряет его со смертью и что уничтожает страх перед ней и внушает ему сознание, что и самой-то смерти вовсе не существует. Когда его страдания достигают самого сильного напряжения, душа его «просветляется» вследствие внезапно охватившего его чувства любви и участия к своим близким. Мысль о себе и о своей судьбе отступает у Ивана Ильича перед мыслью о других, и это самоотречение в момент
- 137 -
величайшего страдания — физического и душевного — возрождает его и поднимает в последнее мгновение сознательной жизни на ту духовную высоту, достижение которой искупает всю бессмыслицу его существования. Любовь, в религиозном истолковании Толстого, побеждает смерть и отрицает ее. Таков смысл повести.
Однако сознание этой истины, хочет сказать Толстой, если и дается обыкновенному, среднему человеку, то дается слишком поздно, лишь тогда, когда он вплотную подходит к роковой черте — к своей смерти. Повесть начинается с рассказа о том, как восприняли кончину Ивана Ильича его знакомые и родные. И сослуживцы Ивана Ильича и его жена заботятся лишь о том, чтобы соблюсти скучный и стеснительный ритуал, который положено соблюдать по отношению к покойнику. Печальное событие не нарушает ни у кого обычного течения жизни с ее каждодневными мелкими интересами и заботами. «Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал у всех, знавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я». Жена у тела еще не погребенного мужа, из приличия притворяясь убитой горем, думает о том, как бы побольше урвать у казны полагающихся ей пенсионных денег; сослуживцы Ивана Ильича озабочены тем, не расстроится ли в связи с его смертью сегодняшняя партия винта.
Повесть написана с большой экономией художественных средств, очень выразительным, сдержанным языком, в той литературной манере, которая становится характерной для ряда художественных произведений Толстого, начиная с 80-х годов. В повести рассказана вся жизнь человека, но рассказана так, что описаны лишь основные ее этапы, определяющие общее ее направление. Все, о чем говорится в повести, сосредоточено вокруг ее центрального персонажа и его судьбы. Но повседневные заботы, события, чувства и переживания и Ивана Ильича и его близких показаны Толстым с такой силой разоблачающего реализма, что перед читателем встает не только судьба одного человека, но весь мир корыстных отношений буржуазного общества, его лживая и лицемерная мораль. Благодаря этому
- 138 -
повесть приобретает характер глубокого художественного обобщения типических обстоятельств жизни рядового человека.
По словам одного французского критика, Мопассан, прочитав «Смерть Ивана Ильича» во французском переводе, сказал: «Я вижу, что вся моя деятельность была ни к чему, что все мои десять томов ничего не стоят»1. Та же «Смерть Ивана Ильича» совершила переворот в самых заветных мыслях юного Ромена Роллана, судя по письму его к Толстому, написанному в 80-х годах.
Прототипом Ивана Ильича Головина отчасти послужил знакомый Толстого — прокурор тульского окружного суда Иван Ильич Мечников, брат знаменитого естествоиспытателя Ильи Ильича Мечникова, умерший в возрасте 45 лет от рака.
Тема смерти — одна из наиболее глубоко разработанных тем в творчестве Толстого. Ни один из русских писателей не обращался к ней так часто, как Толстой, несмотря на то или, вернее, быть может, именно потому, что он был одним из самых жизнелюбивых русских писателей. И никто из русских писателей с такой силой прозрения не изображал смерть, как Толстой. Почти через девять лет после выхода в свет «Смерти Ивана Ильича» на тему о смерти в 1895 году напечатан был рассказ Толстого «Хозяин и работник». Основные персонажи рассказа — хозяин купец Брехунов и его работник крестьянин Никита — как бы варьируют собой образы Ивана Ильича и его слуги Герасима. Жизнь Брехунова так же духовно бедна, как и жизнь Ивана Ильича, и так же неожиданно пресекается смертью (он замерзает во время метели). Но, в отличие от Ивана Ильича, Брехунов своей смертью, по толкованию Толстого-моралиста, искупает свою эгоистическую жизнь, в которой не было никаких других целей, кроме достижения материального благополучия: он, замерзая, своим телом отогревает работника, благодаря этому спасающегося от смерти.
В конце 80-х и начале 90-х годов Толстой усиленно работал над художественными произведениями на тему чувственной любви. К этому времени относится
- 139 -
написание повестей «Крейцерова соната» и «Дьявол», а также начало работы над «Отцом Сергием» и повестью, которая затем развернулась в роман «Воскресение».
В первых двух повестях вскрывается губительная стихия чувственной любви, безысходная трагедия физических отношений мужчины и женщины, внутренняя ложь брачных связей, не скрепляемых духовной близостью супругов.
«Крейцерова соната» — взволнованная исповедь мужа, убившего из ревности свою жену. Эта исповедь включает в себя страстный памфлет, направленный против чувственной страсти, несовместимой с подлинной человеческой моралью, разрушающей и опустошающей душу человека, превращающей супружескую пару в непримиримых врагов, находящихся в состоянии непрерывной скрытой или открытой борьбы. Потратив на работу над «Крейцеровой сонатой» — с перерывами — не менее двух лет и коренным образом перерабатывая повесть девять раз, Толстой из редакции в редакцию отводил в ней все больше места рассуждениям убийцы-мужа на тему физической любви, лишь косвенно связанным с его судьбой.
Первая редакция повести, более всего соответствовавшая первоначальному замыслу, представляет собой довольно сжатую и динамическую новеллу, не осложненную тем трактатным элементом, который вводится в нее пространными рассуждениями Позднышева, занимающими так много места в окончательной редакции. По мере того как работа над повестью подвигалась вперед, наряду с существенным изменением характеров ее персонажей в ней увеличивался из редакции в редакцию трактатный материал, касавшийся нравственных устоев, на которых держалась дворянская и буржуазная семья. Повесть стала не только психологической, но и общественно-обличительной, направленной против семейного уклада привилегированных классов. Ее идейное наполнение в иных случаях зависело от привходящих обстоятельств, имевших место как раз в пору работы над повестью и определенным образом направлявших мысль Толстого. Так, многие рассуждения Позднышева по существу повторяют содержание писем Толстого к Черткову, обращавшемуся к нему с просьбой разрешить волновавшие его и его друзей вопросы
- 140 -
отношения полов. Как раз в разгар работы над повестью Толстой получил письма и книги от шекеров — американских сектантов. В этих письмах и книгах он нашел поддержку своим взглядам на целомудрие и пополнил текст повести рассуждениями, близкими к воззрениям шекеров. Тогда же Толстой познакомился с книгой А. Стокгэм «Токология», одна из глав которой, трактующая о целомудрии в брачной жизни, отразилась в соответствующих высказываниях в «Крейцеровой сонате».
В результате получилось произведение, совмещающее в себе горячее разоблачение семейного уклада современного Толстому светского общества, близкое по духу к моральному трактату, и до предела откровенное саморазоблачение жертвы этого уклада. С обычным своим бесстрашием Толстой проникает здесь в такие потаенные глубины человеческой природы, вскрыть которые было под силу лишь его могучему гению.
Повесть, однако, является во многом очень односторонней. Безусловно одностороння прежде всего его обобщающая тенденция. Обличительный пафос ее объективно в первую очередь должен быть адресован к привилегированным классам, между тем как Толстой склонен все то, о чем так возмущенно говорит его герой Позднышев, применять к любой социальной среде. И тем не менее по глубине психологического анализа, по силе и смелости трактовки темы «Крейцерова соната» стоит в ряду значительнейших созданий Толстого.
Повесть вскоре сопровождена была послесловием, в котором Толстой, отвечая на многочисленные письма к нему читателей по поводу того, что он хотел сказать этой повестью, разъясняет ее смысл и предлагает те выводы, которые из нее следует сделать. Приводя высказывания Позднышева против брака, Толстой подкрепляет их евангельскими цитатами и ставит перед людьми как «идеал Христа» безбрачие и абсолютное целомудрие.
Таким образом, при толковании, какое дает повести Толстой и какое на самом деле лишь искусственно прикреплено к ней, человечество обрекается на полный аскетизм, и тем самым упраздняется не только порочный семейный уклад, но и семья вообще, то есть проповедуется прекращение человеческого рода во имя абстрактной религиозной догмы.
- 141 -
В повести «Дьявол» молодой помещик-аристократ, женатый на симпатичной, любящей его женщине, живущий в обстановке внешнего благополучия и довольства, становится жертвой непреоборимой физической страсти к замужней крестьянке, с которой он был в связи еще до брака. Никакими усилиями воли он не может победить эту страсть и, исчерпав все силы в борьбе с ней, по одному варианту кончает жизнь самоубийством, по другому — убивает женщину-«дьявола», поработившую его своей чувственной красотой.
В ряду произведений Толстого повесть «Дьявол» представляет собой очень любопытный образчик художественного претворения событий и фактов одновременно своей и чужой жизни. Достаточно известно, какую большую роль в том, что писал Толстой, занимают автобиографические моменты, с одной стороны, и результаты его наблюдений над судьбой живых людей, с которыми его сталкивала жизнь, — с другой. Известно также, что отдельные литературные его персонажи создались путем своеобразного «смешения» нескольких реальных прототипов, а также путем осложнения лично пережитого и испытанного тем, что им было заимствовано из жизненной судьбы посторонних лиц, если факты их биографии как-то соприкасались с эпизодами из жизни самого Толстого.
Когда Толстой писал свою повесть (в ноябре 1889 года, «залпом», меньше двух недель), он всюду в дневнике называл ее «Историей Фридрихса» (или «Фредерикса»), и комментаторам «Дьявола» казалось, что этим неизвестным именем он прикрывал события своей личной жизни, сугубо интимные и потому нуждающиеся в тщательном законспирировании. Такое предположение высказано было в 1928 году и В. И. Срезневским, комментировавшим пятнадцатитомное юбилейное издание художественных произведений Толстого. На самом деле упоминаемый Толстым в его дневниковых записях Фридрихс был живое лицо, известное Толстому, и его личность и судьба определили собой прежде всего центральные фабульные моменты повести. Со слов М. Н. Дурново, сестры Николая Николаевича Фридрихса, сообщенных в письме А. М. Долинина-Ивановского на имя толстоведа П. С. Попова, Н. Н. Фридрихс в 70-х годах был судебным следователем в Туле. По
- 142 -
натуре человек очень добрый, мягкий и слабохарактерный, он, сойдясь с крестьянкой Степанидой Мунициной, муж которой ездил извозчиком в Туле, женился затем на девушке недурной собой, но недалекой. Женитьба эта была непонятна для семьи Фридрихса, так как он очень любил Степаниду, как и она его, и не любил жену. Через три месяца после женитьбы Фридрихс убил Степаниду во время молотьбы выстрелом из револьвера в живот. Мотивом убийства была болезненная ревность жены к Степаниде. Врачи объяснили преступление Фридрихса тем, что у него был солитер, болезненно действовавший на его психику, и тульский окружной суд оправдал его. Однако муки совести сильно угнетали убийцу. Он очень изменился, стал соблюдать все посты, много молился и часто задумывался. В декабре 1874 года, уезжая от сестры своей из Тулы, он, выйдя на станции Житово, был раздавлен встречным поездом. Причины катастрофы неясны: она могла быть случайной, так как Фридрихс, во-первых, был очень близорук (носил очки), во-вторых, из-за сильного мороза был закутан в башлык, а потому мог не расслышать шума приближавшегося поезда.
Как нетрудно видеть, тут немало сходного с тем, что дано в «Дьяволе», вплоть до совпадения внутренней (доброта, слабохарактерность) и внешней (близорукость) характеристики Н. Н. Фридрихса и героя повести Иртенева и сходства имен возлюбленных того и другого. Гибель Фридрихса, которая могла быть истолкована и как самоубийство, видимо внушила Толстому первый вариант повести, где Иртенев кончает с собой; предшествовавшее же гибели Фридрихса убийство Степаниды Мунициной — второй вариант, в котором Иртенев убивает не себя, а Степаниду Печникову.
Наряду с этим мы имеем следующее признание Толстого, сделанное незадолго до смерти его другу и биографу П. И. Бирюкову: «Вот вы пишете про меня все хорошее. Это неверно и неполно. Надо писать и дурное. В молодости я вел очень дурную жизнь, и два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. И я вам, как биографу, говорю это и прошу вас это написать в моей биографии. Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни, до моей женитьбы. На это есть намек в моем рассказе «Дьявол». Второе —
- 143 -
это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла»1.
Второе событие нашло себе отражение в романе «Воскресение», в истории отношений Нехлюдова к Катюше Масловой; в первом же случае Толстой имеет в виду свою связь с замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Об этой связи читаем записи в его дневниках 1858—1860 годов, иногда с подробностями, через много лет затем повторенными в повести.
Однако увлечение Толстого Аксиньей было не единственным субъективным поводом к написанию повести. В конце 70-х годов Толстой очень мучительно переживал чувственное влечение к яснополянской людской кухарке Домне. Его письмо к В. Г. Черткову от 24 июля 1884 года, в котором рассказывается об этом увлечении, является автобиографическим комментарием к отдельным существенным местам повести. Толстой пишет: «Скажу вам то, что со мной было и что я никому еще не говорил. Я подпал чувственному соблазну. Я страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие. Я молился и все-таки чувствовал, что я бессилен, что при первом случае я паду». В главе XV повести об Иртеневе говорится: «Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти помешанным... Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно, прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству... Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от погибели». Продолжая письмо, Толстой так изобличает самого себя: «Наконец я совершил уже самый мерзкий поступок, я назначил ей свидание и пошел на него. В этот день у меня был урок со вторым сыном. Я шел мимо его окна в сад, и вдруг, чего никогда не бывало, он окликнул меня и напомнил, что нынче урок. Я очнулся и не пошел на свидание. Ясно, что можно сказать, что бог спас меня». В главе XVI повести читаем такие строки:
«— Приходи в шалаш, — вдруг, сам не зная как, сказал он...
Она закусила платок, кивнула глазами и побежала
- 144 -
туда, куда шла, — в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намереньем завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.
— Барин, — послышался ему сзади голос. — Барыня зовут, на минутку просят зайти.
Это был Миша, их слуга.
«Боже мой, второй раз ты спасаешь меня», — подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напомнила ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его».
В письме дальше сказано: «Тогда я покаялся учителю, который был у нас, и сказал ему не отходить от меня в известное время, помогать мне. Он был человек хороший. Он понял меня и, как за ребенком, следил за мной. Потом еще я принял меры к тому, чтобы удалить эту женщину, и я спасся от греха, хотя и не от мысленного, но от плотского, и знаю, что это хорошо»1. В главе XVII повести Иртенев открывает свою тайну дядюшке, просит его помочь ему и не оставлять его одного, а ранее, в XIII главе, он просит приказчика Василия Николаевича удалить Степаниду и все ее семейство из деревни, в которой Иртенев жил.
Учитель, о котором идет речь в этом письме, — В. И. Алексеев, занимавшийся в 1877—1881 годах с двумя старшими сыновьями Толстого. Об этом случае в жизни Льва Николаевича Алексеев рассказывает в VII главе своих воспоминаний2.
Так два глубоко волновавших Толстого увлечения, отдаленные друг от друга промежутком в двадцать лет, отложившись в его душевной жизни рядом с фактами из биографии Н. Н. Фридрихса, дали материал для «Дьявола».
Впервые «Дьявол» был напечатан в 1911 году в I томе посмертных произведений Толстого.
В истории создания «Дьявола» поражает прежде всего исключительно острая «память сердца», стойкость и длительность воспоминаний о событиях интимной жизни, глубокая консервативность чувства, столь характерная
- 145 -
для Толстого и в иных областях его внутреннего мира. Сердечная тревога, дважды его потрясшая, подспудно жила в нем и напоминала ему о себе на протяжении нескольких десятков лет. Она особенно обострилась тогда, когда в конце 80-х годов, на седьмом десятке, он усиленно принялся за уяснение издавна волновавшей его проблемы физической любви. Оторвавшись от работы над «Крейцеровой сонатой», Толстой пишет «Дьявола» и через месяц принимается за «Воскресение», и вскоре за «Отца Сергия». В двух первых вещах злое плотское наваждение устраняется путем убийства или самоубийства (ранний вариант конца «Дьявола»), в двух последних — оно искупается путем духовного очищения и нравственного воскресения.
Для произведений Толстого, написанных в поздний период его литературной деятельности, характерна тема катастрофических событий в жизни его персонажей. Такие события создают крутой поворот не только в личной судьбе человека, в его житейском пути, но и в его духовном мире. Он подвергает беспощадной переоценке все то, чем жил и чем дорожил до того «просветления», которое наступает у него в результате катастрофы и которое ведет к торжеству в его жизни высокого духовного начала, как его понимал Толстой. Эта тема звучит и в «Смерти Ивана Ильича», и во «Власти тьмы», и в «Крейцеровой сонате», и в «Воскресении», и в ряде других произведений этого периода. Она присутствует и в повести «Отец Сергий», над которой Толстой работал в 1890 и 1891 годах и которую начерно закончил в 1898 году.
Монах отец Сергий — в миру князь Степан Касатский, блестящий офицер аристократического гвардейского полка, отличающийся выдающимися способностями и физической красотой, настойчивостью в достижении всех тех качеств, которые способствуют продвижению по пути к завоеванию выгодной карьеры. Одним из средств для этого была женитьба на девушке из высшего аристократического круга, и Касатский остановил свой выбор на красавице графине, в которую вскоре страстно влюбился. Предложение его было охотно принято и девушкой и ее матерью, но за две недели до свадьбы невеста призналась ему в том, о чем знали почти все в городе и чего не знал ослепленный любовью жених, —
- 146 -
что год назад она была любовницей царя Николая Павловича. Потрясенный этим открытием, этой своей жизненной катастрофой, Касатский тотчас порвал со своей невестой, вышел в отставку и, устроив свои дела, поехал в монастырь и стал в нем монахом.
Стремясь в светской жизни к тому, чтобы во всем первенствовать над другими, Касатский и в своем решении стать монахом хотел показать, что он «презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил»; он «становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал». Но вместе с тем им руководило в его поступке с детства еще привитое ему религиозное чувство, переплетавшееся с чувством гордости и желанием первенствовать.
Подобно тому как, будучи светским человеком, Касатский старался достичь совершенства во всем том, что способствовало его житейскому преуспеянию, так, и став монахом, он стремился к наибольшему доступному ему духовно-религиозному совершенству. Он не только обрекает себя на строгий монашеский аскетизм, но и становится через некоторое время после своего пострижения в иеромонахи затворником, удалившимся от всякого общения с внешним миром. Как и легендарные подвижники, прославленные агиографической литературой, он стойко борется с плотскими искушениями, из которых самым сильным было то, которое он испытал от экстравагантной красавицы Маковкиной, проникшей в его келью. По примеру древних подвижников, он, чтобы побороть соблазн, топором отрубает себе палец, что повлекло за собой душевный переворот у самой соблазнительницы, вскоре ставшей монахиней.
Вместе с плотским соблазном у отца Сергия рос соблазн славы, которой он, как человек высокого духовного подвига, был особенно окружен с переходом его в близкий к столице монастырь. В письме к В. Г. Черткову, касаясь «Отца Сергия», Толстой писал, что «борьба с похотью тут эпизод или, скорее, одна ступень; главная борьба с другим — со славою людской»1. Все увеличивавшаяся слава вокруг имени отца Сергия, прослывшего далеко за пределами монастыря чудотворным
- 147 -
исцелителем болящих, отвлекала его от духовной жизни, от молитвенной сосредоточенности и льстила его самолюбию. Он не только тяготится своей монашеской миссией, но и теряет порой веру в бога. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома?» — спрашивает он самого себя. Голоса природы, врываясь в его уединение, волнуют и развлекают его. Будучи во власти душевного разброда, он поддается чувственному соблазну и даже без борьбы с самим собой допускает связь со слабоумной девушкой, которую ее отец-купец привел к нему для того, чтобы он своей молитвой исцелил ее.
Это была вторая катастрофа в жизни Касатского. И если первая привела его в монастырь, то эта вторая увела его из монастыря и поколебала его церковную веру. Удрученный своим падением, Сергий намеревается зарубить топором виновницу своего грехопадения, чему помешал случайно встреченный им келейник (в раннем черновом варианте сказано, что Сергий, «взмахнув топором, ударил ее вдоль головы ниже темени»). Он помышляет о самоубийстве, но эта мысль побеждается внезапно пришедшим ему на память воспоминанием о кроткой и жалкой подруге его детства Пашеньке, о которой он знал, что она, овдовев, впала в тяжелую бедность, и его потянуло пойти к ней, в тот уездный город, где она жила, за триста верст от монастыря. Найдя ее в большой нужде, изможденной старухой, своим трудом учительницы музыки кормившей большую семью, состоявшую из дочери, ее больного мужа и пятерых внуков, Сергей понял, что Пашенька именно то, чем он сам должен был быть и чем он не был. Ему стало ясно, что его монашество было тяжелой ошибкой, что монастырь угождает эгоистическим интересам людей, а достойная человека жизнь — в труде на благо людям, в деятельной любви к ним, такая, какой жила Пашенька, и он пошел странником от деревни до деревни, питаясь подаянием и прося ночлега, чем мог, служа людям — «или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся». На девятом месяце своего странствования он был задержан в губернском городе, причислен к бродягам, судим и сослан в Сибирь, где, поселившись у богатого хозяина, стал работать у него в огороде, учить детей и ходить за больными.
- 148 -
Тема разрыва со своим привилегированным положением, отказа от нажитых житейских благ, ухода от них смиренным странником в различных вариантах нашла себе воплощение в некоторых других произведениях Толстого в связи с его субъективными намерениями и желаниями — в пьесе «Петр Хлебник», в рассказах «Корней Васильев», «Ассирийский царь Ассаргадон», в неоконченной повести «Посмертные записки старца Федора Кузмича».
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
Выражением страстного протеста против коренных устоев самодержавного строя явился роман Толстого «Воскресение». Начатый еще в 1889 году, он писался очень медленно, с большими остановками, и лишь начиная с 1898 года работа над ним пошла очень интенсивно. Толстой решил, в виде исключения, продать роман, с тем чтобы вырученный гонорар употребить на помощь сектантам-духоборам, переселявшимся в Канаду вследствие преследования их русским правительством вкупе с церковными властями. Обличительная сила романа была настолько велика, что текст его, печатавшийся в журнале «Нива» за 1899 год и затем выпущенный отдельным изданием в 1900 году в Петербурге, появился с огромным количеством цензурных изменений и изъятий. Бесцензурное издание романа могло быть напечатано лишь за границей, в Англии, где его параллельно с русским изданием печатал В. Г. Чертков.
Выход в свет «Воскресения» был основным поводом к отлучению Толстого синодом в 1901 году от церкви.
В основу сюжета «Воскресения» лег следующий случай, рассказанный Толстому А. Ф. Кони, гостившим в июне 1887 года в Ясной Поляне. В бытность Кони прокурором петербургского окружного суда к нему явился молодой человек из аристократических слоев общества с жалобой на то, что товарищ прокурора, в ведении которого находились тюрьмы, отказал ему в передаче письма арестантке Розалии Они, требуя предварительного его прочтения. В ответ на указание Кони, что товарищ прокурора поступил руководствуясь тюремным уставом и потому правильно, жалобщик предложил самому
- 149 -
Кони прочесть письмо и затем распорядиться передать его Розалии. Из слов посетителя и из позднейшего рассказа смотрительницы женского отделения тюрьмы Кони о Розалии узнал следующее. Она была дочерью вдовца чухонца, арендатора мызы в одной из финляндских губерний. Будучи тяжело болен и узнав от врачей о близости смерти, отец Розалии обратился к владелице мызы, богатой петербургской даме, с просьбой позаботиться о дочери после его смерти. Дама обещала это сделать и, когда отец умер, взяла Розалию к себе в дом. Сначала девочку всячески баловали, но затем остыли к ней и сдали ее в девичью, где она воспитывалась до шестнадцатилетнего возраста, когда на нее обратил внимание родственник хозяйки, только что окончивший курс в одном из высших привилегированных учебных заведений, тот самый, который позже явился к Кони. Гостя у своей родственницы на даче, он соблазнил девушку, и, когда она забеременела, хозяйка с возмущением выгнала ее из дома. Розалия, брошенная своим соблазнителем, родила; ребенка своего она поместила в воспитательный дом, а сама превратилась мало-помалу в проститутку самого низкого разбора. Однажды в притоне около Сенной она украла у пьяного «гостя» сто рублей, спрятанных затем хозяйкой притона. Отданная под суд с участием присяжных, Розалия была приговорена к четырем месяцам тюрьмы. В числе присяжных, судивших Розалию, случайно оказался и ее соблазнитель, который после своей истории с несчастной девушкой, побывав на родине, в провинции, жил в Петербурге жизнью людей своего круга. На суде он узнал Розалию; встреча с ней в обстановке суда произвела на него сильное впечатление, глубоко потревожив его совесть, и он решил жениться на ней. Об этом решении он и сообщил Кони при своем визите к нему, прося его ускорить венчание с Розалией. Несмотря на то что Кони отговаривал своего собеседника от поспешной женитьбы на Розалии, советуя ему предварительно ближе присмотреться к ней, чтобы лучше узнать ее, он твердо стоял на своем. Наступивший вслед за тем пост сам собой отдалил венчание. Соблазнитель Розалии довольно часто виделся с ней в тюрьме и возил ей все нужное для приданого. В первое же свидание с ним Розалия объяснила ему, что вызвана к нему
- 150 -
из карцера, куда она была посажена за то, что бранилась в камере самыми площадными словами. В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. О дальнейшей судьбе ее жениха после этого у Кони не было точных сведений.
Рассказ Кони очень взволновал Толстого, напомнив ему отношение его к горничной Гаше, рассказанное Бирюкову. Первоначально решено было, что история Розалии Они будет изложена самим Кони в виде рассказа, который предположено было напечатать в издательстве «Посредник», но Кони медлил с выполнением своего обещания написать рассказ и, по просьбе Толстого, уступил ему сюжет истории Розалии.
«Коневская повесть», как первоначально называл свой будущий роман Толстой, задумана была, как и «Анна Каренина», в плане только морально-психологическом и должна была ответить на вопрос о нравственной ответственности мужчины-соблазнителя перед жертвой его плотской необузданности. Вначале даже сцену суда Толстой, видимо, не предполагал рисовать в обличительных тонах, судя по тому, что только через полгода после начала работы над повестью он записал в дневнике: «Обдумал на работе то, что надо Коневскую начать с сессии суда, и на другой день еще прибавил то, что надо тут же высказать всю бессмыслицу суда»1.
Но, написав после этого несколько страниц нового начала, в котором дана только характеристика Нехлюдова и о заседании суда еще ничего не сказано, Толстой на несколько лет почти совсем приостановил свою работу над повестью, теперь уже озаглавленной «Воскресение». В начале 1891 года он задумал писать роман, который соединил бы в себе большую часть пока еще не осуществленных им замыслов, в том числе и замысел «Воскресения». Этот роман должен был быть освещен «теперешним взглядом на вещи».
В течение четырех лет после этого Толстой не возвращался к тому, что им прежде было начато, а когда вернулся весной 1895 года, то его потянуло прежде
- 151 -
всего к работе над «Воскресением». Начиная несколько раз повесть по-новому и комбинируя новые варианты с прежними заготовками, Толстой к середине 1895 года закончил повесть начерно. По крайней мере ему казалось, что «подмалевка Коневской кончена». Эта первая редакция «Воскресения», однако, еще очень далека от того, что представляет собой окончательный текст романа. Она и по объему намного меньше окончательного текста. В ней присутствуют почти исключительно эпизоды, лишь непосредственно связанные с отношениями Нехлюдова и Катюши Масловой. Обличение общественного строя России дано лишь в сцене судебного заседания и в эпизоде поездки Нехлюдова в его имение для отдачи земли крестьянам по проекту Генри Джорджа, но сделано это с гораздо меньшей остротой, чем в окончательной редакции романа. Эпизоды, связанные с фигурами политических ссыльных, совершенно пока отсутствуют, как отсутствует и эпизод богослужения в тюремной церкви и многочисленные эпизоды, введенные позднее в роман в связи с хлопотами Нехлюдова о кассации дела Масловой, так как здесь Нехлюдов об этом не хлопочет: он женится на осужденной в ссылку Катюше, отправляется с нею в Сибирь, а затем они вдвоем бегут за границу и поселяются в Лондоне.
Через два с половиной года, в 1898 году, Толстой взялся очень энергично за переработку повести, как мы знаем уже, в связи с решением вырученный за нее гонорар пожертвовать в пользу переселявшихся в Канаду духоборов. В процессе этой переработки в многочисленных рукописях и корректурах она превратилась в большой злободневный роман, характеризующийся широкой политической и социальной тематикой, показавший обнищавшее крестьянство, тюремные этапы, мир уголовных, русское сектантство, сибирскую ссылку и ее жертв — революционеров, содержащий в себе обличение суда, церкви, администрации, аристократической верхушки русского общества и всего государственного и общественного строя царской России. Психологически малоправдоподобный эпилог романа, в котором дело кончалось женитьбой Нехлюдова на Катюше, был заменен гораздо более реалистичным, показавшим действительное нравственное воскресение Катюши, соединившей свою судьбу со ссыльным-революционером. От одной
- 152 -
редакции к другой повышались художественное качество романа, сила и убедительность психологического анализа. Черты натурализма, порой проскальзывавшие в черновых редакциях, в окончательном тексте были устранены. Толстой обнаружил в «Воскресении», говоря словами Ленина, «самый трезвый реализм».
Не приходится сомневаться в том, что разительное увеличение обличительных элементов в романе в пору подготовки его к печати обусловливалось энергичной реакцией Толстого на религиозные преследования сектантов со стороны русского правительства и официальной церкви. Эти преследования заставили его еще острее и напряженнее, чем было до этого, почувствовать и осознать уродство всей системы самодержавного строя, при котором гонения на инаковерующих представлялись ему лишь частным явлением в общем порядке вещей.
Обличительный пафос «Воскресения», все более и более нараставший, по мере того как роман подвигался к концу, объясняется и тем, что наиболее интенсивная работа Толстого над ним падает на вторую половину 90-х годов, когда в России явственно обнаружилось нарастание революционного движения, захватившего не только рабочий класс, но и крестьянство. Живя и творя в атмосфере революционного подъема, Толстой не мог не испытать по-своему его воздействия и не мог не отразить этого воздействия в своем злободневном романе.
Раздвигая постепенно рамки романа, Толстой превратил его в широкое полотно, захватившее многообразные животрепещущие вопросы современной автору русской жизни. Вся история отношений Нехлюдова к Катюше Масловой и судьба Катюши после ее падения и судебного обвинения в процессе длительной работы над романом рассматривалась уже не как случайный, изолированный от окружающей общественной жизни факт, а как следствие порочной системы, характерной для всей политической и моральной обстановки самодержавной России.
История мировой литературы не знает другого произведения, в котором с такой взволнованностью, с таким высоким этическим пафосом и в такой широте были бы показаны зло и вопиющая ненормальность самодержавно-полицейского государственного уклада, как это
- 153 -
сделано в «Воскресении». Все, что до тех пор писал Толстой как проповедник-обличитель, все, против чего он выступал как моралист и публицист, нашло в «Воскресении» свое наиболее художественное выражение. Ни одно из предшествующих художественных созданий Толстого не было проникнуто таким страстным протестом против современной ему капиталистической действительности, как «Воскресение».
«Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян»1 — такое стремление, характеризующее позицию русского крестьянства в революционном движении, Ленин считал в очень большой степени соответствующим идейному содержанию писаний Толстого, и нужно сказать, что идейное содержание «Воскресения» особенно наглядно подкрепляет эту мысль Ленина.
В «Воскресении», больше чем во всех других своих художественных произведениях, Толстой подошел к критике современного ему общественного строя с позиций многомиллионной крестьянской массы. Почти в самом начале работы над романом, говоря в дневнике о необходимости начать роман с жизни крестьян, а не бар, он пишет: «они (т. е. крестьяне. — Н. Г.) — предмет, положительное, а то — тень, то — отрицательное».
Толстой вывел в романе людей из самых разнообразных социальных слоев: тут и дворянская верхушка русского общества, и столичная бюрократия, и духовенство, и сектантство, и английские миссионеры, и крестьянская масса, и купечество, и военная среда, и мастеровые, рабочие, адвокаты, судейские чиновники, тюремное начальство. Тут широко показан уголовный люд, темный, забитый, в большинстве случаев невинно страдающий в ужасающих условиях царского тюремного режима и им же развращаемый; тут выведена и группа революционеров, в большей своей части изображенная Толстым с явной симпатией к ним и с сочувствием к их борьбе с самодержавным произволом и насилием.
- 154 -
Нужно сказать, впрочем, что Толстой симпатизирует лишь революционерам-народникам, выходцам из интеллигентной и крестьянской среды, в той или иной степени близким ему по своим идеалистическим взглядам, революционерам, политическая деятельность которых направляется в значительной степени отвлеченными моральными побуждениями. Таковы в романе Марья Павловна, Симонсон, Крыльцов, Набатов. Единственный фигурирующий в «Воскресении» революционер из рабочих — Маркел Кондратьев, с большим прилежанием изучающий первый том «Капитала» Маркса, изображен Толстым снисходительно-иронически, как человек недалекий, лишенный духовной самостоятельности. Отрицательное отношение к революционерам-марксистам обнаруживает Толстой и в рассказе «Божеское и человеческое», писавшемся в 1903—1905 годах.
Место действия «Воскресения» — обе столицы, нищая, разоренная деревня, помещичья усадьба, тюрьма, тюремная больница, пересыльные этапы, судебные учреждения, аристократические гостиные, кабинеты сановников и адвокатов, церковь, ложа театра, трактир, полицейский участок, вагон третьего класса, покойницкая и т. д.
Завязка «Воскресения» — преступление Нехлюдова по отношению к Катюше Масловой — обусловливает собой введение в роман всех прочих эпизодов, которые тесно связаны с этим основным, определяющим все другие, эпизодом. Отсюда — органическое единство сюжетной линии «Воскресения» в отличие от того, что мы имеем в «Войне и мире» и «Анне Карениной», построенных по принципу параллелизма и переплетения в значительной мере самостоятельных сюжетов. Отсюда также большая, чем там, динамичность и напряженность фабулы. Толстой здесь меньше, чем в «Войне и мире» и «Анне Карениной», прибегает к детальному психологическому анализу, к тому, что Чернышевский называл «диалектикой души». Зато здесь больше, чем там, таких персонажей, которые резко и смело зарисованы иногда двумя-тремя очень выразительными штрихами.
Портретная галерея «Воскресения» исключительно богата. Толстой как бы стремится захватить возможно больше лиц, фактов, событий и происшествий, используя все это для наиболее полной и убедительной иллюстрации основной идеи романа. При этом он очень часто
- 155 -
прибегает здесь к приему контрастных сопоставлений: отправление измученной Масловой, жертвы животной страсти Нехлюдова, из тюрьмы в суд и пробуждение в богатой квартире избалованного жизнью Нехлюдова, думающего о том, что он должен жениться на дочери богатого и знатного Корчагина; судебное заседание, окончившееся приговором к каторжным работам для Масловой, и изысканный обед у Корчагиных, на котором присутствует Нехлюдов после суда над Катюшей; надругательство над душой Катюши, над ее святая святых, и бездушный ритуал церковной службы; шествие арестантов по городу и встреча их с коляской богача; вагон с решетками, за которыми сидят арестанты, и тут же поблизости вокзальный зал, уставленный бутылками, вазами, канделябрами; те же арестанты и замученные, забитые рабочие, а рядом с ними праздное, сытое и самодовольное семейство Корчагиных; ужасы тюремной обстановки в Сибири, и на фоне их — изобилие, довольство и семейная идиллия в доме начальника края и т. д.
В «Воскресении» сильнее, чем в предшествующих художественных произведениях Толстого, обнаруживаются авторское вмешательство, субъективная авторская оценка действующих в романе персонажей и их поступков и различных, особенно отрицательных, явлений окружающей жизни. Для того чтобы соблюсти художественную меру, Толстой свои собственные мысли приписывает Нехлюдову.
Моралистическая тенденция сводится в романе к проповеди нравственного самосовершенствования как единственного средства борьбы со злом. После того как у Нехлюдова при встрече его с Катюшей в зале суда громко заговорила дремавшая до тех пор совесть, у него открылись глаза на все вообще зло окружающей его действительности; он понял, что его преступление и судьба Катюши — неразрывное звено в цепи тех кричащих изъянов, которыми переполнена вся жизнь людей. Но Нехлюдов не вступает с ними в активную борьбу. Вместо активной деятельности, направленной к политическому и социальному переустройству жизни своей страны, он замыкается в рамки исключительно внутренней работы личного самосовершенствования и филантропической деятельности.
Он приходит к убеждению, что достаточно людям исполнять
- 156 -
евангельские заповеди всепрощения, любви, плотского воздержания, чтобы люди достигли наибольшего доступного им блага на земле. Все дело жизни для «воскресшего» Нехлюдова определяется евангельским наставлением: «Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам». «Воскресение» Катюши Масловой, происшедшее главным образом вследствие ее сближения с революционерами, совершается если не в религиозном, то все же только в личном нравственном плане. Да и те, выведенные в романе, революционеры, которым особенно симпатизирует Толстой, в своей политической борьбе стремятся, как сказано выше, к осуществлению прежде всего высокого нравственного идеала. Толстой по всему складу своего мировоззрения не сделал и не мог сделать тех выводов из своих посылок, которые неизбежно сами собой из них вытекали.
Желание создать роман «широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», о чем Толстой писал в цитированных выше строках письма к Русанову, роман, в который вошло бы все, что казалось Толстому понятым им «с новой, необычной и полезной людям стороны», — осуществлено было созданием «Воскресения», объединившего, как хотел Толстой, его разрозненные художественные замыслы. Но оставался еще один замысел, очень притягивавший к себе Толстого уже с 70-х годов, — замысел романа из жизни крестьян-переселенцев, «русских Робинзонов», на новых местах строящих новую жизнь. И вот Толстой, пытавшийся раньше связать эту тему то с «Декабристами», то с романом из эпохи Петра I, решает теперь связать ее с «Воскресением», развив ее в задуманном втором томе романа. Уже через полгода после его напечатания он делает запись в дневнике: «Ужасно хочется писать художественное, и не драматическое, а эпическое продолжение «Воскресения»: крестьянская жизнь Нехлюдова»1. Через несколько лет, в 1905 году, Толстой в дневниковой записи более определенно раскрывает свой замысел: «Был в Пирогове... Дорогой увидал дугу новую, связанную лыком, и вспомнил сюжет Робинзона — сельского общества переселяющегося. И захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский,
- 157 -
падение, ошибка, и все на фоне робинзоновской общины»1. К осуществлению этого замысла Толстой так и не приступил. Но в высшей степени показательна та длительность вживания в тему, которая свидетельствует об огромной душевной работе, сопровождавшей художественное творчество Толстого и всецело направленной на то, чтобы разрешить большие идейные проблемы, его волновавшие.
ПОСЛЕДНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. ТОЛСТОГО
Последние годы жизни Толстого были заполнены обычной для него напряженной работой. Летом 1901 года он серьезно заболел и в сентябре этого года вместе с родными уехал в имение графини С. П. Паниной Гаспру, расположенное на южном берегу Крыма. По дороге, на харьковском вокзале, ему устроена была сочувственная манифестация в связи с отлучением его от церкви. Обеспокоенные этой манифестацией власти запретили помещать в газетах сведения о переезде Толстого на юг и о приветствиях, обращенных к нему. «Петербургская газета», сообщившая о выезде писателя в Крым, была наказана запрещением ее розничной продажи.
В середине января 1902 года Толстой написал Николаю II большое письмо, в котором, резко порицая правительство и самого царя, призывал избавить «рабочий народ» «от их исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не пользующегося правами всех остальных граждан», предоставить ему право «свободы передвижения, свободы обучения и свободы исповедания веры, свойственной его духовным потребностям» и, главное, «свободы пользования землей», то есть уничтожения земельной собственности. Первое дело, которое рекомендует Толстой правительству, — это «уничтожение того гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды»2.
В Крыму Толстой заболел очень тяжелой формой воспаления легких, затем брюшным тифом. Положение было
- 158 -
очень серьезно. Особый интерес к его болезни проявило правительство. 30 января 1902 года министр внутренних дел телеграфировал таврическому губернатору о том, чтобы в случае смерти Толстого запретить служить по нем панихиды, а через несколько дней таврический губернатор, в свою очередь, отдал распоряжение железнодорожным властям, чтобы в том случае, если Толстой умрет и придется перевозить тело в Ясную Поляну, поезд с гробом Толстого не делал продолжительных остановок в населенных местах.
К середине мая Толстой оправился и в конце июня вернулся в Ясную Поляну. На обратном пути его вновь встречали овациями на харьковском и курском вокзалах.
Во время пребывания Толстого в Гаспре его неоднократно навещали Чехов, с которым он впервые встретился в 1895 году в Ясной Поляне, и Горький, с которым он познакомился в Москве в 1900 году. В ноябре 1901 года Толстой записал в дневнике: «Рад, что и Горький и Чехов мне приятны, особенно первый»1.
За год до отъезда в Крым, в 1900 году, Толстой начерно написал пьесу «Живой труп», в основу которой, как и в основу «Власти тьмы», легло подлинное судебное дело — на этот раз супругов Гимер — и которая так и не была Толстым окончательно отделана.
Главное действующее лицо «Живого трупа», Федя Протасов, — живое воплощение протеста против узаконенных обществом и государством чисто формальных устоев семейной жизни, скрепляющих совместную жизнь супругов не чувством взаимного влечения, а узами юридического принуждения. Писатель, проповедовавший в «Крейцеровой сонате» аскетическую мораль плотского и всяческого иного воздержания и нерушимость брака, в «Живом трупе» явно стоит на стороне Феди Протасова, человека опустившегося, ищущего забвения в вине и в поэзии цыганской песни, увлеченного цыганкой и уходящего от своей внутренне бесцветной, хотя и доброй жены. Прописные заповеди семейной морали в пьесе оказываются жалкими и беспомощными перед естественной силой душевной привязанности, связывающей Протасова и цыганку Машу. Не будучи в состоянии без
- 159 -
постыдного компромисса получить развод с женой, Протасов симулирует самоубийство, чтобы дать свободу себе и жене, а когда симуляция обнаруживается и суд угрожает расторжением нового брака, в который вступила его бывшая жена, и возобновлением старого брака Протасовых, он на этот раз действительно кончает самоубийством. Не отвлеченные моральные предписания определяют поведение человека, а живое, полноценное чувство, не стесняемое никакой условной ложью, не допускающее никаких сделок с голосом совести. Таков внутренний смысл пьесы Толстого.
Однако душевная драма Феди Протасова показана Толстым не только как результат неудачно сложившейся его личной жизни, но в основном как следствие глубокой порочности и полного бездушия и фальши всего общественного и государственного уклада самодержавно-полицейской России, с которым не может мириться его нравственное сознание. «Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, — говорит он, — три выбора — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть не умел, но, главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться — пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся».
Выдающимся по своему художественному значению произведением последних лет жизни Толстого является его повесть «Хаджи-Мурат» (1896—1904).
В «Хаджи-Мурате» с замечательным художественным мастерством нарисована фигура непокорного, свободолюбивого горца. Толстой относится к нему с такой нескрываемой симпатией, что кажется, будто он отказался от своей проповеди непротивления злу насилием и даже приветствует противление всяческому угнетению и насилию над свободой и достоинством человека. Читая «Хаджи-Мурата», вспоминаешь больше автора «Казаков», чем позднейших религиозно-философских трактатов. Так могучий дар художника-жизнелюбца вернул Толстого к поре его писательской молодости и как будто заставил его поколебаться в позиции проповедника незлобия и всепрощения. В Толстом как бы проснулся участник кавказских и севастопольских боев, и его потянуло к стихии военного быта, к ее суровой романтике
- 160 -
и к людям, закаленным в страде боевых испытаний, увлеченных своеобразной поэзией боевых действий. Недаром в повести говорится о том, как в середине разговора офицеров «послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево», а затем по команде «по всей линии цепи послышался прерывистый, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками», и эта стрельба настолько радовала и увлекала солдат, что они «торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом».
События, рассказанные в «Хаджи-Мурате», — разрыв Хаджи-Мурата с Шамилем, переход героя повести на сторону русских для общей с ними борьбы со своим кровным врагом и его трагическая гибель, когда он решил бежать от своих союзников, чтобы выручить свою семью из рук Шамиля, — все это произошло в 1851—1852 годах, как раз в ту пору, когда Толстой сам был на Кавказе. Незаурядная личность Хаджи-Мурата тогда же очень заинтересовала его, но лишь в 1896 году он принялся писать повесть и потратил на нее с перерывами больше восьми лет напряженного труда, тщательно собирая разнообразные — письменные и устные — материалы, многократно ее перерабатывая и множа обширные черновые варианты. В конце 1904 года, так и не доведя повесть до окончательной литературной обработки, Толстой прекратил дальнейшую работу над ней, потому что решил, что при его жизни она все равно не будет напечатана.
Хаджи-Мурат до своего окончательного разрыва с Шамилем был таким же врагом колониальной политики русского царизма, как и Шамиль, и так же, как Шамиль, вел борьбу под знаменем фанатического мюридизма, но личная вражда с Шамилем побудила Хаджи-Мурата изменить своему повелителю и предаться русскому царю, с помощью которого он жаждал отомстить Шамилю, а затем и усилить свою власть и влияние на Кавказе. Однако в руках Шамиля осталась семья Хаджи-Мурата, спасение которой для него стало теперь главной заботой, не дававшей ему покоя во все время пребывания у русского командования. Толстой не вникал в политическую сущность мюридизма, который возглавлялся Шамилем и
- 161 -
к которому привержен был Хаджи-Мурат, да и не мог по своей неосведомленности в исторической обстановке вникнуть в нее, но его заинтересовала личность Хаджи-Мурата в чисто этическом плане — как человека с незаурядной индивидуальностью, как самобытной и цельной натуры, настойчиво и неуклонно стремившейся к своей цели — личной независимости и избавлению любимой семьи от расправы с ней со стороны его злейшего врага.
Однако Хаджи-Мурат страдает не только от Шамиля. Он жертва и коронованного деспота Николая I, и его ближайшего окружения, для которых он только орудие в их политических расчетах и которые не делают ничего для того, чтобы прийти на помощь ему в освобождении его семьи. Хаджи-Мурат оказывается обманутым в своих расчетах, доверившись русскому царю. В глазах Толстого Николая I и Шамиля роднит присущий им обоим деспотизм. С. Н. Шульгину, принимавшему участие в собирании материалов для повести, Толстой сказал: «Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля и Николая, представляющих вместе как бы два полюса властного абсолютизма: азиатского и европейского»1.
Николая I Толстой в своей повести изображает с большей обличительной силой, чем Шамиля, потому что в центре повести — судьба Хаджи-Мурата в то время, когда она всецело зависела от действий Николая и его подручных. Николай I показан в «Хаджи-Мурате» со всеми своими омерзительными качествами человека и государственного деятеля, лишенного каких-либо нравственных устоев. Под стать ему и его приближенные — в первую очередь отец и сын Воронцовы и военный министр Чернышев, являющиеся усердными и послушными исполнителями царской воли и царской прихоти. Исторически оправданный и имевший прогрессивное значение факт присоединения Кавказа к России сопровождался насильническими действиями, творившимися по указаниям Николая I и его сатрапов, оскорблявших национальное чувство кавказских горцев и вооружавших
- 162 -
их против русского народа, неповинного в жестокостях царской колониальной политики. И это вызывало резко осудительное отношение Толстого, нашедшее яркое отражение в повести.
В «Хаджи-Мурате» значительное место занимают простые и симпатичные русские люди из солдатской и отчасти офицерской среды, которые сами являются жертвами или несут на себе бремя недальновидных и бездарных действий Николая I и его подвластных, распоряжающихся судьбами кавказских народов.
Так, значительное место в повести отведено рассказу о смерти солдата Авдеева, раненного при перестрелке, завязавшейся с чеченцами во время рубки леса русским отрядом. Вслед за тем рассказывается о его судьбе, судьбе младшего сына в крестьянской семье, недавно женившегося, бездетного, энергичного и работящего, пошедшего в солдаты вместо старшего своего брата, отца четырех детей, ленивого и нерадивого. Рассказ этот композиционно мало связан с повестью, но он понадобился Толстому для того, чтобы горькую крестьянскую долю сопоставить с беззаботно-развлекательной и беспечной жизнью аристократического военного круга во главе с Воронцовыми. Толстой не упускает случая, чтобы с чувством большого участия не сказать о тяжелой участи простого русского человека. Хаджи-Мурата, задумавшего под предлогом прогулки побег в горы, сопровождает конвой из пяти солдат, из которых трое были убиты в жестокой схватке с Хаджи-Муратом и его нукерами. Об одном из них — георгиевском кавалере, молодом, «кровь с молоком», здоровом русском малом Назарове — сказано, что он был старший в бедной старообрядческой семье, вырос без отца и кормил старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями; о другом, Петракове, молодом, единственном сыне у матери, сказано у Толстого, что он был «всегда ласковый и веселый», а теперь, сраженный и добитый нукерами Хаджи-Мурата, «лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, а он, как рыба всхлипывая, умирал».
Явное расположение, которое Толстой обнаружил к своему герою, коренилось, видимо, прежде всего в том, что Хаджи-Мурат упорно защищался от тех, кто посягал на его физическую свободу, подобно тому как защищался
- 163 -
сам Толстой от посягавших на его духовную свободу. Душевный склад Хаджи-Мурата чужд был нравственному сознанию Толстого, но несгибаемая сила и стихийная мощь борца, способного глубоко чувствовать и страстно стремиться к своей цели, привлекали его внутренней красотой, какая запечатлелась и во включенных в повесть изумительных песнях, вдохновляющих Хаджи-Мурата на борьбу. Он, как и Федя Протасов, — жертва той узаконенной лжи и того тупого и бессмысленного деспотизма, которые в повести воплощены в отталкивающей фигуре Николая I, главного виновника гибели Хаджи-Мурата. Привлекали Толстого и характеры других горцев с их цельными, сильными натурами, так непохожими на испорченных и обезличенных ложной цивилизацией представителей светского общества.
Поразительно благородна простота стиля и языка «Хаджи-Мурата». Перед нами как бы воскресает сжатая и чеканная проза Пушкина, сдержанная и немногословная, но тем более волнующая и впечатляющая. И нужно было быть Толстым, чтобы найти для повести такой простой и вместе с тем необыкновенный по своему художественному действию на читателя образ, как упорно отстаивающий свою жизнь репей среди черноземного вспаханного поля, напомнивший Толстому судьбу Хаджи-Мурата, уже насмерть раненного, но поднявшегося, собрав последние силы, и с кинжалом в руке шагнувшего навстречу врагам и только после повторных выстрелов рухнувшего на землю, как подкошенный репей. Неповторимо также по своей поэтической красоте описание пения соловьев в момент бегства и смерти Хаджи-Мурата.
Деспотический характер царствования «Николая Палкина» нашел отражение, помимо «Хаджи-Мурата», также в рассказах «После бала» (1903) и «За что?» (1906).
В рассказе «После бала», как и во многих других произведениях Толстого, резкий поворот в судьбе человека наступает в результате случайного события в его жизни. Влюбленный молодой человек, безмерно увлеченный юной красавицей, готовый в приливе своей чистой идеальной любви обнять весь мир, неожиданно становится свидетелем потрясающей сцены жестокого избиения шпицрутенами провинившегося солдата-татарина. Экзекуция происходит под командой отца девушки.
- 164 -
За несколько часов до истязания полковник молодцевато танцевал с дочерью на балу мазурку, привлекая к себе восторженные взоры влюбленного молодого человека. А утром тот же полковник предстал перед ним в зверском облике злобного мучителя. Из мира идеальной мечты герой рассказа сразу же перенесся в мир самой отталкивающей действительности. Рассказчик был ошеломлен неожиданным открытием, и, хотя он не в состоянии тотчас же осмыслить весь ужас происходящего, он уже не может впоследствии поступить ни в военную службу, как хотел прежде, и ни в какую-либо другую. Как и Федя Протасов, чувствуя себя выбитым из колеи, он, по его словам, никуда уже не годился, а любовь его с того дня пошла на убыль и со временем сошла на нет. «Вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека» — такими словами заканчивает рассказчик свои воспоминания. Действие рассказа приурочено к 40-м годам прошлого века.
Есть основания предполагать, судя по дневниковой записи Толстого 18 июня 1903 года, что рассказ «После бала» носит автобиографический характер и что прототипом Василия Ивановича, влюбленного в дочь полковника и танцевавшего с ней на балу, был сам Толстой в пору его учения в Казанском университете. В статье 1886 года «Николай Палкин» Толстой делится воспоминанием, по-видимому, казанского периода, об одном из полковых или ротных командиров: «Я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы назавтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью»1.
Сам Толстой не был свидетелем экзекуции, но в 1898—1899 годах он встречался с писателем И. Н. Захарьиным (Якуниным), присутствовавшим во время наказания одного солдата шпицрутенами и познакомившего Толстого с подробностями этого наказания. Живо заинтересованный рассказом, Толстой настойчиво советовал Захарьину описать этот случай. Рассказ Захарьина, нужно думать, стимулировал работу Толстого над его собственным произведением на тему о солдатской экзекуции.
- 165 -
Сюжет рассказа «За что?» из времен польского восстания начала 30-х годов, вошедшего в составленный Толстым «Круг чтения», взят из книги С. В. Максимова «Сибирь и каторга», которую Толстой читал с большим интересом. Главные герои рассказа Иосиф и Альбина Мигурские были реальными лицами; под этими же именами они фигурируют в книге Максимова. В рассказе, поражающем скоплением трагических несчастий, обрушивающихся на семью Мигурских, нашли отражение основные события их жизни: ссылка убежденного патриота, борющегося за свободу своего отечества, на окраину России, смерть двух детей Мигурских, глубоко потрясшая материнское сердце Альбины, неудачная попытка бежать (Альбина решает воспользоваться разрешением перевезти прах детей и прячет Мигурского в ящике для гробов), суд над Мигурским, приговоривший его к тысяче палочных ударов, новая ссылка на вечное поселение в Сибирь, куда за ним последовала Альбина. Читатель с непрерывным напряжением следит за судьбою страдальцев — жертв деспотического режима Николая I.
Очень характерно, что, как это мы видели и в «Набеге» и в «Хаджи-Мурате», Толстой для усиления впечатления от того зла, которое причиняют власть имущие простым людям, рассказывает о судьбе одного из них, косвенно причастного к тому, что творят распорядители человеческих судеб. Так, добродушный казак Данило Лифанов, сопровождавший беглецов, обнаружив Мигурского в ящике, донес об этом властям и стал мучиться сомнением, хорошо ли он поступил, выдав Мигурского из-за формально исполнительного отношения к службе. Несмотря на то что он твердо исповедовал старую веру, не пил и не курил, после ареста Мигурского он отправился в трактир и, потребовав водки, пил там день и ночь, пропив все, что у него было, проснулся на следующую ночь в канаве и только тогда перестал думать о том, правильно ли он поступил, выполняя воинскую присягу.
Показательно, что все, сказанное о казаке Даниле Лифанове, не было заимствовано из книги Максимова и привнесено в рассказ самим Толстым.
С большим сочувствием и симпатией Толстой говорит не только о Мигурских, но и о поляках-патриотах
- 166 -
вообще, поднявшихся на защиту свободы своего народа. Толстой заканчивает свой рассказ так: «Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы».
В конце января 1904 года началась русско-японская война, и вскоре вспыхнула первая русская революция. Эти события очень взволновали Толстого. В связи с войной он написал статью «Одумайтесь!», в которой горячо протестовал против войны и призывал к ее прекращению. Падение Порт-Артура 20 декабря 1904 года вызвало в нем подъем патриотических чувств.
Несмотря на то что, стоя на позициях непротивления злу насилием, Толстой в своих печатных выступлениях резко отрицательно отзывался о революции 1905—1907 годов и о революционерах, порицая одновременно и деятельность русского правительства, в своих письмах, противореча самому себе, он в ряде случаев высказывался о неизбежности революционного обновления русской жизни, хотя и не понимал движущих сил революции, что сказалось и в таких его художественных произведениях на тему о революции, как «Божеское и человеческое», «Кто убийцы? Павел Кудряш», «Нет в мире виноватых».
От революции Толстой ждал освобождения народа от тяжелых материальных и нравственных условий его существования. 18 октября 1905 года он писал В. В. Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании, добро- и самовольно принятом на себя, адвоката стомиллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь; всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую»1. Его, врага всяческого насилия, на этот раз не смущали неизбежные насилия, которыми сопровождалась
- 167 -
революция. В другом письме к В. В. Стасову, от 30 ноября 1905 года, он писал: «События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть недовольным тем, что творится, все равно что быть недовольным осенью и зимою, не думая о той весне, к которой они нас приближают»1. В письме к В. Г. Черткову от 4 ноября 1905 года Толстой говорил о совершающейся революции: «А все-таки это роды, это подъем общественного сознания на высшую ступень»2. Он верил, что революция 1905 года «будет иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, чем Великая французская революция»3.
Усиление реакции, наступившее после революции, многочисленные смертные казни, каторжные приговоры, сопровождавшие ее подавление, глубоко волновали Толстого и обостряли его душевные страдания. В 1908 году он написал статью «Не могу молчать» — гневный памфлет, направленный против смертных казней, к которым прибегало русское правительство для окончательного подавления революционного движения.
Все сильнее и сильнее смущала Толстого разница между той обстановкой, в какой он жил, и той, в какой жили народные массы. Чем дальше, тем больше Толстого тяготила жизнь в Ясной Поляне. В 1905 году он записал в своем дневнике: «Пропасть народа, все нарядные, едят, пьют, требуют. Слуги бегают, исполняют. И мне все мучительнее и мучительнее, и труднее и труднее участвовать и не осуждать... Все больше и больше болею своим довольством и окружающей нуждою»4. В 1908 году, в июле, он записал в своем «тайном» дневнике: «Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание»5. И через несколько дней: «Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть»6. В апреле
- 168 -
1910 года Толстой жалуется в дневнике: «Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной, голодной смерти, избавить себя и семью... Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали»1.
Волнующее сознание пропасти, отделяющей жизнь зажиточных слоев общества, в частности своей собственной семьи, от жизни деревенской и городской бедноты, выразил Толстой в наиболее автобиографическом своем произведении — в драме «И свет во тьме светит», над которой он работал в годы 1896—1897 и 1900 и которая осталась незаконченной и неотделанной. Устами Николая Ивановича Сарынцева Толстой высказал свое собственное отношение к угнетавшей его проблеме материального и правового неравенства людей. Обращаясь к собравшейся в его доме молодежи, Сарынцев говорит: «Вы все здесь семь, восемь здоровых, молодых мужчин и женщин спали до десяти часов, пили, ели, едите еще и играете и рассуждаете про музыку, а там, откуда я сейчас пришел..., встали с трех часов утра, — другие и не спали в ночном, и старые, больные, слабые, дети, женщины с грудными и беременные из последних сил работают, чтобы плоды их трудов проживали мы здесь. И мало этого. Сейчас одного из них, последнего, единственного работника в семье, сейчас тащат в тюрьму за то, что он в так называемом моем лесу срубил весной одну из ста тысяч елок, которые растут там...»2 Слабая в художественном отношении, лишенная драматического движения, пьеса эта, неприкрыто тенденциозно-моралистическая и программная, наглядно рисует ту тягостную размолвку, которая на почве отношения к земельной собственности существовала между Толстым, с одной стороны, и его женой и некоторыми детьми и родственниками, с другой.
Начиная с 1909 года в дневниках Толстого все чаще встречаются записи, в которых он высказывает намерение покинуть свой дом, что он задумал осуществить еще в 1884 году и что нашло литературное отражение и в драме «И свет во тьме светит».
За год приблизительно до смерти Толстой написал
- 169 -
полубеллетристические-полупублицистические произведения, по жанру близкие к очерковой литературе, — «Три дня в деревне» и «Сон», в которых с еще большей резкостью, чем в пьесе «И свет во тьме светит», был поставлен вопрос об эксплуатации имущими неимущих. Особенно сильно заострена эта тема в очерке «Сон», над которым Толстой особенно много и упорно трудился и который являлся как бы заключением к «Трем дням в деревне». Очерк прошел через пять редакций, каждая из которых переделывалась более тридцати раз. В окончательной редакции очерка автор передает услышанный им во сне голос, оправдывающий крестьян, укравших у помещика десять дубов и осужденных за это к тюремному заключению: «Да ведь если бы они взяли не дубы, а унесли все, что есть здесь в этом доме, то они взяли бы только свое, только все то, что они и их братья, но уже никак не вы, сделали. «Похитили дубы!» Да ведь вы у них веками похищали не дубы, а жизни, жизни их детей, женщин, стариков, чахнущих и не доживающих естественный срок жизни, только оттого, что данная им, как и всем людям, богом земля отнята от них, и они вынуждены были работать на вас»1.
Незадолго до смерти Толстой работал над произведением «Нет в мире виноватых», дошедшим до нас в трех незавершенных вариантах. В каждом из них противопоставляется жизнь богатых людей и бедняков. Еще за два месяца до смерти Толстой продолжал работу над третьим, незадолго до того начатым вариантом, в котором это противопоставление выражено особенно резко. Говоря о самом себе и о своих тягостных переживаниях от сознания несоответствия своей жизни с требованиями совести, Толстой начал этот вариант такими словами: «Какая странная, удивительная моя судьба. Едва ли есть какой бы то ни было забитый, страдающий от насилия и роскоши богачей бедняк, который бы в сотой доле чувствовал, как я чувствую теперь, всю ту несправедливость, жестокость, весь ужас того насилия, издевательства богатых над бедными и всей подавленности, униженности — бедственности положения всего огромного большинства людей настоящего, трудящегося и делающего жизнь рабочего народа. Чувствовал я это давно, и чувство это с годами
- 170 -
росло и росло и дошло в последнее время до высшей степени. Мучительно чувствую теперь все это и, несмотря на то, живу в этой развращенной, преступной среде богатых и не могу, не умею, не имею сил уйти из нее, не могу, не умею изменить свою жизнь так, чтобы каждое удовлетворение потребности тела — еда, сон, одежда, передвижение — не сопровождал сознанием греха и стыда за свое положение.
Было время, когда я пытался изменить это мое, несогласное с требованиями души, положение, но сложные условия прошедшего, семья и ее требования не выпускали меня из своих тисков, или, скорее, я не умел и не имел сил от них освободиться. Теперь же, на девятом десятке, ослабевший телесными силами, я уже не пытаюсь освободиться и, странное дело, по мере ослабления телесных сил, все сильнее и сильнее сознавая всю преступность своего положения, я все более и более страдаю от этого положения»1.
Однако Толстой в конце концов осуществил свое давнее намерение навсегда покинуть Ясную Поляну. Это произошло рано утром 28 октября 1910 года. Проехав часть пути в вагоне третьего класса, битком набитом народом, он направился к своей сестре монахине Марии Николаевне в деревню Шамардино Калужской губернии, где решил поселиться, наняв у местной крестьянки избу. Но, опасаясь, что тут может быть легко обнаружено его местопребывание и что жена или сыновья попытаются приехать туда, Толстой решил ехать дальше — в Новочеркасск, к своей племяннице Е. С. Денисенко, надеясь с помощью ее мужа добыть заграничный паспорт и уехать в Болгарию к духоборам, в случае же неудачи с получением паспорта — отправиться на Кавказ. По дороге в поезде Толстой заболел воспалением легких и, прервав свое путешествие, сошел с поезда на станции Астапово, начальник которой И. И. Озолин приютил его в своем доме. В Астапово съехалась семья Толстого, приехал В. Г. Чертков и другие близкие писателю люди, а также врачи и газетные корреспонденты, непрерывно оповещавшие через печать о состоянии его здоровья.
Гражданские власти приняли оперативные меры для
- 171 -
«поддержания порядка», прислав в Астапово вооруженных жандармов и полицейских. Церковные власти тоже заволновались. Петербургский митрополит Антоний послал Толстому телеграмму, уговаривая его «примириться с церковью и православным русским народом». С этой же целью по поручению синода в Астапово прибыли игумен Оптиной пустыни и еще один монах. Во избежание волнений телеграмма митрополита не была показана Толстому, оптинских монахов также не допустили к нему. Около 5 часов утра 7 (20) ноября к Толстому разрешено было войти жене, но он был уже без сознания. Через час, в 6 часов 5 минут утра, Толстой скончался.
Спустя несколько часов в Астапово приехал тульский архиерей Парфений, расспрашивавший членов семьи Толстого, не выражал ли он перед смертью желания вернуться в лоно православной церкви. Вице-директор департамента полиции Харламов, секретно прибывший в Астапово еще за два дня до смерти Толстого, сообщал товарищу министра внутренних дел Курлову: «Миссия преосвященного Парфения успеха не имела: никто из членов семьи не нашел возможным удостоверить, чтобы умерший выражал какое-либо желание примириться с церковью». В связи с этим синод запретил православному духовенству совершать панихиды по Толстому.
9 ноября поезд с телом Толстого прибыл на станцию Засека, откуда на руках, в сопровождении многочисленной толпы местного населения и приезжих, прах Толстого был перенесен в Ясную Поляну, где в тот же день состоялись гражданские похороны. Толстой погребен был в лесу «Заказ», на месте, задолго до кончины указанном им самим.
Смерть Толстого отозвалась глубокой скорбью не только у его соотечественников, но и во всем культурном мире. Студенческие и рабочие демонстрации и забастовки, явившиеся откликом на горестную кончину, выразили чувство протеста передовых слоев русского общества против реакционной политики царского правительства, убежденным и страстным обличителем которой был Лев Толстой. Полным глубокого почитания откликом на смерть Толстого явилась статья Ленина «Л. Н. Толстой», напечатанная 16 (29) ноября 1910 года в газете «Социал-демократ».
- 172 -
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА Л. ТОЛСТОГО
Как уже было сказано, основные особенности творческой индивидуальности Толстого с большой проникновенностью определены были Чернышевским еще на материале ранних толстовских произведений. Чернышевский считал правильной, но недостаточной характеристику Толстого как писателя, ставшую уже тогда своего рода общим местом: «Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа Толстого»1. Все эти особенности, по мнению Чернышевского, присущи и Пушкину, и Лермонтову, и Тургеневу. Но характерная особенность Толстого заключается в том, что его внимание «более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других... как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем»2. Наблюдение форм и законов психической жизни, какое мы находим у Толстого, Чернышевский и называет «диалектикой души».
По взгляду Чернышевского, характером психологического анализа к Толстому в некоторой степени приближается Лермонтов, особенно в размышлениях Печорина об его отношениях к Мери, но, замечает Чернышевский, «это вовсе не то, что полумечтательные, полурефлективные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого»3. Для образца глубины толстовского психологического анализа при помощи «внутреннего монолога» Чернышевский приводит эпизод ранения и смерти Праскухина из второго севастопольского рассказа.
- 173 -
В отличие от других писателей, у которых психологический анализ имеет описательный характер, которые, разлагая определенное неподвижное чувство на его составные части, дают, так сказать, его анатомическую таблицу, в отличие от известных нам поэтов, улавливающих драматические переходы одного чувства в другое, одной мысли в другую путем изображения только двух крайних звеньев этой цепи, только начала и конца психического процесса, Толстой, по мысли Чернышевского, не ограничиваясь изображением результатов психического процесса, воспроизводит самый этот процесс, сопровождаемый чрезвычайно быстрой, едва уловимой сменой разнообразных душевных состояний.
«Есть живописцы, — пишет Чернышевский, — которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело»1.
Чем сложнее внутренний мир того или иного персонажа Толстого, тем большей противоречивостью и текучестью отличается его душевная жизнь, тем больше в его характере обнаруживается «диалектики души» и тем менее он подходит под понятие типа в обычном понимании этого термина. Как о типических фигурах можно говорить о персонажах военных и крестьянских рассказов Толстого, о Друбецком, Берге, Каренине, Стиве Облонском, Бетси Тверской, чего нельзя сказать об Андрее Болконском, Пьере Безухове, Наташе Ростовой, Анне Карениной, Левине, Нехлюдове, живущих сложной и противоречивой жизнью.
Великий дар наблюдательности по отношению к внутреннему миру людей развился у Толстого в результате непрестанного самонаблюдения и усиленного контроля своего душевного мира. Замечательно, что это понял Чернышевский, незнакомый с дневниками Толстого
- 174 -
и не знавший, в какой степени самонаблюдение действительно изощряло его наблюдательность. Говоря о том, что «кто не изучал человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей», Чернышевский высказывает уверенность, что Толстой «чрезвычайно внимательно изучал тайны человеческого духа в самом себе». «Мы не ошибемся, — писал он, — сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным взглядом»1.
Самонаблюдение стало для Толстого основным источником его в высшей степени самокритического отношения как к самому себе, так и к своей работе. Стремясь к правдивой, искренней, часто беспощадной оценке своих поступков, Толстой стремился и к полной правдивости в изображении людей и обстановки, в которой они живут.
Все особенности психологического анализа у Толстого, так высоко оцененные Чернышевским и бывшие в его представлении только богатым и прекрасным залогом того, что должен будет дать Толстой в своих последующих произведениях, в течение дальнейшей его писательской деятельности нашли себе еще более совершенное воплощение в его романах, повестях, рассказах, драматических произведениях. Стоит припомнить хотя бы «внутренний монолог» Анны Карениной во время ее поездки незадолго до смерти к Долли и при возвращении из этой поездки.
Дар чрезвычайной наблюдательности, отмеченный Чернышевским у Толстого, сказывается не только в описании психических состояний человека, но и в описании привычных движений, жестов и вообще физических действий персонажей, а также отдельных черт их внешнего облика, за которыми угадываются особенности их внутреннего существа. Обычно Толстой в своих портретных характеристиках не дает последовательного перечисления внешних примет того или иного персонажа, как это делает, например, Тургенев, а выделяет в его наружности, в позах, в походке, в выражении лица отдельные устойчивые индивидуальные их черты, уясняющие одновременно и внешний и внутренний их облик. Например,
- 175 -
Толстой настойчиво обращает внимание на короткую, подвижную губку княгини Болконской, жены князя Андрея, характерную и для ее сына — Николеньки Болконского, на лучистые глаза княжны Марьи Болконской, ее краснеющее пятнами лицо и тяжелую походку, на стягивающиеся и распускающиеся морщины на лице дипломата Билибина, на маленькие белые пухлые руки Сперанского и Наполеона, на светлый и наглый взгляд Долохова, легкую, твердую походку Анны Карениной, глянцевито-блестящие и косящие глаза Катюши Масловой, детскую улыбку Хаджи-Мурата, его широко расставленные глаза и многое другое.
Характерной особенностью художественного письма Толстого, находящейся в родстве с его портретными изображениями, является использование им мимического языка чувств, «немого» разговора при помощи взглядов, улыбок, жестов, интонаций голоса. Такие «немые» разговоры, гораздо правдивее и непосредственнее выражающие чувства и мысли людей, чем словесная речь, встречаются у Толстого чуть ли не в каждом его произведении, сопровождаясь при этом большей частью авторскими пояснениями.
Так, когда Николай Ростов приезжает в отпуск домой, он не знает, как говорить с Соней, — на «вы» или на «ты», и оба они словами не могут выразить своего отношения друг к другу. Их выручает «немой» разговор глазами: «Он поцеловал ее руку и назвал ее вы — Соня. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании, и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли, иначе ли, он не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее».
Когда графиня Ростова хочет, чтобы Соня освободила ее сына от данного им обещания жениться на ней, она, посылая сыну письмо в армию, хотела бы, чтобы и Соня написала ему в желательном для матери смысле. «Соня, — сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. — Соня, ты не напишешь Николеньке? — сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня
- 176 -
этими словами. В этом взгляде выражались мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа. Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку. — Я напишу, maman, — сказала она».
Пьер Безухов и французский капитан — оба навеселе — ведут беседу, во время которой Пьер признается собеседнику в своей любви к Наташе, но, неуверенный в том, что капитан понимает его как следует, спрашивает его, понятно ли ему, о чем он говорит. «Капитан сделал жест, выражавший то, что ежели бы он не понимал, то он все-таки просит продолжать».
При встрече Хаджи-Мурата с кавказским наместником Воронцовым они объясняются через переводчика. Оба они, после речи переводчика, взглянули друг другу в глаза. «Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик, — поясняет Толстой. — Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он, враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны».
Такую же наблюдательность, какую проявляет Толстой по отношению к внутреннему миру человека, проявляет он и к окружающей человека обстановке, ко всем деталям его быта. Он стремится к тому, чтобы как можно нагляднее показать своих персонажей в окружении реальной, конкретной действительности, в которой они живут и действуют. То же мы видим и в изображении Толстым природы, картины которой рисуются им без той романтической приподнятости, какая обычно была у многих его предшественников, и с той поразительной зоркостью в отношении едва уловимых, незаметных для простого глаза подробностей, какую обнаруживает он и в изображении человеческих характеров. При этом
- 177 -
мир природы у Толстого изображается в тесной связи с душевной жизнью его персонажей и помогает наиболее полному раскрытию их психического состояния.
Мы знаем, что Толстой был одним из замечательнейших мастеров в изображении природы. Недалек был от истины Плеханов, говоря о том, что «Толстой любит природу и изображает ее с таким мастерством, до которого, кажется, никто и никогда еще не возвышался»1. Это подтверждается не только многими страницами «Казаков», «Семейного счастия», «Войны и мира», «Анны Карениной», «Хаджи-Мурата», но и письмами и дневниками Толстого, где о власти природы над своей душой Толстой говорит с таким трепетным восторгом, что его лирические излияния не уступают лучшим стихам Тютчева или Фета. В молодости, 1 мая 1858 года, он пишет А. А. Толстой: «Пришла весна, как ни вертелась, а пришла. Воочию чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук — вдруг в листьях. Бог знает откуда-то снизу, из-под земли лезут зеленые штуки — желтые, синие. Какие-то животные как угорелые из куста в куст летают и зачем-то свистят изо всех сил, и как отлично. Даже в эту минуту под самым окном два соловья валяют... Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве... Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья.
И ринься бодрый, самовластный
В сей животворный океан.— Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки»2.
В самый острый момент мучительного духовного кризиса, летом 1880 года, Толстой пишет Фету: «Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю»3. Через семнадцать лет, приближаясь к своему
- 178 -
восьмому десятку, он, уехав весной из Москвы в Ясную Поляну, в таких словах описывает жене красоту весны в деревне и власть этой красоты над ним, недомогающим и ослабевшим физически: «Очень я себя чувствовал вялым и слабым в день отъезда и дорогой. Но необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени; соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух — и все это вдруг, не вовремя, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, и все; главное, маханье берез прешпекта такое же, как было, когда я, шестьдесят лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту. Очень хорошо и не грустно, потому что ничего позади этого не воображаю, а хорошо, как должно быть в душе и бывает хоть изредка»1.
Природа для Толстого была источником того живого и в высшей степени творческого чувства полнозвучной жизни, которое с удивительной силой притягивало его к земле и, отвлекая от мыслей о потустороннем мире, все настойчивее будило в нем мечту о земном человеческом счастье не только для живущих теперь, но и для грядущих поколений. Однажды, тоже в старости, в 1894 году, он записал в своем дневнике: «Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем»2.
Все эти вдохновенные строки, посвященные природе, являются, быть может, лучшим комментарием к повести о Хаджи-Мурате, в самом существе своем насквозь проникнутой чувством живейшей связи Толстого со всем
- 179 -
тем, что вытекает из непосредственной близости его к природе, ее силе и красоте.
Стремясь к тому, чтобы быть подлинно трезвым реалистом, Толстой в процессе работы над произведением старался освобождать его от тех самодовлеющих излишеств, которые грозили превратить реалистическое письмо в натуралистическое. Так, перерабатывая четвертый акт «Власти тьмы», Толстой написал новый вариант эпизода убийства ребенка, в котором убийство не показывается на сцене, как это было в первом варианте, а зритель узнает о нем из разговора солдата Митрича с девочкой Анюткой.
Сравнивая черновую работу Толстого над «Воскресением» с окончательным текстом романа, воочию видишь, как Толстой искоренял в романе то, что могло выглядеть как самодовлеющий натурализм — все в тех же целях полноценного реалистического письма. Вот один из примеров победы у Толстого реализма над натурализмом. В одной из поздних черновых редакций романа, в рассказе о визите Нехлюдова к начальнику края в Сибири, о дочери начальника сказано: «Барышня подошла к роялю и с аккомпанементом бывшего директора своим из бочки выходящим голосом пропела вечную Страделлу, выражающую совсем несвойственные всем присутствующим чувства, и с улыбкой приняла похвалы». В следующем черновом варианте ни для чего не нужный иронический тон по отношению к дочери начальника устранен; о ней говорится уже с явной симпатией: она некрасива, но добродушна и миловидна и обладает приятным голосом; она не «барышня», а замужняя женщина, муж которой человек также добродушный. Она «хорошо, просто пропела Страделлу» и «с доброй улыбкой» приняла похвалу себе. В окончательном же тексте о ней и ее муже сказано с еще большим расположением к ним; оба они из всех присутствующих на обеде были всего приятнее Нехлюдову. Здесь дочь, о пении которой, кстати, уже ничего не говорится, умиляет Нехлюдова застенчивой материнской гордостью своими маленькими детьми, которых она взволнованно и радостно показывает ему во время их сна. Эта сцена семейного и материнского счастья, одна из лучших в «Воскресении», была введена Толстым в роман для того, чтобы показать душевные колебания Нехлюдова, испытанные при сравнении
- 180 -
того, что пленило его в доме начальника края, с тем, что он видел и испытал в острожной обстановке. В окончательном тексте читаем: «Нехлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат, умирающего Крыльцова, Катюшу со всем ее прошедшим. И ему стало завидно и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья».
Нетрудно понять, насколько оправданна была в целях реалистического изображения душевного состояния Нехлюдова переработка Толстым этого эпизода, в первоначальном варианте никакой служебной роли ни в идейном, ни в психологическом плане не игравшего.
Величие Толстого-художника обусловлено, помимо его прирожденной гениальности, также той исключительной требовательностью, какую он проявлял к своему творчеству, и тем высоким пониманием задач искусства, какое присуще ему было на протяжении всего его писательского пути.
Насколько требователен был к себе Толстой как художник, можно судить по тому, что такие вполне завершенные его рассказы последних лет, как «После бала», «Алеша Горшок»1, «Что я видел во сне» и даже повесть «Хаджи-Мурат», не были напечатаны им при жизни и впервые увидели свет лишь в посмертном собрании его сочинений.
В глазах Толстого художник и мыслитель — прежде всего учителя жизни, на них возлагаются величайшие обязанности, и они несут серьезнейшую ответственность за все то, что выходит из-под их пера. «Мыслитель и художник, — писал Толстой, — никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать... он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно, — он умрет... Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает»2. Трудно подыскать у какого-либо
- 181 -
другого писателя такую четкую и глубокую формулировку требований к писателю, какую мы находим в этих словах, извлеченных из трактата «Так что же нам делать?».
Бесспорно, что в требованиях высокой гражданской ответственности писателя Толстой сближался с эстетическими воззрениями революционных демократов.
Впрочем, непрестанный внутренний самоконтроль, «тревога и волнение», борьба с самоуспокоенностью и довольством собой, напряженные поиски жизненного идеала — все это были требования, которые Толстой предъявлял не только к художнику и мыслителю, но и к каждому человеку. Еще в молодости, в 1857 году, он писал А. А. Толстой: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем. Да что счастие — глупое слово; не счастье, а хорошо; а бесчестная тревога, основанная на любви к себе, — это несчастье... Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка. Все равно, как нельзя, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость»1.
Чтобы стать настоящим писателем, нужно, по мысли Толстого, непрестанно и упорно работать над собой. И эта огромная работа сопровождала весь его жизненный путь до самой смерти. Внешнее свое выражение она находила в дневниках, которые он вел, с редкими сравнительно перерывами, от юности до кончины. В них мы находим богатейший материал для уразумения не только процесса внутренней работы Толстого, но и процесса его творческих исканий. То же в значительной степени
- 182 -
нужно сказать и о письмах Толстого, которых он за свою жизнь написал около десяти тысяч.
Высокая идейность произведения, совершенство его художественной формы и, самое главное, искренность и правдивость художника в его отношении к изображаемым им явлениям жизни — вот те основные требования, какие в разных формулировках предъявляет Толстой к искусству и к художнику. На самом пороге своей литературной деятельности, в 1851 году, он записал в дневник: «Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь о своей прощальной повести («она выпелась из души моей»), выпеться из души сочинителя»1, а в старости Толстой говорил: «Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса»2.
В одном из черновых вариантов статьи «Об искусстве» Толстой очень выразительно сформулировал свои взгляды на то, что нужно подлинному художнику. Он должен знать то, что «свойственно всему человечеству и вместе с тем еще неизвестно ему, т. е. человечеству». Для этого он должен быть «на уровне высшего образования своего века» и, главное, не замыкаться в рамки эгоистической личной жизни, а жить общей жизнью человечества. Он должен овладеть своим мастерством и для этого упорно работать, подвергая себя самокритическому суду. И самое существенное — он должен страстно любить свой предмет. Для этого «нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чем можешь молчать, а говорить только о том, о чем не можешь не говорить, о том, что страстно любишь»3.
Стремление быть «на уровне высшего образования своего века» было присуще самому Толстому на протяжении всей его сознательной жизни. Он был одним из самых образованных и самых начитанных писателей, причем не только в области художественной литературы, которую он читал на нескольких и новых и древних иностранных языках, но и в области философии, истории,
- 183 -
эстетики, педагогики, религиозной и общественной мысли, а также естествознания, особенно физики. Можно безошибочно утверждать, основываясь на собственных отзывах Толстого, что все важнейшее, созданное мировой художественной литературой, в том числе и русской, было хорошо ему известно.
В дневниковых записях, в письмах Толстого мы сплошь и рядом встречаемся с его жалобами на то, что та или иная вещь, над которой он работает, перестала его удовлетворять, и он не может продолжать ее. Острое чувство неудовлетворенности часто сопровождало работу Толстого и над «Войной и миром», и над «Анной Карениной», и над «Воскресением». Нужно было обрести утраченное на время чувство любви к теме, к образам произведения, нужно было до конца ощутить правдивость своего писания, чтобы с новыми силами и новым творческим подъемом продолжать его.
В течение всей писательской деятельности Толстого в его голове роились замыслы многочисленных художественных произведений, и к иным из этих замыслов он неоднократно возвращался, но не принимался за их осуществление, пока не чувствовал, что его так захватила тема, что не писать уже нельзя, как нельзя, по его словам, жениться до тех пор, пока не почувствуешь, что не можешь не жениться. Многое задуманное Толстым так и не нашло себе воплощения; иногда, начатое почти всегда с большой художественной силой, как, например, повести «Мать», «Посмертные записки старца Федора Кузмича», «Нет в мире виноватых» и другие, не было завершено потому, что вещь не поглощала его целиком, или потому, что она вытеснялась другой, сильнее его волновавшей. Иные произведения были Толстым вчерне закончены, многократно переписаны и переработаны и все же, на его взгляд, не достигли той степени «заострения» и той предельной художественной ясности, при наличии которых можно было бы отдавать их в печать. К числу их относятся, между прочим, такие толстовские шедевры, как рассказ 60-х годов «Идиллия» и особенно повесть «Хаджи-Мурат».
Трудолюбие Толстого и его взыскательность к себе были исключительно велики. Он много раз исправлял, переделывал, сокращал и дополнял написанное, добиваясь всякий раз того, чтобы его произведение во всех
- 184 -
отношениях стало возможно более доходчивым до читателя.
Редко можно найти среди европейских и в частности русских писателей соперника Толстому в упорном труде над своими произведениями. Толстой очень много напечатал, но во много раз больше написал, почти всегда предваряя окончательный текст длинной цепью черновых набросков, приступов, редакций. Ему не жаль было ни затраченного труда, ни времени, когда то, что вышло из-под пера, не удовлетворяло его авторской взыскательности, и он безжалостно отбрасывал сделанное, чтобы делать заново. Десятки и сотни листов, исписанные для складывавшихся «Детства», «Войны и мира», «Анны Карениной», «Крейцеровой сонаты», «Воскресния» и т. д., им забраковывались, и работа начиналась сызнова, до тех пор, пока не наступал момент хотя бы относительного удовлетворения написанным. Из груды черновиков, эскизов, планов он создавал себе те «подмостки», о которых писал Фету в период своей работы над «Анной Карениной»: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает. Для того чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Все кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать, не достают руки — и сидишь, дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки, и засучиваю рукава»1.
Еще в 1852 году Толстой записывает в дневник: «Надо навсегда отбросить мысль писать без поправок. Три, четыре раза — это еще мало»2. В 1887 году начинающему писателю Ф. А. Желтову он писал: «Надо, главное, не торопиться писать, не скучать поправлять, переделывать десять, двадцать раз одно и то же»3. Еще позже, в 1899 году, Толстой говорил: «Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз. Я почти никогда не перечитываю своих уже напечатанных
- 185 -
вещей, но если мне попадется случайно какая-нибудь страница, мне всегда кажется: это все надо переделать»1.
Такое чувство испытывал, между прочим, Толстой при чтении корректур «Анны Карениной». «Мне противно то, что я написал, — писал он Н. Н. Страхову в апреле 1876 года, — и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать и переделать: все, что напечатано, и все перемарать, и все бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое и уж не такое нескладное и нитонисемное»2.
Когда печаталась первым отдельным изданием «Война и мир», Толстой, как обычно, в корректурах делал массу исправлений, сокращений и добавлений. П. И. Бартенев, наблюдавший за печатанием издания, писал Толстому в августе 1867 года: «Вы бог знает что делаете. Эдак мы никогда не кончим поправок и печатания. Сошлюсь на кого хотите: бо̀льшая половина вашего перемарывания вовсе не нужна, а между тем от него цена типографская страшно возрастает». На следующий день Бартенев вновь просит Толстого: «Ради бога, перестаньте колупать»3.
На это письмо Толстой отвечал: «Не марать так, как я мараю, я не могу и твердо знаю, что маранье это идет в великую пользу. И не боюсь потому счетов типографии, которые, надеюсь, не будут уж очень придирчивы. То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз пять перемарано»4. 26 ноября 1867 года, как бы дразня Бартенева, Толстой писал ему: «Посылаю последние корректуры 3-го тома. Я измучился за ними, но зато единственной стороной доволен. Они ужасно измараны»5.
Не о внешней, однако, отделке произведения и не об обычном приглаживании его стиля заботился Толстой (ко всему этому он относился равнодушно и даже недоброжелательно),
- 186 -
а о том, чтобы выражение соответствовало в наибольшей степени замыслу, чтобы образ, картина, мысль стали ясны и ощутимы не только для автора, но и для читателя, которого он никогда не упускал из виду в процессе своей творческой работы. Как смотрел Толстой на задачи писателя в этом отношении, лучше всего видно из его письма к Черткову от 13 февраля 1887 года: «Надо, чтобы он выучился задерживать в себе свои мысли с тем, чтобы они перерабатывались, чтобы из тысячи мыслей избиралась одна и потом эта одна мысль из тысячи мест, в которые она может быть помещена, находила бы наконец одно свойственное ей место. В этом и еще многом другом подобном состоит внутренняя работа писателя, предшествующая писанию...»1
Эта мысль находит себе дополнение в дневниковой записи 10 апреля 1890 года: «Выразить словом то, что понимаешь, так, чтобы другой понял тебя, как ты сам, — дело самое трудное, и всегда чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того, что должно и можно»2.
Несмотря на то что Толстой очень много трудился над своими произведениями в процессе их писания, а также в процессе художественной обработки их стиля и языка, он охотно предоставлял тем, кому он доверял, окончательно исправлять написанное им, преимущественно тогда, когда дело касалось общепринятых правил слога и грамматики, в чем сам Толстой не считал себя особенно сильным. Помощниками его в этом деле были Бартенев, Страхов, Грот, Чертков, Русанов. Со Страховым он просмотрел и исправил целиком весь журнальный текст «Анны Карениной», когда готовил ее для отдельного издания. В ряде случаев помощники Толстого, например Страхов и Чертков, запрашивали его о тех или иных сомнительных с их точки зрения выражениях, давали свои советы, которые Толстой часто принимал, санкционируя предложения своих неофициальных редакторов. Что же касается редакторов официальных, то они свою работу проделывали без ведома Толстого, сплошь и рядом усердствуя до крайних пределов. Таким особенно усердным редактором оказался редактор журнала
- 187 -
«Нива» Сементковский, внесший в печатавшийся там текст «Воскресения» свыше тысячи стилистических исправлений, как видно, впрочем, не замеченных Толстым.
В записи дневника 8 января 1854 года Толстой определил для себя тот метод работы, которому он следовал в основном в течение всей своей жизни: «Нужно писать начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей. Второй раз переписывать, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Третий раз переписывать, обрабатывая правильность выражений»1. Переделка написанного Толстым, как правило, производилась не два раза, как намечено в дневниковой записи, а гораздо больше. Написанное и исправленное переписывалось обычно не самим Толстым, а его близкими и знакомыми. Постепенно количество переписчиков увеличивалось; с начала 900-х годов в Ясной Поляне появилась пишущая машинка, облегчившая и вместе с тем умножившая количество копий, непрестанно исправлявшихся Толстым. Нужно, однако, сказать, что переписчики, даже такие искушенные в почерке Толстого, как его жена Софья Андреевна, не уберегали себя от ошибок, которых автор не замечал и тем самым как бы санкционировал их. Допускали ошибки и наборщики, особенно потому, что в набор сдавались рукописи, настолько испещренные поправками Толстого, что подчас неопытному глазу мудрено было разобраться в тексте наборной рукописи. Не приходится уже говорить о корректурах Толстого, состояние которых хорошо охарактеризовано в приведенных выше строках Бартенева. Бывало и так, что переписчики и редакторы без ведома Толстого, по своему усмотрению, «исправляли» его язык и стиль, когда тот и другой расходились с общепринятыми шаблонами или с правилами «хорошего» литературного тона. В результате — значительное число искажений, которыми пестрят обычные печатные тексты сочинений Толстого.
Достаточно сказать, что в первопечатный текст «Крейцеровой сонаты» вошло до двухсот искажений, не замеченных Толстым. Много таких искажений найдем мы и в первопечатных текстах «Войны и мира», «Власти тьмы», «Анны Карениной», «Воскресения» и др.
- 188 -
В ряде случаев Толстой подвергал исправлению и переделке однажды уже напечатанный текст. Так, роман «Война и мир» исправлялся по тексту «Русского вестника» для отдельного издания 1868 года; затем в 1873 году текст отдельного издания, как было указано, в свою очередь был существенно переработан. «Анна Каренина», напечатанная первоначально в том же «Русском вестнике» в 1875—1877 годах (семь частей: восьмая часть была напечатана отдельной книгой в 1877 г.), подверглась Толстым при участии Н. Н. Страхова также значительной стилистической обработке для отдельного издания 1878 года. Стилистическая правка произведена была и в тексте «Хозяина и работника», когда он после напечатания в «Северном вестнике» и в «Книжках недели» печатался в отдельном издании «Посредника».
Небольшие сравнительно по объему вещи Толстой, естественно, сдавал в печать тогда, когда они были закончены у него в рукописи. Что же касается крупных произведений, то они отсылались в редакцию журнала по частям, по мере того как та или иная часть принимала хотя бы относительно законченный вид (говорим — «относительно законченный», так как в корректурах Толстой давал себе очень большой простор для всяческих переработок текста). Так, по частям отсылались в «Русский вестник» «Война и мир», «Анна Каренина»; частично отослан был в редакцию «Русской мысли» и текст трактата «Так что же нам делать?», набранный и сверстанный типографией журнала, но не напечатанный в нем из-за цензурного запрещения. Когда нужно было подгонять материал к очередным книжкам журнала, а также тогда, когда напечатанное предварительно в журнале приходилось печатать затем отдельными изданиями, Толстой должен был особенно напряженно работать. Во время печатания «Войны и мира» отдельной книгой он писал Фету в июне 1867 года: «...печатаю роман в типографии Риса, готовлю и посылаю рукопись и корректуры и должен так день за день под страхом штрафа и несвоевременного выхода. Это и приятно и тяжело, как вы знаете»1. В цитированном письме к Бартеневу от 26 ноября 1867 года Толстой писал: «У меня в голове страшный дурман — я четвертый день не
- 189 -
разгибаясь работаю, и теперь второй час ночи»1. Но особенно напряженно приходилось работать Толстому над «Воскресением», печатавшимся в России в еженедельном журнале «Нива». Роман был сдан в печать в явно незаконченном и неотделанном виде, и вся чрезвычайно сложная работа по завершению и отделке его прошла у Толстого в корректурах, которые необходимо было без задержки отсылать такому настойчивому издателю, каким был издатель «Нивы» А. Ф. Маркс.
Далеко не всегда, особенно во вторую половину своей литературной деятельности, Толстой работал над той или иной вещью так, чтобы ее не перебивала другая работа. Очень часто начатое произведение откладывалось, Толстой увлекался каким-либо другим замыслом и лишь позднее возвращался к тому, что им было заготовлено, или вовсе не возвращался. С большими перерывами писались «Казаки», «Холстомер», «Отец Сергий», «Воскресение», «Фальшивый купон» и многое другое. Этим объясняется большое относительно количество произведений, иногда первостепенных, окончательно Толстым не отделанных, несмотря на то что они были начаты задолго до его смерти («Дьявол», «Отец Сергий», «Живой труп», «Хаджи-Мурат» и др.), или даже неоконченных («Записки сумасшедшего», «Фальшивый купон», «Мать», «Посмертные записки старца Федора Кузмича» и др.).
В дневниках, где Толстой имел обыкновение фиксировать отдельные этапы своей работы и куда он заносил записи многочисленных своих художественных замыслов, большей частью неосуществленных, мы встречаемся время от времени с самонапоминаниями, в которых настойчиво повторяется мысль о необходимости вернуться к тому или иному временно оставленному произведению. Но зато, когда произведение подвигалось к концу, Толстой весь сосредоточивался на нем, стараясь не отвлекаться ничем, что его работу могло бы задержать или что становилось бы помехой ей. В ноябре 1865 года, в период работы над «Войной и миром», он писал своему тестю А. Е. Берсу: «Дописываю теперь, то есть переделываю... свою 3-ю часть. Эта последняя работа
- 190 -
отделки очень трудна и требует большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с трудом, уже нельзя остановиться, и не останавливаясь катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что теперь, хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту 3-ю часть»1.
Перерывы в работе над начатыми произведениями, иногда отход от художественного творчества и сосредоточение на педагогической деятельности или писании публицистических статей у Толстого обусловливались больше всего тем, что в тот или иной момент художественная работа, так, как она у него складывалась, переставала удовлетворять его, а также тем, что он переставал любить то, что писал. «Художественное произведение есть плод любви»2, — пишет Толстой в письме П. Д. Голохвастову осенью 1875 года. Зато, когда Толстой глубоко вживался в работу, он работал возбужденно и взволнованно. В декабре 1864 года он пишет жене о том, что диктовал ее сестре «Войну и мир», «но нехорошо; спокойно и без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет»3. В связи с той же работой над «Войной и миром» Софья Андреевна записывает в своем дневнике: «Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет»4.
Самому процессу работы у Толстого предшествовал процесс длительного обдумывания и вынашивания темы, дававшийся ему иногда очень мучительно. В связи с обдумыванием романа из эпохи Петра I он писал Фету в ноябре 1870 года: «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать мильоны возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них одну миллионную, — ужасно трудно.
- 191 -
И этим я занят»1. Когда замысел достигал определенной ясности и вырисовывались хотя бы общие контуры предстоящей работы, Толстой предвкушал близящееся творческое удовлетворение. «Я чувствую, — писал он Н. Н. Страхову в ноябре 1877 года, — что скоро начну работать, и с большим увлечением, и забуду себя. Многие очень важные вещи стали для меня совершенно ясны, но сказать их не могу еще и ищу слов, формы»2.
Однако огромное напряжение духовных сил, которые Толстой тратил на свою работу, и чрезмерная взыскательность к себе как к художнику были причиной того, что он часто чувствовал себя до крайности неудовлетворенным своим писанием и нередко пренебрежительно отзывался о том, что им написано. В дневниковой записи 18 мая 1852 года Толстой жалуется на то, что «Детство», над которым он тогда работал, ему «опротивело до крайности»3. Когда в декабре 1864 года он прочел переписанную часть «Войны и мира», написанное показалось ему «очень гадко», и он испытал разочарование в своем таланте4. В середине работы над «Анной Карениной», в августе 1875 года, Толстой пишет Фету о том, что он берется «за скучную, пошлую Каренину с одним желанием: поскорее опростать себе место — досуг для других занятий»5. Почти в тех же словах о том же он пишет в тот же день и Страхову. Подобные нотки встретим мы и в тех признаниях Толстого, которые сопровождали его работу над «Крейцеровой сонатой», «Воскресением» и другими произведениями.
В начале 80-х годов, в беседе со своим единомышленником Г. А. Русановым, Толстой сказал: «Тургенев — литератор, Пушкин был тоже им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев, Лермонтов и я — не литераторы»6. Такое самоотгораживание Толстого от писательского профессионализма, будучи субъективно верным, объективно далеко не всегда соответствовало действительности. Работая на журнал, Толстой вынужден был подчиняться требованиям журнальной практики;
- 192 -
до середины 80-х годов он получал гонорар за свои произведения и не относился пассивно к денежной стороне дела, как это видно из его письма к жене от 27 ноября 1864 года, в котором идет речь о торговле с ним помощника Каткова профессора Н. А. Любимова из-за полистной платы за «Войну и мир» (тогда «Тысяча восемьсот пятый год»), печатавшуюся в «Русском вестнике»: «Надо было слышать, — пишет Толстой, — как он в продолжение, я думаю, двух часов торговался со мной из-за 50 рублей за лист и при этом с пеной у рта, по-профессорски смеялся. Я остался тверд и жду нынче ответа. Им очень хочется и, вероятно, согласятся на 300»1.
Далее — как ни независим был Толстой в отношении к цензурному режиму своего времени — он не мог не считаться с тем, что та или иная его вещь — художественная или публицистическая — может быть запрещена цензурой, и не мог поэтому не идти на известное самоограничение, становясь сам своим цензором или поручая в той или иной мере цензурную чистку своих произведений лицам, которых он считал более сведущими, чем сам он, в том, что допустимо или недопустимо в подцензурной печати. Ярким образчиком этого двоякого рода цензурного обезвреживания является такой значительный по своему художественному и идейному темпераменту трактат кризисного периода Толстого, как «Так что же нам делать?», внушенный автору непосредственным личным его знакомством с московским «дном» в связи с переписью 1882 года. Этот трактат по просьбе Толстого приспособлял к цензурным требованиям профессор Иванцов-Платонов, как позднее «Воскресение» с молчаливого согласия автора для русской печати обезвреживалось редактором «Нивы» Сементковским2.
- 193 -
Все эти обстоятельства значительно ограничивают утверждение Толстого о том, что он не был литератором, и вводят в основном писательскую работу его в то русло, в котором шла работа и других классиков русской литературы прошлого столетия. То своеобразное, чем характеризуется писательский труд Толстого, проистекало не столько от отсутствия в нем черт писателя-профессионала, сколько в результате особенностей самой индивидуальности Толстого-художника, для которого художественное творчество было одним из важнейших средств его духовного самоопределения, настойчиво им осуществлявшегося на протяжении всего его жизненного пути.
Одновременно с работой над сюжетом произведения у Толстого шла работа и над его образными средствами. Задачей Толстого было дать такой образ, который с наибольшей зрительной силой и ощутимостью запечатлелся бы в представлении читателя, и он часто по многу раз возвращался к однажды уже написанному, чтобы при помощи лишнего штриха, лишней детали довести картину до полной ее художественной выразительности. Приемы тщательной зарисовки подробностей мы найдем, например, в рассказе «Хозяин и работник», работа над которым относится к 1894—1895 годам.
Если мы сопоставим самую раннюю и окончательную редакции рассказа, то увидим, что в окончательной отделке «Хозяин и работник» разросся по сравнению с первоначальным наброском раза в четыре. Это увеличение объема рассказа было результатом не только введения новых эпизодов, но и усиленной детализации описаний. Эта детализация дает себя знать в первой же главе рассказа в его окончательной редакции. Занимающая в нем лишь эпизодическое место лошадь описывается со всей тщательностью. Никиту встречает приветственным ржанием «среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке». Никита, «обмахнув полой жирную, с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину... надел на «красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обороть, повел поить». Не ограничиваясь чисто внешним описанием лошади, Толстой стремится к тому, чтобы дать читателю возможно исчерпывающее понятие о привычках и повадках лошади, так чтобы она предстала перед нами
- 194 -
как живая. «Осторожно выбравшись из высокого занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту. «Балуй, балуй, шельмец!» — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить... Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула». В дальнейшем течении рассказа Толстой к характеристике Мухортого и описанию его внешнего облика уже почти не возвращается. Упоминается лишь крутая, наеденная шея Мухортого и — несколько раз — его простым узлом подвязанный пушистый хвост. В разговоре Василий Андреич и Никита одобрительно отзываются о силе и быстроте лошади, картинно описана тревога Мухортого, почуявшего опасность («Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты. Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом»). В первоначальной редакции рассказа характеристике лошади уделено лишь несколько строк. В окончательной — усиленно подчеркиваются добротность коня, его покорность, доброта, сила, энергия, резвость, — очевидно затем, чтобы тем ярче подчеркнуть контрастность двух картин: жизни и смерти. Здоровое, полное сил животное, занесенное и загубленное метелью, превращается в застывший остов, почти в скелет: «Мухортый, по брюхо в снегу, с сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли, точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа».
Как только работник Никита подъехал к дому, на крыльцо выходит Василий Андреич Брехунов, портрет
- 195 -
которого тут же Толстой вырисовывает. Этот портрет, как и большинство портретов Толстого, дается в динамическом своем обнаружении: «Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыханья». Увидев сына, он посмотрел на него, «щурясь и оскаливая длинные зубы». Этот портрет, сопровожденный рядом детально выписанных подробностей, в дальнейшем дополняется лишь несколькими штрихами. В ответ на просьбу жены взять с собой Никиту Василий Андреич «сердито нахмурился и плюнул» и затем стал возражать «с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог». Заехав в избу знакомого крестьянина в Гришкине, он сел за стол, «обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ своими выпуклыми и ястребиными глазами».
В первоначальной редакции портрет Василия Андреича отсутствует совершенно; не описана и жена Василия Андреича, о которой мы знаем лишь, что она упрашивает мужа не ехать одному и взять с собой Никиту. В окончательном тексте Толстой дает зарисовку и жены, присутствующей в рассказе только во время проводов мужа и работника в дорогу и затем вовсе сходящей со сцены: «Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях». «Избыточность наблюдения», обнаруженная Толстым по отношению к этому эпизодическому персонажу, особенно проявляется в такой подробности,
- 196 -
сопровождающей беседу ее с мужем, когда она просит его взять с собой работника: «Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону».
Приведем еще несколько примеров работы Толстого по углублению реализма, беря их из рукописи повести «Божеское и человеческое», над которой Толстой работал в 1903—1905 годах.
Первоначально здесь о жене генерал-губернатора, утвердившего смертный приговор над революционером Светлогубом, сказано: «Жена генерала сидела за самоваром и с грустным, бледным лицом и полузакрытыми усталыми глазами рассказывала губернатору и его жене о том тяжелом труде, который несет ее муж». В следующей рукописи это место исправлено так: «Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низеньким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво-грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве о здоровье мужа». Так и в печатном тексте.
О судье, читавшем смертный приговор Светлогубу, сначала сказано: «Но один из судей встал с бумагой в руках, встали и другие, и стал читать громко, внятно странную, написанную канцелярским языком бумагу». В следующей рукописи эта фраза читается так: «Но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом». Так и в печатном тексте.
О священнике, сопровождавшем Светлогуба на эшафот, сначала написано: «и вслед за ним вошел священник с крестом». В ближайшей рукописи эта фраза распространена так: «и вслед за ним вошел худощавый, с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в белой, жилистой руке». В следующей рукописи к этому добавлено: «выступавшей из черно-бархатного обшлага». В окончательном печатном тексте «белой, жилистой руке» исправлено на «слабой, белой, жилистой, худой руке». Вслед за тем идет фраза: «Милосердный господь, —
- 197 -
начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его Светлогубу».
Бывало и так, что Толстой в процессе работы над образом первоначально исключал те или иные детали, чтобы постепенно вводить их потом, по мере того как тот или иной персонаж раскрывался в дальнейшем его изображении.
Для примера проследим, как изображал Толстой пробуждающегося Стиву Облонского — от самого раннего рукописного текста до текста завершительного, печатного:
1) «И в обычный час, 8 часов утра, он стал ворочать с боку на бок свое тело на пружинах дивана и тереться лицом о подушку, крепко обнимая ее, потом открыл глаза, сел на диван и, сладко улыбаясь, растянул, выставив локти, свою широкую грудь и улыбающиеся румяные губы».
2) «И в обычный час, 8 часов утра, он стал ворочать с боку на бок на пружинах дивана свое начинавшее жиреть откормленное тело и тереться румяным лицом о подушку дивана, крепко обнимая ее. Он открыл свои маленькие блестящие глазки, сел на диван, улыбаясь своей неотразимо приятной, детски-доброй улыбкой и, выставив локти, потянулся и, почмокав влажно улыбающимися губами, оглянулся».
3) «И в обычный час, 8 часов утра, он поворотился на пружинах дивана, с другой стороны обнял подушку, потерся о нее своим красивым, свеже-румяным лицом и открыл свои большие, блестящие влажным блеском глаза. Он сел на диван, улыбнулся, красивой белой рукой грациозным привычным жестом провел по густым курчавым волосам, и во сне даже принявшим красивую форму».
4) «Стива... в обычный час, в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на сафьяновом диване. Он повернулся на пружинах дивана, с другой стороны крепко обнял подушку и, вскочив, сел на диван и открыл глаза».
5) «Стива... в обычный час, 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на сафьяновом диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, с другой стороны крепко обнял подушку, как бы желая заснуть надолго, но вдруг вскочил, сел на диван и открыл большие глаза».
- 198 -
6) «Стива... в обычный час, то есть в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьяновом диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза».
Как видим, чем ближе к окончательному тексту, тем все более и более Толстой здесь сокращает описание деталей в наружности Облонского. Но они вновь выступают разрозненно на дальнейших страницах. Когда Стива вспоминает приснившийся ему сон, глаза его «весело заблестели, и он задумался, улыбаясь». Когда Долли показала ему записку от гувернантки, он сделал невольный непростительный промах: лицо его «вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой». Давая далее характеристику Облонского, Толстой говорит о нем: «Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним». Такой прием расщепления характеристики и внешности персонажа обычен у Толстого.
Характерной особенностью творчества Толстого является то, что оно истоками своими восходит почти всегда или к известным писателю реальным фактам жизни, или к тем наблюдениям и впечатлениям, которые были у художника и которые особенно приковывали его внимание. «Натура» в широком смысле слова была отправным пунктом в работе Толстого над художественным произведением. Сюжеты ряда произведений Толстого основаны или на слышанных им рассказах, на документах судебных процессов, или на изучении исторических материалов и т. д. Но все это перерабатывалось и переосмыслялось Толстым в согласии с его мировоззрительной концепцией и с теми художественными задачами, которые он себе ставил. Мы видели, как использовано было им судебное дело Ефрема Колоскова для «Власти тьмы». Основная идея пьесы — нравственное торжество патриархального крестьянского уклада над разлагающим этот уклад влиянием капиталистического города —
- 199 -
никак не подсказывалась самым существом уголовного дела и была всецело результатом мировоззрительных позиций, на которых стоял тогда Толстой. Для проведения этой идеи пришлось ввести в пьесу таких персонажей, как Аким, Матрена, Митрич, Марина, которые не имели в судебном деле своих прототипов; в характеристике других персонажей пришлось значительно отступить от тех фактов, которые можно было извлечь из подлинного судебного документа. Так же приблизительно использовано было судебное дело и для другой, позднейшей пьесы — «Живой труп».
Очень показательно, как Толстым был использован, художественно претворен и развит рассказ А. Ф. Кони, послуживший толчком и основой для «Воскресения». Из рассказа Кони в «Воскресение» были введены следующие мотивы: 1) случайная встреча на суде соблазнителя с соблазненной им девушкой, оказавшейся на скамье подсудимых, и 2) работа совести в душе соблазнителя, приведшая его к решению жениться на своей жертве. Как в рассказе Кони, так и в «Воскресении» соблазненная девушка становится проституткой, и суд над ней является следствием ее профессии. Все остальное, что рассказывается в романе, — результат творческой переработки того фактического материала, с которым Толстой ознакомился со слов Кони.
С самого же начала работы над «Воскресением» вводится мотив судебной ошибки: Катюша невиновна в приписываемом ей преступлении — отравлении гостя-купца (а не кражи у него ста рублей, как это было в подлинном уголовном деле), а между тем, в результате оплошности присяжных и судебной формалистики, она приговаривается (по первой редакции) к ссылке в Сибирь. Судебная ошибка и самый приговор, явившийся ее следствием, дают возможность Толстому — пока еще в зачаточной форме — изобличить судебную и административную практику царской России. С другой стороны, тяжесть судьбы приговоренной Катюши требует от Нехлюдова значительно больших жертв, чем это было бы в том случае, если бы она была приговорена за кражу к простому тюремному заключению. Далее устраняется мотив смерти соблазненной девушки, так как смерть, механически обрывая отношения соблазнителя и его жертвы, препятствовала бы изображению внутреннего
- 200 -
перерождения Нехлюдова, происходящего в процессе более или менее длительной заботы о судьбе Катюши. В первой законченной черновой редакции романа Нехлюдов женится на Катюше и тем искупает свое преступление по отношению к ней. Мотив женитьбы, очевидно, подсказан был самим ходом рассказа Кони. Отношения Нехлюдова с Катюшей в момент встречи с ней на суде протекают у него — опять-таки с самого начала работы над романом — на фоне его отношений к девушке из аристократического круга, на которой он, видимо, женился бы, если бы не произошел внезапный поворот в его судьбе. Это обстоятельство создает то душевное усложнение в жизни Нехлюдова, благодаря которому работа его внутреннего сознания становится интенсивнее и глубже.
С самого начала в повествование вводится социальная проблема — разрешение земельного вопроса по системе Генри Джорджа, к чему Нехлюдов усиленно стремился в пору своей юности и что он решил наконец осуществить теперь в связи с резким изменением его жизненного пути.
В процессе дальнейшей работы над романом первоначальная развязка — женитьба Нехлюдова на Катюше — устраняется как психологически упрощенная и малоправдоподобная. Вместе с тем вводится новый мотив — хлопоты Нехлюдова за Катюшу, приговоренную к каторге, и за других осужденных. Этот мотив влечет за собой включение в роман целого ряда персонажей и ряда эпизодов, раскрывающих темные стороны государственного и церковного строя старой России. Автору открывается широкий простор для социально заостренного изображения язв российской действительности, и, став на этот путь, Толстой из редакции в редакцию увеличивает количество персонажей романа и его эпизодов, связывая их с деятельностью Нехлюдова — сначала хлопочущего за Катюшу, потом сопровождающего ее в Сибирь. В роман вводятся революционеры — все с той же целью: путем контрастных сопоставлений изобличить отрицательные стороны осуждаемой им правительственной системы. Фигура одного из революционеров — Симонсона — связывается теперь с судьбой Масловой. Его преданная любовь к Катюше завершает в ней тот процесс духовного воскресения, который начался у
- 201 -
нее под влиянием сближения с политическими и в результате всего ею пережитого после ее осуждения. На пути к воскресению, можно думать, стоит теперь и Нехлюдов.
И параллельно со всей этой работой — работа над устранением из романа элементов натурализма в интересах подлинно реалистического изображения жизни, людей, событий.
Расширение рамок «Воскресения» потребовало от Толстого тщательного разыскания и изучения фактического материала, который понадобился ему для изображения той обстановки, в которой роман развивается.
Само собой разумеется, что особенно много сил приходилось Толстому затрачивать на работу над тем материалом, который лег в основу его исторических произведений — «Войны и мира», незаконченных романов о декабристах, и о Петре I, «Хаджи-Мурата». Большое количество прочитанных книг и изученных материалов всегда сопровождало здесь процесс творчества. В деталях описаний, в колорите изображения, в следовании фактам Толстой старался соблюдать историческую правду. «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, — писал он в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», — я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать, но на которые всегда могу сослаться». Работая над «Хаджи-Муратом» и прося И. И. Корганова сообщить ему некоторые сведения о герое повести, он пишет ему в конце 1902 года: «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности»1.
Но в самом освещении фактов Толстой не следовал слепо своим источникам, а пользовался ими в соответствии с тем пониманием эпохи и исторических деятелей, которое вырабатывалось у него в результате собственного осмысления им исторических фактов и событий и еще более в результате тех общих мировоззрительных позиций, которые характеризовали определенные периоды его идейной эволюции. В тех случаях, когда Толстой пользовался тем или иным текстом из исторических
- 202 -
сочинений или мемуаров, он, во-первых, психологизировал заимствованный материал, во-вторых, оживлял его рядом художественных деталей.
Для образца приведем уже ранее — другими авторами — сопоставлявшиеся выдержки из текстов «Войны и мира» и одного из источников романа Толстого — книг А. И. Михайловского-Данилевского о войнах России с Наполеоном в 1805—1812 годах.
У Михайловского-Данилевского рассказывается о смотре русским и австрийским императорами русских войск перед Аустерлицким сражением. Здесь мы читаем: «Подъехав к Кутузову и видя, что ружья стояли на козлах, император Александр спросил его: «Михайло Ларионович, почему не идете вы вперед?» — «Я поджидаю, — отвечал Кутузов, — чтобы все войска в колонны собрались». Император сказал: «Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки». — «Государь, — отвечал Кутузов, — потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете». Приказание было отдано. Войско начало становиться в ружье...»
В «Войне и мире» этот текст подвергся следующей переработке:
«— Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович? — поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.
— Я поджидаю, ваше величество, — отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.
Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал.
— Поджидаю, ваше величество, — повторил Кутузов (князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил это «поджидаю»). — Не все колонны еще собрались, ваше величество.
Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему; он пожал сутуловатыми плечами, взглянул на Новосильцова, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на Кутузова.
— Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки, — сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его если не принять
- 203 -
участие, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал.
— Потому и не начинаю, государь, — сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. — Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу, — выговорил он ясно и отчетливо.
В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить этак», — выразили эти лица. Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов, с своей стороны, почтительно нагнув голову, тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты.
— Впрочем, если прикажете, ваше величество, — сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала».
У Михайловского-Данилевского, как видим, переданы лишь голые факты, у Толстого — живая, насыщенная образами картина, рисующая живых людей с их внешностью и психическими движениями.
Следующий пример показывает, как Толстым художественно оформляется, с привнесением прямой речи, простая передача факта, найденная им в источнике.
У Михайловского-Данилевского:
«Граф Орлов-Денисов был у крайней опушки леса, на тропинке из Стромилова в Дмитровское. Перед зарею, 6 октября, явился к нему польский унтер-офицер корпуса Понятовского, вызываясь, если дадут ему конвой, схватить Мюрата, ночевавшего, по его уверению, в деревне позади лагеря с незначительным караулом. Сто червонцев при успехе, смерть — в случае обмана обещаны переметчику. С ним отрядили генерал-майора Трепова с двумя казачьими полками».
В «Войне и мире»:
«Граф Орлов-Денисов с казаками (самый незначительный отряд из всех других) один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней
- 204 -
опушки леса, на тропинке из деревни Стромиловой в Дмитровское.
Перед зарею задремавшего графа Орлова разбудили. Привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтер-офицер корпуса Понятовского. Унтер-офицер этот по-польски объяснил, что он перебежал потому, что его обидели по службе, что он храбрее всех и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них и что, ежели ему дадут сто человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов-Денисов посоветовался с своими товарищами. Положение было слишком лестно, чтобы отказаться. Все вызывались ехать, все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал-майор Трепов с двумя казачьими полками решился ехать с унтер-офицером.
— Но помни же, — сказал граф Орлов-Денисов унтер-офицеру, отпуская его, — в случае, ты соврал, я тебя велю повесить, как собаку, а правда — сто червонцев».
Даже в тех случаях, когда Толстой использует почти буквально свой источник, он вносит несколько штрихов, оживляющих описание, как это видно из следующей параллели:
У Михайловского-Данилевского:
«Смеркалось; облака покрыли небо. Погода была сухая, но земля влажна, так что войска шли без шума, даже не слышно было движения артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржанья; все приняло вид таинственного предприятия. Наконец, при светлом зареве огней неприятеля, остановились колонны на ночь,... поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле».
В «Войне и мире»:
«Была осенняя ночь с черно-лиловыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бренчание артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле».
- 205 -
У Толстого добавлены «черно-лиловые тучи», «бренчание артиллерии», указание на то, что «люди шли весело», и описание выиграло в своей выразительности.
С большим упорством работал Толстой над языком своих произведений, стремясь сделать его наиболее доступным для самых широких читательских кругов. Высшим достижением русского литературного языка он считал пушкинский язык.
Неоспоримым критерием для оценки языка писателя у Толстого была предельная ясность и точность словесного выражения, достигаемая выбором такого словарного материала, который в наибольшей степени способен передать мысль произведения. В беседе с писателем Ф. Тищенко Толстой сказал: «Как в разговорной речи, так и в литературном произведении всякую мысль можно высказать разными способами, но существует только один способ идеальный, то есть такой, что если мы выскажем свою мысль этим способом, то уже лучше, сильнее, понятнее и красивее высказаться нельзя. В разговорной речи мало будет разницы оттого, каким способом мы выскажем свою мысль, но в художественном произведении мы должны стремиться высказать ее идеальным способом. Мысль высказана в художественном произведении идеальным способом только тогда, когда ни одного слова к сказанному нельзя ни прибавить, ни убавить, ни изменить без того, чтобы не испортить произведения. К этому должен стремиться писатель»1.
Такой именно критерий, по взгляду Толстого, больше всего выдерживал язык Пушкина. «Да, да, тем удивителен Пушкин, — говорил Толстой, — что в нем нельзя ни одного слова заменить. И не только нельзя слова отнять, но и прибавить нельзя. Лучше не может быть, чем он сказал»2. В другой раз Толстой так высказался о языке Пушкина: «И потом этот его удивительный язык, который он так смело и свободно поворачивает, куда ему угодно, и всегда попадает в самую точку»3. Несомненно
- 206 -
имея в виду язык Пушкина, Толстой сказал о «Пиковой даме»: «Так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!»1 Известно, как восторженно отзывался Толстой о пушкинских «Повестях Белкина» — образце простоты, лаконичности и ясности языка.
Высоко ценил Толстой Салтыкова-Щедрина за его «сжатый, сильный, настоящий язык»2. Очень высокого мнения был он о языке А. И. Эртеля, особенно о языке его романа «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». Неподражаемым, не встречаемым нигде достоинством этого романа он считал «удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык», какого не найдешь, по мнению Толстого, ни у старых, ни у новых писателей. Толстой утверждал, что количество народных слов у Эртеля, притом «каких верных, хороших, сильных», было самое большое по сравнению с другими русскими писателями. При этом «нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанными им словечками»3.
С другой стороны, очень сочувственно относясь к Лескову, ценя мастерство его языка, Толстой в то же время порицал Лескова за чрезмерную искусственность его произведений в сюжете и языке и «злоупотребление словечками». Толстой также упрекал Лескова за излишнюю красочность образов, отсутствие чувства меры — недостатки, впрочем, проистекавшие, как думал сам Толстой, от избытка темперамента и таланта писателя и от великолепного «до фокусов» знания языка.
Невысокого мнения был Толстой о Мельникове-Печерском, которого он ставил в один ряд с третьестепенным писателем Сальясом: «Сальяса и Мельникова я читать не могу... — говорил он, — это противное подражание простонародному языку, слащавое, деланное, фальшивое отношение к народу невыносимо»4. Еще в молодости,
- 207 -
в 1853 году, Толстой записал в дневник: «Пробный камень ясного понимания предмета состоит в том, чтобы быть в состоянии передать его на простонародном языке необразованному человеку»1. Тогда же Толстой сделал в дневнике и такую запись: «Избегать рутинных приемов»2. Эти рутинные приемы смущали Толстого особенно тогда, когда они проявлялись в языке, в стиле. В том же году он записывает в дневник: «Часто в сочинении меня останавливают рутинные, не совсем правильные, основательные и поэтические способы выражения; но привычка встречать их часто заставляет писать их. Эти-то необдуманные, обычные приемы в авторе, недостаток которых чувствуешь, но прощаешь от частого употребления, для потомства будут служить доказательством дурного вкуса. Мириться с этими приемами — значит идти за веком, исправлять их — значит идти вперед его»3. В 1878 году Толстой писал Н. Н. Страхову: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает сто ударов розог»4.
Придавая большое значение художественной форме произведения и считая, что каждый большой художник должен создавать и свои формы, Толстой, однако, ценил форму лишь при наличии в произведении значительного идейного содержания. «Странное дело эта забота о совершенстве формы, — записывает он в дневнике в 1890 году. — Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать ее совершенной художественно — тогда она пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое»5.
А. Б. Гольденвейзер передает слова Толстого, сказанные им в 1902 году: «Я думаю, что каждый большой
- 208 -
художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то так же — и их форма», и далее Толстой перечислил лучшие произведения русской литературы (в том числе и свое «Детство»), подтверждающие его мысль1. В дневнике 1903 года он записывает: «Начал писать «Фальшивый купон». Пишу очень небрежно, но интересует меня тем, что выясняется новая форма, очень sobre [трезвая]»2. Содержание произведения подсказывалось Толстому стремлением ответить на самые существенные вопросы, какие, с его точки зрения, выдвигала перед ним жизнь. Вот почему первоначальные замыслы его в процессе их постепенного претворения часто очень расширялись, захватывая новые большие темы и одновременно углубляя тему основную живым, злободневным содержанием, которое доставлялось современной ему действительностью. Это особенно нужно сказать об «Анне Карениной» и «Воскресении».
Слово для Толстого было средством духовного обогащения людей, и он как мог старался пользоваться словом именно для этой цели.
В разгар завершительной работы над «Воскресением», в 1899 году, Толстой записал в дневнике: «Усиленно работал и работаю над «Воскресением». Есть много, есть недурное, есть то, во имя чего пишется»3. И во всем, что писал, над чем трудился Толстой, было свое «во имя», было стремление в совершенной художественной форме показать и уяснить большое по своему моральному и общественному значению явление человеческой жизни так, чтобы оправдать правило, предписанное им себе еще в молодости: «Предмет сочинения должен быть высокий»4, и чтобы подтвердить мысль, высказанную им в трактате «Что такое искусство?»: «Искусство есть великое дело. Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство»5.
- 209 -
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Толстой не разрешил и не способен был разрешить коренных задач, какие ставила перед ним жизнь и какие выдвигались законами общественного развития; он предлагал утопические, ошибочные рецепты спасения человечества от социальных зол, но он «с громадной силой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, касающихся основных черт современного политического и общественного устройства»1. Как художник он сказал свое новое могучее слово и проник в новые глубины человеческих характеров и чувств, до него с таким реалистическим мастерством не показанных другими гениями словесного искусства.
«Толстой, — по словам Горького, — это целый мир... этот человек сделал поистине огромное дело: дал итог пережитого за целый век, и дал его с изумительной правдивостью, силой и красотой»2.
Толстой преданно любил свой народ, питал к нему сыновнее уважение, считал его настоящим творцом родной истории и высоко ценил его природную даровитость. В своей записной книжке в 1870 году он отмечает: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство? Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю. Но, кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черно-бурых лисиц и соболей, которыми дарили послов,
- 210 -
кто добывал золото, железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше?»1
В неопубликованной части дневника домашнего врача Толстого Д. П. Маковицкого записаны следующие слова Толстого: «Мы все учимся у народа — Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин, Гоголь и даже о Чехове это можно сказать, да и я». В другой раз, когда Толстому сказали, что читатели из народа ценят его народные рассказы, он сказал: «Да, но это я от них взял и им же отдал... ведь сам я тоже частичка народа».
Кровная связь Толстого со своим народом обусловила подлинную народность его гениальных художественных созданий.
Толстой — национальная гордость русского народа; он гордость и всего человечества, ибо влияние его гения выходит далеко за пределы его отечества. Влияние Толстого на мировую литературу не однажды было признаваемо со стороны самых крупных зарубежных писателей, и сила этого влияния не убывает и в наши дни.
Оно сказалось на развитии жанра романа во всей мировой литературе. Выдающиеся зарубежные писатели усваивали великое реалистическое искусство Толстого, его умение ставить существеннейшие социально-философские и этические проблемы эпохи. Они учились у Толстого мастерству психологического анализа, искусству изображения человека в его глубоких связях с жизнью общества и природой; их привлекало убеждение Толстого в высокой моральной миссии писателя как учителя жизни, друга и помощника людей в их духовных исканиях и житейских невзгодах.
Ромен Роллан писал о Толстом: «Никогда еще подобный голос не звучал в Европе... Нам было слишком мало восхищаться творчеством Толстого; мы жили им, оно было наше...» Он же говорил о том, что «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича» были для него дороже всех великих произведений французской
- 211 -
литературы. Анатоль Франс сказал: «Как эпический писатель Толстой — наш общий учитель». О Толстом Томас Манн говорил: «Мощь его повествовательного искусства ни с чем не сравнима; каждое соприкосновение с ним... вливает в талант, обладающий восприимчивостью, потоки силы, бодрости, первозданной свежести». Сильное влияние Толстого-художника сказалось в творчестве ряда писателей славянских стран. Влияние Толстого — особенно как мыслителя и проповедника — проникло в страны Востока, главным образом в Индию и Китай. Высоко ценил Толстого-мыслителя выдающийся общественный деятель Индии М. Ганди. В Японии наибольшую популярность приобрел Толстой как автор «Воскресения»1.
Бесспорно, очень большое влияние оказано Толстым-художником на развитие русской литературы. Оно обнаруживается в творчестве Гаршина, Чехова, Куприна, Бунина и многих других русских писателей. Выдающийся классик украинской литературы Ив. Франко называл Толстого одним из своих учителей. Художественный метод Толстого оказал плодотворное воздействие на советскую литературу, в частности на творчество таких ее мастеров, как Фадеев, Шолохов, Федин, Сергеев-Ценский.
Взыскательное отношение Толстого к вопросам идейного содержания и художественной формы произведений, к слову является поучительным примером для советских писателей — законных наследников лучших традиций русской классической литературы, традиций, завещанных гением Толстого.
В какой бы форме Толстой ни писал, он писал для того, чтобы уяснить и для самого себя и для других то, что он считал истиной и что всегда страстно и мучительно искал и притом не в келейной замкнутости от людей, а в личной и действенной связи с народной стихией.
- 212 -
Величайший реалист в постижении и изображении мира человека и мира природы, Толстой обладал в высочайшей степени тем качеством, которое он считал самым существенным для искусства, — качеством «заражения». Художественное мастерство Толстого действительно с необыкновенной силой «заражает» читателя, заставляя его переживать то, что пережито самим автором, и это Толстой также считал величайшим признаком истинного искусства.
Притягательная сила Толстого заключается не только в его произведениях, но и в его взглядах на задачи писателя, в тех стимулах, которыми направлялось его творчество. Пусть не во всех своих суждениях о том, что необходимо человечеству, был прав Толстой, пусть он был порой сильнее в своей критике, чем в положительных утверждениях, — важны побудительные мотивы его писательской деятельности. Они заключались в стремлении, в конечном счете, отозваться на все то, что могло волновать в сфере нравственной и общественной его читателей.
В наследстве Толстого, по словам Ленина, сказанным в год смерти писателя, «есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему»1. Ленин говорил, что великие художественные произведения Толстого, в ту пору известные лишь ничтожному меньшинству даже в России, станут достоянием всех в результате социалистического переворота, который избавит десятки миллионов от темноты, забитости, каторжного труда и нищеты. И когда через семь лет совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, Ленин вскоре, в 1918 году, поставил вопрос об издании в государственном порядке полного собрания сочинений Толстого без каких-либо исключений и урезок. Начатая вскоре после этого работа над подготовкой такого издания завершилась в 1958 году выходом в свет девяностотомного Полного собрания сочинений Толстого, включившего в себя все без изъятия сочинения Толстого: художественные, публицистические, религиозно-философские, а также его дневники и все обнаруженные до сих пор письма. Критически проверенные и обстоятельно комментированные тексты в этом издании сопровождены публикацией
- 213 -
черновых редакций и рукописных и печатных вариантов.
Перед читателями и исследователями открылось огромное литературное богатство великого художника и гуманиста, утверждавшего принципы искусства, близкого народу, страстного глашатая мира и согласия между людьми.
Мировое признание Толстого ширится с каждым десятилетием. Высокое искусство его становится все более и более влиятельным как в среде художников слова, так и в среде читателей всех стран и народов.
- 214 -
- 215 -
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
3Творчество Л. Толстого до «Войны и мира»
6
«Война и мир»
61
«Анна Каренина»
94
Творчество Л. Толстого в 80-е и 90-е годы
118
«Воскресение»
148
Последние произведения Л. Толстого
157
Творческая работа Л. Толстого
172
Заключение
209
- 216 -
Николай Каллиникович
ГудзийЛЕВ ТОЛСТОЙ
Редактор И. Михайлова
Художественный редактор Г. Андронова
Технический редактор Ф. Артемьева
Корректоры Т. Козменко и А. ПаранюшкинаСдано в набор 28/VII 1960 г.
Подписано к печати 27/X 1960 г.
Бумага 84×1081/32 — 6,75 печ. л.
11,07 усл. печ. л.
11,37 Уч.-изд. л. + 1 вкл. = 11,48 л.
Заказ № 699.
Тираж 20 000 экз. Цена 6 р. 10 к.
С 1/I 1961 г. цена 61 к.Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
Московская типография № 8
Управления полиграфической
промышленности Мосгорсовнархоза.
Москва, 1-й Рижский пер., 2.СноскиСноски к стр. 3
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.
2 Там же, т. 16, стр. 293.
Сноски к стр. 4
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.
Сноски к стр. 5
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293.
Сноски к стр. 8
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 34, Гослитиздат, М. 1952, стр. 387.
Сноски к стр. 10
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 396.
Сноски к стр. 12
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 398.
Сноски к стр. 14
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 293.
Сноски к стр. 15
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 59, стр. 283.
2 Там же, стр. 321.
Сноски к стр. 16
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 27—28.
2 Там же, т. 59, стр. 281—282.
3 Там же, стр. 334.
Сноски к стр. 17
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, М. 1947, стр. 423, 426, 428.
Сноски к стр. 24
1 «Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого». Собрал В. Зелинский, часть 1-я, изд. 3-е, М. 1903, стр. 10.
Сноски к стр. 25
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 58.
Сноски к стр. 26
1 Черновые материалы, относящиеся к роману, напечатаны в 4-м томе Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 31
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1948, стр. 682.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 301.
3 М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 17, Гослитиздат, М. 1952, стр. 39.
Сноски к стр. 32
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 681—682.
Сноски к стр. 33
1 «Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого». Собрал В. Зелинский, часть 1-я, изд. 3-е, М. 1903, стр. 22, 23.
2 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X, Гослитиздат, М. 1952, стр. 241.
Сноски к стр. 38
1 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X, стр. 241.
Сноски к стр. 41
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 184.
2 Там же, т. 66, стр. 409.
Сноски к стр. 45
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.
Сноски к стр. 46
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 265, 266.
Сноски к стр. 48
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 307.
Сноски к стр. 49
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 308.
Сноски к стр. 50
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 48. стр. 26.
Сноски к стр. 51
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 377.
Сноски к стр. 55
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31.
2 «Толстой и Тургенев. Переписка». Редакция и примечания А. Е. Грузинского, М. А. Цявловского, М. 1928, стр. 74.
Сноски к стр. 56
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63, стр. 96.
2 И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, Гослитиздат, М. 1958, стр. 580.
Сноски к стр. 57
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 204.
Сноски к стр. 59
1 И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, Гослитиздат, М. 1958, стр. 456.
2 Там же, т. 11. стр. 414.
Сноски к стр. 61
1 И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, Гослитиздат, стр. 354.
Сноски к стр. 62
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, стр. 82.
2 Там же, т. 48, стр. 85.
3 Там же, т. 37, стр. 67.
4 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир». — Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 16, стр. 7.
Сноски к стр. 63
1 И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, Гослитиздат, стр. 386.
2 Там же, стр. 542.
3 War and Peace by Leo Tolstoy, New-Jork, 1942. Предисловие переводчика Э. Моода, стр. LIV.
4 М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14, Гослитиздат, М. 1951, стр. 284.
Сноски к стр. 64
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 374.
Сноски к стр. 65
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 54.
Сноски к стр. 66
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 70—72.
Сноски к стр. 68
1 См. Н. Страхов, Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), изд. 4-е, т. I, Киев, 1901, стр. 191.
Сноски к стр. 69
1 А. С. Норов. Война и мир 1805—1812 гг. с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. По поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир», СПб. 1868 (отд. оттиск из № 11 «Военного сборника» за 1868 г.), стр. 1—2.
2 См. Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, т. VII, СПб. 1882, стр. 195.
Сноски к стр. 70
1 Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, М. 1928, стр. 37.
2 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 15, стр. 241.
Сноски к стр. 79
1 А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 5, Гослитиздат, изд. 4-е, М. 1936, стр. 259—260.
Сноски к стр. 82
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.
Сноски к стр. 87
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 33.
Сноски к стр. 91
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч. т. 16. стр. 7.
2 Там же, т. 13. стр. 55.
Сноски к стр. 92
1 Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 8.
Сноски к стр. 94
1 С. Щукин, Из воспоминаний об А. П. Чехове. — «Русская мысль», 1911, № 10, стр. 45. Подробно о языке «Войны и мира» и других, преимущественно ранних, произведений Толстого см. В. В. Виноградов, О языке Толстого. — «Литературное наследство», т. 35—36, М. 1939, стр. 117—220. См. его же, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М. 1938, стр. 319—324, 404—410.
Сноски к стр. 95
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 17, стр. 625.
Сноски к стр. 96
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, стр. 269.
2 Там же, стр. 283.
3 Там же, стр. 278.
Сноски к стр. 97
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, стр. 130.
2 Они опубликованы в 20-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 101
1 Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, М. 1928, стр. 32.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 29.
Сноски к стр. 103
1 См. примечания В. Ф. Саводника к тексту «Анны Карениной», тт. I—II, Гиз, 1928, и статью С. Л. Толстого «Об отражении жизни в «Анне Карениной». — «Литературное наследство», т. 37—38, М. 1939.
Сноски к стр. 107
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, стр. 322.
Сноски к стр. 108
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 64, стр. 235.
2 «Литературное наследство», т. 37—38, стр. 426.
Сноски к стр. 109
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, стр. 268—269.
Сноски к стр. 110
1 Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1877, 1880 и 1881 гг., Гиз, 1929, стр. 209.
Сноски к стр. 113
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31.
Сноски к стр. 116
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 29—30
Сноски к стр. 117
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31.
Сноски к стр. 118
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 47.
Сноски к стр. 119
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 49, стр. 50.
2 Там же, т. 83, стр. 326.
Сноски к стр. 120
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 394.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.
Сноски к стр. 121
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.
2 Там же, т. 15, стр. 180.
3 Там же, т. 16, стр. 294.
4 Там же, стр. 295.
5 Там же, стр. 301.
Сноски к стр. 122
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
2 Там же, т. 16, стр. 294.
3 Там же, т. 17, стр. 30.
Сноски к стр. 125
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 29, стр. 195.
Сноски к стр. 126
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 167.
2 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183
Сноски к стр. 127
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 70.
2 Там же, стр. 71.
Сноски к стр. 132
1 Н. Ракшанин, «Беседа с графом Л. Н. Толстым (Впечатления)». — «Новости и биржевая газета», 1896, № 9, от 9 января. Беседа эта была вызвана появившейся в «Петербургской газете», 1896, № 2, от 2 января, заметкой «Идея «Власти тьмы». В этой заметке сотрудник газеты в ироническом тоне сообщал сделанное ему антрепренершей бывшего Пушкинского театра в Москве А. А. Бренко сенсационное заявление, будто источником пьесы Толстого послужила ее собственная пьеса «Дотаевцы», которую она двенадцать лет назад читала Толстому, очень сочувственно ее принявшему. В беседе с Ракшаниным Толстой, не отрицая того, что он слушал пьесу «Дотаевцы», опроверг домыслы Бренко ссылкой на подлинное дело, легшее в основу «Власти тьмы»
Сноски к стр. 133
1 Цитируем заключение прокурора суда об освобождении Елены, утвержденное судебной палатой, по подлинному делу Колосковых, л. 7 (Архив Толстовского музея).
2 Там же, л. 7.
Сноски к стр. 138
1 «Дневник В. Ф. Лазурского». — «Литературное наследство», т. 37—38, стр. 447.
Сноски к стр. 143
1 П. И. Бирюков, Биография Льва Николаевича Толстого, т. III, М. 1922, стр. 317.
Сноски к стр. 144
1 Письмо это напечатано в Полном собрании сочинений Толстого, т. 85. Цитируемые выдержки — на стр. 80.
2 См. Государственный литературный музей. Летописи, кн. 12-я, М. 1948, стр. 261—263.
Сноски к стр. 146
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 87, стр. 71.
Сноски к стр. 150
1 Дневниковые записи, относящиеся к истории писания «Воскресения», см. в 33-м томе Полн. собр. соч. Толстого. Там же и черновые тексты романа.
Сноски к стр. 153
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
Сноски к стр. 156
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 54, стр. 27.
Сноски к стр. 157
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 73, стр. 188, 190.
2 Там же, т. 55, стр. 65—66.
Сноски к стр. 158
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 54, стр. 113.
Сноски к стр. 161
1 Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом, изд. «Златоцвет», М. 1911, стр. 93.
Сноски к стр. 164
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 559.
Сноски к стр. 166
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 76, стр. 45.
Сноски к стр. 167
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 76, стр. 59.
2 Там же, т. 89, стр. 27.
3 Там же, т. 76, стр. 4 (Письмо к американскому литератору и общественному деятелю Эрнесту Кросби от 6 (19) июля 1905 г.).
4 Там же, т. 55, стр. 145, 147.
5 Там же, т. 56, стр. 172.
6 Там же, стр. 173.
Сноски к стр. 168
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 58, стр. 37.
2 Там же, т. 31, стр. 147.
Сноски к стр. 169
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 38, стр. 24.
Сноски к стр. 170
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 38, стр. 245.
Сноски к стр. 172
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 421.
2 Там же, стр. 422.
3 Там же, стр. 423.
Сноски к стр. 173
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 426.
Сноски к стр. 174
1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 426.
Сноски к стр. 177
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIV, Госиздат, М. — Л. 1927, стр. 250. О чувстве природы у Толстого подробнее см. И. В. Страхов, Л. Н. Толстой как психолог. — «Ученые записки Саратовского государственного педагогического института», вып. X, 1947, стр. 266—316.
2 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 264, 265.
3 Там же, т. 63, стр. 19.
Сноски к стр. 178
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 84, стр. 281.
2 Там же, т. 52, стр. 120—121.
Сноски к стр. 180
1 13 ноября 1911 г. Блок сделал такую запись в своем дневнике: «Гениальнейшее, что читал, — Толстой — «Алеша Горшок». — Дневник Ал. Блока, 1911—1913, Издательство писателей в Ленинграде, 1928, стр. 38.
2 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 373.
Сноски к стр. 181
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 230—231.
Сноски к стр. 182
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 71.
2 А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 157.
3 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 436.
Сноски к стр. 184
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, стр. 209.
2 Там же, т. 46, стр. 144.
3 Там же, т. 64, стр. 40.
Сноски к стр. 185
1 А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 53.
2 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, стр. 265.
3 Там же, т. 61, стр. 175, 176.
4 Там же, стр. 176.
5 Там же, стр. 183.
Сноски к стр. 186
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 86, стр. 27.
2 Там же, т. 51, стр. 34.
Сноски к стр. 187
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 224.
Сноски к стр. 188
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, стр. 172.
Сноски к стр. 189
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, стр. 184.
Сноски к стр. 190
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, стр. 111.
2 Там же, т. 62, стр. 203.
3 Там же, т. 83, стр. 81.
4 Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, М. 1928, стр. 97.
Сноски к стр. 191
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, стр. 240.
2 Там же, т. 62, стр. 352.
3 Там же, т. 46, стр. 116.
4 Там же, т. 83, стр. 69.
5 Там же, т. 62, стр. 199.
6 Г. Русанов, «Поездка в Ясную Поляну» (24—25 авг. 1883 г.). — «Толстовский ежегодник», М. 1912, стр. 69.
Сноски к стр. 192
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 83, стр. 59.
2 Кстати, это цензурное обезвреживание «Воскресения» отразилось и на бесцензурном заграничном издании романа, вышедшем в Англии, в издательстве Черткова «Свободное слово». «Воскресение» в Англии печаталось по гранкам «Нивы», как правило, до их цензурной правки, но в некоторых случаях Черткову, вопреки договоренности с Толстым, посылались гранки, уже прошедшие через цензурную правку, и Чертков в этих случаях становился жертвой в лучшем случае халатности редакции журнала. Только непосредственное обращение к сохранившимся в большом количестве рукописям и гранкам «Воскресения» дало возможность впервые установить в юбилейном издании сочинений Толстого подлинно бесцензурный текст романа.
Сноски к стр. 201
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 73, стр. 353.
Сноски к стр. 205
1 Ф. Тищенко, Как учил писать Л. Н. Толстой. — «Русская мысль», 1903, ноябрь, стр. 72.
2 Слова Л. Н. Толстого, записанные С. Ал. Стахович. — «Толстой и о Толстом», М. 1924, стр. 64.
3 А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. II, М. 1923, стр. 71.
Сноски к стр. 206
1 А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 221.
2 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63, стр. 308.
3 Там же, т. 37, стр. 243.
4 Г. Русанов, «Поездка в Ясную Поляну» (24—25 авг. 1883 г.). — «Толстовский ежегодник», М. 1912, стр. 71.
Сноски к стр. 207
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, стр. 286.
2 Там же, стр. 293.
3 Там же, стр. 190.
4 Там же, т. 62, стр. 438.
5 Там же, т. 51, стр. 13.
Сноски к стр. 208
1 А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 116.
2 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 54, стр. 202.
3 Там же, т. 53, стр. 219.
4 Там же, т. 46, стр. 292.
5 Там же, т. 30, стр. 194.
Сноски к стр. 209
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 300.
2 М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, М. 1939, стр. 295.
Сноски к стр. 210
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 124.
Сноски к стр. 211
1 См. Т. Л. Мотылева, О мировом значении Л. Н. Толстого, М. 1957. — «Л. Н. Толстой». Сборник статей. Пособие для учителя под общей редакцией Д. Д. Благого (здесь высказывания иностранных писателей о Толстом, стр. 464—467); Н. К. Гудзий, Мировое значение русской литературы. — «Ученые записки МГУ», вып. 107, 1946, стр. 130—132; Ф. И. Булгаков, Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная, изд. 3-е, М. 1899, ч. 2-я, стр. 1—128.
Сноски к стр. 212
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 297.