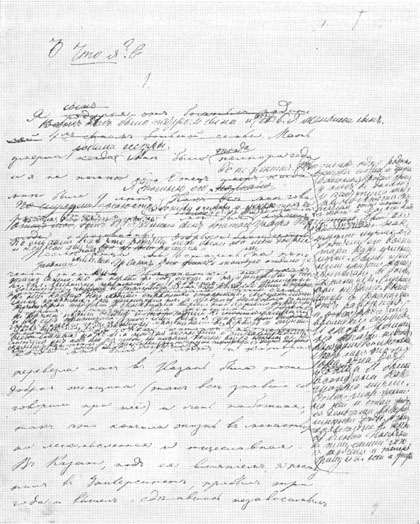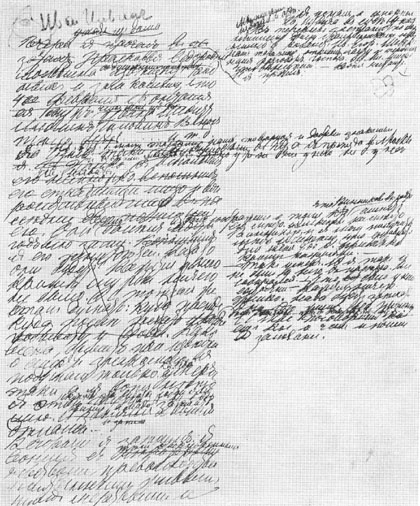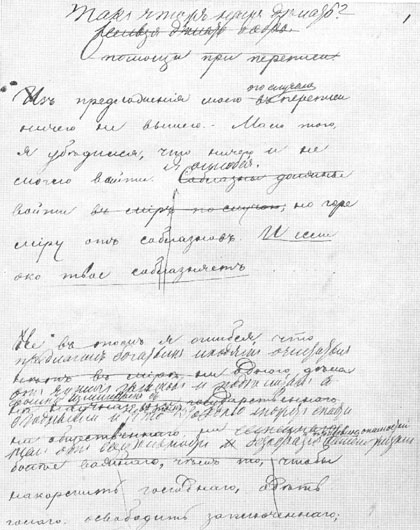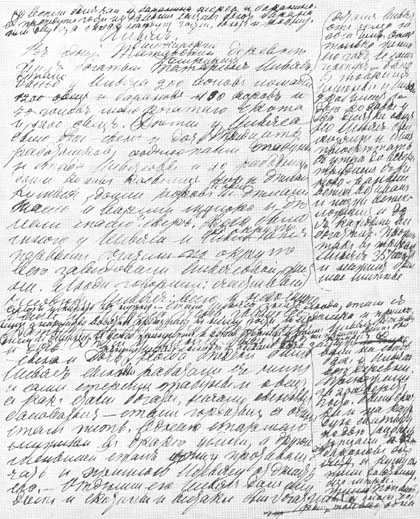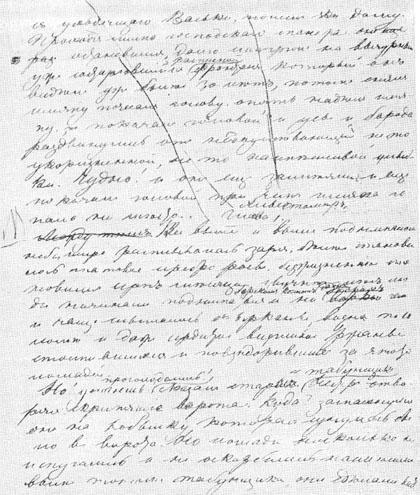- 1 -
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО*
Н. Н. ГУСЕВ
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ
———————
МАТЕРИАЛЫ
К БИОГРАФИИс 1881 по 1885 год
———————
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1970
- 2 -
Ответственные редакторы:
Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ и А. И. ШИФМАН
7-2-2
————
160-70(I)
- 3 -
ОТ РЕДАКТОРОВ
23 октября 1967 г., на 86-м году жизни, скончался автор этой книги, выдающийся исследователь наследия Л. Н. Толстого, лично знакомый с великим писателем, в 1907—1909 годах бывший его секретарем, доктор филологических наук, профессор Николай Николаевич Гусев. Вся его долгая и плодотворная жизнь — свыше шести десятилетий неутомимого труда — была отдана изучению и пропаганде наследия любимого писателя.
Перу Н. Н. Гусева принадлежит более двухсот ценных работ о Толстом, в том числе ряд капитальных биографических трудов. Выступая как историк литературы, собиратель, текстолог, комментатор сочинений Толстого, Гусев уделял особенное внимание изучению его биографии и достиг в этой области больших успехов. Уже первые его книги «Молодой Толстой» (М., 1927) и «Толстой в расцвете художественного гения» (М., 1927), а также его первая «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» (М., 1936) по-новому осветили жизнь писателя, вобрали в себя обширный малоизвестный материал о его трудах и делах.
Н. Н. Гусева, как большого ученого, отличала строгая взыскательность и требовательность к себе, стремление быть на уровне самых передовых знаний в своей области. Если тот или иной его труд или старая трактовка проблемы уже не отвечали новому слову в науке о Толстом, он смело отвергал их и принимался за работу сызнова. Так было и с его ранними биографическими трудами. Убедившись, что накопленные в последующие годы сведения о Толстом требуют более глубокого и широкого истолкования, Н. Н. Гусев в начале 1940-х годов приступил
- 4 -
к созданию нового, более совершенного многотомного биографического труда. Эта работа, которая велась более четверти века, дала превосходные плоды. Начиная с 1954 г. вышли в свет три обширных тома «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», а в 1958—1960 годах появилась новая двухтомная «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого».
Можно без преувеличения сказать, что по объему и широте привлеченного материала, по его новизне и строгой документации, по четкости и ясности изложения, биографический труд Н. Н. Гусева намного превосходит все ранее выходившие в нашей стране и за рубежом биографические труды о Толстом.
Исчерпывающее, поистине энциклопедическое знание материала позволило Н. Н. Гусеву не только обогатить и по-новому осветить факты из жизни Толстого, опровергнуть бытующие легенды и домыслы, но, порою, исправить и ошибки памяти самого Льва Николаевича, случавшиеся иногда в поздний период его жизни. Всеми признано, что в этих книгах дан наиболее полный и наиболее точный свод биографических сведений о Толстом, мимо которых не пройдет ни один исследователь жизни и творчества писателя. Недаром этот труд был удостоен высокой премии Академии наук СССР. Это же можно сказать и о двухтомной «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого» — она стала настольной книгой всех толстоведов.
Настоящий, четвертый, том «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», в котором освещается жизнь писателя с 1881 по 1885 год, является продолжением предыдущих книг Н. Н. Гусева: «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» (М., 1954); «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год» (М., 1958); «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год» (М., 1963). Все книги вышли в Издательстве Академии наук СССР (ныне издательство «Наука»).
Как и предыдущие тома, книга содержит не только подробное описание всех значительных фактов жизни Толстого, но и основные моменты творческой истории его произведений и последовательное изложение социальных, религиозно-нравственных, философских и эстетических воззрений писателя.
В книге освещается важный этап в становлении и развитии мировоззрения Толстого после пережитого им в конце 1870-х
- 5 -
годов идейного перелома. Этой теме посвящены обширные главы, где раскрывается работа Толстого над «Исповедью», трактатами «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» и другими публицистическими сочинениями. Одновременно воспроизводится творческая история художественных произведений Толстого этих лет — первых народных рассказов «Чем люди живы», «Ильяс», «Где любовь, там и бог», «Два старика», «Свечка» и других, а также повестей «Холстомер» и «Смерть Ивана Ильича». Ряд глав посвящен истории взаимоотношений Толстого с его близкими, началу разлада в семье писателя, вызванного его новым миропониманием. Значительное место также уделено истории основания книгоиздательства «Посредник», сыгравшего большую роль в распространении сочинений Толстого.
Книга Н. Н. Гусева тщательно документирована. Как и ранее, все выводы автора основаны на пристальном изучении дневников, записных книжек и писем Толстого, а также всевозможных, мемуарных и архивных материалов, частично публикуемых впервые. Так, в настоящем томе впервые публикуются ранее неизвестная переписка С. А. Толстой с сестрой Т. А. Кузминской и дочерью Татьяной Львовной, освещающая жизнь писателя и его семьи в период его идейного кризиса, новые документы о связях Толстого с Н. Н. Страховым, Н. Ф. Федоровым, Т. М. Бондаревым и другими лицами, неизвестные цензурные документы, касающиеся издания «Исповеди», трактатов «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», народных рассказов, и многие другие материалы. Впервые с исчерпывающей полнотой даны в книге обзоры критических откликов на сочинения Толстого этого периода, на первые издания «Посредника», воспроизведены высказывания современников о новом миропонимании и учении Толстого.
Начиная свой многолетний биографический труд, Н. Н. Гусев в предисловии к первому тому подчеркнул, сколь нелегко воссоздать жизнь Льва Толстого — этого «самого сложного человека среди всех крупнейших людей 19-го столетия» (А. М. Горький). Н. Н. Гусев — в пределах тех четырех томов, которые он успел написать, — блестяще справился со своей задачей. Память о нем будет жить в его научных трудах, содействующих развитию и обогащению науки о Л. Н. Толстом.
- 6 -
- 7 -
Глава первая
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1881 ГОДУ
I
1 марта 1881 года был убит царь Александр II.
Первое известие о гибели царя было получено в Ясной Поляне следующим путем. «1-го марта, — рассказывает в своих воспоминаниях И. Л. Толстой, — папа́, по обыкновению своему, ходил перед обедом гулять на шоссе. После снежной зимы началась ростепель. По дорогам были уже глубокие просовы, и лощины набухли водой. По случаю плохой дороги в Тулу не посылали, и газет не было. На шоссе папа́ встретил какого-то странствующего мальчика-итальянца с шарманкой и гадающими птицами. Он шел пешком из Тулы. Разговорились: «Откуда? куда?»
— Из Туль, дела плох, сам не ел, птиц не ел, царя убиль.
— Какого царя? кто убил? когда?
— Русский царь, Петербург, бомба кидаль, газет получаль.
Придя домой, папа́ тут же рассказал нам о смерти Александра II, и пришедшие на другой день газеты с точностью это подтвердили»1.
Рассказываемый И. Л. Толстым случай мог произойти только второго, а не первого марта, так как сохранилось письмо С. А. Толстой к ее сестре Т. А. Кузминской от 3 марта 1881 года, из которого видно, что первого марта в Ясной Поляне ничего не знали об убийстве царя. «Вчера — писала С. А. Толстая в этом письме, — еду я в Тулу, к Лопухиным, а мне у заставы человек говорит: «Слышали? Царя нашего убили». Я так и ахнула, спросила, конечно: как? Он отвечает: «Мало ли под него мин подводили, вот карету его разорвало и убило». Так до сих пор подробностей не знаем никаких. Меня поразило одно, что в Туле так просто и спокойно приняли подобный ужас»2.
- 8 -
В том душевном состоянии, в котором находился тогда Толстой, его не столько поразила гибель царя, сколько мучила мысль о предстоящей казни убийц. И у него является мысль — написать новому царю письмо с просьбой во имя евангельских идеалов простить этих людей, показав тем пример исполнения на деле христианских заветов. Он советуется об этом деле с окружающими. Жена отговаривает, опасаясь за его безопасность; друг его, учитель детей В. И. Алексеев, напротив, горячо поддерживает мысль о письме к Александру III и тем навлекает на себя неудовольствие хозяйки. В своих воспоминаниях В. И. Алексеев рассказывал:
«Помню, утром Лев Николаевич мрачный, точно сам присужденный к казни, входит в столовую, где мы все с детьми пили кофе, и глухим голосом зовет меня к себе в гостиную, где он обыкновенно пил кофе. Он сказал, что его очень мучит мысль о предстоящей казни лиц, убивших Александра II, что он, следуя учению Христа, думает по крайней мере написать письмо Александру III с просьбой о помиловании преступников, что никакого другого поступка для предотвращения их казни он не представляет себе, и просил об этом моего мнения.
Такое обращение ко мне глубоко уважаемого мною Льва Николаевича по такому важному вопросу меня смутило. Я подумал и сказал:
— Кроме письма к сыну убитого отца, в воле которого казнить и помиловать преступников, тут ничего придумать нельзя. Напиши такое письмо я, — замешанный в студенческие годы в революционной пропаганде, — меня тотчас же заподозрили бы в сочувствии убийцам и упрятали бы, не имея достаточных улик для обвинения, под надзор полиции в отдаленные края. Что же касается вас, всем известного русского писателя, — ваше письмо прочтут и обратят на него внимание, поверят, что вами движет именно то чувство и те идеи, о которых вы пишете. Поступят ли по вашим словам или нет, — это их дело. Но вы, написав это письмо, сделаете то, что внушает вам совесть, что предписывает заповедь Христа.
— Самое худое для вас может быть то, что вам за это письмо сделают выговор — «не в свое, мол, дело суешься». Ну что ж, это такое наказание, которое легко перенести за правду. Главное — то, что вы этим письмом снимете с себя в вашем сознании вину участия вашего в казни, и никогда не будете раскаиваться, что написали его. Ведь государь ослеплен теперь чувством мести. Ему теперь все внушают, что убийц нужно казнить для устрашения вообще врагов государственного строя. Всякий ему говорит теперь: «Око за око, зуб за зуб» и «возненавидь врага твоего», и никто не говорит: «не противься злу насилием», «благотвори ненавидящих тебя». И вот вы своим письмом напомните ему слова божественного учителя.
- 9 -
— Какое счастье и радость будет, если, прочитав это письмо, он поступит по учению Христа. И как вы будете раскаиваться, если государь вспомнит эти слова после казни и скажет: «Ах, жаль, что никто мне не напомнил раньше этих слов спасителя».
Слова эти слышала графиня Софья Андреевна за дверьми из своей комнаты. Вдруг, дверь отворяется, выбегает взволнованная Софья Андреевна и с сердцем, повышенным голосом говорит мне, указывая пальцем на дверь:
— Василий Иванович, что вы говорите?.. Если бы здесь был не Лев Николаевич, который не нуждается в ваших советах, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон...
Я был поражен таким заявлением и сказал: «Слушаю, уйду»3.
Наконец, как это часто бывало с Толстым, он почувствовал, что уже не может не написать задуманного письма.
«О том, — писал он 3 марта 1906 года П. И. Бирюкову, отвечая на его запрос, — как на меня подействовало 1 марта, не могу ничего сказать определенного, особенного. Но суд над убийцами и готовящаяся казнь произвели на меня одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не мог перестать думать о них, но не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве, и особенно Александре III. Мне так ясно было, какое радостное чувство он мог испытать, простив их. Я не мог верить, что их казнят, и вместе с тем боялся и мучился за них и за их убийц. Помню, с этой мыслью я после обеда лег внизу на кожаный диван и неожиданно задремал и во сне, в полусне подумал о них, о готовящемся убийстве и почувствовал так ясно, как будто это всё было наяву, что не их, а меня казнят, и казнят не Александр III с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся. И тут написал письмо»4.
Подлинный текст письма, отправленного Толстым Александру III, остается неизвестным. Толстой так спешил отослать это письмо, что копия с него не была сделана. Сохранились лишь первая черновая редакция, копия с нее, сделанная рукой С. А. Толстой, с несколькими собственноручными исправлениями и вставками автора, и черновики последующих редакций. На первом листе копии С. А. Толстой сделано «примечание»: «Это письмо в этом виде послано не было, а это есть самый первый набросок». И ниже ее же рукой: «Пометки и все, что
- 10 -
прибавлено, вычеркнуто, — все точь в точь по подлиннику. Переписчица».
«Хорошо ли, дурно, — писал Толстой Страхову 17 марта, — но меня так неотвязно мучила мысль, что я обязан перед своей совестью написать государю то, что́ думаю, что я мучился неделю — писал, переделывал...»5.
В начале своего письма Толстой оговаривается, что он будет писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишут письма государям, — «с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто, как человек к человеку».
И, обращаясь к царю таким образом, Толстой сразу указывает ту точку зрения, на которой он будет стоять в своем письме. Он пишет: «Кто бы мы ни были — цари или пастухи, мы — люди, просвещенные учением Христа...Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанностей царя и должны сойтись с ними».
Опираясь на заповеди Христа, изложенные в Евангелиях, Толстой убеждает царя простить убийц его отца и воздать им «добром за зло». Если вы поступите так, — писал Толстой царю, — то «вы сделаете величайшее дело в мире», «дадите миру величайший пример исполнения учения Христа».
Толстой старается внушить царю правильное — с его точки зрения — представление о революционерах, убивших его отца. Это — люди, «ненавидящие существующий порядок вещей и правительство», они «разрушают существующий строй общества».
С этими людьми пытались бороться прямыми средствами насилия. Другие государственные деятели предлагают провести либеральные мероприятия, которые, по их мнению, «должны были удовлетворить беспокойные силы и утишить напор враждебных сил». Но ни та, ни другая система борьбы с терроризмом, по мнению Толстого, ни к чему не привела. Новое средство борьбы со злом — исполнение христианского учения прощения и любви — «никогда еще не употреблялось». Это новое средство — «таково, что оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для души человека».
И далее Толстой обращается к царю с таким увещанием: «Простите, воздайте добром за зло... и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.
Государь, если бы вы сделали это, позвали этих людей,
- 11 -
дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами вверху: «А я вам говорю: любите врагов своих...», каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов. Истины Христовы живы в сердцах людей, и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин».
Толстой предвидит то возражение, которое советники царя приведут против его призыва простить преступников. «Они скажут: «христианское прощение и воздаяние добром за зло хорошо для каждого человека, но не для государства... Если простить преступников, выпустить всех из заключения и ссылок, то произойдет худшее зло»! Да почему же это так? — задает Толстой вопрос царским советникам. — Кто сказал это? Чем вы докажете это? Своей трусостью? Другого у вас нет доказательства».
В конце письма Толстой пытается вразумить царя относительно того, что́ представляют собой те революционеры, которые убили его отца. «Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал... Есть только один идеал, который можно противуставить им. И тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, — тот, который включает их идеал, — идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло».
Здесь Толстой впервые изложил свое новое отношение к революционерам, которое сложилось у него после перелома в его миросозерцании. По мнению Толстого, революционеры, несмотря на то, что они не признают учение Христа и употребляют насилие в своей борьбе против правительства, в действительности бессознательно исходят из учения Христа о любви к ближнему и стремятся к переустройству общества на основании христианских идеалов братства и равенства.
Заканчивает Толстой свое письмо словами: «Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, могут уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем — человеком, исполняющим закон Христа»6.
Из сохранившихся черновиков письма к Александру III видно, что оно было переделано Толстым не менее трех раз. Один
- 12 -
из черновых листов содержит кусок текста, несомненно исключенный из письма людьми, «знающими приличия». Здесь Толстой советует царю не только простить убийц его отца, но выпустить всех сидящих в тюрьмах революционеров. Он пишет:
«Если бы вы простили всех государственных преступников, объявив это в манифесте, начинающемся словами: «Люби врагов своих», — это христианское слово и исполнение его на деле было бы сильнее всей человеческой мудрости. Сделав это, вы бы истинно победили врагов любовью своего народа»7.
Как писал Толстой Страхову 17 марта 1881 года, «люди, знающие приличия, вычеркнули многое» из его письма. Люди эти, очевидно, были знакомые Толстого из тульских административных и судебных кругов: вице-губернатор Л. Д. Урусов, прокурор Н. В. Давыдов и другие. В результате советов этих знавших придворные приличия людей письмо, как писал Толстой Страхову, «вышло нехорошо. Я написал сначала проще, и было хотя и длиннее, но было сердечнее, как говорят мои, и я сам это знаю», но потом, после исправлений письма по советам знакомых, многое было вычеркнуто, «весь тон душевности исчез, и надо было брать логичностью, и оттого оно вышло сухо и даже неприятно».
Письмо было послано Н. Н. Страхову с просьбой передать его незадолго до того назначенному (в 1880 году) обер-прокурором синода К. П. Победоносцеву. В письме к Победоносцеву, тут же приложенном, Толстой писал, что знает его «за христианина» и потому «смело» обращается к нему «с важной и трудной просьбой» передать государю написанное им письмо «по поводу страшных событий последнего времени». В объяснение своего поступка Толстой далее писал, что им руководит «не самонадеянность..., но единственно мысль или, вернее, чувство, не дающее мне покоя, что я буду виноват перед собою и перед богом, если никто не скажет царю того, что́ я думаю, и что мысли эти оставят хоть какой-нибудь след в душе царя, — а я мог это сделать и не сделал»8.
Толстой обратился к Победоносцеву потому, что слышал от В. И. Алексеева, как в 1875 году Победоносцев, в то время член Государственного совета, помог освобождению из тюрьмы друга Алексеева, Александра Капитоновича Маликова, привлекавшегося за проповедь среди рабочих учения о «богочеловечестве».
С. А. Толстая сделала к письму Страхову небольшую приписку, в которой сообщала, что Лев Николаевич решил послать письмо царю против ее желания («несмотря на все мои просьбы и уговоры»), и просила в случае, если письмо может вызвать
- 13 -
в царе какие-нибудь неприятные чувства или недоброжелательство ко Льву Николаевичу, не допускать письма до царя.
Точный и исполнительный Н. Н. Страхов поспешил исполнить просьбу своего друга: отправился к Победоносцеву и лично переговорил с ним о письме Толстого. Но в душе обер-прокурора «святейшего» синода не нашлось тех христианских чувств, на которые рассчитывал Толстой. Он решительно отказался передать письмо царю и возвратил его Страхову, обещав написать Толстому о причинах отказа. Он сказал, что он сторонник смертной казни, но не публичной, а тайной9.
Страхов немедленно уведомил Толстого (его письмо до нас не дошло) и в ответ получил телеграмму о новом способе вручения письма (текст этой телеграммы также не сохранился). Толстой просил доставить письмо профессору-историку Константину Николаевичу Бестужеву-Рюмину.
Прослышал ли Победоносцев от кого-нибудь про этот новый путь вручения царю письма Толстого, или же у него были какие-либо другие причины опасаться воздействия на царя, но 30 марта он пишет Александру III: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников... Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется. Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных... В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради бога, Ваше величество, — да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности».
На письме Победоносцева Александр III собственноручно начертал: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь»10.
3 апреля Толстой писал Страхову: «Простите ради бога, дорогой Николай Николаевич, что измучил вас. Я тоже измучился... Главное — замешалась жена и ее страхи, очевидно, не
- 14 -
имеющие никакого основания». Тут же Толстой писал о Победоносцеве по поводу его отказа передать царю письмо: «Победоносцев ужасен. Дай бог, чтобы он не отвечал мне и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним». Еще не зная, что казнь первомартовцев уже совершена, Толстой закончил письмо словами: «Не могу писать о постороннем, пока не решено то страшное дело, которое висит над всеми нами»11.
Как и следовало ожидать, царь, если он и получил письмо Толстого, не внял его увещаниям. 3 апреля 1881 года первомартовцы были казнены.
С. А. Толстая от кого-то слышала, что царь приказал передать графу Толстому, что «если бы покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить»12. Царь, следовательно, повторил тот самый аргумент, который Толстой в письме своем признал совершенно несостоятельным.
7 апреля Н. Н. Страхов кратко и грустно сообщал Толстому: «Я опустил Ваше письмо в ящик тотчас, как получил телеграмму. Вот и все, что могу сказать Вам. Оно могло еще поспеть и если не поспело (что, я думаю, не изменило бы дела), то не по моей вине... Казнь и слухи о ней были очень тяжелы»13.
12 июня Н. Н. Страхов известил Толстого, что он побывал у Победоносцева с единственной целью спросить его, что он знает о письме Толстого к Александру III. Победоносцев ответил, что не знает ничего14.
Посещение Страхова напомнило Победоносцеву, что он еще не ответил Толстому на его мартовское письмо, и 15 июня он послал Толстому следующий ответ:
«Не взыщите, достопочтеннейший граф Лев Николаевич.
Во 1-х — за то, что я оставил до сего времени без ответа письмо Ваше, врученное мне Н. Н. Страховым. Это произошло не от неучтивости или равнодушия, а от невозможности опознаться вскоре в той суете и путанице мыслей и забот,
- 15 -
которые одолевали и не перестают еще одолевать меня после 1 марта.
Во 2-х — не взыщите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. В таком важном деле все должно делаться по вере. А прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос — не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить ваше поручение.
Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев»15.
Письмо это вновь вызвало у Толстого чувство ужаса перед бессердечием и тупостью одного из высших сановников в России. Это чувство проявлялось у Толстого всегда, когда ему позднее приходилось говорить или писать о Победоносцеве.
Впоследствии Толстой высказывал сожаление о том, что он сам не поехал в Петербург к Александру III, чтобы умолять его простить убийц его отца16. Он полагал, что его живое слово и личное общение произвели бы на царя большее впечатление, чем письмо.
Обращение Толстого к царю с призывом не казнить убийц его отца стало известно в Петербурге и вызвало сочувственное отношение в кругу передовой интеллигенции того времени. Н. К. Михайловский, видевшийся с Толстым в ноябре 1881 года, писал в своих воспоминаниях: «В тот раз мы беседовали с графом о литературе и о кое-каких житейских делах, между прочим об одном приватном, но имевшем общественное значение, в высокой степени симпатичном поступке графа в тот страшный 1881 год. Я был рад выслушать рассказ об этом деле от самого графа и еще более рад был тому, что рассказ этот своею простотою и задушевностью вполне соответствовал тому представлению о графе Толстом, которое я себе заочно составил»17.
II
В последних числах февраля 1881 года Толстого вторично посетил молодой философ Владимир Соловьев18.
Зная, что Соловьев придерживается церковной догматики, но вместе с тем признает и нравственное учение Христа, Толстой,
- 16 -
как писал он Страхову 3 апреля, на прощанье обратился к нему со словами: «Дорого то, что мы согласны в главном — в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием»19.
По-видимому, именно к этому посещению Соловьевым Толстого относится следующее сочувственное упоминание о нем, включенное Толстым в первую главу его статьи «Не могу молчать!» (1908): «Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача и одного возили с места на место»20.
Рассказ В. С. Соловьева вполне соответствовал действительности. В 1879—1881 годах обязанности палача исполнял один только уголовный арестант Иван Фролов, содержавшийся в Москве; для исполнения казней его возили из одного города в другой. Удостоверено, что в 1879—1881 годах Фроловым было казнено 27 революционеров в Петербурге, Киеве, Одессе, Николаеве21.
28 марта в Петербурге в зале Кредитного общества В. С. Соловьев прочел лекцию на тему: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса». Слушателей было около тысячи человек. Заключение лекции совершенно не соответствовало ее основной теме. Шел третий день процесса первомартовцев, и ожидался уже приговор суда. Как вспоминает современник, слышавший лекцию Соловьева, он «осветил религиозное миросозерцание русского народа, в основе которого лежит бесконечное милосердие... Местами лектор доходил до высокого пафоса, особенно там, где он доказывал, что истинная народная религия не терпит никакого насилия. Эти принципы должна проводить в жизнь и власть, как представитель православного народа... В настоящее время над шестью цареубийцами висит смертный приговор. Общество и народ верят, что приговор не будет приведен в исполнение. Это так и должно быть. Царь, как представитель народа, исповедующего религию милосердия, может и должен их помиловать...
Соловьев сошел с кафедры. В зале наступила тишина. Все как бы окаменели. Не было даже аплодисментов. Все чего-то ждали...
На кафедру вошел не то чиновник, не то офицер и обратился к Соловьеву приблизительно с следующими словами:
- 17 -
— Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного миросозерцания, или это есть реальные требования? Как вы вообще относитесь к смертной казни?
Соловьев вернулся на кафедру.
— Я сказал то, что сказал как представитель православного народа, не приемлющего казни, потому что народ исповедует религию милосердия и всепрощения и верит в животворящего Христа, завещавшего нам прощать врагов, царь должен помиловать убивших его отца. В христианском государстве не должно быть смертной казни.
В зале произошло что-то неописуемое. Тут уже были не аплодисменты, а всех охватил порыв восторга. К лектору тянулись сотни рук... у многих на глазах слезы, а некоторые плакали. Соловьев с трудом вышел из залы; пытались вынести его на руках...»22
Лекция В. С. Соловьева была в то время единственным в России открытым протестом против смертной казни. Понятно, что выступление Соловьева вызвало горячее одобрение со стороны Толстого. «Молодец Соловьев», — писал он Страхову 3 апреля23.
III
Чем полнее старался Толстой осуществить в своей жизни требования христианского учения, тем все глубже и глубже становился его разлад с семьей.
Пока влияние христианского учения проявлялось только в изменении характера Толстого, в том, что он становился добрее, мягче, спокойнее, Софья Андреевна в общем была довольна этой происшедшей в нем переменой. 2 февраля 1880 года она писала своему брату С. А. Берсу: «Если бы ты знал и слышал теперь Левочку! Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твердый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был. Если бы ты теперь послушал его
- 18 -
слова, вот когда влияние его было бы успокоительно твоей измученной душе»24.
Но христианское учение, как его понимал Толстой, требовало от него не только доброты в отношениях с людьми; оно требовало также изменения всего его образа жизни в духе простоты и любви к ближнему. В 1879 году Толстой заметил в записной книжке: «Делать трудно. Переродиться духом. Не вдруг возможно. Моя жизнь ужасная — как далека»25.
И как только Толстой пытался изменить условия своей жизни и жизни всей семьи по требованиям христианского учения, как он его понимал, так его жена сейчас же заявляла о своем самом решительном несогласии с ним.
12 марта 1881 года Софья Андреевна писала своей сестре, Т. А. Кузминской: «У нас в доме некоторый разлад, который я выношу трудно». 22 апреля она писала ей же: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, я даже хотела уехать из дому. Верно это потому, — иронически замечала Софья Андреевна, — что христиански жить стали. По-моему, прежде без христианства этого много лучше было».
Софья Андреевна, прожившая до восемнадцати лет в Москве с родителями — отцом, А. Е. Берсом, врачом дворцового ведомства, и матерью, Любовью Александровной Иславиной, дочерью помещика А. М. Исленьева, выведенного в «Детстве» Толстого под именем «папа́», вполне усвоила все взгляды и предрассудки окружающей среды.
Трудный и мучительный процесс перелома в миросозерцании Толстого происходил на глазах у его жены, но она не понимала ни смысла, ни значения этого процесса в жизни ее мужа. Тяжелое душевное состояние Льва Николаевича она объясняла не напряженными поисками разрешения мучивших его сомнений, а замкнутостью яснополянской жизни или его болезненным состоянием, в чем поддерживал ее и брат Александр Андреевич. 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской, что их брат Александр, гостивший в Ясной Поляне, нашел во Льве Николаевиче «перемену к худшему, т. е. боится за его рассудок». Софья Андреевна прибавляет от себя, что «религиозное и философское настроение самое опасное».
Когда же Толстой вполне уяснил себе, какой перемены в его жизни и жизни семьи требует его новое миропонимание, и объявил об этом жене, она могла испытать одно только чувство ужаса перед той коренной ломкой всех сложившихся условий ее семейной жизни, к какой призывал ее муж.
- 19 -
Предложенное Толстым переустройство семейной жизни на началах труда и упрощения Софья Андреевна решительно отвергла. Аргументом Софьи Андреевны против предложения Толстого, казавшимся ей неопровержимым, были дети.
В 1893 году брат Софьи Андреевны, С. А. Берс, писал в своих воспоминаниях, что Софья Андреевна не только не отрицает в принципе, но даже «вполне разделяет убеждения мужа, считая его далеко опередившим свой век, и поэтому она продолжает поклоняться его гению и идеям; но перестать воспитывать младших детей по-прежнему, когда старшие уже воспитаны так, и когда никто в обществе не признает нового взгляда ее мужа на воспитание, она считает несправедливым по отношению к младшим детям, а потому и продолжает воспитывать их в прежнем духе. Точно так же раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда никто не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому как мать... Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом, когда он хотел раздать его посторонним»26.
Сама Софья Андреевна 25 октября 1886 года писала в дневнике, что от нее требуют «того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений»27.
Вместе с разрывом Толстого с учением православной церкви кончилась и роль его жены как постоянной переписчицы его сочинений.
Когда Толстой писал свое «Исследование догматического богословия», Софья Андреевна по обыкновению взяла для переписки готовые страницы его нового произведения. Сначала ей был еще не вполне ясен характер новой работы Льва Николаевича, и она переписала несколько страниц. Но как только она поняла, что новое сочинение ее мужа представляет собой не что иное, как полное разрушение всех основ православной веры, она сложила вместе его рукопись и переписанные ею листы, положила все это ему на стол и проговорила: «На тебе! Кому хочешь давай, я эту гадость переписывать не стану!»28.
Впоследствии в своей автобиографии «Моя жизнь» Софья Андреевна писала: «Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, — все это было невыносимо.
- 20 -
Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и лицо все больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу — я слишком сержусь и возмущаюсь»29.
С этого времени Софья Андреевна только изредка переписывала некоторые новые художественные и философские произведения Толстого и его статьи по искусству.
IV
27 сентября 1905 года Толстой записал в дневнике: «Вспоминал, как сущность обращения моего в христианство было сознание братства людей и ужас перед той небратской жизнью, в которой я застал себя. Вот это-то надо бы успеть рассказать до смерти. Это было одно из самых сильных чувств, которые я испытал когда-либо»30.
Затем, 27 декабря 1905 года, Толстой записывает: «Дунаев31 ужасается на зверство людей. Я не ужасаюсь, это кажется удивительным, но происходит это оттого, что тот ужас, который он испытывает теперь при проявившемся зверстве (причина которого в отсутствии религии), я испытал 25 лет тому назад, когда увидал себя вооруженным рассудком животным, лишенным всякого понимания смысла своей жизни (религии), и увидал кругом всех людей такими. Я тогда ужаснулся и удивился только тому, что люди не режут, не душат друг друга. И это не фраза, что я ужаснулся тогда. Я действительно ужаснулся тогда едва ли не более, чем люди ужасаются теперь»32.
Об этом периоде жизни Толстого (1880—1881 годы) Софья Андреевна впоследствии писала: «Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно искал везде страдания людей, насилия над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным»33.
Мемуары о Толстом и его дневник 1881 года рассказывают о том, как дикие суждения представителей власти и людей привилегированных классов, их зверское отношение к людям
- 21 -
то вызывали в нем чувства возмущения и негодования, то приводили в состояние недоумения и тихого отчаяния.
Судебный деятель А. Ф. Кони в своих воспоминаниях рассказывает, что слышал от Толстого, как в конце 1870-х годов «один очень крупный сановник, слывший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными». «Я его, — прибавил, окончив своей рассказ, Толстой, — попросил больше меня не посещать»34.
Тот же рассказ Толстого о зверском проекте царского сановника записан и учителем детей Толстого В. И. Алексеевым, причем Алексеев прибавляет, что, передавая это предложение важного сановника, Толстой «был так взволнован, что слезы текли у него ручьем, и он все время вытирал их платком»35.
Сановник этот — князь Д. А. Оболенский, член Государственного совета, ранее бывший министром финансов, а затем товарищем министра государственных имуществ. Толстой знал его еще в годы своей жизни в Казани.
15 мая 1881 года в Ясную Поляну приехал давний знакомый Толстого, крупный помещик, тульский губернский предводитель дворянства П. Ф. Самарин. В разговоре с ним Толстой, вероятно, первый напомнил о казни первомартовцев, о которой он продолжал мучительно вспоминать. Он ожидал от Самарина сочувствия его отрицанию смертной казни, но Самарин в ответ ему «с улыбочкой» произнес: «Надо их вешать». Толстой взволновался и возмутился: «хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею». Самарин, как записал Толстой в дневнике, стал оправдывать казни революционеров государственными соображениями, на что Толстой ответил: «Да мне все равно, в какие игрушки вы играете, только чтобы из-за игры зла не было»36.
Много лет спустя Толстой, вспоминая этот случай, сказал, что, разгорячившись, он громко крикнул Самарину: «Зачем же вы тогда ко мне приехали?»37
- 22 -
Т. А. Кузминская, присутствовавшая при разговоре Толстого с Самариным, так рассказывает об этом случае в своих воспоминаниях: «За чаем зашел интересный разговор с Самариным о грабеже, о реформе и законах. Самарин высказывал негодование на существующую распущенность в деревнях и нелепые наши законы. Лев Николаевич винил помещиков в дикости и распущенности народа, но отвергал всякие крайние законные меры. Он горячился и неприятно и резко спорил. Самарин спокойно и кратко высказывал свое мнение. Наконец, спор дошел до крайнего — до смертной казни. Самарин сказал: «Смертная казнь в России необходима». Лев Николаевич побледнел и проговорил злым шёпотом: «Мне страшно быть с вами». Но тут вмешалась Соня, предлагая чай, сухарей, сахару, чтобы только прекратить этот спор, что ей и удалось»38.
Долго Толстой не мог успокоиться от чувства возмущения и негодования, вызванного рассуждениями Самарина. Он чувствовал себя виноватым в том резком тоне, каким он говорил с Самариным, но правым в том ужасе перед смертной казнью, который он испытывал, и в том чувстве негодования и возмущения, которое возбуждали в нем те, кто одобрял казни. Только в начале июня Толстой смог, наконец, написать письмо Самарину. Он писал:
«Петр Федорович! Я чувствовал себя виноватым перед вами и в то время, когда так неприлично и зло спорил с вами, и на другой день, и до сих пор чувствую себя виноватым кругом и прошу вас простить меня, и простить меня не на словах только, но на деле простить и забыть, и не иметь ко мне враждебного чувства, которое я заслужил. Одно только могу сказать в свое оправдание: это то, что чувство, вызвавшее мою неприличную горячность, было то же самое, которое мучает меня раскаянием теперь и заставляет просить у вас прощенья, — чувство само в себе хорошее — любви к людям»39.
В конце 1870-х и в начале 1880-х годов в Ясной Поляне каждое лето гостила сестра С. А. Толстой, Т. А. Кузминская, со своим мужем, А. М. Кузминским, занимавшим последовательно ряд важных должностей по судебному ведомству; он был прокурором тифлисского, затем петербургского окружного суда. Однажды Толстой во время прогулки «взволнованным голосом» передал В. И. Алексееву рассказ Кузминского о том, как ему в Тифлисе пришлось присутствовать при казни революционера. «— Удивляюсь, — говорил Толстой, — с каким хладнокровием Александр Михайлович рассказывал мне всю процедуру этого
- 23 -
ужасного происшествия. Я его спросил потом, как он сам перенес этот ужас. Он Сказал: «Что же? Ничего. Все товарищи прокурора окружного суда отказались присутствовать при казни, я и пошел. Я ожидал увидеть более ужасное зрелище».
На вопрос Толстого, все ли присутствующие так же хладнокровно перенесли ужас казни, Кузминский ответил: «Нет, некоторые были взволнованы, плакали, вскрикивали. Один солдат меня удивил: выпустил из рук ружье, затрясся и тут же упал в обморок. Да пристав, командированный с отрядом полицейских, стоял и навзрыд плакал».
«— Его удивил солдат, — продолжал Толстой, — что упал в обморок и что пристав плакал при виде этого ужаса. До чего условности нашей жизни убивают в нас все человеческое! Тут присутствовал не он, А. М. Кузминский, в сущности очень порядочный человек, а прокурор окружного суда. Поэтому он и чувствовал себя спокойно, как будто его тут самого не было»40.
18 мая 1881 года Толстой делает следующую запись в дневнике: «Вечером... начали разговор. Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо, народ как бы не взбунтовался — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом в перемежку разговор о блуде — с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший — они или я»41.
Толстой не называет, кто именно те «они», о которых говорится в этой записи. Старший его сын, С. Л. Толстой, в разговоре со мной утверждал, что записанные Толстым суждения его собеседников по политическим вопросам не могли быть высказаны ни им, Сергеем Львовичем, так как он был в то время настроен либерально, ни Софьей Андреевной. В таком случае единственным лицом, которое в Ясной Поляне в 1881 году могло высказать приведенные мнения, был тот же прокурор А. М. Кузминский. Слово «они» наводит на мысль, что присутствовали при этом разговоре и другие члены семьи Толстых, своим молчанием как бы высказывавшие сочувствие суждениям Кузминского.
Очень скоро в противопоставление «они» и «я» Толстой стал вкладывать иной, более широкий смысл. Под словом «они» он стал подразумевать не только своих родных и знакомых, не понимавших его взглядов и не сочувствовавших им, но всю ту массу людей привилегированных классов, живущую одними личными эгоистическими интересами, которая поддерживала строй угнетения и эксплуатации миллионов трудового народа, живших в нищете и непосильном труде.
- 24 -
V
8 апреля 1881 года Толстой начал новую работу, которой дал название «Записки христианина».
В самом начале новой работы Толстой рассказывает, как он «два года тому назад стал христианином», как он «написал длинную книгу» о том, как «различными мучительными и сложными путями пришел к вере в христианское учение» и как он понял это учение. Но напечатать эту книгу, ему говорили, нельзя.
Толстой сообщает, какие книги, по его наблюдениям, разрешаются к печати в России. Он начинает со своих романов, к которым он относится теперь пренебрежительно. «Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера, это я могу; если я хочу писать о величии России и воспевать войны, я очень могу; если я хочу доказывать необходимость народности, православия и самодержавия, — говорит далее Толстой, имея в виду консервативную печать, — я очень и очень могу». Разрешаются цензурой, — говорит далее Толстой, — и философские споры материалистов и идеалистов. «Если хочу доказывать то, что человек есть животное и что кроме того, что он ощущает, в жизни ничего нет, я могу; если хочу говорить о духе, начале, основах, об объекте и субъекте, о синтезе, о силе и материи, и, в особенности, так, чтобы никто ничего не мог понять, — говорит Толстой, очевидно, разумея ненавистную ему философию Гегеля, — я могу». Но вот ту книгу, — говорит Толстой, — «в которой я рассказывал, что́ я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России».
Он вспоминает, как один «опытный и умный старый редактор журнала» (речь идет, несомненно, о С. А. Юрьеве, редакторе журнала «Русская мысль», посетившем Толстого в Ясной Поляне в конце января 1881 года) просил у него сотрудничества, и Толстой предложил ему напечатать понравившееся ему начало его работы, т. е. «Исповедь». Редактор, подняв руки, воскликнул: «Батюшка! Да за это журнал мой сожгут, да и меня с ним».
«Я знаю, — продолжает Толстой, — что мысль, если она настоящая, не пропадет, и потому книгу я отложил; и знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда со дна моря выплывает; и труд мой, если в нем правда, не пропадет. Но пока это будет, — пишет далее Толстой, — мне кажется, что, сообщивши столько дребедени — и, боюсь, что вредной и соблазнительной дребедени42, — русским читателям, мне следует сообщить
- 25 -
им и тот мой новый взгляд на мир, который дали мне мои христианские убеждения».
Формой для изложения своего нового миросозерцания Толстой выбрал «записки, почти дневник» тех событий, которые совершаются в его «уединенной деревенской жизни». Он будет писать «только то, что было, ничего не прибавляя и не придумывая». И на другой день после этой записи, 9 апреля, Толстой начал новое произведение.
К нему пришел за подаянием мальчик, сын его бывшего кучера и бывшего солдата-артиллериста Ларивона, и Толстой рассказывает всю историю жизни этого Ларивона: какой это был молодцеватый, высокий парень, щеголь, расторопный, исправный, веселый, смелый, как он от Толстого перешел на службу к мировому судье, и тут с ним случилась беда.
Хозяин дал ему денег на овес для лошади, а он часть этих денег утаил и выпил на них. Хозяин об этом узнал. «Как поучить человека, чтоб он таких дел не делал? Прежде были розги, теперь суд. Мировой судья подал товарищу прошение. Мировой судья надел цепь, вызвал свидетелей, привел к присяге кого следует, предоставил право защите, встал и по приказу его императорского величества приговорил к меньшей мере наказания, пожалел человека, — с ядовитым сарказмом рассказывает Толстой, — на два месяца в острог в город Крапивну».
«Я был в этом остроге и знаю его, — пишет далее Толстой. — Знаю запах этого острога, знаю пухлые бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, пять, — сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили».
Когда Ларивон отбыл срок и вышел на волю, мировой судья опять взял его к себе в кучера. Но пребывание в тюрьме не прошло для Ларивона бесследно. Он стал пить, а на престольный праздник в деревне попал в драку и опять был присужден уже на один год и три месяца. По выходе из тюрьмы Ларивон попался в воровстве и вновь был посажен — теперь уже на три года. В тюрьме он и умер от чахотки.
Рассказав историю Ларивона, Толстой не прибавляет от себя ни слова, полагая, что история эта и без всяких пояснений совершенно ясно говорит в пользу евангельской заповеди — «не судите».
Примечательно, что Толстой, вспоминая то время, когда Ларивон служил у него кучером, а он занимал должность мирового
- 26 -
посредника, говорит: «Тогда я воображал, что освобождение крестьян есть очень важное дело, и я весь был поглощен им». В этих словах чувствуется, что когда Толстой писал их в 1881 году, он уже не приписывал освобождению крестьян от крепостной зависимости такого значения, какое он приписывал этой реформе за двадцать лет до того — в 1861 году, так как теперь он видел, в каком бедственном положении находятся русские крестьяне через двадцать лет после освобождения.
Впоследствии Толстой воспользовался историей жизни Ларивона в повести «Фальшивый купон», где Ларивон выведен под именем Прокофия.
Далее Толстой дает художественный портрет яснополянского крестьянина Константина Зябрева, прозванного Константин Белый, и его жены, описывает их нужду и болезни, рассказывает, как он вечером того же дня ходил к Константину и видел его ослабевшую жену и прогнившую избу.
Более тридцати лет тому назад Толстой (как Нехлюдов в «Утре помещика») обходил дворы принадлежавших ему крепостных крестьян Ясной Поляны; теперь он обходит дворы потомков тех крестьян, которыми он владел в эпоху крепостного права, и рисует, пожалуй, еще более мрачную картину их нищеты. Делает он это с той целью, чтобы напомнить богатым и пресыщенным о том, какой ценой покупаются их праздность и роскошь.
Находясь в том же душевном состоянии, в каком он незадолго до того написал свою «Исповедь», Толстой вспоминает, как пять лет тому назад (следовательно, в 1876 году) он видел Константина Белого, работающего на его земле во время сенокоса; и это воспоминание он освещает тем светом, какой делает этот отрывок вполне подходящим к общему тону и смыслу «Исповеди».
«Я ездил верхом на лошади, — пишет Толстой, — чтобы не запотеть и не устать, купать свое тело в реке, в нарочно устроенной для этого купальне, и возвращался домой. По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. И им не только не казалось странно отвезти ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, к[оторое] выростил бог и за которым они с своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней 15; но они даже с особенной радостью везли это сено, зная, что после этого им можно будет свезти и свое. И, судя по выражению их лиц и по тому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело».
- 27 -
На истории жизни Константина Зябрева было прервано новое, так живо и задушевно начатое художественное произведение Льва Толстого43.
Причины, по которым Толстой не продолжал «Записки христианина», нам неизвестны. Быть может, Толстого не удовлетворяла неизбежная при таком построении дробность тем, зависящая от встреч и разговоров автора; может быть, его смущала некоторая громоздкость изложения, приводящая к тому, что затемнялась основная цель, которую ставил перед собой автор — изложение основ его нового взгляда на жизнь.
VI
17 апреля 1881 года Толстой начинает дневник, который ведет в Ясной Поляне почти ежедневно вплоть до 4 сентября того же года44.
Основное содержание этого дневника составляют краткие записи о крестьянах, приходивших за материальной поддержкой, которую Толстой в то время в больших размерах оказывал нуждающимся. 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала сестре: «Левочка теперь ужас что денег всем бедным раздает». Впоследствии она писала в своей автобиографии: «Новое настроение Льва Николаевича проявлялось еще в том, что он вдруг начал раздавать много денег без разбора всем, кто просил. Пробовала я его убеждать, что нужно же как-нибудь регулировать эту раздачу, знать, кому и зачем даешь, а он упорно отговаривался изречением Евангелия: «просящему дай»45.
«Графиня Софья Андреевна, — писал в своих воспоминаниях. В. И. Алексеев, — боялась, что Лев Николаевич по своему бескорыстию, до которого он дошел, может раздать бедным все имущество. Она говорила: «Если бы я знала, что Лев Николаевич придет к такому выводу, то я за него замуж не вышла бы. А то я вышла за него замуж, народила детей, и вдруг теперь такое положение... Лев Николаевич говорит, что просящему надо дать, надо отказаться от собственности. Вот я просящая, пусть даст мне»46.
За помощью к Толстому приходили крестьяне Ясной Поляны и других ближних деревень, большей частью по нескольку человек в день. Толстой внимательно вслушивался в рассказ каждого просителя, стараясь определить степень его нужды. Бывали случаи, когда нужда указывалась просителем ложно; были
- 28 -
случаи, когда прохожие по шоссе, услыхав, что в Ясной Поляне всех «оделяют», сворачивали с своего пути и заходили за подаянием; но в подавляющем большинстве случаев приходили те, у кого была действительная вопиющая нужда.
В своем дневнике Толстой не просто регистрирует приходящих к нему бедняков; он дает еще краткую характеристику их внешности, описание их нужды и во многих случаях сообщает подробности своих разговоров с ними. Это заставляет думать, что Толстой не исключал возможности когда-нибудь в будущем воспользоваться этими записями как материалом для художественного произведения.
Вот несколько примеров сделанных Толстым в его дневнике характеристик крестьян, обращавшихся к нему за материальной помощью. «Щекинская вдова с двумя детьми, жалкая, оборванная, мутноглазая» (12 мая). «Дочь молочной сестры, умильная, маленькая. Ни хлеба, ни избы» (29 мая). «Щекинский мужик, жестокий, резкий, откровенный, низенький» (19 апреля). «Грязной Терентий из Бабурина. Маленький, раздвоенная борода, беззубая добрая улыбка» (6 мая). «Солдат оборванный. Одинокий, веселый. Что заработаю, то пропью. И не могу. Нельзя. Пропью» (1 мая).
Или более пространная запись: «Дмитрий Кузьмин Чугунов приполз во второй раз. Ноги засохли. Как насекомое, ползает на руках. Бритый, с усами, неприятный... Три года, как отсохли ноги (с глазу, на камне) ... Кормиться — проползает по миру... Шел из Коровников четыре дня. Ночевал два раза в поле. Прополз через пар целиком за деревней от собак. Огорчен и озлоблен. Энергия страшная» (24 мая).
Иногда Толстой, записывая о бедственном положении приходящих к нему за помощью, невольно вносил в свои записи художественные подробности, как например: «Чурюкина старуха приемыш. Слезы капают на пыль» (18 мая). И в другой записи: «Женщина с девочкой. Ягодненская. Больной глаз, плачет... Слезы льются на камень» (7 июля).
Во всем дневнике нет ни одного указания на то, чтобы Толстой что-нибудь писал в весенние, летние и осенние месяцы этого года. Все его время и все силы уходили на внутреннюю работу и общение с людьми.
Как записал Толстой в дневнике 3 июля, в то время он ставил перед собой три главные задачи: «просвещение, исправление и соединение». «Просвещение, — пишет Толстой, — я могу направлять на других. Исправление — на себя. Соединение — с просвещенными и исправляющимися». Под «просвещением» Толстой разумел здесь, конечно, проповедь христианского учения, как он его понимал. Эту проповедь Толстой направлял прежде всего на своих семейных, но здесь он не имел никакого успеха.
- 29 -
28 и 29 мая в Ясной Поляне был Фет. Толстой начал с ним разговор о христианстве; в разговор вступила и Софья Андреевна. И она и Фет утверждали, что христианское учение неисполнимо. Далее по записи Толстого в дневнике разговор продолжался так.
Толстой: Так оно [христианское учение] глупости?
Фет и Софья Андреевна: Нет, но неисполнимо.
Толстой: Да вы пробовали исполнять?
Фет и С. А. Толстая: Нет, но неисполнимо.
Учитель детей Толстых И. М. Ивакин, живший у них в 1880—1885 годах, в своих воспоминаниях рассказывает, что когда за утренним кофе родители сходились с детьми, часто «поднимались споры — графиня противоречила, он [Толстой] возражал». Ивакин оговаривается, что хотя «графиня больше не соглашалась, бывало, постоянно спорила», но «уважение к тому, с чем она не соглашалась, было и в ней»47.
Когда Толстой однажды заговорил со старшим сыном о своих религиозных убеждениях, то услышал от него такие замечания: «Я не знаю этого», «Это нельзя доказать», «Это мне не нужно» (28 июня).
«С этого времени начались мои несчастные споры с отцом», — писал впоследствии С. Л. Толстой48.
В другой раз на слова Толстого о том, что исполнение закона добра дает людям благо, и старший сын, и старшая дочь, и учитель И. М. Ивакин возражали ему, что «добро условно». «То есть нет добра, одни инстинкты», — доводит Толстой до логического конца возражения своих собеседников (21 мая).
Никакого успеха не имела и попытка Толстого привлечь на сторону своих взглядов любимую свояченицу, Т. А. Кузминскую. 11 июля Толстой, как записал он в дневнике, всю ночь до самого утра говорил с ней о правильном воспитании детей. Свою запись в дневнике об этом разговоре он заканчивает страшными словами: «Они не люди».
Пробовал Толстой внушать христианские идеи и некоторым гостям, приезжавшим в Ясную Поляну, но и тут почва, на которую он высевал свои семена, оказывалась каменистой.
21 июня в Ясную Поляну приехал профессор русской истории в Петербургском университете К. Н. Бестужев-Рюмин (которого
- 30 -
Толстой просил передать свое письмо Александру III). Толстой заговорил с ним «о вере, об убийстве на войне», о том, что убийство на войне, как и всякое убийство, запрещено христианским учением. Бестужев-Рюмин стал возражать, и Толстой, который раньше знал его как «доброго» человека, увидел в нем теперь «профессора-чиновника, писателя-славянофила, и — воспоминание о человеке».
Более успешно протекала проповедь Толстого среди крестьян, приходивших к нему за материальной помощью, и среди прохожих, которых он встречал на Киевском шоссе.
Несколько своих разговоров с крестьянами и прохожими Толстой записал в дневнике, причем он обычно слова своих собеседников записывал более подробно, чем свои; о смысле его слов поэтому приходится только догадываться.
Приведу несколько примеров.
С «головенковским кривым стариком», просившим семь рублей «на лошадь», Толстой беседовал о том, что главное — «не обижать людей, бога помнить». Старик «понял» (25 апреля).
На прогулке Толстой встретил «молодого умного» рабочего с Ижевского завода, по-видимому, ходившего в Киев к «мощам святых угодников». Толстой говорил ему, что нет никаких мощей, что все это — обман. Рабочий отвечал, что он и сам искал по монастырям открытых мощей, но нигде не нашел. Толстой продолжал, что надо не мощей искать, а в своей жизни исполнять евангельские заповеди. Рабочий отвечал: «Я понимаю, что не сердиться, не браниться, стерпеть» (14 мая).
Повстречался Толстой на шоссе с плотником из Одоевского уезда Тульской губернии. Разговор как-то зашел о принудительном переселении крестьян в имении одоевского помещика Красовского Бабошино. Помещик приказывал своим временнообязанным крестьянам переселиться из села Бабошина в другое его имение; крестьяне отказались, так как земля там была неудобна ни для земледелия, ни для скотоводства (не было воды). Помещик подал на них в суд. Суд принял его сторону и постановил сломать избы тех крестьян, которые добровольно не согласятся на переселение. Мужики не соглашались. Тогда «согнали с четырех волостей 700 мужиков с топорами, ломами, вилами и велели ломать... Расставили по слободам, принялись ломать: кто крышу рвет, стропила, косяки, окна косят, печи ломают... Как начали ломать, сами взялись, чтобы не дуром ломали». При этом разгроме деревень присутствовали уездный член Тульского губернского правления, исправник, становой, урядники. «Пуще всех урядники — так и снуют — «ломай!» И старшины».
Слушая рассказ плотника, Толстой заметил ему, что грешно было так поступать, на что плотник возразил: «Что ж делать, велят. Не станешь — прибьют». Но Толстой, страстно желавший
- 31 -
пострадать за свои убеждения, отвечал ему: «Пускай прибьют; на них, а не на тебе грех будет. Бог велел терпеть». — «Оно так, — согласился плотник. — Я, положим, не ломал» (8 июня)49.
Иногда впрочем и в народной среде проповедь Толстого не воспринималась. Так, одному молодому страннику Толстой сказал, что ходить по святым местам не нужно. Странник «обиделся» (24 мая).
В другой раз к Толстому пришел старый солдат-кантонист. Толстой стал расспрашивать его о прежней службе и, очевидно, задал вопрос, не приходилось ли ему убивать людей, на что получил ужаснувший его ответ: «бог привел двух расстрелять». Толстой, по-видимому, стал внушать своему собеседнику, что убийство — великий грех, запрещенный в Евангелии. Но солдат возразил: «Значит, закон есть. Прежде засекали насмерть, а теперь нельзя. Такой закон нашли» (1 мая). Несомненно, Толстой, услышав страшные слова кантониста, продолжал свое увещание.
К Толстому пришли два крестьянина из ближней деревни за советом. Он говорил им, что «обидчиков простить надо», и прочел из Евангелия наставление: «кто хочет взять у тебя рубаху, отдай ему и верхнюю одежду». Один из крестьян засмеялся и сказал: «Да что ж, это разве насмех сказано?» Толстой стал объяснять ему смысл прочитанного им изречения и закончил словами: «Ну, так и надо делать» (1 июля). Отголоски этих разговоров будут слышны в романе «Воскресение».
Так осуществлял Толстой «просвещение» среди тех людей, с которыми ему приходилось встречаться; в этом он видел теперь одну из главных задач своей жизни.
Что касается «исправления» себя, то эту цель Толстой ставил перед собой еще со времен своей юности. Подобно тому как за тридцать лет до этого, в дневнике 1851 года, Толстой обличал себя в разных отступлениях от своих жизненных задач, то же самое делает он и теперь. То он после того, как «нажрался простокваши», «хотел отделаться» от просителей, то был «уныл и гадок» и «злился» на двух других просителей (24 мая, 5 июня), то вследствие болезни (и это не прощается) испытывал «слабость, лень и грусть» (3 июля). Записывает Толстой для себя наставление о том, как следует вести себя во время болезни. «...Больнешенек, — пишет он 27 июня, — не спал и не ел сухого шесть суток. Старался чувствовать себя счастливым. Трудно, но можно. Познал движение к этому».
- 32 -
Труднее всего для Толстого было выработать в себе спокойное отношение к неприятию близкими людьми его нового миросозерцания.
18 мая он записывает: «Утром Сережа вывел меня из себя, и Соня напала непонятно и жестоко». На другой день, 19 мая: «При разговорах, вызывающих злобу, надо уходить». Затем 22 июня: «Соня сердится. Я снес легко». 11 июля: «Соня в припадке. Я перенес лучше, но еще плохо. Надо понимать, что ей дурно, и жалеть, но нельзя не отворачиваться от зла».
Здесь Толстой в первый раз записал для себя ту программу отношений с женой, которой он придерживался во всю свою дальнейшую жизнь.
Контраст между обеспеченной жизнью семьи и нищетой народа продолжал непрерывно мучить Толстого. 28 июня он отмечает, что в доме по случаю дня рождения старшего сына «обед огромный, с шампанским. Тани [дочь Татьяна Львовна и свояченица Татьяна Андреевна] наряжены. Пояса пятирублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».
Он тревожится за будущее своих детей, воспитываемых в условиях барства, и сравнивает в своем воображении будущий образ жизни своей старшей дочери с образом жизни Лизы, дочери учителя его детей В. И. Алексеева, воспитываемой в труде. Ему рисуется «нравственность будущей жизни Лизы и безнравственность [будущей] жизни Тани» (31 мая).
Трудно было Толстому осуществлять третью поставленную им перед собой задачу — «соединяться с просвещенными и исправляющимися», потому что в то время он почти не находил кругом себя людей, подходящих для «соединения». По-видимому, ближе всех ему был в то время учитель его детей В. И. Алексеев, с которым он мог делиться своими самыми заветными мыслями и чувствами, затем Л. Д. Урусов и менее — Н. Н. Страхов, — с ним уже наметились расхождения.
В. И. Алексеев 2 июня 1881 года покинул Ясную Поляну вследствие неприязненного отношения к нему С. А. Толстой за его сочувствие новому миросозерцанию Толстого.
«Мне было очень жаль расставаться с Львом Николаевичем, — пишет В. И. Алексеев в своих воспоминаниях, — который вложил в мою душу так много драгоценного, имевшего громадное влияние на всю мою жизнь»50.
- 33 -
VII
19 апреля Толстой делает в дневнике без всяких пояснений следующую короткую запись: «Газеты. Поселяне, трудитесь, воздерживайтесь, покоряйтесь начальству». Это он сделал свое резюме некоторой части «Послания святейшего синода» от 5 апреля 1881 года, предназначенного для прочтения во всех церквах «при возможно большем стечении богомольцев».
Из этого обширного послания Толстого заинтересовала та его часть, которая относилась к многомиллионному русскому трудовому крестьянству. В послании было сказано: «И вы, народ христианский, поселяне, призванные в свободу милосердием благодетеля нашего, в бозе почившего государя императора Александра Николаевича!.. Храните отеческую веру православную и добрые нравы в себе и детях ваших. Возлюбите труд и воздержание. Повинуйтесь по закону предержащим властям не токмо за страх, но и за совесть»51.
Таким образом, послание не сулило трудовому крестьянству никакого ослабления его непосильного труда и никакого улучшения его положения. Высшие иерархи православной церкви, твердо уверенные в прочности выгодного для них существующего общественно-политического строя, основанного на рабстве трудового народа, были уверены, что порабощение это будет продолжаться вечно.
Иначе смотрел на это Толстой. Он твердо знал, что порабощенное состояние рабочего народа не вечно и что должен наступить крутой поворот в жизни русского народа.
Ежедневно наблюдая народную нужду и нищету (сколько раз приходилось ему слышать от ожидавших от него помощи крестьян — мужчин и женщин, что они «два дня не ели», а один мальчик не ел даже четыре дня), Толстой приходит к решительному выводу:
«Революция экономическая не то что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет» (6 июля).
Этот свой вывод Толстой спешит сообщить — для их «просвещения» — гостящему у него прокурору А. М. Кузминскому, учителю его детей И. М. Ивакину и бывшему их учителю, ненадолго заехавшему в Ясную Поляну В. И. Алексееву.
VIII
12 и 14 мая 1881 года Толстой побывал в тульской тюрьме. Там он видел опухшие лица арестантов, во всех помещениях чувствовал «ужасную вонь».
- 34 -
Узнал Толстой, что шестнадцать калужских мужиков второй месяц сидят в Туле за бесписьменность (то есть за то, что у них не было паспортов). Их следовало бы по закону отправить в Калугу, а затем на место жительства, но их не отправляют под тем предлогом, что «в калужском замке завозно».
Беседовал Толстой со смотрителем тюрьмы, которому говорил о каком-то арестанте, что он ни в чем не виновен. Смотритель не поверил и сказал, что это редко бывает. Во все продолжение разговора у смотрителя с лица не сходила насмешливая, саркастическая улыбка.
Обратил внимание Толстой на то, что в подследственном отделении арестованные делятся с товарищами тем, что им приносят из дома.
Общее впечатление Толстого от разговоров с арестантами: «Есть развращенные, есть простые, милые»52.
В мае 1881 года Толстому пришлось более подробно высказать свой взгляд на существующий общественно-политический строй. Поводом послужили статьи Н. Н. Страхова «Письма о нигилизме», напечатанные в славянофильской газете И. С. Аксакова «Русь»53.
О происхождении этих статей Н. Н. Страхов 25 мая писал Толстому: «[Эта] тема меня увлекла. Этот мир я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в университет. Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский люд, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их расцвет, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и чувств — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, мое отвращение все усиливается и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, только это действует, только это может надеяться на будущность, а все другое глохнет и чахнет»54.
Первые два «Письма о нигилизме» Н. Н. Страхова вполне обнаружили консерватизм его общественно-политических взглядов и его полную неспособность понять причины, вызывавшие революционное движение.
Основные мысли, выраженные Страховым в первом и втором «Письмах о нигилизме», сводятся к следующему.
- 35 -
«Злодейства, потрясающие наше царство, могут происходить... разве от врагов русской земли, ненавидящих ее могущество». Виной этих злодейств может быть «польский фанатизм и может быть ярость обезумевших хохломанов». «Только для врагов России могут быть выгодны эти потрясения; а кто не враг России, тот может их делать только из чистого желания зла и из жажды разрушения для разрушения».
«Никак нельзя сказать, чтобы мудрость, исповедуемая этими мудрецами, представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большей частью это грубейший и бестолковейший материализм, учение столь простое, так мало требующее ума и дающее пищу уму, что оно доступно самым неразвитым и несведущим людям».
Сущность нигилизма Страхов видит в следующем.
«Нигилизм есть движение, которое, в сущности, ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения». «Нигилизм это грех нечеловеческой гордости..., чудовищное извращение души, при котором злодеяние является добродетелью, кровопролитие — благодеянием, разрушение — лучшим залогом жизни... Это — безумие соблазнительное и глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем страстям человека, позволяет ему быть зверем и считать себя святым». «Они... возбуждают свое нравственное чувство не к положительным стремлениям, а к ненависти». «Они потому сделали своим орудием зло, что неспособны произвести ничего доброго». «Величайшие душевные гадости могут уживаться с нигилизмом; для совершения того, что они считают своими геройскими подвигами, часто достаточно одной тупости, и во всяком случае требуется только звериная хитрость и ненасытное злорадство. Истинно благородная душа должна чувствовать к делам этого рода глубокое отвращение». «Нет людей более самодовольных, более удовлетворенных умственно и нравственно... Самолюбие, зависть, бездарность, дурное сердце — вот часто дорога к нигилизму. Нигилизм не имеет в себе ничего против этих недостатков, напротив — дает им пищу и приют».
«Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием всё думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье; а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и к такому огню, каких мы еще не видели».
Разумеется, Толстой никак не мог согласиться с той характеристикой нигилизма, какую давал Страхов в своих «Письмах». Выше уже были приведены выдержки из письма Толстого к Александру III, где он указывал царю на те причины, которые порождали революционеров. Характерный факт передает в своих воспоминаниях учитель детей Толстого И. М. Ивакин. В самый первый день его приезда в Ясную Поляну он завел с Толстым
- 36 -
разговор о нигилистах, причем высказал мнение, что у нигилистов, по народной поговорке, на рубль амбиции и на грош амуниции. Но Толстой, по словам Ивакина, отнесся к этому его мнению «как-то недоверчиво»55.
В письме к Страхову от 5 мая Толстой откровенно писал: «Мне не понравились ни первая, ни вторая статья». Объяснение причин, почему не понравились ему обе статьи Страхова, Толстой отложил до личного свидания»56.
Но в следующем письме к Страхову от 28 мая Толстой коротко указал причины своего недовольства его первыми двумя «Письмами о нигилизме»:
«В первой статье вы поставили вопрос так: среди благоустроенного, хорошего общества явились какие-то злодеи, двадцать лет гонялись за добрым царем и убили его. Что это за злодеи? И вы выставляете все недостатки этих злодеев во второй статье». Толстой находит, что Страховым «вопрос поставлен неправильно. Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал». Эту борьбу надо рассмотреть с нравственной точки зрения; надо решить, «какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины, а забывать про борьбу нельзя».
Второй ошибкой статей Страхова Толстой считает то, что в них не намечается «твердая и ясная основа, с высоты которой обсуживается предмет». Основой своих рассуждений Страхов выставляет понятие «народ». Но «что такое народ, народность, народное мировоззрение?» — спрашивает Толстой и отвечает на этот вопрос: это не что иное, как мнение того или другого писателя с прибавлением его предположения о том, что это его мнение «разделяется большинством русских людей».
Толстой берет в пример И. С. Аксакова, который «наивно уверен, что самодержавие и православие — это идеалы народа». «Он и не замечает того, — продолжает Толстой, — что самодержавие известного характера есть не что иное, как известная форма, совершенно внешняя, в которой действительно в недолгий промежуток времени жил русский народ. Но каким образом, — спрашивает Толстой, — форма, да еще скверная, да еще явно обличившая свою несостоятельность, может быть идеалом — это надо у него спросить». То же и с православием. «Каким образом внешняя религиозная форма греко-российско-иосифлянских догматов вероисповедания — и уже очень несостоятельная и очень скверная может быть идеалом народа? — это надо у него спросить». Третий член славянофильской формулы Аксакова — народность — «уже ничего не значит».
- 37 -
Толстой признает существование народных идеалов, но, — говорит он, — признавая их, «надо сказать ясно и определенно, в чем я полагаю, что они состоят, и высказать действительно нравственные идеалы, а не блины на масленице или православие, и не мурмолку или самодержавие»57.
Третье «Письмо о нигилизме» Н. Н. Страхова проникнуто совсем иным отношением к нигилистам, чем два первые. Здесь даже не употребляется слово «нигилист»; оно заменено словом «революционер». Теперь источник нигилизма Страхов видит вовсе не в злодейских качествах нигилистов; он говорит:
«Политическое волнение, постепенно охватывающее Европу, вносится в нее главным образом высшими классами, людьми не страдающими, а наиболее пользующимися общими благами нынешнего могущественного государственного устройства, но ищущими какого-нибудь исхода для пустоты своей совести, чувствующими, что нельзя жить, не имея служения, не подчиняясь каким-либо совершенно бескорыстным требованиям...
Самые крайние и требовательные приходят наконец к отречению от своего класса, от выгод своего положения — и вот самый чистый из источников социализма. Социалистические учения и порождены и поддерживаются не столько теми классами, интерес которых составляет их цель, сколько людьми, для которых этот интерес стал идеальной потребностью. Сен-Симон был граф, Оуэн — фабрикант, а Фурье — купец...
Что же касается до прямых революционеров и анархистов, то весь склад их жизни ясно указывает, чем питают они свою совесть. Их нравственный разрыв с обществом, с греховным миром, жизнь отщепенцев, тайные сходки, связи, основанные на отвлеченных чувствах и началах, опасность и перспектива самопожертвования — все это черты, в которых может искать себе удовлетворение извращенное религиозное чувство.
Нельзя вообще не видеть, что политическое честолюбие, служение общему благу заняло в наше время то место, которое осталось пустым в человеческих душах, когда из них исчезли религиозные стремления... Быть общественным деятелем — вот одна цель, достижение которой может сколько-нибудь удовлетворить современного человека.
Вот мы отвергли религию, мы с торжеством и гневом преследуем каждое ее обнаружение. Но ведь душу, раз приобщившуюся этому началу, уже поворотить назад нельзя; мы откинули религию, но религиозность мы откинуть не могли. И вот люди, видящие все идеалы в земных благах, стремятся к отрицанию этих благ, к самоотвержению, к подвижничеству, к самопожертвованию».
- 38 -
Автор осуждает политическую деятельность с нравственной точки зрения.
«Политическая деятельность, — пишет он, — если мы возьмем все ее виды, дает и вообще большой простор страстям человека: тут есть место и для вражды, и для гордости, и для честолюбия. Но, кроме того, в этой деятельности есть, очевидно, неудержимый наклон к лжи и преступлению... В политической сфере, как скоро она поставила себя выше всех других сфер человеческой жизни, ничто не может препятствовать выводу, что успех все оправдывает, что для него, как для высшего блага, все средства позволительны».
Третье «Письмо о нигилизме» Страхова заканчивается словами: «Рано или поздно люди принуждены будут вернуться к реальным началам человеческой жизни, забытым и глохнущим среди нашего прогресса и просвещения».
В последнем, четвертом «Письме» Н. Н. Страхова уже совершенно не упоминаются ни нигилисты, ни революционеры. В нем говорится только об отсутствии определенных нравственных начал в современном обществе.
«Современное нравственное состояние людей, — пишет здесь Страхов, — должно бы нам являться темным и низменным в сравнении с тем высоким идеалом добра, чистого подвига, сияющей душевной красоты, который внушается нам с детства. Во всех ходячих правилах нравственности есть... тайное, подразумеваемое разрешение на чувства и стремления вполне безнравственные...
Наша жизнь держится пока старою нравственностью, бессознательно живущею в душах; поэтому в жизни частных людей еще много хорошего, много добрых нравов; но там, где дело становится сознательным — в публичной жизни, в литературе, отражающей в себе сознательный смысл понятий общества, наша нравственность обнаруживается в таких чертах, которые с совершенно строгой точки зрения нужно признать отвратительными...
Наш век, кажется, так богат ненавистью, как никакой другой... Например, чувство национальности, это высокое и сладкое чувство не имеет характера любви, составляющего его сущность, а обращено почти исключительно в повод раздора и злобы... Может быть, недолго ждать, когда, например, Франция и Германия вооружат по нынешней системе военной службы всех, кто способен носить оружие, и пойдут не войной, а нашествием друг на друга».
Страхов заканчивает свою статью цитатой из речи Виктора Гюго, произнесенной им в 1878 году на Международном литературном конгрессе.
«У человечества, — сказал знаменитый французский писатель, — есть болезнь — ненависть. Ненависть — мать войны;
- 39 -
мать гнусна, даже ужасна. Воздадим же им ударом за удар. Ненавистью к ненависти! Война против войны! Любите! Легче обезоружить своего врага, протянув ему руку, чем показав кулак... У меня... есть мысль, которой я одержим, именно вот какая: разрушим ненависть! Если человеческие писания имеют какую-нибудь цель, то именно эту».
Прочитав два последние «Письма» Страхова, Толстой 28 мая писал ему, что обе эти статьи ему «очень понравились», и понравились именно тем, что «они отрицают первые».
«В последней статье, — писал Толстой, — вы судите с высоты христианской, и как только вы стали на эту точку зрения, то выходит совсем обратное тому, что было в первых статьях. То были злодеи, а то явились те же злодеи единственными верующими и жертвующими жизнью плотской для небесного, т. е. бесконечного».
Но Страхов, получив письмо Толстого, в ответном письме, которое Толстой получил 1 июня, вдруг начал опять защищать ту точку зрения на нигилистов, которую он развивал в двух своих первых статьях. Это письмо Страхова не сохранилось, но в своем дневнике Толстой записал 1 июня: «Письмо от Страхова: не хочу о борьбе и убеждениях. А сам судит». И в своем ответе Страхову, написанном, быть может, в день получения его письма58, Толстой так передает точку зрения Страхова, выраженную в его не дошедшем до нас письме: «Я не хочу слышать ни о какой борьбе, ни о каких убеждениях, если они приводят к этому».
Возражая Страхову, Толстой излагает свою точку зрения на природу человека. Он говорит, что человек по природе своей всегда добр «и если он делает дурно, то надобно искать источник зла в соблазнах, вовлекших его в зло, а не в дурных свойствах — гордости, невежестве», как это делает Страхов по отношению к тем, кого он называет нигилистами. И Толстой указывает «соблазны, вовлекшие революционеров в убийство». Он говорит: «Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей — не отговорки, а настоящий источник соблазна».
Письмо Толстого было написано «сгоряча», как писал он Страхову в следующем письме в июле того же года. Но видя, что в своей переписке со Страховым он «упирается в тупик», т. е. что Страхов не воспринимает его точку зрения и упорно стоит на своем, Толстой, продолжая дорожить общением со Страховым как с близким человеком, не отправил это письмо по назначению, и оно осталось в его архиве.
- 40 -
IX
10 июня 1881 года Толстой отправился пешком из Ясной Поляны в монастырь Оптину пустынь. Сопровождали его яснополянский учитель Д. Ф. Виноградов и слуга Толстых С. П. Арбузов. Арбузов впоследствии написал интересные (хотя и не всегда достоверные) воспоминания о своем путешествии вместе с «графом»59.
Цель путешествия Толстого была совсем не та, какую он ставил перед собой, когда в первый раз ездил в Оптину пустынь в 1877 году. Тогда, в пору своих религиозных исканий, он ехал в Оптину пустынь для того, чтобы побеседовать со «старцами» о религиозных вопросах; теперь он уже не искал разрешения мучивишх его сомнений в учении православной церкви. Теперь он имел в виду поговорить о вере с руководителями Оптиной пустыни уже не как приверженец, а как критик церковного учения.
Главная цель, ради которой Толстой предпринял это путешествие, состояла в том, чтобы выйти хоть на время из барских условий жизни, подышать народным, трудовым, свежим, здоровым воздухом.
Чтобы встречные не признали в нем барина, Толстой оделся в простую одежду — белый кафтан и такую же блузу; на ноги надел лапти. У каждого путника за плечами была котомка с сухарями и разными нужными для дороги вещами; у Толстого был холщевый мешок, сшитый ему Софьей Андреевной.
Вышли из дома в 11 часов утра. Толстой советовал своим спутникам первый день идти тише, а второй — быстрее.
Дорогой Толстой наблюдал работающий народ и заговаривал с прохожими. Один крестьянин жаловался ему, что земли мало: «Кормиться нечем, бьешься, и нанять негде»60.
Дойдя до деревни Воздремо, в десяти верстах от Ясной Поляны, путники уселись на земле у колодца и поели сухарей, запивая их колодезной водицей. Ночевали в селе Селиванове, в избе бывшего старшины. Хозяйка принесла им молока и яиц и поставила самовар; для ночлега постелила соломы в сенях. Ночью Толстой почти не спал и слушал далеких коростелей и близких перепелов.
На другой день встали с рассветом и в четвертом часу утра тронулись в путь. «Приятно идти утром, — сказал Толстой, — как легко дышится».
Вскоре дошли до уездного города Крапивны (28 верст от Ясной Поляны). В Крапивне остановились на постоялом дворе,
- 41 -
напились чаю, пообедали квасом с рыбой, яйцами и молоком, отдохнули и в три часа отправились дальше.
Стоявший в соседнем номере незнакомый еврей уговаривал полового донести полиции, что пришли двое неизвестных в лаптях. «Так-то в Киеве в лапти обувались, а что наделали?» (он рузумел еврейский погром весной того же года). Но речь этого «блюстителя порядка», как назвал его Толстой в дневнике, успеха не имела.
Из Крапивны Толстой в тот же день писал жене, что он дошел хуже, чем ожидал, и натер мозоли; поэтому вместо лаптей надел чуни пеньковые, в которых будет «легче идти». Далее Толстой сообщал, что он очень доволен своим путешествием. «Нельзя себе представить, — писал он, — до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живет мир божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света... Главное новое чувство — это сознавать себя и перед собой, и перед другими только тем, что я есмь, а не тем, чем я вместе с своей обстановкой»61.
12-го и 13-го продолжали путь; ночевали у крестьян, а последнюю ночь — у столяра. В селе Рождество остановились у женщины, которая напомнила Толстому былинный образ «честной вдовы Амелфы Тимофеевны». В дневнике Толстой характеризовал эту женщину словами: «Широкая, быстрая, твердая, мелкозубая, приветливая. Была дворовая, выдана за мужика».
Толстого поразила бедность крестьян в окрестных деревнях. «Удивляешься, как они живы», — записал он в дневнике.
В деревне Мананки заходили к священнику Владимиру Акимовичу, которого Толстой знал, когда был учителем в яснополянской школе. У него застали другого священника, и Толстой не упустил случая поговорить об истинном понимании христианского учения.
В Мананках Толстой побывал на собрании раскольников, но собрание это оказалось для него «менее интересно», чем он ожидал.
14 июня вышли до зари и пришли в Оптину пустынь к вечерней трапезе.
«Нас не пустили в чистую столовую, — рассказывает Арбузов, — а посадили ужинать с нищими. Я посмотрел на графа, но он нисколько не гнушался своими соседями, кушал с удовольствием и пил квас, который ему очень понравился». В дневнике Толстой так рассказывает о своем обеде в монастырской трапезной: «Я сел, немой... с мычаньем притянул к себе. Борщ, каша, квас. Из одной чашки 4. Все вкусно. Едят жадно».
- 42 -
«Лев Николаевич был в синей мужицкой рубахе, поддевке и лаптях, и его принимали с обычным презрением к простолюдину. Даже лакей Сергей, который был в шляпе-котелке, пользовался бо́льшим уважением»62.
Толстой обратился к монаху, обслуживающему столовую, с вопросом, как ему получить номер, на что «сердитый» монах отвечал ему: «Здесь странноприимный дом. Вот здесь и спи». На какой-то другой вопрос Толстого монах грубо крикнул ему: «Ты нажрался, а я не ел».
Толстой с Арбузовым отправился по монастырским гостиницам отыскивать свободный номер, но из-за их костюмов везде они получали, как записал Толстой в дневнике, «отказ с ложью». «И господам не даем», — говорили им монахи-гостинники. Наконец, Арбузов, видя безуспешность попыток обычным путем получить номер, обратился к монаху, заведующему одной из гостиниц: «Батюшка, вот вам рубль, только дайте нам номер». Монах сейчас же повел их в один из номеров, где был свободный диван, половина номера была уже занята орловским сапожником.
Утром на другой день Толстой пошел посмотреть, как монахи работают — пашут, косят, занимаются ремеслами. Он расспрашивал богомольцев, о чем они желали побеседовать со старцем Амвросием. Оказалось, что ни у кого из них не было религиозно-нравственных вопросов; все желали получить от старца ответы или прорицания по самым обычным житейским делам: «постройку затеваю — будет ли польза?», «открыть ли торговлю — кабаки?», «выйдет ли дочь замуж?», «жить ли с деверем?».
Толстой зашел в монастырскую книжную лавку и увидел там женщину, которая просила монаха продавца выбрать ей книжечку для ее грамотного сына. «Дайте ей Евангелие», — сказал Толстой монаху. Но монах ответил: «Это им не идет» — и предложил женщине «молитву кающегося грешника». Толстой купил у монаха Евангелие и отдал его женщине.
Зашел Толстой в женское отделение гостиницы, где услышал, как монах кричал на душевнобольную женщину: «Я тебя свяжу, дрянь!». «Ни искры жалости у монаха», — записал Толстой в дневнике.
Толстой вернулся «домой» — так он называл в дневнике номер гостиницы, в котором остановился. Вскоре пришел его сосед по номеру — сапожник. Пришел он «заложивши» и начал бранить монахов, которые с ним грубо обошлись. «Шел, шел, думал благодать найти, а они ругают. Так меня оскорбил, что будь тут, я бы ему морду разбил».
- 43 -
Среди монахов оказался один бывший яснополянский крестьянин; он узнал Толстого и рассказал монахам, что в монастырь приехал граф Толстой. Настоятель Ювеналий послал монахов его разыскивать и просить пожаловать к нему. Два монаха явились к Толстому в номер и, кланяясь и называя его «ваше сиятельство», от имени настоятеля и старца Амвросия просили его перейти в первоклассную гостиницу, где, по словам Арбузова, все было обито бархатом.
Как ни отказывался Толстой, монахи так упорно упрашивали его, что ему пришлось согласиться. Арбузов пожелал остаться в прежнем номере. Распивая чай с сапожником, он рассказывал ему про «графа». «Сапожник, — пишет Арбузов, — был крайне удивлен, что граф не побрезговал быть в трапезной за столом с нищими, а потом ночевать в гостинице третьего разряда, где по стенам и на диване попадается немало клопов». С настоятелем Ювеналием Толстой начал разговор о том, как церковь извратила учение Христа, признавая власти, суды, казни, войны. Ювеналий отстаивал святость церкви.
Впоследствии Толстой так вспоминал о своей беседе с Ювеналием: «Сидим мы в келье настоятеля в креслах, разговариваем о христианстве, а за окном пильщики продольной пилой распиливают бревна на доски. Один наверху на бревнах, другой внизу под бревнами, и все время пилят, пилят, пилят.
— Вот это христиане настоящие, а не мы с вами, разговаривающие о христианстве, сидя в удобных креслах, — сказал Лев Николаевич настоятелю, указывая на пильщиков»63.
От настоятеля Толстой отправился к старцу Амвросию, у которого провел два часа, и у Амвросия опять начал разговор об искажении церковью учения Христа. Когда заговорили о казни террористов, убивших Александра II, и вспомнили Рысакова, который бросил первую бомбу под карету Александра II, не причинившую царю вреда, и затем в тюрьме, чтобы спасти свою жизнь, выдал всех своих сообщников, Амвросий назвал Рысакова «благоразумным злодеем». О будущей жизни Амвросий говорил, что в раю между святыми будет такое же различие в чинах, как и в здешней жизни; как здесь генералы, полковники, поручики, так и там будет.
«Амвросий, — записал Толстой в дневнике, — занят тем чином, который он заслуживает [в раю], и верит болезненно, бедный... Ему кажется, что чины — что-то натуральное, с чем можно сравнивать».
И Ювеналия и Амвросия Толстой уличил в незнании евангельских текстов, на которых церковь, искажая эти тексты, основывает догматы и свое право прощать грехи.
- 44 -
Бедно одетые богомольцы рассказывали Арбузову, что они по пять-шесть дней ожидают, чтобы получить «благоеловение» от отца Амвросия, а о богатых купцах из Москвы, Петербурга, Воронежа и других городов келейник сейчас же докладывает «старцу», и тет немедленно принимает их.
16 июня после обеда Толстой с Арбузовым направились в обратный путь через Калугу. Дорогой Толстой опять вступал в разговоры с прохожими.
Какой-то крестьянин (словно кухарка из «Плодов просвещения») рассказывал Толстому о времяпрепровождении господ: «Погляжу, наши господа встанут в обед, запрягай кататься, и пойдет кутерьма до разсвета. А наш брат работает, наложил бы, лошадь не везет».
Видит Толстой мужика, ехавшего сеять и присевшего на полосу, чтобы дать отдохнуть лошади. Толстой присел около него. Мужик жаловался на нужду: «Работаешь, работаешь, не разгибаясь, придешь домой — есть нечего».
Увидав молоденькую девушку, пашущую поле, Толстой обратился к ней с обычным в то время приветствием: «Бог помощь, девушка!»; та отвечает: «Спаси Христос, дедушка». И затевается разговор: «Много ль тебе лет, девушка?» — «Пятнадцать». — «Давно уже пашешь?» — «Третье лето».
Где-то в пути Толстой встретился с партией отправляемых в Сибирь (или работающих) каторжников, закованных в кандалы. По-видимому, он заговорил с конвойными солдатами о том, что нельзя заковывать людей в кандалы, что Христос велел любить людей, а не мучить их, на что один из конвойных, как записал Толстой в дневнике, показывая на кандалы, сказал ему: «Это наш спокой». Без сомнения, Толстой не оставил без ответа эти слова конвойного, хотя и не записал свой ответ в дневнике.
В Калуге Толстой узнал от хозяина гостиницы, в которой он остановился, что в городе много сектантов — молокан, субботников, воздыханцев; стал их разыскивать, чтобы побеседовать с ними о вере. Он обратился к местным священникам, стоявшим на подворье; они указали ему церковь, в приходе которой, по их словам, жило много сектантов. Узнав адрес священника этого прихода, Толстой отправился к нему на квартиру. Священник рассказал ему, что дело сектантов разбиралось в калужском окружном суде, их оправдали, но судебный следователь опечатал принадлежащие им религиозные книги. Толстой, по своему обыкновению, заговорил со священником о том, что церковь искажает учение Христа, что по Евангелию должна быть любовь к людям и добрые дела. Но закоснелый в суевериях «поп» прямо сказал то же, что говорят в Оптиной пустыни, что «добрые дела — это пост, хождение в церковь, принятие попов» (запись в дневнике Толстого).
- 45 -
Вероятно, по указанию этого священника Толстой от него направился к сектанту Иконникову. Хозяина не оказалось дома, но Толстой узнал, что два его сына занимаются извозом и стоят ежедневно на определенной улице. Толстой отправился по указанному ему адресу и нашел там обоих сыновей Иконникова — «два брата, краснорожие, серьезные и добрые». Толстой тут же на улице начал с ними разговор о вере.
«Этр негодный попишка нас подвел», — сказал Иконников-сын. Беседа коснулась религиозных вопросов, и извозчик «говорил свободно и прекрасно», как записал Толстой в дневнике: «Что ж, вера вся одна... Лжеучителей почем познать? По плодам. В волчьей одежде. Внешнее очищает, а внутри исполнен скверны».
Но затем сектант «заробел». Толстой пригласил его прийти к нему в номер, чтобы побеседовать о вере более спокойно и основательно; извозчик обещал, но не приехал. Очевидно, напуганный преследованием сектант заподозрил провокатора в этом незнакомом ему старике, так настойчиво расспрашивающем его о вере.
Где-то Толстой разговаривал с другим сектантом, горшечником по профессии, от которого услыхал такие речи: «Попы только для наживы. Не то чтобы углубиться — они и писания-то не знают»64.
Затем Толстой отправился в Калужский окружной суд, где присутствовал на заседании, после чего записал в дневнике: «Все та же канитель. Бедняк украл полушубок. Его в арестантские роты на три года и девять месяцев». По окончании заседания Толстой говорил о деле сектантов с прокурором («либеральная озабоченная важность» — записал Толстой в дневнике), но не добился толку65.
Проходя мимо книжной лавки, Толстой купил книгу немецкого мистического писателя XVIII и начала XIX века Карла Эккартсгаузена, которую в тот же день начал читать и нашел «прелестной» (название книги не указано).
Вечером 18 июня Толстой с Арбузовым выехал из Калуги по железной дороге и в два часа ночи 19 июня был уже в Туле.
- 46 -
В конце июня, вспоминая свое путешествие, Толстой писал Тургеневу: «Паломничество мое удалось прекрасно. Я наберу из своей жизни годов пять, которые отдам за эти десять дней»66. То же писал Толстой Страхову в начале июля: «Я недавно сделал путешествие в Оптину пустынь и в Калугу, и очень мне было хорошо»67.
От посещения монастыря Толстой не вынес никаких отрадных впечатлений. Слепая наивная вера «старца» Амвросия и его грубое обывательское миросозерцание не удивили Толстого: так и должно было быть по церковному учению, представляющему собой, по мнению Толстого, вопиющее искажение христианства. Кроме того, Амвросий произвел на Толстого впечатление недалекого человека. В 1907 году художник М. В. Нестеров задал Толстому вопрос: казался ли ему старец Амвросий человеком большого ума? Толстой, помолчав, ответил: «Нет», — прибавив для смягчения своего отзыва, что Амвросий был очень добрый человек68.
Не удивило Толстого и пренебрежительное отношение монахов прославленной обители к бедному люду, с благоговением подходившему к воротам обители и возвращавшемуся разочарованным. Такое презрительное отношение к бедым богомольцам и пресмыкательство перед приезжавшими в монастырь богачами, это бьющее в глаза отступление духовенства от евангельского учения давно уже было известно Толстому.
Все эти гнетущие впечатления монастырской жизни быстро рассеялись, когда Толстой вышел из ворот монастыря, и на него пахнуло здоровым мужицким трудовым воздухом, которого он был лишен в яснополянском доме69.
X
В июне 1881 года, после того как С. Л. Толстой выдержал экзамен на аттестат зрелости, дававший право на поступление в университет, в Ясной Поляне был окончательно решен вопрос о переезде осенью всей семьей в Москву.
План переезда в Москву после того как старшему сыну придет время поступать в университет, а старшую дочь нужно будет
- 47 -
«вывозить в свет», давно уже обсуждался в семье Толстых. «Моя мать, сестра и я стремились в Москву подобно чеховским трем сестрам», — писал впоследствии С. Л. Толстой70.
С. А. Толстая стремилась к переезду в Москву и потому, что ей было скучно в Ясной Поляне, особенно по зимам, и потому, что ее начинала тяготить замкнутая семейная жизнь, исключительное общество мужа, отказавшегося от света и осуждавшего барскую жизнь, и тех немногих лиц, которые более или менее разделяли его взгляды. В том самом письме от 12 марта 1881 года, в котором Софья Андреевна сообщала сестре о семейном разладе, она писала: «Прошу бога, чтобы скорее кончилась эта жизнь слишком тесного кружка».
Являлось сомнение: не лучше ли будет для маленьких детей жить в деревне, чем в Москве? 3 февраля Софья Андреевна писала сестре: «Оставаться в деревне ни для кого не считаю хорошим, кроме разве четырех последних детей». В дальнейших письмах Софьи Андреевны о малышах даже не упоминается.
Но у Толстого еще до идейного перелома московская жизнь вызывала чувство страха и ужаса. 20 февраля 1872 года он писал А. А. Толстой: «...вчера я вернулся из Москвы, где я заболел, с таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретенным и мужчинами и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвердости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву. Со страхом думаю о будущем, когда вырастут дочери»71.
Спустя несколько лет, 25 марта 1879 года, он писал Н. Н. Страхову: «Жить в Петербурге или Москве — это для меня все равно, что жить в вагоне».
А. А. Толстой он писал в тот же день: «был эти дни в Москве и измучился, как всегда, от городской ужасной для меня суеты»72.
Несмотря на то, что жизнь в Москве противоречила не только всему его душевному складу, но и его миросозерцанию, Толстой все же решил вместе с семьей переехать в Москву. Сделал он это не только потому, что любил семью, что ему было бы тяжело разлучиться с ней, и что он все-таки надеялся на свое хотя бы незначительное нравственное влияние на своих семейных, но и по принципиальным соображениям. 5 мая 1881 года он записал в дневнике свою беседу о семье с В. И. Алексеевым. «Семья, — говорил Толстой, — это плоть». Бросить семью — это то же, что
- 48 -
покончить самоубийством. «Семья — одно тело». Но служить нужно не семье, а «единому богу».
Решив переехать в Москву вместе с семьей, Толстой в то же время, не сочувствуя этому переезду, отказался принимать какое-либо участие в подыскании квартиры и в ее меблировке. Об этом он давно уже заявил жене. Еще 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала сестре: «Я решила во всяком случае ехать в Москву... Поеду летом, все устрою, все куплю, а в сентябре перееду, да и только».
Так и вышло. 1 июля 1881 года Софья Андреевна, взяв с собой только 12-летнего сына Леву, поехала в Москву с целью приобрести или снять особняк для всей семьи и купить необходимую мебель для гостиной и других комнат.
Но как только Софья Андреевна уехала, Толстой представил себе, как трудно будет для нее, стоявшей далеко от практической жизни, это новое и необычное дело. Глубокий идейный разлад, отдалявший Толстого от жены, вдруг отодвинулся на второй план, и он видел перед собой лишь любимого человека, попавшего в трудное положение, которому нужно помочь. 4 июля он пишет жене: «Пожалуйста, рассчитывай на меня. Я поеду и осмотрю, и доделаю, что ты не сделала»73. А Софья Андреевна писала 2 июля: «Пишу тебе, милый Левочка, усталая, после дня беготни по домам и квартирам. Как мне часто хочется с тобой побеседовать, а я себя чувствую беспомощной, и так страшно что-нибудь решать»74.
На другой день, 3 июля, Софья Андреевна сообщила, что она нашла «очень удобный и прекрасный и по месту и по расположению дом» в Денежном переулке (ныне Малый Левшинский переулок, д. 3), принадлежавший княгине Волконской. Этот дом и был ею снят, и семья Толстых провела в нем зиму 1881—1882 годов. Дом существует и в настоящее время.
XI
Отношения Толстого и Тургенева, возобновившиеся после их примирения в 1878 году, продолжали оставаться самыми дружелюбными.
В мае 1881 года Тургенев говорил о Толстом литератору С. Н. Кривенко:
— Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним! Ему в теперешней европейской литературе нет равного. Ведь он за что бы ни взялся, все оживает под его пером. И широка область
- 49 -
его творчества — прямо удивительно! Будет ли это целая историческая эпоха, как в «Войне и мире», будет ли это отдельный современный человек с высшими духовными интересами и стремлениями, или просто крестьянин с его чисто русскою душою — везде он остается мастером. И барыня высшего круга выходит у него, как живая, и полудикарь-черкес; даже животных, вы посмотрите, как он изображает.
И Тургенев вспомнил, как когда-то давно они с Толстым прогуливались по лугу и увидали старую лошадь, и Толстой стал рассказывать ему, что думает эта старая лошадь (зарождение сюжета «Холстомера»)75.
«И в то же время, — продолжал Тургенев, — одинаково ему доступны и психическая сторона высокоразвитого человека и высшая философская мысль. Но что вы с ним поделаете? Весь с головою ушел в другую область — окружил себя библиями, евангелием чуть ли не на всех языках, исписал целую кучу бумаги. Целый сундук у него с этой мистической моралью и разными кривотолкованиями. Читал мне кое-что, — просто не понимаю его... Говорил ему, что это не его дело, а он отвечает: «Это-то и есть самое дело»76.
6 июня Тургенев, направляясь из Спасского в Москву, заехал в Ясную Поляну77.
Толстой, отметив в дневнике, какие крестьяне приходили к нему в этот день, ни словом не упомянул приезд Тургенева. Из писем Тургенева Толстому от 21 июня и Толстого Тургеневу от 27 июня видно, что в этот приезд Тургенева Толстой говорил ему о своем предполагаемом путешествии в Оптину пустынь и по возвращении обещал съездить к Тургеневу в Спасское, а Тургенев просил Толстого привезти ему новое издание его сочинений, вышедшее в свет в 1880 году.
21 июня Тургенев писал Толстому:
«Любезнейший Лев Николаевич, надеюсь, что Вы благополучно совершили Ваше паломничество, и рассчитываю на исполнение Вашего обещания навестить меня. Я неделю тому назад вернулся из Москвы, дом приведен в порядок — и я теперь никуда с места не тронусь. Не забудьте привезти Ваши сочинения.
Кланяюсь всем Вашим и дружески жму Вашу руку»78.
- 50 -
Толстой отвечал Тургеневу 27 июня:
«Очень хочется побывать у вас, дорогой Иван Сергеевич. Мне так было в последнее свидание хорошо с вами, как никогда прежде не было. И как ни странно это сказать, но я чувствую, что теперь только после всех перипетий нашего знакомства вполне сошелся с вами и что теперь я все ближе и ближе буду сходиться с вами». Далее Толстой обещал приехать в Спасское между 5 и 20 июля79.
Тургенев отвечал 4 июля:
«Любезнейший Лев Николаевич, вчера получил Ваше письмо и очень порадовался Вашему близкому посещению, — а также и тому, что Вы говорите о Вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, т. е. одинаковое и в Вас, и во мне»80.
8 июля Толстой поехал к Тургеневу в Спасское, где и пробыл два дня — 9 и 10 июля.
В Спасском Толстой встретил поэта Я. П. Полонского, с которым у него еще со времени их встречи в Баден-Бадене в 1857 году установились дружеские отношения.
Полонский уже после смерти Тургенева написал воспоминания о своем пребывании у него в Спасском в 1881 году; в этих воспоминаниях он рассказывает и о приезде Толстого в Спасское81.
Толстой приехал в первом часу ночи, по ошибке на день раньше того дня, который был им указан в телеграмме, и Тургенев не мог выслать за ним лошадей; но когда приехал Толстой, Тургенев еще не ложился спать и писал. «Удивление и радость его, — пишет Полонский, — видеть графа у себя были самые искренние. В столовой появился самовар и закуска. Беседа наша продолжалась до трех часов пополуночи».
Толстой рассказывал, что он недавно ходил пешком в Оптину пустынь в простом крестьянском одеянии и обуви. Полонский не считал себя вправе передать то, что Толстой рассказывал о знаменитом монастыре. «Скажу только, — пишет Полонский, — что рассказ его был интересен и любопытен в высшей степени; в особенности любопытен психический анализ или характеристичный очерк двух оптинских пустынников или схимников».
Много рассказывал Толстой также о сектантах «воздыханцах», которых преследовало правительство. Опасаясь, что и Толстой имеет то или другое отношение к правительству, сектанты не стали с ним разговаривать. Видел Толстой также и одну сектантскую «богородицу», и нашел в ней, «к немалому своему изумлению,
- 51 -
очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами».
Что касается до положения нашего крестьянства, — пишет Полонский, — граф полагает, что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что если все пойдет по-старому, через 25 лет 9/10 народа не будут знать, чем кормить своих детей.
Полонский описывает ту перемену, какую он нашел в Толстом более чем через двадцать лет после их последней встречи. «Я никогда, — пишет он, — в молодые годы не видал его таким мягким, внимательным и добрым и, что всего непостижимее, таким уступчивым. Все время, пока он был в Спасском, я не слыхал ни разу, чтоб он спорил. Если он с чем-нибудь и не соглашался, он молчал, как бы из снисхожденья. Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью... Граф никому из нас не навязывал свой образ мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его», — не то с сочувствием, не то с сожалением замечает Полонский.
Возвратившись от Тургенева, Толстой записал в дневнике: «9, 10 июля. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и — бедный — спокойный, Тургенев — боится имени бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни».
Сделанная Толстым в этих строках характеристика Тургенева: «боится имени бога, а признает его», принимая во внимание то значение, которое Толстой придавал понятию «бог», может быть понята только в том смысле, что Тургенев, отрицая религиозное понимание жизни, в то же время признает любовь основой жизни, в чем Толстой и видел сущность христианского учения. Такую же характеристику Тургенева Толстой развил в письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 года82.
XII
13 июля Толстой вместе со старшим сыном отправился в свое самарское имение. Приехали на хутор 15 июля.
Подобно предшествовавшим годам, Толстой умственно отдыхал в самарских степях. Он пил кумыс, ежедневно совершал длинные прогулки пешком или верхом, беседовал с «детьми природы» — башкирами. По письмам к жене и по дневнику не видно,
- 52 -
чтобы он что-нибудь читал за месяц, проведенный им на хуторе.
Еще с дороги 15 июля Толстой писал жене: «Мечтай жить на месте и писать». Затем, уже с хутора, он писал ей же 19 июля: «Работать все хочу начать и пробовал, но нейдет». 22 июля: «Писать все не начинал». 25 июля: «Я два последние дня два раза начинал Петину историю и все не могу попасть в колею»83.
Упоминаемый здесь Петя — брат Софьи Андреевны, Петр Андреевич Берс, редактировавший в 1881—1882 годах журнал «Детский отдых». Жена просила Толстого что-нибудь написать для журнала ее брата; Толстой решил для журнала П. А. Берса переработать одну из легенд, которую он слышал в 1879 году от В. П. Щеголенка. Эту-то переработку он в письме и называет «Петиной историей».
Однако работа над легендой в самарской степи не пошла, хотя Толстой и писал жене 25 июля: «Я надеюсь, что пойдет, и если пойдет, то будет хорошо».
Эта переработка народной легенды была начата еще в январе 1881 года, как это видно из пометы С. А. Толстой на одной из черновых рукописей. Но закончена была легенда только в конце этого года и была напечатана под заглавием «Чем люди живы».
Толстой, как и в предыдущие годы, был доволен своей жизнью на хуторе. 19 июля он писал жене: «Меня ужасно тяготит наша разлука, хотя мне здесь очень хорошо». Затем 22 июля: «Мне очень хорошо здесь, как может быть хорошо без тебя и 6-ти с 3/4 детей»84 (Софья Андреевна была в то время беременна: 31 октября родился сын Алексей).
В ответном письме от 30 июля Софья Андреевна писала: «Я рада, что тебе физически хорошо в Самаре. Недаром, по крайней мере, эта разлука. Но тебе там и вообще интереснее, спокойнее, симпатичнее жизнь, чем дома. Это жалко, но это так»85.
Хозяйством Толстой почти не занимался, так как, кроме того, что он охладел к хозяйственным делам, он видел, что «все налажено так, как никогда не бывало».
Как и в прежние свои приезды на самарский хутор, Толстой внимательно вглядывался в народную жизнь. «Нищета здесь зимой была ужасная; теперь видны следы голода», — писал он Софье Андреевне 25 июля86. Как и в Ясной Поляне, Толстой оказывал материальную помощь нуждающимся крестьянам. 22 июля он писал жене: «Одно было бы грустно, если бы нельзя
- 53 -
было помогать хоть немного, это то, что много бедности по деревням. И бедность робкая, сама себя не знающая»87.
На это письмо Софья Андреевна отвечала 30 июля: «...Ты знаешь мое мнение о помощи бедным: тысячи самарских и всякого бедного народонаселения не прокормишь»88.
19 июля Толстой побывал в большом селе Патровке на молоканском молитвенном собрании, слушал их толкование Евангелия и сам выступал со своим толкованием.
В Патровке Толстой встретился с известным исследователем русского сектантства и старообрядчества А. С. Пругавиным, который произвел на него впечатление «очень интересного, степенного человека». В то время передовая русская интеллигенция придавала большое значение изучению сектантства и старообрядчества. Считалось, что если сектанты стоят в оппозиции к православной церкви, то под влиянием революционной пропаганды они могут встать в оппозицию и к царской власти. Многие журналы, как «Отечественные записки», «Дело», «Слово», «Русская мысль», охотно печатали статьи о сектантах. (Толстой отметил в дневнике появление в «Отечественных записках» — 1881 год, № 4 и 5 — статьи Федосеевца «Программа вопросов для собирания сведений о русском сектантстве»).
По окончании молитвенного собрания за чаем началась непринужденная беседа Толстого с молоканами. «Толстой, — вспоминает А. С. Пругавин, — принимал в этой беседе самое живейшее, деятельное участие и предлагал множество вопросов, видимо, стараясь уяснить себе религиозные воззрения молокан и их отношение к разным явлениям жизни»89.
После чая состоялся на дворе под открытым небом «обчественный» обед для всех участвовавших в собрании, устроенный молоканами в складчину. Обед, состоявший из девяти блюд, продолжался долго, и Лев Николаевич, посаженный хозяевами, по выражению молокан, «в самый корень», «весь обед не переставая с большим подъемом вел самые оживленные прения по религиозным вопросам».
«С удовольствием, — вспоминает А. С. Пругавин, — почти с наслаждением, наблюдал я за беседой Льва Николаевича с молоканами, следил за его спорами с ними, невольно любуясь его непринужденностью, его необыкновенной способностью просто, естественно затронуть самые задушевные верования этих людей, завладеть их вниманием, вызвать в них глубокий, горячий интерес и сочувствие. При этом он ни на минуту не переставал быть самим собой, и в его отношении к крестьянам ни разу не промелькнуло
- 54 -
ни малейшей тени, не проскользнуло ни одного штриха, которые бы указывали на то, что он не прочь, что называется, «подлаживаться», «подделываться» к мужику... И они — эти серые, степные мужики с «корявыми шеями», с заскорузлыми руками, охотно, доверчиво и трогательно раскрывали перед ним свою душу»90.
После обеда Толстой пошел на заседание волостного суда. Хотя дела разбирались незначительные, но Толстой, как вспоминает А. С. Пругавин, «внимательно прислушивался и присматривался к тому, что происходило вокруг». По окончании заседания он на крыльце волостного правления вступил в разговор с крестьянами. Он спрашивал: «случаются ли магарычи? есть обычай угощать судей? много ли водки выпивают во время суда? и т. д.»91
В течение дня Толстой несколько раз беседовал с А. С. Пругавиным, расспрашивая его о впечатлениях, вынесенных им от знакомства с русскими сектантами. Особенно заинтересовал Толстого свободомыслящий тверской крестьянин В. К. Сютаев, проповедывавший «любовь и братство всех людей и народов и полный коммунизм имущества»92.
Узнав, что один из сыновей Сютаева отказался от воинской повинности, Толстой сказал: «Все это так интересно, что я готов при первой возможности съездить к Сютаеву, чтобы познакомиться с ним»93.
Вечером в тот же день Толстой писал жене: «Весь день провели очень интересно. На собрании была беседа об Евангелии. Есть умные люди и удивительные по своей смелости»94.
Через два дня, 21 июля, к Толстому на его хутор для продолжения беседы приехали двое молокан-руководителей и вместе с ними А. С. Пругавин. Толстой усадил Пругавина на кровать «деревянную и шатающуюся», а сам поместился на своем чемодане, поставив его ребром. Молокане заняли деревянные табуреты и сейчас же начали разговор о вере. Молокане хотели уяснить себе религиозные взгляды Толстого, и Толстой прочитал им толкование Нагорной проповеди из своего «Краткого изложения Евангелия», рукопись которого он захватил с собой из Ясной Поляны. Чтение продолжалось до самого обеда. «Горячо слушают», — записал Толстой в дневнике. То же подтверждает и А. С. Пругавин в своих воспоминаниях: «Молокане слушали с затаенным дыханием, боясь пропустить хоть одно слово»95. «...Серьезность, интерес и здравый, ясный смысл этих полуграмотных
- 55 -
людей удивительны», — писал Толстой Софье Андреевне на другой день96.
Толстой побывал также в деревне Гавриловке у сектанта-субботника, где ему было «очень интересно», как писал он жене в том же письме.
XIII
Все письма Толстого к жене из самарского хутора за июль и август 1881 г. проникнуты большой нежностью. Обращения: «милый друг», «милый, милый друг Соня», «душенька», «голубушка», «душа моя».
Толстой чувствует себя виноватым в том, что за последнее время, увлеченный своей работой, мало помогал жене в ее делах. 2 августа он пишет ей: «Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе. Вот уже на это кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю. Я все то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди могут и должны смотреть на все, как я. Я много перед тобой был виноват, душенька, — бессознательно, невольно виноват, ты знаешь это, но виноват. Оправдание мое в том, что для того чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, нужно забыть все. И я слишком забывал о тебе и каюсь. Ради бога и любви нашей как можно береги себя. Откладывай побольше до моего приезда; я все сделаю с радостью, и сделаю недурно, потому что буду стараться»97.
Но возможна ли согласная семейная жизнь при той полной противоположности миросозерцании, которая была вполне очевидна и ему и его жене? Ведь Толстой даже за тысячу верст от Ясной Поляны не мог забыть о том неправильном воспитании, какое получила его дочь Татьяна. Он невольно, как и раньше, не мог не сравнивать праздную жизнь своей дочери с трудовой жизнью дочери В. И. Алексеева, Лизы, которую он наблюдал ежедневно. Узнав о том, что Таня будет участвовать в любительском спектакле у баронессы Менгден, Толстой 31 июля пишет Софье Андреевне: «Весело ли ей [Тане] было у Менгденов? Посмотрела бы она, как Лиза помогает матери: гладит, и масло бьет, и за цыплятами лазит по крышам»98.
Разрешению мучивших его вопросов о своей дальнейшей жизни с семьей помогло Толстому наблюдение над жизнью его друзей, В. И. Алексеева и А. А. Бибикова. 6 августа он писал
- 56 -
Софье Андреевне: «Ничто не может доказать яснее невозможность жизни по идеалу, как жизнь и Бибикова с семьей и Василия Ивановича. Люди они прекрасные, всеми силами, всей энергией стремятся к самой хорошей, справедливой жизни, а жизнь и семьи стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее, хотя и хорошо, как далеко от их цели. То же переносишь на себя и научаешься довольствоваться средним».
Но не только в жизни своих друзей, то же «среднее» видел Толстой и «в молоканстве» и даже «в народной жизни, особенно здесь»99.
И с этой мыслью о том, что ему не удастся вполне осуществить в Ясной Поляне свой идеал жизни и что в результате всех его усилий получится только нечто среднее между его идеалом, с одной стороны, и требованиями семьи и окружающей жизни, с другой, Толстой 13 августа уехал с своего самарского хутора в Ясную Поляну. В. И. Алексеев проводил его до Самары и, расставаясь с ним, расплакался.
В Самаре Толстой еще раз виделся с А. С. Пругавиным.
Проезжая через станцию Ряжск, Толстой узнал, что на железной дороге был раздавлен поездом какой-то человек и что такие несчастья случаются каждый месяц. И он делает запись в дневнике: «Все машины к чёрту, если человек». Здесь Толстой впервые выразил ту мысль, которую он впоследствии неоднократно высказывал в своих статьях: что все приобретения культуры только тогда хороши, когда они не ведут к гибели человеческих жизней.
17 августа Толстой вернулся в Ясную Поляну. Он застал «полон дом» молодежи, приехавшей участвовать в любительском спектакле. Контраст между только что покинутой им простой, естественной, трудовой жизнью самарских «детей природы» и пустым времяпрепровождением светской молодежи так бросался в глаза, что Толстой в тот же день записал в дневнике: «Лихо за свои гроши. Дрожишь за Таню» (он боялся какого-либо светского увлечения его дочери). Затем 18 августа: «Театр, пустой народ»; 22 августа: «Из жизни вычеркнуты 19, 20, 21».
XIV
22 августа в Ясную Поляну приехал Тургенев. Несомненно, приезду предшествовало его письмо к Толстому, но оно не сохранилось. Об этом пребывании Тургенева в Ясной Поляне до нас дошли некоторые сведения.
- 57 -
В 1894 году в предисловии к русскому переводу сочинений Ги де Мопассана Толстой писал:
«Кажется, в 1881 году Тургенев, в бытность свою у меня, достал из своего чемодана французскую книжечку под заглавием «Maison Tellier» [«Дом Телье»] и дал мне.
— Прочтите как-нибудь, — сказал он как будто небрежно, точно так же, как он за год перед этим дал мне книжку «Русского богатства», в которой была статья начинающего Гаршина. Очевидно, как и по отношению к Гаршину, так и теперь он боялся в ту или другую сторону повлиять на меня и хотел знать ничем не подготовленное мое мнение.
— Это молодой французский писатель, — сказал он, — посмотрите, недурно; он вас знает и очень ценит, — прибавил он, как бы желая задобрить меня. — Он, как человек, напоминает мне Дружинина. Такой же, как и Дружинин, прекрасный сын, прекрасный друг, un homme d’un commerce sûr [человек, на которого можно положиться], и, кроме того, он имеет сношения с рабочими, руководит ими, помогает им. Даже и своим отношением к женщинам он напоминает Дружинина...
Время это, 1881 год, было для меня самым горячим временем внутренней перестройки всего моего миросозерцания, и в перестройке этой та деятельность, которая называется художественной и которой я прежде отдавал все свои силы, не только потеряла для меня прежде приписываемую ей важность, но стала прямо неприятна мне по тому несвойственному месту, которое она занимала в моей жизни и занимает вообще в понятиях людей богатых классов»100.
Тургенев много рассказывал о современных французских писателях: Флобере, Золя, Доде, Гонкурах, Мопассане и др. Как записал С. Л. Толстой, Тургенев «не одобрял преднамеренный реализм, слог и язык Золя», Гонкуров «не считал даровитыми» и выше других ставил Флобера и Мопассана.
Когда разговор зашел о Шекспире, Тургенев, как он делал это много раз прежде, старался внушить Толстому все величие Шекспира, указывая «на истинно драматические положения, в которые Шекспир ставит своих героев». «Истинно драматические положения, — так приблизительно говорил он, — возникают не тогда, когда добродетельные люди борются с злыми, как в мелодраме, или когда люди страдают от внешних бедствий... Драматические положения возникают тогда, когда страдание неизбежно вытекает из характеров людей и их страстей. В драмах Шекспира мы находим именно такие положения».
Оригинальное мнение высказал Тургенев о Достоевском. «Знаете, — говорил он, — что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится,
- 58 -
он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться... А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои — в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает»101.
Несомненно, что Толстой принимал деятельное участие во всех этих беседах, но его суждения не были записаны его сыном.
В этот день в Ясной Поляне в числе гостей присутствовал Л. Д. Урусов. Обращаясь к Тургеневу, он горячо доказывал правоту миросозерцания Толстого и, в частности, правильность его перевода начала первой главы Евангелия от Иоанна, которое Толстой передавал словами: «Началом всего стало разумение жизни. Разумение жизни стало вместо бога». Все более разгорячаясь, Урусов незаметно для себя все более сползал со стула и, наконец, упал на пол «с вытянутой вперед рукой и грозяще приподнятым указательным пальцем. Нисколько не смутившись, он, сидя на полу и жестикулируя, продолжал начатую фразу»102. Все рассмеялись, кроме Толстого; Урусов поднялся и тоже стал смеяться.
Так передают этот эпизод оба старшие сына Толстого. Но сам Толстой, вспоминая этот случай в беседе с Г. А. Русановым 24 августа 1883 года, излагает спор Урусова с Тургеневым в гораздо более серьезном виде. На вопрос Русанова, атеист ли Тургенев, Толстой отвечал: «Вполне!» — и затем продолжал:
«В последний раз, как он был у меня, вот в этой самой комнате, на него горячо напал по этому поводу один знакомый мой, человек верующий... Жалко было видеть в это время Тургенева: с ним бог знает что делалось... Такое страдание выражалось на его лице! Заткнув уши, он кричал: «Не говорите, не говорите, зачем вы меня мучаете!» Да, жалко было видеть такого старика, боящегося смерти. Противно как-то... Тургенев хороший человек, огромный ум, гуманный... я люблю его, но жаль его...»103
Вечером молодежь затеяла танцы — кадриль. Кто-то спросил Тургенева, продолжают ли теперь во Франции танцевать старую кадриль, или она совершенно вытеснена непристойным канканом. Тургенев отвечал, что старый канкан — совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафешантанах; это — приличный и грациозный танец. И Тургенев пригласил за даму
- 59 -
двенадцатилетнюю Машу Кузминскую «и, заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, мягко отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлением ног. Кончился этот танец тем, что он упал, но вскочил с легкостью молодого человека. Все хохотали, в том числе он сам, но было как будто немного совестно за Тургенева»104.
А Толстой, находившийся в те дни в особенно серьезном настроении, записал в дневнике: «Тургенев — cancan. Грустно».
Это единственная запись в дневнике Толстого о его последней встрече с Тургеневым.
XV
24 августа С. А. Толстая уехала в Москву, чтобы устроить снятую квартиру в Денежном переулке и заказать мебель для гостиной. 26 августа она писала в Ясную Поляну: «Я выношу . отлично свои труды»105. А Толстой между тем 27 августа писал в дневнике: «Соня в Москве. Покупки. Делать то, что не нужно, грех». И имея в виду какой-то неизвестный нам случай, Толстой сравнивает с этим случаем хлопоты жены об устройстве гостиной и пишет: «Разбранить человека за портрет государя навыворот и гостиную купить — одинаково безумно и ведет к злу».
Пробовал Толстой продолжать легенду «Чем люди живы», но работа плохо подвигалась. Софье Андреевне он писал 26 августа: «Я вчера целое утро писал Петину историю и все не могу кончить»106. Затем в дневнике записал 30 августа: «Пытаюсь работать с начала — тяжело»; 2 сентября: «Умереть часто хочется. Работа не забирает».
На другой день Толстой ходил на сходку яснополянских крестьян, но вынес тяжелое впечатление. «Нелюбви много в народе», — записал он в дневнике.
О своем душевном состоянии Толстой в начале сентября писал в совокупном письме А. А. Бибикову и В. И. Алексееву: «Я попал сюда в страшный сумбур — театр, гости, суета, и странно — ушел в себя и чувствовал и чувствую себя лучше, чем когда-нибудь. Несогласие мое с окружающей жизнью больше и решительнее, чем когда-нибудь; и я все яснее и определеннее вижу свою роль и держусь ее. Смирение и сознание того, что все, что мне противно теперь, есть плод моих же ошибок и потому прощение других и укоризна себе».
О проекте установления образа жизни семьи на «среднем» уровне между идеалом — с одной стороны, и окружающей
- 60 -
жизнью и требованиями семьи — с другой, здесь нет и помину. Очевидно, что проект этот, теоретически выработанный Толстым на просторе самарских степей, при первом столкновении с действительностью разлетелся впрах.
И далее Толстой писал: «Сережа уехал уж в Москву, мы переезжаем 15-го. Я не могу себе представить, как я буду там жить»107.
Жизнь в Москве рисовалась Толстому в самых мрачных красках. Но действительность превзошла все его ожидания.
- 61 -
Глава вторая
В МОСКВЕ
(1881—1882)
I
15 сентября 1881 года вся семья Толстых приехала в Москву и поселилась в доме княгини Волконской в Денежном переулке. Их встретил брат Софьи Андреевны, Петр Андреевич, с женой. Был приготовлен чай и ростбиф.
Печальное было новоселье. Оказалось, что перегородки между комнатами такие тонкие, что в каждой комнате было слышно все, что делалось и говорилось в соседних комнатах. Кроме того, когда Софья Андреевна осматривала дом, ей показалась особенно подходящей для кабинета Льва Николаевича большая комната, выходившая окнами на двор и расположенная совершенно в стороне от других комнат. «Но этот-то великолепный кабинет, — писала Софья Андреевна в автобиографии «Моя жизнь», — впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен».
«Наконец, у нас было объяснение, — писала Софья Андреевна сестре 20 сентября. — Левочка говорит, что если бы я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется, и т. д.»
Но поправить было уже нельзя, и началась московская жизнь Толстых.
Старший сын поступил в университет на отделение естественных наук; старшая дочь была принята в Школу живописи и ваяния. Сыновей Илью и Льва было решено отдать в гимназию. Толстой навел справки об условиях поступления в классическую гимназию; ему сказали, что необходимым условием является то, чтобы он дал подписку о «политической благонадежности» его сыновей. Это требование возмутило Толстого. Он сказал: «Я не могу дать подписку даже за себя, как же я дам ее за сыновей?».
Случайно он узнал, что вблизи его московской квартиры, на Пречистенке (теперь улица Кропоткина), в доме Пегова
- 62 -
находится частная гимназия Поливанова, где подписки о благонадежности поступающих учеников не требуется.
18 сентября он зашел в эту гимназию, чтобы подать прошение о поступлении его сыновей. Это случилось в так называемую «большую перемену» (перерыв между занятиями, продолжавшийся 1 час 10 минут, начиная с 12 часов). В кабинете директора Л. И. Поливанова Толстой встретил, кроме его самого, еще трех учителей той же гимназии и своего старого знакомого, бывшего учителя тульской гимназии Е. Л. Маркова, с которым Толстой полемизировал еще в 1862 году в статье «Прогресс и определение образования», напечатанной в журнале «Ясная Поляна». Марков же в 1875 году в либеральном «Вестнике Европы» напечатал очень грубый отзыв на статью Толстого «О народном образовании». Несмотря на это, Толстой и Марков встретились как старые знакомые, и Марков сразу начал расспрашивать Толстого о его жизни и работах.
Жена директора гимназии, М. А. Поливанова, сидевшая в той же комнате за библиотечным шкафом, довольно подробно записала всю беседу Толстого, после чего педагоги, участвовавшие в беседе, просмотрели ее запись и внесли свои исправления.1
Запись подтверждает сказанное Толстым в его предисловии к русскому переводу сочинений Мопассана, что действительно в то время он отрицательно относился ко всему «господскому» искусству и нисколько не интересовался литературными произведениями. С другой стороны, запись показывает, в каком взволнованном, возбужденном душевном состоянии находился тогда Толстой.
Беседа началась с того, что Марков спросил Толстого о судьбе его старшего сына, на что Толстой с полной откровенностью ответил:
— К сожалению, поступил в университет... Да еще факультет-то какой выбрал. Из всех факультетов я наиболее ненавижу юридический и естественный, особенно естественный.
На вопрос Маркова, долго ли он проживет в Москве, Толстой ответил:
— Ну, не знаю. Вы меня извините, — вы, городские жители — но, по-моему, жизнь в городе — жизнь в помойной вонючей яме.
Один из учителей возразил, что он двух дней не может прожить в деревне, только и может жить в большом городе. На это Толстой не без иронии заметил:
— Но ведь деревня немного в вас и нуждается. Вы же в ней нуждаетесь — она вас кормит.
- 63 -
Марков спросил Толстого, правда ли, что он теперь ничего не пишет?
— Правда, — ответил Толстой вызывающе. — Ну и что же?
— Да как же это возможно? — воскликнул Марков, горячий поклонник художественных произведений Толстого. — Лишать общество ваших произведений?
Толстой спокойно ответил:
— Если я делал гадости, неужели я должен всегда продолжать их делать? Вон я в юности цыганок посещал, шампанское пил, неужели я должен опять все это проделывать?
Глубоко оскорбленный Евгений Марков укоризненно замечает:
— Как же можно делать такие сравнения? И опять слышит спокойный ответ Толстого:
— Ну, а если я считаю свои произведения именно таким вздором и занятия этими «художествами» делом недостойным?
— Гладстон, — продолжал свои возражения Марков, — следовал правилу: в важных вопросах не дозволять себе решений и спросить большинство, мнение общества, и поступить согласно его решению.
— Эх, Евгений Львович, — ответил Толстой, — я почти двадцать лет прожил среди таких людей, которые не только не слыхивали о «художествах», но даже не знают, пишут ли и печатают ли что-нибудь.
Марков пробует встать на точку зрения Толстого и побить его его же оружием — точкой зрения мужика:
— Возьмите мужика, — говорит он, — и тот, когда не работает, когда не принужден работать, читает сказку о каком-нибудь Бове-королевиче или поет песни. Значит, это и ему свойственно, а не есть дело навязанное, искусственное.
Но Толстой сразу отпарировал направленный против него удар. Он сказал:
— Да, но сообразите, как он смотрит на эту забаву. Разве он считает ее за что-нибудь важное? Поверьте, что это для него то же, что надеть на праздник сапоги бутылкой, или прикормить собаку, приласкать ее и тому подобные мелочи. А мы — мы всю жизнь полагаем в этих сказках.
Марков ставит вопрос ребром:
— Так неужели же вы смотрите на художественную деятельность как на что-то случайное, ничтожное?
— Еще бы, — отвечал Толстой. И как это нередко делал Толстой в спорах, чтобы наиболее сильно поразить своего оппонента, он выразил свою мысль в особенно резкой форме. Он сказал:
— Вот был Пушкин. Написал много всякого вздора. Ему поставили статую. Стоит он на площади, точно дворецкий с
- 64 -
докладом, что кушанье подано... Подите, разъясните мужику значение этой статуи, и почему Пушкин ее заслужил...
— Почему я непременно должен писать? — продолжал Толстой. — Я хочу жить. Я уже дожил до седых волос, смерть у меня на носу, а я совсем не научился жить. Посмотрите на мужика: он умеет жить, умеет трудиться, переносить несчастья, умеет умирать. А я не умею. Мне нужно научиться этому.
Спор не прекращается.
Марков: — Что мешает вам и жить, как вы это называете, и писать в то же время?
Толстой: — Да что писать?
Марков: — Ну, хоть писать романы.
Толстой (горячо): — Когда я пишу, я так люблю это дело, что уже не могу ничем жить другим. Это дело всей моей души. Нет, я хочу жить, а не поучать. Неужели стоит наполнять свою жизнь таким делом: писать о какой-то даме, как она влюбилась в офицера, писать разные гадости...
Поливанов, желая направить спор в надлежащее русло и немного осадить Маркова, обратился к нему со словами:
— Сколько я понимаю, Лев Николаевич хочет сказать, что он осуждает прекрасную форму, если она не служит выражением глубокого содержания, достойного выражения.
Толстой сейчас же согласился с этим и сказал:
— Именно в содержании-то все дело. А эта теория «художественности» имеет в виду одну форму. Вот почему из литера туры вышло дело ничтожное и даже вредное. В том, что я написал, встречается кое-что, чем сам доволен, — смотришь, это-то и непонятно. А что́ пустяки, то воспринимается жадно... Все оправдание произведению в его содержании. Нужно писателю выработать это содержание. Поэты с таким содержанием являются, быть может, раз в 500 лет.
На настойчиво выраженную Марковым просьбу, чтобы Толстой назвал «хоть одного из таких поэтов-художников, который предлагал бы содержание абсолютно ценное», Толстой ответил:
— Для меня нет ничего прекраснее и художественне Паскаля, Платона... «Пир» Платона, например, что это? драма? художественное произведение другого рода? А Паскаль — это такая красота!
Развивая далее свою мысль, Толстой сказал:
— Художественно то, что нравится, будь то Платон, Паскаль. Вот я люблю Сервантеса, он превеселый рассказчик, люблю Мольера за их правду... Шекспира... Впрочем, Шекспира менее, Сервантеса и Мольера более.
— Ваше требование этической подкладки, — не унимался Марков, — ведь убивает художественное творчество, которое не
- 65 -
знает, что творит. Неужели нам придется увидеть вновь падение Гоголя «Переписки с друзьями»? Но ведь Гоголь был больной человек, а вы — человек здоровый, полный сил.
— Вот бы уж не следовало приводить Гоголя, — возразил Толстой, — пора бы этот взгляд на перемену, совершавшуюся в душе Гоголя, пущенный Белинским, оставить.
К мнению Толстого присоединился Поливанов, заметив, что подобное объяснение душевного процесса Гоголя слишком легкое.
— Именно легкое, — подтвердил Толстой. — Нет, Гоголь почувствовал потребность собственного душевного подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, он не успел, но из этого не следует, что это было падение: это был шаг, который пресекла смерть.
Последовало новое возражение Маркова:
— И все же я не вижу, почему такой душевный процесс мешает писать. Разве не великое дело порою разъяснить нашей бестолковой публике, чего она не понимает, обогатить ее идеи? Что же? Неужели подобный образ, как например, — обращаясь к Поливанову, продолжал Марков, — вы помните в «Войне и мире» солдатик Каратаев с его взглядом на жизнь, — разве он не выяснил массе читателей доселе не известную ей сторону в мировоззрении русского простолюдина?
— Да, это так, — согласился Поливанов, — но ведь это одна черточка в сложном узоре целого романа, а возьмите ее, увеличьте и сделайте ее центром картины — как она будет принята?
Сочувственное упоминание о Платоне Каратаеве, по-видимому, расположило Толстого в пользу Маркова. Он сказал, что следит за его литературной деятельностью, во многом с ним согласен, во многом никогда не согласится; согласен с мнением Маркова об «Отечественных записках» и вообще о либеральной прессе, что они «о чем-то хлопочут, горячатся, стараются что-то высказать, а высказать и нечего».
И чтобы переменить разговор, Толстой заговорил о Достоевском. «Вся его ошибка, — сказал Толстой, — что он хотел все поучать. Почуется ему что-то, и вот он одно бичует, другое возносит, а почему — и сам не знает».
Похвалил Толстой напечатанную в «Отечественных записках» статью Михайловского о Достоевском. Михайловский, по словам Толстого, доказал как дважды два четыре, что Достоевскому совсем не было ясно, что такое народ, что такое церковь2.
- 66 -
Раздался звонок, призывавший учеников в классы, и беседа была прервана.
Таким образом, согласившись с отрицательным мнением Маркова об «Отечественных записках», Толстой вслед за тем одобрительно отозвался о статье одного из главных сотрудников этого журнала.
Еще более характерным для отношения Толстого к «Отечественным запискам» является письмо, написанное им около того же времени М. Е. Салтыкову-Щедрину.
Письмо это до сих пор не найдено, и содержание его известно только из письма Салтыкова к члену редакции «Отечественных записок», Г. З. Елисееву. 30 сентября 1881 года Салтыков-Щедрин писал в этом письме: «Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую литературу, превосходную и искреннюю — в «Отечественных записках»! И это так его поразило, что он отныне намерен писать и печатать в «Отечественных записках». Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но пока еще ответа от него нет»3.
Салтыков в своем письме не указывает, когда он получил письмо Толстого и когда послал ему ответ, и само письмо Салтыкова Толстому неизвестно. Таким образом мы лишены возможности определить, было ли письмо Толстого Салтыкову написано до его переезда в Москву или позднее. Салтыков в письме к Елисееву рассказывает о письме Толстого как о недавнем факте, поэтому более вероятно, что письмо это было написано уже после переезда Толстого в Москву.
Неизвестно, какие именно произведения, напечатанные в «Отечественных записках», произвели на Толстого столь благоприятное впечатление. Мы знаем, что Толстому понравились очерки Г. И. Успенского «Власть земли», печатавшиеся в «Отечественных записках» 1880 года, и «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта, печатавшиеся в том же журнале в 1881 году.
Но все, что писал Толстой в ближайшие годы, оказалось или нецензурно, или не соответствовало направлению «Отечественных записок», и сотрудничество его в журнале М. Е. Салтыкова-Щедрина не состоялось.
- 67 -
II
О душевном состоянии Толстого в первое время после переезда в Москву Софья Андреевна писала своей сестре 14 октября: «Первые две недели я непрерывно и ежедневно плакала, потому что Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам á la lettre плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду».
В конце сентября Толстой уехал в Тверскую губернию к свободомыслящему крестьянину Василию Сютаеву, о котором рассказывал ему А. С. Пругавин.
Дорогой он заехал к старому знакомому, писателю Павлу Александровичу Бакунину, жившему в своем имении Прямухино, Новоторжского уезда, Тверской губернии. Толстой в Севастопольскую войну был сослуживцем и другом Алексея Александровича Бакунина, знал он и третьего их брата, анархиста Михаила Александровича Бакунина.
Вместе с Бакуниным Толстой поехал в деревню Шевелино, того же Новоторжского уезда, где жил Сютаев.
Встреча с Сютаевым духовно подняла Толстого. Он увидел, что есть люди, живущие теми же идеалами и надеждами, что и он, и люди эти принадлежали к тому классу, который он считал лучшим классом русского народа — к крестьянству. Вернувшись от Сютаева, Толстой 5 октября записал в дневнике: «Был в Торжке у Сютаева. Утешенье»4.
Во второй половине ноября 1881 года Толстой писал В. И. Алексееву, что с Сютаевым они единомысленны «до малейших подробностей»5.
Достаточно полное представление о миросозерцании Сютаева дают очерки А. С. Пругавина, который посетил Сютаева за четыре месяца до Толстого — в мае того же 1881 года6. В 1883 году на вопрос Г. А. Русанова, правда ли то, что писал о Сютаеве Пругавин в «Русской мысли», Толстой ответил: «Совершенная», и прибавил: «Да, удивительно! Мы с Сютаевым совершенно различные, такие непохожие друг на друга люди ни по складу ума, ни по степени развития, шедшие совершенно различными дорогами, пришли к одному и тому же совершенно независимо один от другого!»7.
На вопрос, который делали Сютаеву, в чем состоит истина христианская, он отвечал: «В любви. Сказано: бог — любовь.
- 68 -
Стало быть, где любовь, там и бог, а где любви нет, там и бога нет».
«Когда я, — рассказывает А. С. Пругавин, — предлагал Сютаеву пилатовский вопрос: что такое истина? — он обыкновенно, не колеблясь, отвечал: «Истина в любви, в обчей жизни».
По словам А. С. Пругавина, все свои разговоры Сютаев всегда сводил на свою любимую тему:
— У нас теперь тридцать дворов, тридцать посевов, огурцы, конопли — все разделивши. Тридцать у нас сторожов!.. А когда устройство будет, тогда один сторож будет, а то ни одного не будет. Клети у нас заперты на замках, на запорах, скот у нас заперт... Пашни, сенокосы — как мы делим? Ссоры, брань, до драки доходит. Неужто бог это постановил, а? Не поверю!.. Хоть тысяча человек говори мне это — не поверю.
«Силой, энергией, страстью звучала его речь», — пишет А. С. Пругавин.
На вопрос, как же мы должны жить, Сютаев «быстро оживляясь», отвечал:
— Поле не должны делить, лес не должны делить, дома не должны делить... А у нас-то все деленое, все, как есть все, всякий прутик разделивши... Это лживое христианское: друг друга гонят, друг друга теснят, друг друга ненавидят... Надо добрые дела творить, а я разделил — это злые дела. Верующие христиане не делили ничего... Выйдешь в поле — чьи это земли? — казенные. Чей энтот лес? — господский. Энто дело надо рассмотреть. Господа должны землю отдать. Хрестьяне должны его [господина] не бросать. Все должны сообча жить, сообча трудиться в поте лица.
Решив, что должна быть «обчая жизнь», где не будет никаких замков и запоров, Сютаев перестал запирать ворота и калитку, отпер свой амбар, снял замки с сундуков. Но опыт оказался неудачным: начались кражи. Воровали у Сютаева прежде всего прохожие, а потом местные парни, желавшие выпить или опохмелиться. И Сютаеву вновь пришлось повесить замки и запирать свое имущество, хотя он нисколько не отступил от своих взглядов.
У Сютаева была своя теория о добрых и злых властях. Злые власти, по его взгляду, — это те, которые делают неправду; поэтому им не следует повиноваться. На вопрос, какую же неправду делают злые власти, Сютаев отвечал:
— А войну кто делает? А оброки злые кто делает? Опять же в острог кто сажает? Все от них идет — от злой власти.
Войны, по взглядам Сютаева, не должно быть. Он говорил: «Война! Ты скажи: для чего она? Ведь для убивства. А коли любовь есть — какая война? Кабы двое, трое, много народу взяли да сговорились: не надо войны, не иди на войну!.. Одному ничего нельзя поделать. Ты хочешь поделать, а тебя связывают.
- 69 -
Сначала нужно, чтобы избранные с избранными. Вдруг не установится, когда мы все заблудивши, нужно поучаться друг от дружки».
— К чему присяга, а? — говорил Сютаев. — К пролитию крови. До последней капли!.. Да нешто энто возможно? Где энто нам указано, чтобы друг дружку бить, друг дружку колоть, кровь человеческую проливать? Опять же Евангелие не приказывает клясться.
Сютаеву возражали: «А турка-то! Куда ты его денешь?»
Сютаев отвечал: «Мы сами турка — вот что!.. Турка-то тоже от бога... Приди ты ко мне татарин, еврей, турка — рази я могу его тронуть? Да для меня вси равны, вси братья, вси ближние!»...
— Ну а ежели, к примеру, турка возьмет нас, завоюет — тогда что? — возражали Сютаеву.
— Он тогда нас возьмет, — отвечал Сютаев, — когда у нас любви не будет. Турки нас возьмут, а мы их в любовь обратим. И будет у нас единство, и будем мы вси единомысленные. И будет тогда всем добро и всем хорошо.
Младший сын Сютаева, Иван Васильевич, вполне проникся взглядами отца. На призыве он отказался присягать и брать оружие. Отец поддерживал его. Его судили в Свеаборге, приговорили к заключению в крепость на два с половиной года.
О судах Сютаев говорил:
— Теперь опять в острог берут. Сидит там, вором выходит оттуда пуще того. Ни один не выйдет чтобы лучче, а все хуже. Пользы нет никакой. А все сажают, все сажают... Вышняя власть, коли она добрая, должна энто дело рассмотреть.
Сютаев рассказывал, как он отказался заплатить подати волостному старшине на том основании, что оброк надо собирать «добрый, кроткий, а не то что выколачивать. Грех насилием оброк отдавать». Старшина распорядился сломать у него ворота и увести его лошадь, корову и овцу; их продали с аукциона, а деньги взяли за подати. На следующий год повторилась та же история, и опять у Сютаева лошадь и корову «угнали». «А я, — рассказывал Сютаев, — их обозвал ворами, хищниками, грабителями... Вышняя власть должна быть добрая, да; а не то, чтобы последнюю корову со двора сводить».
После этого Сютаев покорился, стал платить подати. «Но, — рассказывал он, — ни одного рубля не отдам так, чтобы не сказать: воры вы, хищники, грабители. Только уж теперь меня не гонят».
Сютаев и его последователи совершенно отрицали учение православной церкви, отвергали все таинства, обряды, не видя в них «никакой пользы», о постах говорили, что это «одна наша глупость, больше ничего». В церковь сютаевцы не ходили, потому что в церкви «правды нет».
- 70 -
В домах у себя сютаевцы не держали никаких икон, не устраивали молитвенных собраний. Не верили в существование мощей. Покойников своих хоронили где придется — в подполье, в поле. «Говорят, — сказывал Сютаев, — кладбищенское место освященное, а другие места — неосвященные. Неправда это: вся земля освященная, везде одинаковая земля».
Пругавин утверждает, что все учение Сютаева, вся его вера ни у кого не были заимствованы; все это — результат его собственных размышлений.
Сютаев рассказывал, как у него появились первые сомнения в справедливости существующего порядка. Раньше он изготовлял памятники, имел свою лавку в Петербурге и много выручал. Но увидав, что в торговле нельзя обойтись без обмана, бросил торговать, «деньги кое-куда извел» и приехал домой в деревню. Близким Сютаев рассказывал, что деньги, которые у него были (около 1500 рублей), он роздал бедным, а векселя все изорвал.
Прочитав в одной из присланных ему сыном петербургских газет сообщение о том, что он «пропагандой не занимается», Сютаев спросил Пругавина, что означает слово «пропаганта». Когда ему объяснили значение непонятного для него слова, Сютаев сказал, что это слово неправильное, и на вопрос, почему оно неправильно, ответил: «Потому, я пропагантой занимаюсь. Нельзя без энтого, нельзя без проповеди, никак невозможно! Надо проповедовать людям. Надо друг дружку научать. Без наученья ничего не будет».
Сютаев усиленно просил Пругавина написать о нем в печати и рассказать о его учении. А. С. Пругавин высказал опасение, не повредит ли ему разглашение в печати сведений о нем и его проповеди. « Но обыкновенно, — рассказывает А. С. Пругавин, — он не давал мне договорить об этом и каждый раз с жаром перебивал меня:
— Пустое все это, пустое!.. Сказано в писании: «И погонят тебя из города в город, из деревни в деревню, и поведут тебя к царям и правителям»... Ну и пусть гонят, пусть гонят. Я не страшусь, ни капельки не страшусь!.. Я рад буду. Меня куда хотите возьмите!.. А ты, Александр, уж сделай такую милость, опиши... А я не страшусь. Вот скажите мне: закопаем тебя в яму живого — не устрашусь... Пусть гонят. Так и должно... Я жду... Берите меня...».
Что Сютаев, вопреки газетному сообщению, усердно занимался «пропагантой», — об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Л. П. Никифоров, знавший Сютаева позднее — в 1888 году.
Сам Сютаев называл свою проповедь «благовествованием». «Василий Кириллович, — рассказывает Л. П. Никифоров, — был неутомим в благовествовании. Проработав целый день, он
- 71 -
всегда готов был весь вечер до поздней ночи или благовествовать или «подгонять», т. е. разъяснять различные непонятные места книг Евангелия. А утром, глядишь, он уже ранехонько вскочил бодрый, веселый и кому-нибудь благовествует. Если пойдет куда-нибудь, то не преминет «благовестнуть» всем, кого повстречает, и если попадется человек, который заинтересуется его речами, то они долго проговорят и разойдутся друзьями, хотя Сютаев нередко возмущал собеседников презрительным отношением к церкви, попам, к обрядам и таинствам, по отношению к которым он не щадил метких и оскорбительных сравнений и уподоблений, которыми его речь была так богата. Если случалось ему повстречать девушку, боронующую в поле, он останавливался поговорить и с нею. «Бог на помочь тебе, девонька, борони себе, борони! Да что ты это все кружишься взад да вперед по одному загону? Боронила бы подряд все загоны и свои и соседские, и тебе бы с лошадкой было бы полегче и дело-то выходило бы по-божьи: ты бы другим сборонила, другие спахали бы тебе, вот все вышло бы у вас по-хорошему, все было бы сообща, и лучше бы родилось и лучше бы всем жилось». Девушка в недоумении останавливается: видит — человек старенький, не пьяный, одет хотя по-крестьянскому, а чисто, говорит хорошо, толково, но как-то чудно́, и она принимается его расспрашивать, а Василию Кирилловичу это-то и нужно. Как бы сильно он ни устал, но тут он мгновенно оживляется и благовествует, пока девушка готова его слушать.
Увидит ли он стариков, отдыхающих на заваленке, он и к ним подойдет, «поздоровается», и, слово за словом, затевается у них беседа о царствии божием и о том, как все живут не по правде его. Часто такие беседы идут ладно, слушатели с ним соглашаются, и семя падает на добрую почву, но случается, что они, возмутившись его критикой церкви и попов, грозят ему урядником. Такие угрозы, однако, нисколько не страшат его: он знает, что урядник тоже «блудник» (т. е. заблудившийся) и при столкновении с ним принимается благовествовать и ему, наводя его на истинный путь, хотя тут расплачиваться ему нередко приходилось своими «перебитыми косточками и повытянутыми жилками», что, однако, нисколько не охлаждало и не унимало его»8.
Сыновья Сютаева продавали на базаре излишки овощей, выращенных ими на принадлежавшем им участке; при этом они не обмеривали, не обвешивали покупателей, не старались, как это делали многие другие, сбыть плохой товар за хороший. Но отца их это не удовлетворяло «Что толку, — с грустью говорил старик, — что они не воруют и даже все делают по
- 72 -
чести, если они не благовествуют. По-моему, это все одно и то же, что воровство. Ты торгуешь по чести, — говорил он сыну, — а в торговле чести нет. По-моему, если уж приходится торговать — торгуй, но всем и каждому присказывай, что и продавать и покупать — все один грех. Промежду людей все должно быть общее. Тебе нужны огурцы — бери сколько требуется; мне понадобится лыко или еще что другое, и я возьму по совести. Вот никакого спора, раздора промежду нас и не будет»9.
Сютаев глубоко, всем сердцем верил в то, что «устройство» рано или поздно непременно водворится на земле. «Энто так не пройдет, — с уверенностью говорил он, — когда ли да будет».
III
На обратном пути из Торжка в Москву Толстой намеревался заехать к своему старому знакомому, бывшему профессору физиологии растений в Московском университете, основателю и преподавателю народной школы в селе Татаево Бельского уезда Смоленской губернии С. А. Рачинскому. Школа Рачинского очень интересовала Толстого, и он давно хотел побывать в ней и познакомиться с методами обучения, применявшимися Рачинским. Проезжая через город Осташков, Толстой отправил Рачинскому телеграмму с вопросом, «когда и куда» можно к нему приехать, прося прислать ответ на станцию Торжок. Но телеграмму Толстого Рачинский получил только 10 ноября, и потому встреча их не состоялась.
Толстой очень мало рассказывал о своем посещении Сютаева, но и то, что он рассказал, очень характерно для своеобразного крестьянского мыслителя 80-х годов прошлого века.
Во время посещения Толстого у дочери Сютаева и у его снохи было по грудному ребенку. Зная это, Толстой в разговоре с Сютаевым высказал мнение, что вот одна из причин разделения между людьми: каждая мать кормит, нянчит и лелеет своего ребенка, а потому, естественно, и любит его больше других детей. Но Сютаев на это возразил: «А к чему же это так? Разве нельзя по иному, примерно, вот как у нас. Они не разбирают, чей ребенок — ее или не ее, а кого нужно покормить или покачать, того и покормит и покачает та молодуха, которая сейчас в избе». И Сютаев указал на свою дочь Домну, которая в это время кормила ребенка снохи, убиравшей скотину.
«Эта мысль и наглядное применение ее в жизни привели
- 73 -
Льва Николаевича в восторг, и впоследствии он не раз приводил это в пример того, как при разумной жизни можно уменьшить и ослабить разъединения между людьми и достигать большего равенства»10.
В 1885 году в трактате «Так что же нам делать?» Толстой писал: «За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев»11.
Глубоко запомнилось Толстому одно изречение Сютаева, которое тот часто повторял: «Все в табе, в любви». Это изречение Толстой любил приводить в разговорах; встречается оно и в записи его дневника. 12 августа 1908 года, чувствуя себя близким к смерти, Толстой продиктовал большую запись в дневник, в конце которой между прочим сказал: «Да, все в тебе..., как говорил Сютаев»12.
В 1905 году Толстой, занятый составлением сборника изречений мудрых людей «Круг чтения», один из отделов сборника назвал сютаевским изречением «Все в тебе».
В 1909 году в разговоре со своим единомышленником, тульским крестьянином М. П. Новиковым, жаловавшимся на обиды от пьяных односельчан и уверявшим, что и сам Лев Николаевич на его месте заражался бы чувством злобы, Толстой возразил:
— Все в табе. Он бы [пьяный мужик] только тогда заражал меня, если у меня самого есть восприимчивость к злобе...13
В 1908 году Толстой перечитывал статью А. С. Пругавина «Сютаевцы» и при этом сказал: «Я весь полон Сютаевым. Вот истинное просвещение!.. Безграмотный, а все знает. Все, что я пишу теперь, — это дурным языком пересказываю то, что у него сказано ясно... Немного он не освободился от некоторых суеверий...»14 В последних словах Толстой разумел стремление Сютаева аллегорически понимать многие места Библии.
Но не следует преувеличивать влияние Сютаева на Толстого.
В 1891 году в беседе с его немецким биографом Р. Левенфельдом Толстой, имея в виду не одно первое знакомство, но и последующие свои встречи с Сютаевым, сказал: «Я беседовал
- 74 -
с ним и нашел в нем серьезного и просвещенного человека. Правда, он пробовал повлиять на меня, но в то время, когда я познакомился с ним, мои воззрения уже настолько были тверды, что о влиянии на меня даже самого высокообразованного лица не могло быть и речи»15.
21 мая 1893 года в письме к автору книги «Le Tolstoïsme» Феликсу Шредеру Толстой, признавая точность изложения его миросозерцания французским автором, в то же время выражал недовольство тем, что Шредер писал о влиянии на него крестьян Сютаева и Бондарева. «Кажется, — писал Толстой, — в «Так что же нам делать?», желая привести разительный пример ничтожности влияния, произведенного на меня научной литературой, я где-то сказал, что ни одно писание в течение всей моей жизни не оказало на меня столько влияния, как мысли двух крестьян, которые едва умеют читать и писать. Это выражение было не только понято в буквальном смысле, но отсюда сделали вывод, что убеждения, которые я исповедовал, были заимствованы у Сютаева и Бондарева... Не то что я бы не хотел, чтобы меня считали последователем мужика, — я ничего не имею против этого, и во много раз предпочитаю, чтобы меня считали последователем мужика, чем какой-нибудь школы, слывущей научной, — но дело в том, что было бы по меньшей мере странно заимствовать мысли у ученика, когда имеешь перед собой учение учителя»16 (т. е. Христа).
Близкому по взглядам немецко-мадьярскому писателю Эугену Шмиту Толстой писал 27 марта 1895 года: «Вы спрашиваете о Сютаеве. Он умер уже пять лет тому назад. Сютаев не принадлежал ни к какой известной секте, а он был одним из тех явлений самозарождения свободомыслящего, протестующего против лжи мира христианского мировоззрения. Ваше суждение в статье о русских сектантах и моем отношении к нему совершенно ошибочно. Я очень рад был встретить в нем человека, одной стороной своего верования совпадающего со мной и пытавшегося прилагать к жизни христианское учение, и старался помогать ему в этом, но никак не мог быть его учеником, как это почему-то придумали французы, всегда толкующие о разных вопросах, как слепой о красках, прочтя в моей книге фразу, в которой я говорил, что я получил от безграмотного Сютаева больше поучения, чем от всей научной мудрости ученых»17.
- 75 -
Таким образом, приходится признать очень преувеличенным мнение о том, будто бы Сютаев «имел огромное влияние на Толстого в период определения его религиозных взглядов» и что «Лев Николаевич всегда говорил о Сютаеве как об одном из главных своих учителей»18.
IV
5 октября 1881 года Толстой записал в дневнике:
«Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.
Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками»19.
Находясь в таком душевном состоянии, видя в городской жизни одно только зло, Толстой более напряженно, чем когда-либо раньше, искал «кругом души родной».
Он вспомнил о необычайном человеке, с которым он познакомился еще в 1878 году, изучая материалы о декабристах, — библиотекаре Румянцевского музея, Николае Федоровиче Федорове. Толстой возобновил с ним знакомство и был поражен его суровым образом жизни. Побывав у него, Толстой записал в дневнике 5 октября: «Николай Федорыч — святой. Каморка. Исполнять! — это само собой разумеется. — Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели». Подушкой ему служили газеты.
Ограничив свои потребности самым необходимым, Н. Ф. Федоров большую часть своего скудного заработка отдавал неимущим. К деньгам Федоров относился с какой-то брезгливостью. «Как их ни трать, — говорил он, — они все остаются, проклятые».
Один из знакомых Н. Ф. Федорова говорил, что костюм, в котором он ходил в библиотеку, «бедным назвать было бы недостаточно».
Вернувшись в свою каморку, Н. Ф. обедал чем попало, по большей части только пил чай с хлебом, ложился спать на голом сундуке часа на полтора, затем читал и писал до 3—4 часов ночи, опять засыпал часа на два и, напившись чаю, часов в 7—8 шел в Музей. И такую жизнь вел он десятки лет. Замечательно,
- 76 -
что он не только не считал себя аскетом, но даже сердился, когда ему об этом говорили»20.
Несмотря на свое глубокое уважение к образу жизни Н. Ф. Федорова, Толстой не мог близко сойтись с ним вследствие совершенного расхождения их взглядов на жизнь.
Федоров исповедовал мистическое учение, провозглашающее, что «общее дело» всего человечества должно состоять в том, чтобы «воскресить» всех умерших людей. «Воскрешение» это должно совершиться с помощью науки, и потому-то, веря в такое назначение науки, Федоров и работал библиотекарем. Он считал своей обязанностью помогать каждому серьезно занимающемуся читателю, в какой бы отрасли науки тот ни работал. Обладая огромной эрудицией в области библиографии, Федоров, заметив, что какой-нибудь читатель библиотеки упорно изучает все работы по какому-либо вопросу, подкладывал этому читателю целый ряд неизвестных ему и нужных книг.
На почве безграничного пиетета к книге у Н. Ф. Федорова произошло столкновение с Толстым.
Один раз, когда Толстой пришел в библиотеку Румянцевского музея, Федоров пригласил его в книгохранилище, чтобы он сам мог выбрать нужные ему книги. Войдя в книгохранилище, Толстой оглядел длинные ряды высоких шкафов со стеклянными дверцами, сверху донизу наполненных книгами, и тихим голосом задумчиво произнес:
— Эх, динамитцу бы сюда!21
«Я видел Николая Федоровича, — рассказывает А. С. Пругавин, — несколько дней спустя после только что описанной сцены. Всегда спокойный, добродушный и приветливый, на этот раз он весь горел, кипел и негодовал»22.
Этот инцидент не расстроил добрых отношений между Толстым и Федоровым, но Федорову вскоре пришлось разувериться в возможности привлечь Толстого на свою сторону. Достоевский мог серьезно отнестись к фантазиям Федорова23, но Толстой не мог этого сделать. 14 января 1889 года Толстой
- 77 -
записал в дневнике свое мнение о взглядах Федорова: «...встретил Николая Федоровича и с ним беседовал. У него вроде как у Урусова в жизни и книгах не то, что есть, а то, что ему хочется. И интонации уверенности удивительные. Всегда эти интонации в обратном отношении с истиною. Ему пластырь надо»24.
Федоров, видя равнодушие Толстого к «общему делу», как он его понимал, стал все более и более резко нападать на него и устно, и в своих статьях и письмах. «При каждой встрече с моим отцом, — рассказывает С. Л. Толстой о Федорове, — он требовал, чтобы отец распространял эти идеи [о «воскрешении» умерших]. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, обижался и не мог ему этого простить»25.
В 1904 году на мой вопрос, почему Федоров относился к нему неприязненно, Толстой ответил: «Потому что я не разделял его взглядов», и прибавил: «Он меня прямо ненавидел».
Окончательный разрыв между Федоровым и Толстым произошел в 1892 году. Причиной разрыва послужили не мистические чаяния Федорова, которых не разделял Толстой, и не нравственные убеждения Толстого, отрицавшего всякое насилие, а монархические и консервативные убеждения Федорова.
С осени 1891 года вплоть до весны 1892 года Толстой был поглощен устройством столовых и другими видами помощи голодающему населению Рязанской губернии. К этому же периоду относится написание Толстым статьи «О голоде», являющейся одной из самых резких обличительных статей против общественно-политического строя России того времени. Ежедневно сталкиваясь с вопиющей нуждой и голодом трудовой крестьянской массы, Толстой был преисполнен чувством возмущения против богачей и тунеядцев, продолжавших, несмотря на народное бедствие, свой праздный, роскошный образ жизни.
«Народ голоден оттого, что мы слишком сыты...», — писал Толстой. «Народ всегда держится нами впроголодь. Это наше средство, чтобы заставлять его на нас работать... Чем дешевле будет работа, т. е. чем беднее будет народ, тем мне лучше, — говорят все люди богатых классов. Какое же у нас может быть сочувствие народу?»26.
- 78 -
Статья «О голоде» не могла быть напечатана в России по цензурным условиям и впервые появилась в английском переводе в газете «Daily Telegraph» 14 (26) января 1892 года. Выдержки из статьи в обратном переводе с английского появились 22 января 1892 года в газете «Московские ведомости». В редакционной статье газета писала: «Письма гр. Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».
В конце ноября 1892 года Толстой приехал из Ясной Поляны в Москву и вскоре отправился к Федорову в Румянцевский музей. При встрече присутствовал заведующий отделом рукописей музея Г. П. Георгиевский, описавший ее в своих воспоминаниях.
«Увидев спешившего к нему Толстого, Федоров резко спросил его: «Что вам угодно?».
— Подождите, — отвечал Толстой, — давайте сначала поздороваемся... Я так давно не видал вас.
— Я не могу подать вам руки, — возразил Федоров. — Между нами все кончено.
Николай Федорович нервно держал руки за спиной и, переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.
— Объясните, Николай Федорович, что все это значит? — спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.
— Это ваше письмо напечатано в «Daily Telegraph»?
— Да, мое.
— Неужели вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.
— Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся...
Но Николай Федорович остался непреклонным, и Толстой с видимым раздражением повернулся и пошел»27.
Несмотря на полный разрыв с Н. Ф. Федоровым, Толстой до самой смерти сохранил самые добрые чувства к нему и к его памяти. В 1895 году почитатели Н. Ф. Федорова решили поднести ему адрес, прося его не оставлять службу в
- 79 -
библиотеке, и обратились к Толстому с просьбой подписать этот адрес. Толстой ответил 2 ноября 1895 года:
«Я с радостью подпишу всякий адрес, который вы напишете Николаю Федоровичу. И как бы высоко вы в этом адресе ни оценили и личность и труды Николая Федоровича, вы не выразите того глубокого уважения, которое я питаю к его личности, и признания мною того добра, которое он делал и делает людям своей самоотверженной деятельностью. Благодарю вас за то, что вы обратились ко мне»28.
В письме к Н. П. Петерсону от 1—2 февраля 1908 года Толстой называл Федорова «дорогим, незабвенным», «замечательным человеком»29.
V
Виделся Толстой в Москве несколько раз с В. С. Соловьевым, ранее дважды посетившим его в Ясной Поляне и в Москве, но вскоре увидел, что между ним и Соловьевым не может быть душевной близости. «Соловьев здесь, — писал он В. И. Алексееву во второй половине ноября 1881 года, — но он головной»30. (Характеристика В. С. Соловьева, данная Толстым, близка к той, какую дал ему Н. Н. Страхов, слушавший в Петербурге его «чтения о богочеловечестве»: «Мне приходило в голову, что это об мертвом предмете мертвым языком говорит мертвый человек»31.)
11 апреля 1884 года Толстой записал в дневнике: «Пришел Соловьев. Мне он не нужен и тяжел и жалок»32.
В середине 1890-х годов уже обнаружился полный идейный разрыв Толстого с Соловьевым.
Познакомился Толстой в Москве с учителем железнодорожной школы Владимиром Федоровичем Орловым, которого он в письме к В. И. Алексееву от конца ноября 1881 года относит к числу «людей». «Орлов — пострадавший, — писал Толстой, — два года сидел по делу Нечаева и болезненный, тоже [как и Н. Ф. Федоров] аскет по жизни и кормит девять душ и живет хорошо». В том же письме Толстой называет В. Ф. Орлова своим единомышленником33.
О своем отношении к революционерам Орлов писал, что, никогда не будучи революционером, он искренне любил их, как «истинно страдающих»34.
- 80 -
Называя революционеров «истинно страдающими», Орлов, без сомнения, разумел их страдания за народ. Истинные страдания за угнетенный и ограбленный народ были свойственны многим революционерам 1870—1880-х годов. Одно из стихотворений П. Ф. Якубовича (П. Я.) начинается стихами:
Я пою для тех, чьи души юны,
Кто страдал, как за себя, за брата35.С половины 1880-х годов имя В. Ф. Орлова все реже и реже встречается в письмах и дневниках Толстого. Последнее письмо Толстой написал Орлову в год его смерти — 13 июля 1898 года. Письмо заканчивается словами: «Дружески целую вас»36.
Своеобразная личность В. Ф. Орлова не исчезла из памяти Толстого и оставила следы в его произведениях.
22 апреля 1909 года приехавший в Ясную Поляну близкий Толстому по взглядам Ф. А. Страхов много и очень живо рассказывал о В. Ф. Орлове, которого он называл своим учителем. На другой день в дневнике Толстого появилась запись: «Странное дело. Рассказы Страхова вызвали во мне желание художественной работы»37. Тогда же Толстой начал художественное произведение из жизни революционеров под заглавием «Нет в мире виноватых», где Орлов выведен под именем учителя Соловьева38.
В начале ноября 1909 года Толстой видел Орлова во сне, находящимся будто бы в гостях у богатой помещицы. Орлов обличал жестокость и несправедливость помещичьего владения землей. Виденный им сон Толстой обработал в форме очерка, который под названием «Сон» явился заключением к написанному им в 1909 году художественному произведению «Три дня в деревне». В нем В. Ф. Орлов, выведенный под своим именем, обращается к помещику, жалующемуся на то, что крестьяне срубили и увезли несколько дубов из его леса, со словами: «Да ведь если бы они взяли не дубы, а унесли все, что есть здесь, в этом доме, то они взяли бы только свое, только все то, что они и их братья, но уже никак не вы сделали... Да ведь вы у них веками похищали не дубы, а жизни, жизни их детей, женщин, стариков, чахнущих и не доживающих естественный срок жизни...»39.
Толстой придерживался мнения, что какие бы фантастические
- 81 -
поступки ни совершали лица, которых видишь во сне, основа характеров действующих лиц сохраняется и в сновидениях. Быть может, и в данном случае негодующие речи героя «Сна» соответствовали характеру друга Толстого В. Ф. Орлова.
В дневнике 6 апреля 1884 года Толстой записал, что хотя он и дорожит «единомыслием» с ним Орлова, но не совсем верит в него. Но 6 мая того же года заметил, что он «всегда рад» Орлову40.
В письме к М. М. Лисицыну от 24 февраля 1885 года Толстой называет Орлова своим «близким другом» и сообщает, что подписывается «под каждым словом» его письма к Лисицыну41.
А. С. Пругавин в своих воспоминаниях, относящихся к началу 1880-х годов, называет Орлова «близким другом» Нечаева и рассказывает о нем: «Его беседы, споры и импровизации отличались блеском, остроумием, а нередко и глубиной содержания, обнаруживая в то же время серьезную начитанность его в области философских и религиозных вопросов. Лев Николаевич охотно встречался и беседовал с Орловым, несмотря даже на несчастную страсть последнего к вину»42.
VI
Зимой 1881—1882 года Толстой приобрел в Москве много новых знакомств.
С новыми знакомыми, приходившими по вечерам, велись «хоть и интересные, но пустые разговоры», как писал Толстой В. И. Алексееву около 25 ноября 1881 года43. В тот же день Толстой писал Н. Н. Страхову: «Интересных мне людей я вижу много, но зачем? Учиться мне уж нечему от людей»44.
Одним из новых знакомых Толстого был профессор иностранной литературы в Московском университете Николай Ильич Стороженко. Толстой хотя и подсмеивался добродушно над пристрастием почтенного профессора к Шекспиру (Толстой говорил, что при упоминании имени Шекспира Стороженко «всеми членами делает на караул»), тем не менее у него сложились
- 82 -
со Стороженко отношения взаимного уважения и доброжелательства, и впоследствии, когда Толстой работал над статьей об искусстве, Стороженко очень охотно помогал ему в подборе нужных книг.
18 ноября 1881 года у Толстого вместе с А. С. Пругавиным был руководитель народничества того времени и член редакции журнала «Отечественные записки» Н. К. Михайловский. Он не произвел на Толстого благоприятного впечатления. «Познакомился я с Николаем Михайловским, — писал Толстой Н. Н. Страхову 25 ноября. — Я ожидал большего. Очень молодо, щеголевато и мелко»45.
В этот вечер Толстой высказал свое убеждение о необходимости и своевременности освобождения земли от частной собственности, которое А. С. Пругавин записал буквально. Он говорил: «Как в 40-х годах назрел вопрос об освобождении крестьян, так и теперь назрел вопрос о поземельной реформе. Как тогда было совестно владеть людьми, так точно теперь становится совестно владеть земельной собственностью»46.
Михайловский в первой половине 1880-х годов еще не один раз был у Толстого в Москве. Впоследствии он вспоминал: «Тогда мне довольно часто случалось бывать в Москве, и я всякий раз доставлял себе удовольствие заезжать к гр. Толстому. Это был один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо встречал. Нам случалось много и горячо спорить»47. Споры касались главным образом учения о непротивлении злу насилием. Но мнение Толстого о Михайловском осталось прежнее. В 1908 году на вопрос, какое впечатление производил на него Михайловский, Толстой ответил: «Он неинтересный был человек. Я в нем ничего не видел оригинального, самобытного. Такой казенный либерализм»48.
В Москве Толстой возобновил знакомство с «последним декабристом» П. Н. Свистуновым, с которым он не раз виделся в 1878 году, когда работал над романом из эпохи декабристов. В архиве Толстого сохранилось следующее письмо к нему П. Н. Свистунова, датированное 10 ноября 1881 года: «Крайне жалею, граф, что Вы меня не застали, я так ценю редкий случай побеседовать с Вами, что без комплимента скажу Вам — досадовал на себя, что выехал из дому в такую погоду. Матвей Иванович [Муравьев-Апостол], узнав от меня, что Вы собираетесь его навестить, просил меня условиться с Вами, как оы нам в одно время быть у него, потому что он с трудом слышит
- 83 -
и говорит. Будьте так добры, когда вздумаете к нему заехать, уведомить меня о том заранее или запиской, или по телеграфу, в какой день, в котором часу будете у него, по Вашему указанию и я явлюсь. Примите уверение, Лев Николаевич, в глубоком к Вам уважении.
Вам душевно преданный П. Свистунов»49.
Бывая в Школе живописи и ваяния, куда поступила его старшая дочь, Толстой встречался с художниками Василием Григорьевичем Перовым и Илларионом Михайловичем Прянишниковым, с которыми был знаком раньше (знакомство с Прянишниковым относится к 1872 году) и познакомился с К. Е. Маковским50. Толстой часто беседовал с художниками об искусстве. «Горячие споры с В. Г. Перовым и И. М. Прянишниковым, начинавшиеся в классе, кончались «обыкновенно уже на квартире Перова за чайным столом»51.
Нередко Толстой виделся также с И. Е. Репиным и В. И. Суриковым52.
Переписка Толстого в 1881 году значительно сократилась. Временно оборвалась переписка с А. А. Толстой; совершенно прекратилась переписка с С. С. Урусовым и Фетом. Последнее письмо Фету Толстой написал 12 мая 1881 года.
После этого Фет продолжал посылать свои новые стихотворения — теперь уже не Толстому, а его жене. Софья Андреевна показывала Льву Николаевичу посылаемые Фетом стихотворения, и Толстому нравились многие из них, как, например, «Горная высь», «Осенний цветок», «Я в жизни обмирал» и другие. В одном из писем к Фету Софья Андреевна сообщала ему, что Лев Николаевич — тогда больной — читал стихотворения Шиллера в русских переводах и его, Фета, переводы находил лучшими. Он подумал, что хорошо бы Фету перевести все стихотворения Шиллера, им еще не переведенные, и издать свои переводы отдельной книжкой. Ответ Фета на предложение Толстого неизвестен.
Изредка Толстой и Фет встречались в Москве и дружелюбно разговаривали. 9 апреля 1884 года Толстой записал в дневнике: «Пошел к Фету. Прекрасно говорили. Я высказал ему все, что говорю про него, и дружно провели вечер». Затем 11 апреля: «Утром ходил к Страхову. Хорошо говорил с ним и Фетом»53.
- 84 -
Но в жизни Толстого Фет как мыслитель уже не занимал никакого места. Давно уже прошло то время, когда Толстой писал Фету (в 1876 году) о «глубокой родственности» их натур.
В 1881 году Фет решил публично выступить против взглядов Толстого. Он написал послесловие к своему переводу сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Послесловие было определенно направлено против того понимания христианства, которое излагал Толстой в своих религиозных сочинениях, хотя имя Толстого и не было названо Фетом.
Фет писал, что «христианское учение приложимо только к «внутреннему человеку», но что оно чуждо «гордыне и протесту». В конце послесловия Фет говорит, что он считал «своим нравственным долгом сказать это ввиду возникающих в последнее время учений и толкований христианства, силящихся превратить последнее в орудие против существующего порядка и закона... Для подобной цели пригодны разве какие-нибудь социалистические учения, а христианское учение на это вполне непригодно»54.
Это послесловие не появилось при переводе Фета, вероятно, по совету редактора Н. Н. Страхова, и было напечатано уже после смерти поэта.
Н. Н. Страхов в ряде писем доказывал Фету, что тот не столько не может, сколько не хочет понимать Толстого. 30 июля 1880 года Страхов писал Фету:
«Ваши письма к Льву Николаевичу читал я с большим вниманием и все-таки скажу, что Льву Николаевичу труднее жить на свете, чем Вам. Его внутреннее беспокойство, его стремительная внутренняя работа так его поглощают и волнуют, что мне не раз становилось его жаль. И он делает свое дело с величайшей искренностью и добросовестностью, и я верю, что ничего лучшего он не мог бы делать. Много было страстных разговоров — таких, что я совершенно умилялся перед чистотою, которой он достиг и которой еще больше стремится достигнуть... Лев Николаевич живет для некоторой серьезной, глубокой мысли; что может быть желательнее такой жизни? Самое его беспокойство и страдание — беда невыносимая, потому что для них есть важный повод; обыкновенно же мы мучимся всяким вздором, что поистине несносно и недостойно человека. Я очень уважаю Ваши труды и работы и защищал их от нападений Толстого; но очевидность и осязательность этих трудов еще не дает права ставить их выше внутренней работы».
Затем 14 сентября того же года Страхов писал Фету:
- 85 -
«Попробую еще написать несколько слов о Л. Н. Толстом. Вы справедливо пишете, что не понимаете, а я прибавлю, что причина в Вас, то есть не в Вашем уме, а в Вашем сердце (главная причина всякого непонимания). Нужно понять: совершенное отчаяние, отвращение от пустоты жизни, не боязнь страданий, а то, что человек не видит, для чего жить. Потом нужно почувствовать, что из этого страшного положения есть выход, полный выход, такой, что человек чувствует вдруг блаженство жизни, какого еще никогда не чувствовал. Если Вы ни того, ни другого не чувствовали, то и не можете понять, в чем дело; так сытый не понимает голодного, влюбленный непонятен хладнокровному, и т. д. Вы браните жизнь, презираете людей и пр., но это для Вас не только огорчение, а и забава, развлечение. Но попробуйте отведать настоящего отчаяния. Вот какой странный совет я Вам даю...»55.
Страхов продолжал бывать в Ясной Поляне и вести оживленную переписку с Толстым. Он был у Толстого в конце сентября, перед самым отъездом его к Сютаеву. Возвратившись в Петербург, Страхов 19 октября писал Толстому: «Не могу без грусти подумать о том настроении, в котором видел Вас».
И он пытается в очень деликатной форме указать Толстому на то, что его грустное настроение противоречит той религиозной точке зрения, с которой он, Толстой, смотрит на жизнь. Напомнив евангельское изречение «Иго мое благо и бремя мое легко». Страхов далее пишет: «На Афоне мне особенно понравились веселые монахи, ласковые, смеющиеся, — я думаю, что они ближе других к святости, да так об них говорили и другие. И Николай Федорович [Федоров] похож на них. Но Вы не можете, кажется, не страдать; Вы преувеличиваете Ваши требования, а я читал где-то, что нужно быть к своей душе так же снисходительным, как и к другим людям. Но нет! — как я стану Вас уговаривать успокоиться, когда не могу подумать без умиления об этом огне, которым Вы горите! Я готов молить: пожалейте себя, пожалейте и нас! Да ведь знаю — Вы равнодушны к этим просьбам...»
Закончил Страхов свое письмо словами: «От души прошу Вас, простите меня, если чем согрешил или против Вас, или при Вас»56.
Толстой ответил Страхову только 25 ноября. Он писал, что не только не за что ему сердиться на Страхова, но что он не знает человека, который так понимал бы его, как Страхов. Но вот какое недоумение является у него иногда. Он думает:
- 86 -
«Если этот человек [Н. Н. Страхов] так понимает меня, то как же он не разделяет моих чувств и в той же мере?»57.
Страхов уже 29 ноября ответил Толстому на его вопрос, почему он понимает чувства Толстого, но не разделяет их. «Потому, — писал Страхов, — что у меня нет такой силы чувств, как у Вас... Где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою Вы чувствуете, которою одарено Ваше сердце?.. Ваше отвращение к миру — я его знаю, потому что и сам испытывал его и испытываю, но испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит... На усилия, на крутые повороты я не способен, но знаю, что, постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего... Любить людей — боже мой, как это сладко! И в слабой степени я испытываю это чувство, я знаю его по опыту; но нет у меня силы и в этом, как и во всем другом... Не будьте же строго требовательны ко мне; я Вам обязан, вероятно, лучшими минутами своей жизни; смотрите не на то одно, что во мне дурное, а и на то, что можно найти хорошего. А впрочем — наставьте меня; я Вас охотно слушаюсь, Вы сами знаете»58.
Так ответил Страхов на недоуменный вопрос Толстого.
Но у Толстого в том же 1881 году явился корреспондент, который не только понимал, но и разделял его воззрения. Это был В. И. Алексеев, в то время живший в самарском имении Толстого.
Первое письмо В. И. Алексееву Толстой написал около 25 ноября. Письмо начиналось словами: «Спасибо вам, дорогой Василий Иванович, за письмо ваше. Думаю я об вас беспрестанно и люблю вас очень»59.
Письмо положило начало хотя и не частой, но очень дружеской переписке Толстого с В. И. Алексеевым, особенно отрадной для Толстого в первые годы его жизни в Москве.
VII
В начале октября Толстой снял для своих занятий две небольшие комнаты во флигеле того дома Волконской, где поселилась его семья.
После работы, часа в два-три, Толстой уходил за Москву-реку пилить дрова с пильщиками. «Это освежает меня, придает силы, — писал он В. И. Алексееву 25 ноября, — видишь жизнь настоящую и хоть урывками в нее окунешься и освежишься»60.
- 87 -
И. Л. Толстой в своих воспоминаниях рассказывает об отце:
«Я помню, как в первую же зиму нашей жизни в Москве он ходил куда-то за Москву-реку к Воробьевым горам и там с мужиками пилил дрова. Приходил он домой усталый, весь в поту, полный новых впечатлений здоровой, трудовой жизни, и за обедом рассказывал нам о том, как работают эти люди, во сколько упряжек, сколько они зарабатывают, и, конечно, всегда сопоставлял трудовую жизнь и потребности своих пильщиков с нашей роскошью и барской праздностью»61.
21—22 ноября Софья Андреевна писала сестре: «Левочка все хворает и тоскует, что меня совсем с ума сводит».
25 ноября Толстой, отвечая на письмо Страхова от 19 октября, писал ему о своем душевном состоянии:
«Правда, что мне тяжело. Бывает очень больно. Но боль эту не отдам за десять лет веселой, приятной жизни. Она-то мне и противна, а дорога́, хотя не боль, но та деятельность, которая может выйти из этой боли»62.
«Мне очень тяжело в Москве, — писал Толстой 25 ноября в первых же строках письма к В. И. Алексееву. — Больше двух месяцев я живу, и все так же тяжело. Я вижу теперь, что я знал про все зло, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе... И громада эта зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие. Удивляешься, как же никто не видит этого?.. Нет спокойствия. Торжество равнодушия, приличия, привычности зла и обмана давят»63.
Только В. И. Алексееву мог Толстой в то время написать такое письмо. Только один он мог понять, как мучительно тяжело переживал Толстой праздность и роскошь жизни привилегированных классов, их равнодушие к народным страданиям и всю «громаду соблазнов», порождаемых такой жизнью. Все это Толстой наблюдал и в жизни своей семьи, и в жизни окружающих.
Рассказав далее в том же письме к В. И. Алексееву о своих новых знакомствах в Москве, Толстой писал:
«Кроме того, пишу рассказы, в которых хочу выразить мои мысли».
Известен только один рассказ, написанный Толстым в последнее месяцы 1881 года, — легенда «Чем люди живы». Можно отнести к данному времени также начало повести «Смерть Ивана Ильича».
- 88 -
Толчком к написанию этой повести послужила смерть 2 июля 1881 года члена Тульского окружного суда Ивана Ильича Мечникова, родного брата известного биолога Ильи Ильича Мечникова. Об этом есть свидетельство самого Толстого, сделанное в 1909 году в беседе с журналистом С. П. Спиро. После посещения Ясной Поляны Ильей Ильичом Мечниковым Толстой сказал: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича — даже моя повесть «Смерть Ивана Ильича» имеет некоторое отношение к покойному, очень милому человеку...»64
По своей основной идее «Смерть Ивана Ильича» вполне соответствует тому взгляду на жизнь господствующего меньшинства, который Толстой развивал в письмах и дневниках 1881 года. Основная идея повести «Смерть Ивана Ильича» выражена в следующей характеристике, которую автор дает от себя прошлой жизни своего героя: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная». Такою же представлялась в то время Толстому и жизнь большинства представителей привилегированных классов65.
25 ноября Толстой писал Н. Н. Страхову: «...Был все это время в очень напряженном состоянии... Работы я никакой еще не начал настоящей. Написал рассказ в детский журнал («Детский отдых»), и то нехорошо и с ужасным насилием над собой»66.
Этот рассказ или, точнее говоря, легенда, которую Толстой в письме к жене ранее называл «Петиной историей», появился под названием «Чем люди живы» в номере 12 журнала «Детский отдых», издававшегося П. А. Берсом и В. К. Истоминым. Цензурное разрешение этого номера датировано 18 ноября 1881 года.
В основу легенды положена сделанная Толстым запись одного из рассказов гостившего у него в 1879 году олонецкого сказителя былин В. П. Щеголенка67.
- 89 -
Однако легенда, рассказанная Щеголенком, не народного, а книжного происхождения. Сюжет этой легенды принадлежит к числу так называемых бродячих или странствующих сюжетов. Тема этой легенды может быть выражена в следующих словах: часто люди видят, как те, кто совершенно ни в чем не повинен, терпят бедствия и переносят страдания, и это вызывает в людях негодование и мысль о том, что бог жесток и несправедлив по отношению к этим людям. Но такое суждение ошибочно. В конце концов все, что нам посылается провидением, все то, что люди считают злом, обращается в добро и благо, и таким образом раскрывается премудрость и справедливость бога.
Древнейший вариант этой легенды находим в Вавилонском Талмуде (V—VI вв.), другой вариант легенды появляется в Коране Магомета и в арабских сказках «1001 ночь». В средние века легенда входит в состав западноевропейских сборников на латинском языке «Жизни отцов» и «Римские деяния». Легенда становится известной в Византии, откуда переносится на Русь и появляется в церковно-славянских сборниках житий святых и поучений, известных под названием «Прологи». Здесь легенда помещена на 21 ноября и названа «О судех божиих не испытаемых»68.
Существуют польские, болгарские, белорусские, украинские, румынские, хорватские, исландские, сицилийские, бретонские, испанские, великорусские варианты той же легенды. В 1890-х годах три варианта легенды были записаны в Харьковской губернии. Под названием «Ангел» легенда вошла в сборник «Русские народные легенды», составленный А. Н. Афанасьевым.
«В общем, — пишет проф. Н. Сумцов, — старинные, в особенности западные латинские варианты стоят в моральном отношении очень низко и далеко уступают позднейшим народным вариантам, не говоря уже о рассказе Толстого, где старая жестокая легенда преобразована в истинный перл гуманности»69.
- 90 -
VIII
Художественная обработка легенды, рассказанной Щеголенком, потребовала от Толстого большого труда. В его архиве сохранились 32 рукописи и корректуры, относящиеся к данной легенде, в том числе девять вариантов начала. Заключение (рассказ ангела о том, что он «понял») переделывалось Толстым восемь раз70.
В первой редакции легенды, носящей название «Ангел на земле», действуют рыбак и его жена. Ангел по приказанию бога «вынимает душу» и у рыбака, когда он в бурю ловит рыбу на море, и у его жены, которая только что родила двойню. В этом Толстой отступил от рассказа Щеголенка, где нет ни рыбака, ни моря; о жене, родившей двойню, сказано только, что она жила «в городу». Невольно является вопрос: рыбак, уехавший в бурю на лодке ловить рыбу (этим только он зарабатывал себе на хлеб) и его жена, родившая двойню и затем умершая, — не навеяны ли они воспоминанием о стихотворения Виктора Гюго «Бедные люди», которое Толстой называл «классической вещью»71 и поместил в переводе во второе издание «Круга чтения»? Только в четвертой редакции начала легенды исчезают рыбак и его жена.
В пятой редакции начала легенды действие переносится из приморья в русскую деревню центральной полосы.
Первое лицо, с которым встречается читатель, сапожник Семен, живущий в деревне на квартире у мужика, а также его жена Матрена наделены совершенно типическими чертами людей из народа того времени; совершенно реальна и обстановка, в которой протекает их жизнь.
Сапожник с женой и детьми кормился своей сапожной работой. «Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест», — сказано о сапожнике. «Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу».
Жена сапожника, когда муж ушел получать с заказчиков деньги за работу, задумалась над тем: когда хлебы ставить — нынче или завтра? «Если, — думает она, — Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».
Так жили сапожник Семен и его жена Матрена.
Вполне реален также образ барина, приехавшего к сапожнику заказывать из хорошего материала такие сапоги, чтобы «год не поролись, не кривились». В черновой редакции легенды
- 91 -
барин изображается такими чертами: «Барин толстый, дородный, красный, как говядина сырая, вошел в избу, чуть насилу в дверь пролез и чуть головой до потолка не достает. Шуба на барине дорогая, на толстом пальце кольцы как жар горят... Ребята со страху по углам забились. Барин оглядел всех сверху и заговорил, что стекла затряслись... Говорит барин, как криком кричит, отдувается, глазами катает то на Семена, то на Михайлу... Накричал барин, оставил товар, вылез из двора. Посадил его лакей в тарантас, и загремел барин вдоль по слободе»72.
Еще более живой портрет «барина» дается в окончательном тексте легенды. Когда барин вошел в избу, «встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый, и Михайло худощавый, а Матрена и вовсе, как щепка, сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея, как у быка, весь, как из чугуна вылит». Стал Семен мерку снимать с ноги барина — «не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно, толстая». Когда мерка была снята, «надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся о притолоку головой. Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал».
Как будто думая, что читатель все еще недостаточно проникся антипатией к барину, Толстой заставляет Семена и его жену после отъезда барина вести о нем разговор. Семен говорит: «Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало». Матрена вторит: «С житья такого как им гладким не быть? Этакого заклепа и смерть не возьмет».
Фет восхищался типичностью изображения «барина» в легенде Толстого. Он находил в этом лице большое сходство со знакомым ему помещиком Александром Никитичем, умершим при почти таких же обстоятельствах, при которых умирает барин у Толстого. «Мне всегда казалось, — писал Фет, — что личность заказчика сапогов в «Чем люди живы» навеяна Льву Толстому личностью Александра Никитича Но что всего страннее — это то, что в иллюстрации В. Шервуда 1882 года общий тип заказчика, с которого снимают мерку, очень напоминает Александра Никитича»73.
Не забыта была Толстым и излюбленная им диалектика души — более элементарная, чем в его предшествующих произведениях, сообразно большей элементарности психологии действующих
- 92 -
в легенде лиц и главное — читателя, которому предназначена легенда.
Рассказывается, что когда Семен увидал у часовни нагого человека, он сначала прошел мимо, опасаясь, «как бы худо не было». Но потом «зазрила его совесть», и он укоряет сам себя: «Ты что же это, Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь... Ай, Сема, неладно!» Он вернулся и надел на голого человека кафтан и обул его в валенки.
И далее, отправляясь домой вместе со странником, сапожник думает о том, как жена будет его бранить за то, что он без шубы и без кафтана придет домой, да еще голого с собой приведет. «И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце».
Вся легенда написана простым языком, близким к народному разговорному языку.
Толстой воспользовался некоторыми выражениями, записанными им на Киевском шоссе от прохожих и странников, как, например, «ангельская душка млеет», «только и воску в свече, что она», «ужимается», «пословица не мимо молвится» и др.74 Выражение «вскружился и год» буквально заимствовано из рассказа Щеголенка75.
IX
Хотя Толстой и писал Страхову, что он работал над рассказом «Чем люди живы» «с ужасным насилием над собой» (что вызывалось его тяжелым душевным состоянием), но после многочисленных переработок произведение в художественном отношении вышло безупречным.
По своему нравственному миросозерцанию Толстой сочувствовал основной мысли древней легенды. Кроме того, он самим опытом своей продолжительной жизни был приведен к убеждению, что часто «из дурного делается самое хорошее»76.
Но в рассказе «Чем люди живы» мысль «о судех божиих не испытаемых» совсем не занимает того центрального места, которое отведено ей как в пересказе Щеголенка, так и в древних вариантах легенды. Недаром когда-то профессор
- 93 -
Л. И. Пономарев, сравнивая в своем докладе легенду Толстого с пересказом Щеголенка (по записи местного священника), упрекал Толстого в том, что он «стушевал идею о промысле божием»77.
У Щеголенка ангел «ухмылил» не три раза, как у Толстого, а только два: первый раз, когда он увидал в окно двух девочек, которых вскормила и вспоила чужая женщина, и второй раз, когда барин приехал заказывать сапоги такие, чтобы «год не кривились, не поролись». Первой улыбки ангела, когда в лице ранее сердитой Матрены он увидел доброту, у Щеголенка нет совсем. Ни у Щеголенка, ни в других вариантах легенды нет ничего подобного той сцене, которой Толстой заканчивает легенду, когда ангел разъясняет, что люди живы одной любовью: кто не любит, тот не живет.
Почти за пятнадцать лет до того, как Толстой записал легенду в пересказе Щеголенка, он в «Войне и мире» как бы мимоходом роняет мысль: «Проснулась любовь, и проснулась жизнь». Этими словами Толстой заканчивает ту главу романа, где описывает, как Наташа, после того, как был убит на войне ее брат Петя, всю себя отдает заботам об убитой горем матери, забыв про свое личное горе. Но то, что в романе-эпопее было только наблюдением гениального автора, теперь, через пятнадцать лет, стало во главу его понимания жизни и легло в основу всех его художественных и теоретических произведений.
«Чем люди живы» было первым печатным произведением Толстого, вышедшим в свет после пережитого им перелома в миросозерцании. Это был «народный рассказ», положивший начало в последующие годы многим другим таким же рассказам.
X
Новое произведение Льва Толстого, появившееся после четырехлетнего перерыва78, естественно, вызвало ряд отзывов в периодической печати и откликов в частной переписке.
В. В. Стасов, горячий поклонник художественного таланта Толстого и, в частности, его мастерства создавать «внутренние монологи», в письме к Толстому от 20 января 1882 года откликнулся на появление «Чем люди живы» следующим восторженным отзывом: «Мне до страсти хотелось сказать вам, до какой степени я пришел в восхищение от вашей легенды «Чем люди живы» в «Детском отдыхе». Уже один язык выработался
- 94 -
у вас до такой степени простоты, правды и совершенства, какую я находил еще только в лучших созданиях Гоголя. А потом эти разговоры — solo, с самим собою, и сапожника, и его жены, — какое это совершенство!! Почти у всех разговор действующего лица с самим собою является чем-то искусственным, условным и невероятным по форме. У вас же — это одна из высших ваших сил по правде и истинности. Разговоры solo, с самим собою, неправильное и капризное течение мыслей у человека являлись у вас chef d’ouvre’ами всегда еще когда вы писали разные сцены князя Андрея в «Войне и мире», в «Детстве и отрочестве», в «Метели» и т. д.; на мои глаза, эти разговоры с самим собою были еще выше и глубже у Анны Карениной; но нынче, на мои глаза, эти разговоры вышли с еще большею силой и правдой у сапожника и его жены (ждущей возвращения мужа), потому что они та́к сжаты, та́к естественны, та́к быстры»79.
Н. Н. Страхов напечатал небольшую, но очень компактную статью о рассказе «Чем люди живы», появившуюся в газете «Гражданин».
«Новое произведение графа Л. Н. Толстого, — так начал свою статью Н. Н. Страхов, — на которое, конечно, с жадностию бросились все его почитатели, произвело на этот раз особенно сильное впечатление. Когда этот голос раздается среди шума нашей литературы, он всегда покрывает этот шум — покрывает не блеском и треском, а тем тоном искренности и простоты, перед которым все другие и даже громкие речи вдруг начинают казаться напускною риторикой, умышленною шумихой. Но на этот раз в маленьком рассказе Л. Н. Толстого послышалась еще особая нота, такая глубокая и нежная, что она схватила за сердце самых равнодушных. Самое главное достоинство всего рассказа есть, конечно, удивительная сердечная теплота, и легко видеть, что эта теплота находится в прямой связи с занятиями Л. Н. Толстого в последнее время..., с занятиями той книгой, из которой взяты восемь эпиграфов, стоящих перед рассказом... Евангельский дух, евангельская точка зрения — вот что поразило читателя, поразило неожиданно и неотразимо. Неожиданно потому, что этот дух едва в нас теплится, давно заглушён и ежедневно заглушается другими влияниями; неотразимо потому, что он явился в действительно художественной форме, то есть самой ясной и выразительной из всех форм».
«Чем люди живы?» — спрашивает далее критик. И отвечает: «Они живы любовью, и рассказ состоит в изображении этой животворной любви... Эти подвиги и действия любви
- 95 -
изображены со всей ясностию, то есть изображены не одни внешние поступки, а самые души людей и то, что происходит в этих душах...
В рассказе Л. Н. Толстого не совершаются какие-нибудь чрезвычайные жертвы и подвиги. Да и люди, которые здесь действуют, не имеют в себе ничего героического; это — самые обыкновенные люди, скорее маленькие, чем большие люди, по размерам своих душ... Во всем этом наш автор остался верен самому себе. Главный фон всех произведений Л. Н. Толстого есть описание самых обыкновенных людей и самых обыкновенных событий.
Но откуда же неотразимое впечатление этого рассказа? В чем его сила? Без сомнения, в том, что художник стал совершенно в уровень с этими людьми, что он смотрит на них не сверху и не снизу, а прямо, как на равных, как на братьев, как на своих. Он даже стал говорить их языком так же, как он здесь думает их мыслями и чувствует их чувствами. Тон рассказа поэтому несколько уклоняется от прямого тона самого художника, это, собственно, народный рассказ, пересказанный Л. Н. Толстым. Пересказ этот, однако, таков, что народное сказание делается в нем для нас вполне понятным, исполненным глубокого смысла, какого мы никогда не сумели бы найти в простом народном сказании...
Художник не только не заставляет нас смотреть на описанных лиц сверху вниз, но, напротив, поднимает нас до уровня этих лиц, дает нам чувствовать в их мыслях и действиях веяние истинной жизни, внушает нам, что от нас самих, пожалуй, постоянно несет «мертвым духом», и что сапожник Семен со своею семьей более достоин общества ангелов, чем мы с вами, любезный читатель»80.
Так неожиданно друг Толстого закончил свою статью ироническим обращением к сиятельным графам и князьям, составлявшим континент читателей газеты, издававшейся князем Владимиром Мещерским.
Вскоре в той же газете «Гражданин» появилась другая статья о «Чем люди живы», написанная критиком консервативно-церковного направления К. Н. Леонтьевым. Статья эта может служить образцом того сумбура, до которого доходил талантливый критик под влиянием монархически-церковного склада воззрений81.
- 96 -
В начале статьи К. Н. Леонтьев писал: «Высокое, трогательное и местами слегка забавное, изящное и грубое — все это сплетается одно с другим, сменяет друг друга точно так же, как бывает в действительной жизни, верно понятой и прочувствованной». Но далее критик утверждал, что понимание Толстым христианства в его легенде односторонне. Толстой, по его словам, выбрал к своей легенде из Послания Иоанна восемь эпиграфов и все на тему о любви. А для полноты, — говорит Леонтьев, — нужно было бы привести еще эпиграфы из посланий апостольских, говорящие «о наказаниях, о страхе, о покорности властям, родителям, мужу, господам». Слово «господам» подчеркнуто. И это писалось через двадцать лет после отмены крепостного права, о котором, очевидно, сожалеет автор!
Грубый окрик барина на сапожника и его мастера Леонтьев объясняет тем, что барин «не верит в честность русских мастеровых». Напротив, сапожник и его жена осуждаются критиком за их «противный» разговор по отъезде барина, на стороне которого все симпатии критика.
В том же 1882 году Леонтьев вторично выступил против легенды Толстого в брошюре «Наши новые христиане Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой», где перепечатал свою рецензию из «Гражданина». Брошюра вызвала обстоятельный и язвительный отзыв Н. С. Лескова, напечатанный под названием «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи. (Религия страха и религия любви)»82.
В первых же строках статьи Лесков называет брошюру Леонтьева «пропитанной ядом нетерпимости», содержащей «тяжкое и в то же время любопытное обвинение в ереси двух любимых русских писателей: графа Льва Николаевича Толстого и покойного Федора Михайловича Достоевского».
«Ересь — слово не шуточное, — писал Лесков. — В старину обвинение в ереси считалось очень серьезным и важным и угрожало обвиняемому весьма тяжелыми и огорчительными, а иногда и роковыми последствиями, как то: отлучением от церковного общения, проклятием, лишением сана, имущества, ссылкою и даже смертною казнию, — и притом часто самою лютою и самою мучительною... Конечно, в настоящее время из-за брошюры г. Леонтьева не предадут посмертной анафеме Достоевского, а также не сожгут на костре и даже не отправят в ссылку гр. Толстого, но зато сам г. Леонтьев ровно ничем не рискует и притом имеет перед обвиняемыми большие шансы — удерживать за собою последнее, победоносное слово. Достоевский уже мертв и ничего не ответит, а граф Лев Николаевич, хотя благодаря бога и жив, но и он, конечно, не может отвечать на
- 97 -
подобное обвинение тем же печатным путем. Или, по крайней мере, он не может исполнить этого со всем тем чистосердечием, которого требуют серьезность вопроса и личное достоинство искреннего человека. Известный эпизод с религиозною статьею графа в «Русской мысли» вполне г-на Леонтьева на этот счет обеспечивает» (Лесков имел в виду запрещение «Исповеди» в майской книжке «Русской мысли» за 1882 год).
Заметив попутно, что Достоевский был недостаточно начитан в духовной литературе, Лесков писал: «Совсем иное в этом отношении представляет благочестиво настроенный и философски свободный ум графа Л. Н. Толстого, в произведениях которого, — как напечатанных, так еще ярче в ненапечатанных, а известных только в рукописях, — везде видна большая и основательная начитанность и глубокая вдумчивость».
Приводя подлинные библейские тексты, Лесков уличил Леонтьева в неверном толковании основ христианства и неосновательности его упреков Толстому. Он опроверг также обвинение Толстого в «одностороннем демократизме» его легенды, доказав, что персонажи из народа изображены Толстым «с художественным соблюдением верности склада их речи и их простонародного миросозерцания» и что «общее впечатление рассказа глубоко-трогательное и способное возбуждать самые добрые чувства».
Заканчивая свою обширную статью, Лесков писал: «Многую простоту предполагает г. Леонтьев в своих читателях и почитателях, но наипаче — напрасно он подъемлет свои неискусные руки на таких людей, как Достоевский и особенно граф Лев Николаевич Толстой, христианские идеалы которого прелестны, чисты и, как сам он где-то признался, — освящены глубоким душевным страданием, доходившим у него «до разделения души с телом».
Вполне отрицательное отношение к легенде Толстого, хотя и в очень вежливой форме, было высказано на страницах консервативных «Московских ведомостей», выходивших под редакцией М. Н. Каткова83.
Начав свою рецензию с указания на то, что «известный рассказ» Толстого вышел в издательстве «Общества распространения полезных книг», рецензент далее пишет: «Мы оставляем открытым вопрос о том, насколько соответствует рассказ гр. Толстого потребностям и задачам народного чтения и представлялась ли действительно нужда в народном издании его, то есть в издании, стоющем лишь восемь копеек — по этому вопросу можно иметь разные взгляды. Мы думаем, что это не есть произведение, написанное с исключительною целью чтения
- 98 -
для народа, что, имея в виду эту цель, автор иначе отнесся бы к некоторым подробностям».
Какие именно «подробности» не нравились критику «Московских ведомостей» — видно из окончания его рецензии: «Рисунки академика Шервуда отлично задуманы и художественно исполнены фотографией Шерера и Набгольца. Особенно удачна фигура ангела и, как в самом рассказе, наименее удачна фигура барина». Из этих слов рецензента явствует, что, по его мнению, в легенде Толстого не соответствовала «потребностям» народа именно фигура «барина». Распространение в народе той характеристики этого персонажа, которую дает Толстой, очевидно, считалось критиком недопустимым и опасным.
Рецензия К. Н. Леонтьева на рассказ «Чем люди живы» вызвала резкую критику в форме письма к автору редактора славянофильской газеты «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова. Оценка «Чем люди живы» Гиляровым-Платоновым могла бы служить также и ответом на рецензию «Чем люди живы», появившуюся в «Московских ведомостях».
Определив статью Леонтьева как фарисейскую — не в смысле лицемерия, а в смысле «преувеличенного служения букве и форме», Гиляров-Платонов так оценивал легенду Толстого:
«Рассказ Толстого я признаю высоким во всех отношениях, признаю за ним и самую спасительную, воспитательную силу. Я видел и опыты. Я читал и заставлял читать его в кругу простых слушателей и видел, что́ производило и какое производило впечатление... Вы возноситесь истинно на высоту небес; перед вами раскрывается совершенно противоположное мнение вашему — истинно святыня. Рассказ есть легенда. Когда я задумывал писать самостоятельную рецензию, я и хотел начать ее вопросом: нашел ли эту легенду Толстой готовою в народе или создал ее? В том и другом случае это есть высочайшее произведение: до такой степени воспроизвести нравственное мировоззрение народа, начиная с сущности и кончая выражением — выражением в обширном смысле и самых образов и языка!
С последней точки зрения я нахожу возразить только против одного слова: «одиночество». Это деланное, не русское слово84. Но все остальное, до последней буквы, каждое слово, каждый оборот, отсутствие синтаксиса (искусственного), потом образы (типы и события), в которых олицетворилась притча, все это совершенство. Совершенство, помимо внешней художественности, потому еще, что — хотите знать мое мнение? — наш народ если еще остается в христианстве или, точнее, если и насколько вкусил христианства, тем обязан именно подобным легендам и ничему более. Остальное есть идолопоклонство, хотя
- 99 -
во внешней христианской форме. Народ верит чрез образы и воспитывает себя в нравственных правилах чрез образы же и воплощенные притом в легендах, подобных переданной Толстым»85.
В конце своего письма Гиляров-Платонов высказывал предположение, что, кроме «фарисейского» анализа легенды Толстого, появится еще критик, который «разложит ее, обратит в ничто и даже скажет, что она вредна». Подобным критиком явился писатель народник П. Засодимский, который главный недостаток рассказа Толстого видит в смешении «чисто реальных явлений с явлениями сверхъестественными»86. Автор, как и многие другие, ошибочно причислял произведение Толстого к жанру рассказов и обнаруживал полное незнакомство с народными легендами, сказками, в большинстве которых так же, как у Толстого, как и в пересказе Щеголенка, имеется то, что рецензент считал недостатком: обильное смешение реальных явлений со сверхъестественными.
Близка к взгляду Засодимского и точка зрения рецензента журнала «Женское образование». Разбирая в одной статье «Чем люди живы» и рассказ Савихина «Суд людской — не божий», рецензент пишет: «Рассказы гр. Л. Н. Толстого «Чем люди живы» и И. Савихина «Суд людской — не божий» бесподобны в первых своих частях, где авторы держатся на реальной почве действительной жизни. Пока гр. Толстой рассказывает о том, как жили Семен и Матрена и как они приняли к себе Михайлу, вы как бы живете около этих людей — до того рассказ правдоподобен. Но как только Семену и Матрене является видение, говорящее каким-то труднопонятным языком, читателю становится ясно, что все это выдумано, и повествование теряет для него свою прелесть»87.
В рецензии журнала «Народная школа» о легенде Толстого было сказано: «Рассказ «Чем люди живы» чересчур много говорит и уму и сердцу — так много, что вряд ли может быть понятен читателю малоразвитому. Вообще нужно признаться, что это — рассказ, о котором если заводить речь, пришлось бы писать целый критический трактат... Рассказ этот, выражая собою миросозерцание автора «Исповеди», доступен пониманию лишь тех, чьему пониманию доступна сама «Исповедь». Единственная черта, которая действительно отмечена автором с замечательною меткостью, — черта бытовая, а потому доступная пониманию каждого читателя без различия возраста и развития.
- 100 -
Приводим то место рассказа, где эта черта выразилась с особою силою».
[Выписывается отрывок из IV главы «Чем люди живы», от слов «Долго не спала Матрена» до конца.]
Вот эта черта — забота о ближнем, радушие и гостеприимство по отношению к нему и в то же время полнейшая беспечность по отношению к самому себе — подмечена замечательно метко и для читателя много раз поучительнее, чем все туманные изречения ангела, в которых, собственно говоря, выражается то же, что и в словах Семена: «Живы будем — сыты будем» и «Будет толковать-то»88.
В журнале «Русская мысль» появилась рецензия на «Чем люди живы», подписанная X и принадлежавшая, вероятно, самому редактору журнала, С. А. Юрьеву.
Начав с того, что «русские дети получили завидный подарок: о них вспомнил и для «их написал прекрасную сказку гр. Л. Н. Толстой», рецензент далее пишет, что сказка Толстого «при всех своих достоинствах страдает одним крупным недостатком. Она не по силам детскому возрасту; многое в ней будет непонятно детям, несмотря на все мастерство рассказа. Основная идея сказки — слишком глубокая идея, чтобы детская головка могла усвоить ее во всем значении... Нас однако, — пишет далее автор, — сказка гр. Л. Н. Толстого интересует с другой стороны. Судя по новому рассказу, годы, прошедшие со времени появления «Анны Карениной», не пронеслись для ее автора даром. Начать с внешней стороны. Язык писателя окреп еще более, стал трезвее и мужественнее; он поражает своею библейскою простотой. Кроме того, на нем видны явные следы сильного влияния народной речи, у которой автор умеет заимствовать меткость и выразительность ее оборотов. Но это не внешнее, подражательное заимствование; во всей сказке нет ни одной строки, которая звучала бы подделкою под народный говор, что так неприятно оскорбляет слух в работах иных писателей. Вслушиваясь в язык гр. Толстого, невольно чувствуешь, что народная речь усвоена им и стала его личным достоянием: он не копирует мужицкую фразу, но он проникнут ее духом и внутренним складом, — не только говорит, но и думает по народному...
Сказка взята из народного быта, в изображении которого гр. Толстой уже давно приобрел заслуженную славу неподражаемого мастера. По нашему мнению, теперь он делает новый шаг вперед в этом направлении. В прежних своих работах писатель поражал тою умелою и правдивою простотой, с какою он подходил к крестьянскому миру и освещал его в самых темных
- 101 -
сторонах. Видно было, что он прекрасно знает и понимает этот мир и мастерски рисует его в пленительно простых рассказах; вспомните, например, «Поликушку». Но при этом читатель всегда чувствовал, что рассказчик — человек иной среды, что между ним и крестьянином, которого он так близко знает, все же существует большое расстояние. Теперь это расстояние значительно уменьшилось, если не исчезло совсем. Говоря о крестьянине, граф Толстой умеет теперь проникнуться его положением и смотреть на вещи его глазами. Чуждый всякой сентиментальности и высокомерия, писатель как будто сам чувствует то же и так же, как чувствует его мужик в изображаемом положении: он переживает с ним его радость и горе не как посторонний сострадательный человек, но как человек той же среды, как родной и близкий. Между писателем и крестьянином полное внутреннее согласие... Эта нравственная близость писателя к темному миру крестьянскому — новая черта в нем, которую мы отмечаем с любовию... В немногих словах, в нескольких фразах, с изумительною простотою гр. Толстой умеет сказать о народе более, нежели другой многими эффектными страницами. И это не потому только, что гр. Толстой — яркий и крупный талант, а и потому еще, что он горячо любит темный народ и сроднился с его душою»89.
Либеральная петербургская газета «Голос», восторгаясь основной идеей легенды Толстого, в то же время ставила вопрос, имеет ли легенда общественное значение. Анонимный критик писал:
«Небольшой рассказ графа Льва Толстого «Чем люди живы?», появившийся недавно в одном детском московском журнале, — первый печатный свидетель нового направления мысли писателя, направления, о котором слухи носились уж некоторое время и которое теперь, по-видимому, совершенно овладело автором «Войны и мира». Еще летом прошлого года стали ходить рассказы о некоторых эпизодах душевного процесса, выработавшего это направление. Все слышали о беседах поэта с иноками Оптинской пустыни, беседах, поразивших иноков силою стремления к истине и правде, о скитаниях графа Толстого по селам и захолустьям, о встречах его с некоторыми поразившими его личностями из сектантства, о его горячем стремлении слить слово с делом, доходившем до желания раздать все свое имущество бедным. Рассказ «Чем люди живы?» — первый из серии подобных же рассказов — поднимает завесу с тех результатов, к которым пришла мысль поэта.
Весь рассказ проникнут христианскою идеей в ее чистейшем виде. Основою взята одна из наиболее полно выражающих эту идею книг Нового завета — первое послание апостола Иоанна
- 102 -
и его центральная мысль: «Кто в любви, тот в боге, потому что бог есть любовь». Необычайная атмосфера душевной чистоты и святости проникает его насквозь...
Не будем пересказывать его, да это и невозможно. Все основано в нем на субъективном чувстве, на силе убеждения. Посторонняя рука, с каким бы уважением ни прикоснулась к такой прочувствованной, всем существом выношенной вещи, не в состоянии дать о ней и приблизительное понятие...
Картинка народной жизни, в рамке которой поставлена фабула рассказа, чрезвычайно правдива и отличается такой глубиною психологического наблюдения, которой нельзя не подивиться. Это — рассказ народный не только по изображаемому быту, но и по миросозерцанию. В этом его сила.
Что касается основной мысли, то, бесспорно, она дышит величием, истиной. Но можно ли успокоиться на ней, применительно к общественным вопросам? Такое успокоение было бы возможно только тогда, когда общество состояло бы из графов Львов Толстых или людей одинаковой с ним высоты мысли и нравственного закала»90.
В сборнике «Обзор детской литературы», вышедшем под редакцией В. М. Гаршина и А. Я. Герда, была дана следующая оценка «Чем люди живы»: «Высокая мысль, вложенная в рассказ, его человечность и необыкновенно художественное и вместе с тем простое изложение делают эту книжку необходимой во всякой школьной библиотеке. Каждый грамотный человек, от едва начинающего читать ребенка до взрослого, будь он простой человек или представитель образованного класса, может и должен прочесть «Чем люди живы»91.
Ряд отзывов о легенде Толстого учеников воскресных школ, детей и взрослых, появился в книге «Что читать народу?»92. Приведу несколько наиболее интересных сообщений о чтении и пересказе легенды учениками.
Девочка одиннадцати лет, «очень умная и способная, начала рассказывать так увлекательно, так живо, что, право, я затруднилась бы, кому дать пальму первенства — ей или книге», — пишет учительница.
Другая девочка десяти лет, тоже «очень способная», «с необыкновенным оживлением передала содержание «Чем люди живы». Казалось, все произошло так вчера или сегодня у нее на глазах. «Этот сапожник, — говорила она как о знакомом человеке, — очень бедно жил; что заработает, то и съест...»
- 103 -
«Взрослая ученица воскресной школы, очень бойкая и смышленая девушка, подала мне ту же книгу [«Чем люди живы»], — пишет учительница, — и на вопрос, понравилось ли ей, «с пафосом» отвечала: «Чересчур понравилось».
Девушка восемнадцати лет, дочь артельщика на железной дороге, на тот же вопрос отвечала «с жаром»: «Ужасно как понравилась, и даже все семейство наше слушало и плакало».
Попечительница сельской школы рассказывает, как она читала «Чем люди живы» в группе слушателей, состоявшей из детей, подростков и взрослых, кончивших курс в сельской школе:
«С первых строк рассказ, очевидно, заинтересовал слушателей; интерес этот, видимо, возрастал и дошел до крайних пределов, когда Семен увидел у часовни что-то белое. «Крайними пределами» я называю то, когда слушатели не в силах воздержаться от громких восклицаний и вставок, несмотря на уважение к чтению и требованиям тишины...
Сцена с барином возбудила общий смех. «Ух сердитый!» — говорил один из мальчиков, тыкая пальцем в картинку и точно дразня его. — «А с себя, как бычок!» — заметил другой. — «Ой, ой, ой, под ним, кажись, лавка треснула!» — говорил третий. — «Ей-богу, треснула!» — кричал четвертый, точно будто он слышал этот треск».
По окончании чтения один из мальчиков сказал: «Ей-богу, никогда не читал такой хорошей книжки».
За все существование группы эта попечительница прочла с детьми около ста книг. Когда подошли каникулы, она собрала всю свою группу — 20 человек — и спросила каждого, какую из прочитанных книг привезти ему из города. Все учащиеся, кроме троих, назвали «Чем люди живы».
Таким образом, опасения рецензентов, что основная мысль легенды Толстого останется непонятной детям, оправдались только на самых маленьких.
XI
Живя в Москве, Толстой предполагал так же оказывать помощь нуждающимся, как он делал это в Ясной Поляне. Но дело это в Москве оказалось гораздо труднее, чем в деревне.
Причины случаев особенной бедности в крестьянстве были известны. Это — пожар, болезнь, многосемейность, одиночество, падеж коровы или лошади и т. д. Причины городской бедности были гораздо сложнее.
Встречаясь с нищими на улицах Москвы и подавая им, Толстой расспрашивал их о том, что привело их в такое бедственное состояние. Были из них «простые мужики и бабы в крестьянской одежде», которые пришли в Москву в поисках работы, здесь заболели и не могли уехать на родину. Некоторые
- 104 -
из них «загуливали». Были в их числе старые, были бабы с детьми; были и «совсем здоровые, способные работать»; были такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, а через неделю опять попадались Толстому на улице. «Но и обманщики эти, — писал Толстой, — были очень жалки; все это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди. Это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам»93.
Однажды Толстому пришлось наблюдать, как больного водянкой нищего городовой посадил на извозчика и повез в полицейскую часть. Толстому хотелось узнать, правда ли, что в Москве запрещено просить милостыню и почему одних нищих забирают в полицию, а другие свободно ходят по улицам и просят. Он взял другого извозчика и поехал вслед за первым в часть. В части он увидел сидящего за столом «человека с саблей и пистолетом» и спросил: «За что взяли этого мужика?» Полицейский сначала ответил: «А вам какое дело?» Но затем, поняв, что он имеет дело с интеллигентным человеком, прибавил: «Начальство велит забирать таких; стало быть, надо».
В другой раз Толстой увидел на улице толпу нищих, человек около тридцати, которых городовые вели в участок.
Встречи с нищими произвели на Толстого удручающее впечатление. 25 ноября он писал В. И. Алексееву: «Огромное число несчастных подавляет».
Но знакомые говорили Толстому: «О! это еще ничего — все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую золотую роту».
«Хитров рынок» в Москве занимал обширный участок между Солянкой и Покровским бульваром (в настоящее время не существует). Здесь в Трехсвятительском переулке (теперь Большой Вузовский переулок, дом № 6) были расположены бесплатные ночлежные дома, принадлежавшие филантропам — братьям Ляпиным, владельцам суконной фабрики. Туда-то и направился Толстой в декабре 1881 года94.
Уже идя по Солянке, Толстой замечал все «более и более людей оборванных, развращенных, которые направлялись все в одну сторону». Не зная дороги, Толстой шел за толпой и вышел на Хитров рынок.
Первое, что он здесь увидел, были торговки и развращенные женщины, которые сидели, ходили и ругались. Чем дальше он шел, тем грубее были ругательства.
- 105 -
Минуя частные ночлежные дома, где с ночлежников взималась плата, Толстой подошел к толпе народа, ожидавшей впуска в огромный Ляпинский ночлежный дом, который открывался в пять часов. Он вошел в толпу ожидающих, и вот какая картина открылась перед его глазами:
«Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать что-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. «Работы, — говорит, — нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь; верьте богу, — не ел два дня», сказал он робко с попыткой улыбки.
Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы.
Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на место жительства. «Говорят, в четверг будет обход, — сказал он, — тогда заберут. Только бы до четверга добиться» (острог и этап представляется для него обетованной землей).
Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении.
Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне через толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил и ему сбитню; он так же, взяв стакан, грел об него руки, и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубахе ситцевой и жилетке, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами, в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи. Он не мог удержать
- 106 -
стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, безносое, — все это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню.
Сбитень выпили. Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка... Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство — хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жальче и измученнее и униженнее другого. Я роздал все, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом»95.
Зрелище бедняков, ожидающих впуска в ночлежный дом, и посещение этого дома произвели на Толстого потрясающее впечатление.
«В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, — вспоминал Толстой, — я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это так должно быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет, и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.
Я должен был согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал что и я прав, и не мог успокоиться»96.
Впоследствии, продолжая ту же работу над трактатом «Так что же нам делать?», Толстой в следующих словах описал первые свои посещения Ляпинского ночлежного дома:
«Я обходил все квартиры и днем и ночью, 5 раз, я узнал почти всех жителей этих домов, я понял, что это первое впечатление
- 107 -
было впечатление хирурга, приступающего к лечению раны и еще не понявшего всего зла. Когда я осмотрел рану в эти 5 обходов, я убедился, что рана не только ужасна и хуже в 100 раз того, что я предполагал, но я убедился, что она неизлечима и что страдание не только в больном месте, но во всем организме, и что лечить рану нельзя, а единственная надежда излечения есть воздействие на те части, которые кажутся не гнилыми, но которые поражены точно так же».
Описывая то потрясающее действие, какое произвели на него неоднократные посещения Ляпинского дома с его вопиющей нищетой и развратом, Толстой далее писал:
«И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого»97.
XII
После посещения Ляпинского ночлежного дома, вероятно в том же декабре 1881 года, Толстой набрасывает план художественного произведения, носящего сатирическое заглавие «Московские прогулки». Вот этот план:
1) Прием рекрут. Солдатка: «вот 15 лет живу». Старик плачет. Жена.
2) Ляпинский дом.
3) Толпа взятых за прошение милостыни.
4) Извощик. Прошение милостыни.
5) Старуха упала. «Живая баба». Гимназисты.
6) Спор у Охотного ряда.
7) «Сосновка». Иверская. Крестится.
8) Вор сапог. В благовещенье. Городовой пускает. Хозяйский сын.
9) Сцена на извощике. Жена с мужем.
10) На Каменном мосту. Лошади никто не поможет.
11) Спор за пятачок с извощиком. «Дай денег». Все спорят.
12) Спаситель приезжал в лавочку. Боюсь сказать, что не спаситель.
- 108 -
13) Мальчики несут хомут; упал.
14) Арестанты идут. Кто подаст. Старушка плачет. «Об нас заплакала».
15) «Евангелие читал?» — «Читал». Молчание. «А воинский устав читал? Не? Ну и не говори»98.
Из первого пункта плана видно, что в Москве Толстой, так же как он делал это в деревне, присутствовал на приеме рекрутов на военную службу.
Пункты 2, 3, 4 этого плана находят свое объяснение в трактате «Так что же нам делать?».
Разъяснение последнего пункта находим в статье «О помощи при переписи», представляющей собою черновую редакцию первых глав трактата «Так что же нам делать?». Здесь Толстой подробно рассказывает этот случай:
«Я шел в Боровицкие ворота [Кремля]. Под воротами сидел обвязанный по ушам тряпкой красной калека нищий. Он попросил милостыню. Я полез в карман за пятаком, и пока я доставал, вбежал сверху в ворота дворцовый гренадер, румяный, красивый, с черными усиками малый в тулупе и с красным околышем фуражке.
Только что нищий увидал его, он вскочил и заковылял что было силы наутек от гренадера. Гренадер за ним с ругательствами. Догнал и наклал в шею: «Я те проучу — мать твою... Сколько раз говорено: не велено сидеть».
Я остановился, подождал солдата назад. Когда он поровнялся, я спросил его: грамотен ли он. Малый удивился, но видит — седая борода, надо ответить. «— Грамотный... А что?» — «Евангелие читал?» — «Читал». — «А что там про нищих сказано? Сказано: кто голодного накормит, голого оденет, меня накормит, меня оденет».
Малый смутился и молчал, перебегая глазами на двух прохожих, остановившихся около меня. Он, видимо, был в затруднении. Он чувствовал, что делает то, что должно, что исполнил старательно то, за что хвалят, и вдруг его осуждают.
Вдруг глаза его блеснули умным светом, он смело и повелительно, по-военному, взглянул мне в глаза. «А воинский устав читал?» — спросил он строго. — «Нет, не читал». — «Так и не говори». — Он тряхнул головой и молодецки пошел к своему месту. В глазах остановившихся прохожих я видел одобрение и удовольствие ясного разрешения затронутого было вопроса. «Однако обрезал старика», — как будто сказали себе прохожие и вполне удовлетворенные пошли каждый за своим делом. Вот эту ясность я нашел только один раз, и то только нынешний год.
Мне грустно было за этого доброго красивого малого в красном околыше и казенном тулупе. Но рассудочная моя потребность
- 109 -
была вполне удовлетворена не по отношению к одному этому малому, но по отношению ко всему тому хаосу слов и отрывков мыслей, которые я слыхал и читал годами от богословов, философов, ученых, администраторов по этому предмету. Это была искра, которая осветила все предшествующее.
Все эти рассуждения о законе развития человечества, о божественной сущности и святости единой церкви, о конфликтах воли и разума, о судьбах народностей, все, все, что я слыхал ч что мне казалось иногда сонным бредом, — все это получило для меня ясный смысл. Все это перифразами говорило только то, что сказал мне этот милый малый в тулупе и красном околыше. На место евангелия — воинский устав; для разговора — евангелие, для исполнения — воинский устав»99.
Рассказом об этом случае, столь характерном для общественного строя России того времени, Толстой и предполагал закончить свое, к сожалению, ненаписанное художественное произведение.
XIII
В письме к В. И. Алексееву от 25 ноября 1881 года Толстой писал, что, чувствуя всю давящую его «громаду зла», царствующего в жизни, один из выходов из этого зла он видит в «проповеди изустной и печатной». Но тут встают соблазны, которых «боишься»: «тщеславие, гордость и, может быть, самообман»100.
В действительности после перелома в его мировоззрении Толстой чувствовал непреодолимую потребность именно в проповеди того, чем он жил и что считал истиной не только для себя, но для всего человечества. Прав был Н. Н. Страхов, когда 30 января 1880 года писал Фету: «Я ищу дороги только для себя, и в моем одиноком и, так сказать, голом положении мне довольно легко исповедовать и отчасти практиковать мораль отречения. Толстой не таков. Его эти вопросы мучают, и он готов на площади каяться в грехе и звать всех прохожих к покаянию»101.
Толстой искал только случая выступить с публичной проповедью. И случай этот скоро представился.
На 23, 24 и 25 января 1882 года в Москве была назначена перепись всего населения, и Толстой решил по этому случаю обратиться с воззванием к жителям Москвы. Он задумал произнести речь в Московской городской думе о том, чтобы воспользоваться переписью для дела помощи городской бедноте.
- 110 -
В речи, которую он предполагал произнести в Московской городской думе102, он хотел сказать, что к переписи надо «присоединить дело любовного общения богатых, досужных и просвещенных с нищими, задавленными и темными». «Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук».
Штат работников переписи состоял из 80 руководителей и 2000 счетчиков, которыми оказались по преимуществу студенты. И Толстому рисовалась такая картина:
«80 человек энергичных, образованных людей, имея под рукой 2000 человек таких же молодых людей, обходят всю Москву и не оставят ни одного человека в Москве, не войдя с ним в личные сношения. Все язвы общества, язвы нищеты, разврата, невежества — все будут обнажены».
«Воспользуемся случаем, — взывал Толстой, — чтобы устранить величайшее зло разобщения между нами и нищими и установить общение и дело исправления зла, несчастий, нищеты и невежества и еще большего нашего несчастия — равнодушия и бесцельности нашей жизни».
Практически Толстой предлагал: во-первых, всем тем, которые будут согласны с его предложением, отправиться к руководителям и узнать у них адреса беднейших кварталов и вместе со счетчиками обходить кварталы, «входя в сношения с живущими в них, и удержать эти сношения с людьми, нуждающимися в помощи и работать для них»; во-вторых: «руководителям и счетчикам обращать внимание на жителей, требующих помощи, и работать для них самим и указывать их тем, которые захотят работать на них».
Но что значат эти слова — работать для людей?
На этот вопрос Толстой дает такой ответ, работать на людей значит «делать добро людям». Но делать добро не значит давать деньги, как это обычно понимается. «Делать добро и давать деньги есть не только не одно и то же, но две вещи совершенно разные и большей частью противоположные. Деньги сами по себе зло, — утверждал Толстой. — И потому кто дает деньги, тот дает зло».
Чтобы делать добро, нужно хоть на время встать в равные условия с нуждающимся. «Нужно не бояться запачкать сапоги и платье, не бояться клопов и вшей, не бояться тифа, дифтерита и оспы; нужно быть в состоянии сесть на койку к оборванцу и разговориться с ним по душе так, чтобы он чувствовал, что говорящий с ним уважает и любит его, а не ломается, любуясь на самого себя».
- 111 -
«Есть и было и всегда будет, — продолжал Толстой, — ... одно дело, на которое стоит положить всю жизнь, какая есть в человеке. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли люди между собой для того, чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней».
Толстой предлагает всем руководителям и счетчикам по окончании переписи «остаться на своих местах» и «по окончании дела переписи продолжать дело помощи».
«Что бы ни вышло из этого, все будет лучше того, что теперь». Если бы произошло самое меньшее из того, что могло бы быть: если бы счетчики и руководители раздали бы «сотню двугривенных тем, которые не ели, — и это будет не мало, — не столько потому, что не евшие поедят, сколько потому, что счетчики и руководители отнесутся по-человечески к сотне бедных людей.
Как счесть, какие последствия произойдут в общественном балансе от того, что вместо чувства досады, злобы, зависти, которые мы возбудим, пересчитывая голодных, мы возбудим сто раз доброе чувство, которое отразится на другом, на третьем и бесконечною волной пойдет разливаться между людьми. И это много!»
Отступая от своего категорически высказанного убеждения, что денежная помощь есть зло, Толстой далее говорит, что есть и такая категория несчастных, «которым можно помочь легко почти одними деньгами». Это — рабочие, пришедшие в Москву в поисках работы и не находящие ее, проевшие с себя одежду и не имеющие возможности вернуться домой; заброшенные сироты, «ослабевшие старики и старухи, нищие, живущие на милосердие товарищей» и ожидающие полуголодной смерти.
«Но почему не надеяться, что будет сделано все? — спрашивает Толстой. — Почему не надеяться, что мы сделаем то, что в Москве не будет ни одного раздетого, ни одного голодного, ни одного проданного за деньги человеческого существа, ни одного несчастного, задавленного судьбой человека, который бы не знал, что у него есть братская помощь?.. Почему не надеяться, что мы поймем, что нет у нас ни одной обязанности, не говоря уже личной, для себя, ни семейной, ни общественной, ни государственной, ни научной, которая бы была важнее этой?»
Статья заканчивалась призывом: «Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, — не поднимем ли? Дружнее, братцы, разом!»
В окончании статьи заметен некоторый задор против ученых, которые здесь называются «механиками». То же отношение
- 112 -
к ученым чувствуется и в самом начале статьи, где сказано, что есть ученые, занимающиеся исследованием туманных пятен на солнце. Но «туманным пятнам все равно, исследуют их или нет, и они ждали и еще долго готовы ждать», — писал Толстой, противопоставляя изучению туманных пятен изучение условий, в которых живут московские бедняки.
Написав статью, Толстой, прежде чем отдать ее в печать, прочел ее некоторым своим светским знакомым. Все выражали сочувствие его проекту, но указывали на трудность его осуществления, хотя и обещали принять участие в денежной помощи.
Когда встал вопрос о печатании статьи, кто-то указал Толстому на славянофильскую газету «Современные известия», выходившую под редакцией Н. П. Гилярова-Платонова, к которому и отправился Толстой 17 января. Прочитав статью, Гиляров-Платонов согласился напечатать ее в своей газете.
Толстой вместе с сотрудником «Современных известий» С. К. Эфроном направился в типографию газеты. Здесь он, справедливо опасаясь, что наборщикам будет нелегко разбирать его трудный почерк, разорвал рукопись на листы, которые и роздал наборщикам, после чего вместе с каждым из наборщиков прочел переданный ему текст. Переходя от наборщика к наборщику, Толстой каждому из них помогал разбирать его лист, а когда статья была набрана, тут же прочитал корректуру.
«Граф пробыл в типографии более пяти часов, — вспоминает С. К. Эфрон, — и произвел на наборщиков чарующее впечатление своим обхождением. Долго, очень долго нащи наборщики хвалились тем, что поработали вместе с знаменитым писателем, а после его ухода поделились его оригиналом и были очень счастливы, что им достались на память о совместной работе с графом его автографы»103.
XIV
18 января к Толстому пришел с рекомендательным письмом С. А. Юрьева молодой писатель Семен Афанасьевич Венгеров. В то время начал выходить новый народнический журнал «Устои», членом редакции которого был Венгеров, и целью его прихода к Толстому была просьба дать журналу какое-нибудь новое произведение.
«Входить было ужасно неловко, — писал Венгеров 22 января своей жене Р. А. Венгеровой. — Нахальством каким-то пахло. Но уже через минуту лучи любви, которыми проникнуто все существо Толстого, согрел меня, и я почувствовал себя совершенно как дома».
- 113 -
Оживленная беседа «о расколе, о народе, о правде, о любви к ближним», о предстоящей переписи московского населения и участии в ней Толстого продолжалась около пяти часов. Венгеров тогда был занят «историей народных движений славянских племен»; в журналах «Слово», «Русская мысль» и «Вестник Европы» он напечатал обширные статьи о народном движении в Болгарии («богомилы») и в Чехии («табориты и гуситы»).
Толстого очень заинтересовали работы Венгерова. Во время беседы с ним к Толстому пришел Фет, и Толстой, как писал Венгеров жене, представляя его Фету, произнес: «Господин Венгеров — очень интересный писатель»104.
В связи с выходом в свет нового народнического журнала разговор зашел про современную литературу о народе. Вскоре Венгеров в одной из своих статей привел высказанное Толстым в беседе с ним суждение о народнической литературе. «— Не то отношение к делу, — говорил Толстой (по записи Венгерова), — не с тем душевным настроением подходят наши писатели к народу. Он для них предмет изучения, точно перед ними зулусы какие-нибудь. Возьмут мужика, положат под микроскоп и рассматривают, как это он копошится и возится в своем мирке. Совсем, совсем иначе надо относиться. Нужно самим быть народом. Нужно до такой степени слиться душевно с мужиком, чтобы и в «изучении» никакой надобности не было. Вы просто будете себе сидеть в кабинете и изображать свой собственный душевный мир, а это и будет народное миросозерцание, потому что между вами и мужиком не должно быть никакой психической разницы: у вас должны быть одни и те же чувства, стремления, верования. Только тогда и может удасться точное изображение народной жизни. Мужик не должен вам быть человеком другого мира. Слиться, всецело слиться должны вы с ним»105.
Во время беседы Толстому принесли корректуру его статьи в «Современных известиях», и корректура была прочитана вслух им и Венгеровым. Толстой, слушая свою статью в чтении Венгерова, плакал. Венгеров указал на некоторые погрешности в стиле статьи, и Толстой признал его замечания справедливыми. Поэтому подписание корректуры было отсрочено на один день.
- 114 -
Около 11 часов вечера Толстой в полушубке вместе с Венгеровым поехал в Московскую городскую думу на заседание организационного комитета по переписи. Здесь он прочел свою статью вслух. Двое слушателей выступили в поддержку предложения Толстого, сказав, что они «считают себя нравственно обязанными это сделать», но в то же время выразили сомнение в осуществлении проекта Толстого на практике.
20 января вышел 19-й номер «Современных известий» со статьей Толстого вместо передовицы и со следующим примечанием от редакции: «На сегодняшний раз мы приостанавливаем свое обычное руководящее слово к читателям, уступая место почетному и дорогому гостю в нашем издании, графу Льву Николаевичу Толстому. Он пожелал стать в число 80 распорядителей, которым поручена перепись в Москве, и не остался к этому делу холодным. От души желаем, чтобы прочувствованное его слово по поводу переписи принесло свой христианский плод».
На другой день Толстой явился в контору редакции, забрал 200 номеров «Современных известий» со своей статьей и заказал 500 отдельных оттисков, чтобы раздавать их счетчикам и руководителям переписи.
XV
Решив принять участие в переписи населения Москвы в качестве одного из руководителей, Толстой обратился к главному руководителю переписи, академику-экономисту И. И. Янжулу, с просьбой назначить ему для переписи участок, в котором проживало беднейшее население города. Он имел в виду участок по Проточному переулку между Береговым проездом и Никольским переулком (теперь 1-й Смоленский переулок). На углу Проточного и Никольского переулков был расположен дом, ранее принадлежавший купцу Ржанову, прозванный в народе Ржановской крепостью. В этом доме было много небольших квартир, съемщики которых, уплачивая хозяину положенную сумму, сами сдавали беднякам комнаты и углы своей квартиры. В Москве было несколько таких больших домов, которые народ называл «крепостями». Так, в Колосовом переулке вблизи Грачевки был расположен дом купца Арбузова, прозванный народом «Арбузовская крепость»106.
«Ржановскую крепость» Толстой выбрал себе для переписи
- 115 -
потому, что он давно слышал об этом доме, как о «притоне самой страшной нищеты и разврата»107.
В первый же день переписи Толстой вместе со счетчиками явился к назначенному часу и приступил к обходу квартир Ржановского дома108.
Первое впечатление от обхода, как писал Толстой впоследствии в трактате «Так что же нам делать», было то, «что большинство живущих здесь все рабочие и очень добрые люди... Тесные квартиры были полны народом, и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочим по́том, у сапожника кожей, у столяра стружками, слышалась часто песня и виднелись засученные мускулистые руки, быстро и ловко делавшие привычные движения. Встречали нас везде весело и ласково... У сапожника было очень грязно и тесно, но народ весь за работой был очень веселый».
«Чувство, вызванное общением с этими людьми, как ни странно это сказать, было прямо очень приятное чувство...»
«И этих хороших людей было так много, — вспоминал Толстой, — что оборванные, погибшие, праздные люди, которые изредка попадались среди них, не нарушали главного впечатления».
Толстой не испытывал здесь того чувства ужаса, которое он пережил, наблюдая бедняков, ждавших впуска в Ляпинский ночлежный дом.
При первом обходе Толстой не встретил таких нуждающихся, положение которых могло бы сразу улучшиться вследствие денежной помощи. «Оставались те несчастные, праздные люди, чиновники, писаря, лакеи без мест, нищие, пьяницы, распутные женщины, дети, которым нельзя было помочь сразу деньгами, но которых надо было узнать хорошенько, обдумать и пристроить, — такие несчастные, которым надо было посвятить много времени и заботы».
Когда же была нужна непосредственная помощь, то большей частью оказывалось, что помощь эта была уже оказана соседями несчастного. Так, за одиноким стариком, больным тифом, ходила и покупала ему на свои деньги лекарства чужая
- 116 -
ему женщина, вдова с девочкой, соседка по углу; новорожденного ребенка женщины, больной родильной горячкой, качала и делала ему соску тоже соседка, «женщина, живущая распутством», которая из-за этого «два дня не выходила на свой промысел».
Во время дальнейших посещений Ржановского дома Толстой пришел к выводу, что существуют две категории людей опустившихся. Первая категория — это люди, принадлежавшие ранее к привилегированным сословиям: бывшие чиновники, офицеры, торговцы и т. п. Из разговоров с ними Толстой убедился, что все мысли и желания этих людей направлены на то, чтобы вернуть себе свое прежнее положение. Работать они не хотят и не умеют. «Несчастье их не поправимо внешними средствами». «Для того чтобы им помочь, нужно прежде всего изменить все их миросозерцание». «Несмотря на то, что для некоторых из них было сделано то, чего они желали, и что, казалось, могло бы поднять их», они вновь оказывались в том же бедственном положении.
Вторая категория — распутные женщины. И им Толстому не удавалось помочь. Он видел, что женщины эти «считают положение рабочего человека низким и достойным сожаления», и все их желания сводятся к тому, чтобы жить, не работая.
Посещения Ржановского дома становились для Толстого все более и более тяжелы. Как только он появлялся, его осаждала толпа просящих денег, в массе которых он совершенно терялся. Они смотрели на него как на «кошель, из которого можно вытянуть деньги», и Толстому казалось очень часто, что те деньги, которые они просят, «не улучшат, а ухудшат их положение».
Руководители переписи решили для большей точности учета населения Ржановского дома последний обход произвести ночью. Когда они заметили, что некоторые жильцы, очевидно, те, у которых не было паспортов, пытаются уйти из дома, хозяина попросили запереть ворота. И руководители и счетчики-студенты вошли во двор дома и пытались уговаривать уходивших, что никто не будет спрашивать у них паспорта. «Помню, — вспоминал Толстой впоследствии, — странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой, слушали наши уверения и не верили нам и, очевидно, готовы были на все, как травленный зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и теперь вдруг эти господа приехали и заперли
- 117 -
ворота только затем, чтобы считать их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись, мы же, разделившись на группы, пошли... Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было новое и ужасное... Все квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа... И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах; и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет.
Мне было очень больно... Я был как врач, который пришел с своим лекарством к больному, обнажил его язву, разбередил ее и должен сознаться перед собой, что все это он сделал напрасно, что лекарство его не годится»109.
XVI
Одним из двух счетчиков-студентов, работавших на переписи под руководством Толстого, был «веселый и легкомысленный, высокий, красивый молодой человек», как его характеризует С. Л. Толстой, оперный певец, будущий известный писатель А. В. Амфитеатров. Он оставил после себя воспоминания110, в которых описывает и свою работу с Толстым по переписи. В этих воспоминаниях есть некоторые характерные подробности.
Амфитеатров рассказывает, что неподалеку от Ржановской крепости существовал дом Падалки, еще гораздо более ужасный, чем Ржановский дом.
«Подвалы Падалки, — писал Амфитеатров, — кишели какими-то подобиями людей, — старых, страшных, больных, искалеченных и почти сплошь голых... Когда мы поднялись из этого проклятого подземелья обратно на белый свет, Лев Николаевич
- 118 -
был в лице белее бумаги. Я не видал его таким ни прежде, ни после... И действительно было отчего. Потому что мы видели границу падения человека...»
Но Толстой почему-то не описал дом Падалки в своих воспоминаниях о переписи.
Амфитеатров утверждает, что Толстой «совсем не умел говорить с ржановцами, плохо понимал их жаргон, терял в беседах с ними такт и попадал в просаки курьезнейшие». Амфитеатров объяснял это тем, что Толстой — «деревенский свежий человек — впервые увидел городское дно и совершенно им озадачился». Как пример Амфитеатров приводит разговор Толстого с одним «стрелком» (так называли в то время в Москве «нищих с приворовками»). «Толстой тихо, конфиденциально спросил его в упор приглашающим к доверию тоном: «Вы жулик?», за что, конечно, получил такую ругань, что как мы только из квартиры выскочили!».
Разумеется, неловкость Толстого в обращении с ржановцами проистекала не только от того, что он, как деревенский житель, был незнаком с типами городской нищеты, с которыми ему теперь приходилось иметь дело. Здесь сказывалось и чувство виноватости перед бедствующим и униженным трудовым народом за свою барскую жизнь, и сознание своего фальшивого положения благодетеля этого народа. Кроме того, обращаясь в данном случае к «стрелку» с вопросом, не жулик ли он (с таким вопросом, который, по словам Амфитеатрова, имел свои основания), Толстой подразумевал, что профессия жулика нисколько не более позорна, чем профессия фабриканта, крупного помещика или видного правительственного деятеля, что и давало ему некоторую смелость в употреблении этого обидного слова.
Но одно место трактата «Так что же нам делать?» Амфитеатров вспоминает «с умилением». Вот это место (V глава трактата): «В первый назначенный день студенты-счетчики пошли с утра, а я, благотворитель, пришел к ним часов в 12. Я не мог придти раньше, потому что встал в 10, потом пил кофе и курил, ожидая пищеварения».
По поводу этих строк Амфитеатров добродушно замечает: «Клянусь четой и нечетой: взвел это на себя Лев Николаевич. Аккуратнейше приходил к 10 часам, уходил в 11½ и возвращался около двух. А это уж так написано — для наибольшего угрызения себя за барские привычки, для вящих бичей и скорпионов»111.
Основная причина, заставившая Толстого в данном случае «взвести на себя» напраслину, состояла в том, что ему нужно было, чтобы раскрыть перед читателем вполне бесплодность
- 119 -
барской благотворительной деятельности, нарисовать типическую фигуру барина благотворителя, который должен был вести именно тот образ жизни, какой приписал ему Толстой.
XVII
«Из предложения моего по случаю переписи ничего не вышло» — этими словами Толстой в первых числах февраля 1882 года начал свою статью «О помощи при переписи»112.
Он получил около сотни писем и обращений к нему от лиц, просивших материальной помощи, но все обращения эти были, по выражению Толстого, «от богатых бедных», то есть от лиц, занимавших ранее привилегированное положение, утративших его и вновь желающих его занять. Помочь этим людям было невозможно.
Что же касается богатых благотворителей, к которым обращался Толстой, то ни один из них не пожертвовал в пользу московских бедняков ни одного рубля.
Но воспоминание от общения с босяками (тогда еще слово это не употреблялось) осталось у Толстого самое приятное. В 1903 году он говорил корреспонденту Ю. Д. Беляеву:
«— Я занимался также Хитровкою во время переписи, дружил даже с хитровцами и вот что скажу: вам говорят, что босяки жестоки, это — неправда. Неправ и Горький, подчеркивая в них эту черту. Разумеется, есть между ними озлобленные и коварные люди, но основная черта босячества все-таки заключается не в этом. Я, например, у большинства из них встречал душевное равновесие и добродушие. Когда Горький был у меня, я советовал ему особенно подчеркнуть эту черту в его новой драме. Надо еще показать, что у босяков нет ложного страха, что нет пропасти под ними и что если захотят они встать на ноги, то встанут без малейшего усилия, потому что почва под их ногами»113.
Несмотря на то, что практически проект помощи московским беднякам, изложенный Толстым в статье «О переписи в Москве», потерпел полную неудачу, было бы ошибкой полагать, что статья Толстого оказалась совершенно бесплодной.
С. Л. Толстой в своих воспоминаниях приводит то место из трактата «Так что нам делать?», где Толстой говорит, что когда он излагал студентам-счетчикам свой план помощи беднейшему населению Москвы, «им как будто совестно [было] смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму
- 120 -
человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему мою статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц». Приведя эту цитату, С. Л. Толстой от себя замечает: «Я думаю, что слушавшие речь моего отца действительно чувствовали некоторую неловкость, но не только потому, что как мы ни «налегнем народом», мы социальную несправедливость не изменим, а также и потому, что он будил их совесть»114.
А. С. Пругавин вспоминал, что к вечеру того же дня, когда появилась статья Толстого, уже «вся читающая Москва знала о воззвании Толстого и обсуждала его на все лады... Воззвание Толстого ударило по сердцам и сильно всколыхнуло москвичей. Даже люди, стоявшие собственно в стороне от гущи жизни, люди чисто кабинетного склада, люди более или менее далекие от текущей злобы дня, — и те волновались и вдруг захотели что-то делать, вдруг ощутили потребность что-то предпринять»115.
Писательница Е. С. Некрасова рассказывала А. С. Пругавину: «О воззвании Толстого я узнала в тот же день, но уже вечером... Я прочитала воззвание Льва Николаевича, и оно ужасно подкупило меня своей простотой, искренним теплым чувством, которым оно согрето от первого слова до последнего»116.
22 января, на третий день после появления статьи Толстого, С. А. Венгеров писал из Петербурга своей жене Р. А. Венгеровой: «Ты, конечно, уже прочла статью Толстого о переписи... Если ты прочла статью, то ты знаешь, что это за чу́дная вещь, и это не статья, а крик наболевшего сердца, которому совестно, что голодным есть нечего, а он, барин, роскошествует». В следующем письме от 29 января он писал ей же: «О самой статье Толстого ты еще ничего не писала. Здесь к ней резко отнеслись, многие насмешливо, но большинство сочувственно, хотя, конечно, как к «утопии». Я, ей-богу, не знаю, что в ней утопического. Если только полиция не усмотрит тут хождения в народ, то, по-моему, общение, предлагаемое Толстым, положительно осуществимо и, конечно, принесет огромную пользу обеим сторонам»117.
В периодической печати статья Толстого вызвала три отклика.
Либеральный «Вестник Европы» в анонимной статье «Из общественной хроники», сказав несколько слов относительно речи
- 121 -
В. С. Соловьева в первую годовщину смерти Достоевского118, далее писал:
«Тот призыв к личности, к сердцу человека, который проповедывался Достоевским и проповедуется его школой, слышится и в речи, произнесенной гр. Л. Н. Толстым по случаю московской переписи; но какая разница в основном тоне! Здесь нет ничего изысканного, натянутого, никаких громких слов о всечеловечестве, об избранном народе: простое, глубоко искреннее обращение к лучшим чувствам человека — вот все содержание слов гр. Толстого. И в них, однако, мы видим признак времени, и признак весьма характеристический! Сам оратор связал их с злобой дня, с «криками о шаткости нашего общественного строя, об исключительном положении, о революционном настроении». — Где корень всего? — спрашивает он, — на что указывают революционеры? На нищету, неравномерность распределения богатств... На что указывают консерваторы? на упадок нравственных основ... Если справедливо мнение революционеров, что же надо сделать? Уменьшить нищету и неравномерность богатств. Как это сделать? Богатым поделиться с бедными... Если справедливо мнение консерваторов, что все зло от упадка нравственных основ, то что может быть безнравственнее и развратительнее, как сознательно равнодушное созерцание людских несчастий с одною целью записывать их? Что же надо сделать? — надо к переписи присоединить дело любовного общения богатых, досужих и просвещенных с нищими, задавленными и темными. Не менее знаменательны те места в речи гр. Толстого, в которых он говорит о деньгах, об условности современной жизни, о невозможности достигнуть цели путем банальных филантропических учреждений. Он призывает к единоборству против нищеты — единоборству, заимствующему свою силу только из одновременности и однородности предпринимаемых напряжений. «Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, не поднимем ли? Дружнее, братцы, разом...» Печальный опыт, вероятно, убедил гр. Толстого что без машины дело не обойдется; до сих пор, по крайней мере, мы не слыхали, чтобы московская перепись привела хоть отчасти к тем результатам, которых он ожидал от нее. Его слово раздалось, однако, не напрасно. Оно напомнило о значении переживаемого нами исторического момента, об обязанностях, налагаемых им не только на всех, но и на каждого
- 122 -
о невозможности и преступности равнодушия в виду общественных бедствий. Желанного выхода гр. Толстой не указал, да это и не по силам одному человеку; но за необходимость найти выход — его слова говорят сильно и ясно»119.
Журнал «Устои» в статье Н. М. Виленкина (Минского) «Новое слово г. Соловьева», также посвященной речи В. С. Соловьева, писал:
«Заговорив о христианской речи г. Соловьева, не можем [для] сопоставления не сказать несколько слов о другой речи, тоже христианской — графа Льва Толстого. Среди наших моралистов, как и среди наших художников, Толстой занимает одно и то же место: он поднимается над теми и другими целою головой. В нем не то дорого, что он о правде и христианской любви умеет говорить хорошими словами, а то, что слова эти он старается приводить в исполнение. Он не ищет спокойствия, он не дорожит доктриной. Ни для кого не тайна, что граф Толстой, одетый в крестьянское платье, с евангелием за пазухой (этого не было. — Н. Г.), пешком ходил по монастырям и раскольничьим деревням, отыскивая правду; или для кого же тайна, что он хотел раздать свое имущество и только постороннее вмешательство не дало ему привести в исполнение своего желания. Тут чувствуешь биение пульса иной правды, не выдуманной, а настоящей, животрепещущей, начинающей с нужного конца.
Но при всем том на мучительные вопросы современной тоскующей души речь графа Толстого не дает ответов.
«Деньги, — говорит граф, — сами по себе зло». «Нужно работать на людей». Но неужто кто-нибудь сомневался в этом? Ведь вопрос только — как работать на людей? А если не позволят? А если те, на которых работаешь, почему-либо отвергают тебя и твою работу?
«Почему не надеяться, — продолжает граф, — что с обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, когда вдруг наступает момент выздоровления?»
Во-первых, сравнение это не верно, потому, что больной организм, прежде чем заболеть, был здоров, и болезнь есть только его временное и ненормальное состояние, а общество никогда не было здоровым, и теперешнее несовершенное это состояние есть для него состояние нормальное.
А во-вторых, кто же не надеется; всего и свету, что эта надежда, но ведь ею сыт не будешь; за одну только ее цепляешься, вися над бездной, благодаря только ей тоска в отчаяние не переходит.
- 123 -
Но тоски надеждой не перешибешь...»120
Совершенно не понял (или не прочитал внимательно) Толстого автор статьи «Народ и общество», помещенной в радикальном журнале «Дело»121.
Называя речь Толстого «знаменательной», Драгоманов писал: «Как бы мы на нее ни взглянули потом, мы не можем в первый момент не остановиться с невольным безмолвным сочувствием пред искренностью и усилиями этого одушевления, возбужденного людскими несчастиями... Речь графа Толстого есть, конечно, симптом нашего времени. В ней выбилась томящая всех жажда духовного подвижничества и горячечной работы, взволнованное глубоким потрясением чувство. Умные мысли выражены оригинально, с большой силой и блеском. Порывания благородны, самая утонченная и изящная доброта. Бездна душевной теплоты и сердечной чуткости. И в конце концов, в общем результате, какая безнадежная пустота...
Но что же сулит, спрашивается, обездоленному миру это благородное сердце, откуда бьет ключ столь пламенного чувства и столь сильных импульсов к добру? Смешно и больно сказать: милостыню! Но какую вычурную, фантастическую, самую изысканную милостыню!».
Призыв Толстого к «любовному общению» богатых и бедных рецензент понял так, что Толстой будто бы вот к чему призывал своих слушателей: «Дадим ему [бедняку] прежде всего наше сочувствие, войдем в его положение, поболеем его горем и уже потом, скрепя сердце, сунем ему в руку 20 копеек как зло неизбежное».
Придравшись к слову «будет» в цитате из Толстого, что всегда было, есть и будет дело, на которое стоит положить всю жизнь, какая есть в человеке, дело это — «любовное общение людей с людьми, уничтожение тех преград, которые воздвигли между собой люди, чтобы веселье богатого не омрачалось дикими воплями беспомощного голода и холода», автор утверждает, будто Толстой «стремится убедить мир, что нищета и довольство могут ужиться в самом тесном, трогательном союзе на вечные времена», то есть приписывает Толстому мысли, совершенно обратные тем, какие изложены в статье «О переписи в Москве».
Из писем к Толстому, вызванных его статьей, в его архиве сохранилось только два. Студент Н. И. Тимковский
- 124 -
(впоследствии писатель) в письме, датированном 3 февраля 1882 года, писал:
«Ваша статья по поводу переписи произвела на меня такое впечатление, каких я жадно ищу везде — ив науке, и в поэзии, и в жизни: впечатление настоящей жизни, жизни очищенной от лжи и предрассудков, разумной, человеческой. Вступая в жизнь, я жадно ищу людей подобных Вам — людей, у которых везде прежде всего душа человека. Я невольно презираю ту жизнь, которую вижу кругом себя. Ваши слова указали м«е зарю новой жизни, полной мысли, любви и настоящего дела. Не знаю, сделал ли я себя понятным.
Вы убеждаете нас, молодых людей, и все общество поднимать упавших духом излечивать душевные раны; прочитав это, я пришел к убеждению, что человек, высказавший такие мысли, не откажет сам содействовать стремлениям другого, — что Вы не откажете мне в своей беседе и помощи, которая мне в настоящее время очень нужна». Далее Тимковский просил о личной встрече с Толстым, которая, очевидно, вскоре и произошла.
Для самого Толстого одним из важных результатов появления в печати его статьи о переписи было знакомство с художником Н. Н. Ге. В своих записках Н. Н. Ге рассказывает об этом:
«В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л. Н. Толстого «О переписи в Москве». Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: «Наша нелюбовь к низшим — причина их плохого состояния...»
Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему.
Приехал, купил холст, краски — еду: не застал его дома. Хожу три часа по всем переулкам, чтобы встретить — не встречаю. Слуга (слуги — всегдашние мои друзья), видя мое желание, говорит: «Приходите завтра в 11 часов, наверное он дома». Прихожу, увидел, обнял, расцеловал. «Лев Николаевич, я приехал работать, что хотите — вот ваша дочь, хотите, напишу портрет?» — «Нет, уж коли так, то напишите жену». — Написал. Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я могу назвать то, что я любил целую жизнь, — он мне это назвал, а главное, он любил то же самое»122.
- 125 -
Первое знакомство Толстого с Ге, происшедшее в первых числах марта 1882 года, вскоре перешло в тесную и крепкую дружбу, ничем не омрачавшуюся до самой смерти Н. Н. Ге в 1894 году.
XVIII
В конце января 1882 года в Москву приехал, вероятно, по приглашению Толстого, Василий Кириллович Сютаев. Он и остановился у Толстого.
30 января С. А. Толстая сообщала сестре, что накануне Сютаев провел вечер у Льва Николаевича в его кабинете. Слушать его проповедь пришли из гостиной светские гости Софьи Андреевны.
С. Л. Толстой вспоминает, что ему довелось присутствовать при разговоре Сютаева со знакомыми Льва Николаевича. «Сютаев, — пишет С. Л. Толстой, — не только возбуждал и с любопытство, но и производил на них сильное впечатление. При чуждых ему людях, «господах», в барской обстановке, он нисколько не стеснялся, вел себя с большим достоинством и говорил, что думал»123.
Популярность Сютаева в московском обществе была до такой степени велика, что в художественном магазине Аванцо на Кузнецком мосту продавались его фотографии.
И. Е. Репин в конце января начал писать портрет Сютаева; тогда же Т. Л. Толстая делала копию с репинского портрета. Толстой нашел эту копию удачной и поместил ее в своем кабинете. Написанный Репиным портрет Сютаева с подписью «Сектант» приобрел (по рекомендации Толстого) П. М. Третьяков для своей галереи.
Узнав о проекте Толстого помощи московским беднякам, Сютаев, всегда стремившийся соединять материальную помощь с «научением», не выразил сочувствия этому проекту. Он предложил совсем другой способ уничтожения городской бедности. «Разберем их по себе, — говорил он, — я не богат, а сейчас двоих возьму. Еще десять раз столько будь — всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе, — он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня. А эта ваша община совсем пустая».
Приведя эти слова Сютаева, Толстой замечает от себя: «Это простое слово поразило меня, я не мог не сознать его правоты»124.
- 126 -
Горячее стремление «благовествовать» у Сютаева оставалось то же, что и прежде. В одной из бесед с Толстым Сютаев задал ему вопрос, как он думает, «хорошо ли будет сделать какое-нибудь негрешное дело, — такое, чтобы посадили в острог, — для того, чтобы там проповедовать»125.
О пребывании Сютаева в Москве стало известно администрации. Московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков послал к Толстому своего адъютанта, чтобы получить сведения о Сютаеве, а затем арестовать его и выслать на родину. Как вспоминал Толстой впоследствии, это был молоденький красавчик жандарм, который стал расспрашивать его с Сютаеве. «Мое первое движение, — рассказывал Толстой, — конечно, было сказать ему: как вам не стыдно заниматься таким делом? Я отказался рассказывать о чем бы то ни было»126.
«Отец рассердился, — рассказывает С. Л. Толстой, вспоминая этот случай, — и резко потребовал, чтобы ротмистр вышел из его кабинета, и даже сильно захлопнул за ним дверь. Через несколько дней Долгоруков прислал к отцу своего чиновника и нашего знакомого В. К. Истомина с предложением приехать к нему для объяснений. Отец ответил, что если Долгоруков желает его видеть, ничто не мешает ему самому приехать к нему»127.
Администрация, однако, приняла свои меры. 19 февраля 1884 года, отвечая на вопрос А. С. Бутурлина, жив ли Сютаев, Толстой писал ему: «Сютаев жив. Я не могу видеть его. Велено меня не пускать к нему, а его ко мне»128.
XIX
Толстой спешил окончить дела по переписи и уехать из Москвы.
Цель поездки была, главное, «отдохнуть от разбитых нервов», как писал он А. А. Толстой 9 февраля, — разобраться в тех мыслях, какие вызвала в нем перепись, и написать об этом статью.
2 февраля Толстой поехал на некоторое время к своему другу Ивану Ивановичу Раевскому, жившему в имении Бегичевка, Данковского уезда, Рязанской губернии, но дорогой передумал, вернулся назад в Тулу и поехал в Ясную Поляну.
- 127 -
Уже на другой день, 3 февраля, Толстой писал жене, что он начал заниматься, но сделал очень немного, потому что почувствовал головные боли (мигрень) и слабость. Затем 4 февраля он сообщал ей же: «Плохо работаю. Зато отдыхаю нервами и укрепляюсь»129.
Оглядываясь на четыре с половиной месяца, проведенные в Москве, Толстой писал, что, кроме знакомства с В. Ф. Орловым, Н. Ф. Федоровым и В. К. Сютаевым, жизнь в Москве была полезна ему еще в том отношении, что дала возможность ближе «узнать людей, общество даже, которое холодно осуждал издалека... И я разбираюсь со всем этим материалом. Перепись и Сютаев уяснили мне очень многое»130.
Уже на второй день по приезде в Ясную Поляну Толстой начал статью, озаглавленную «О помощи при переписи». Каждый день во время своего кратковременного на этот раз пребывания в деревне он пытался заставить себя продолжать начатую статью, но слабость и головные боли, с одной стороны, и возбужденное нервное состояние как результат всего пережитого им во время переписи — с другой (хотя он и «упивался тишиной»), не давали ему возможности плодотворно работать.
Начатая им статья131 говорит о различии бедности городской и бедности деревенской, о его впечатлениях от посещения Ляпинского ночлежного дома на Хитровом рынке, об участии в переписи, о посещении Ржановского дома и о том впечатлении, которое произвела его статья «О переписи в Москве» на тех, кому он читал ее. Статья написана очень живо, но, очевидно, нездоровье и общая слабость мешали Толстому с уверенностью продолжать работу, и 6 февраля он известил жену о скором возвращении в Москву.
Жена писала Толстому каждый день, но ее письма не могли способствовать его выздоровлению. Из этих писем видно, как далеко зашел к тому времени семейный разлад Толстых.
В ответ на первое письмо Толстого из Ясной Поляны Софья Андреевна писала 4 февраля: «Получила сегодня твое тихое, покорное, но видно, что счастливое по твоему расположению духа письмо, милый Левочка. Нет, не вызываю я тебя в Москву, живи, сколько хочешь; пусть я одна уж сгораю, зачем же двум: ты нужнее меня для всех и вся... Наслаждайся тишиной, пиши и не тревожься; в сущности все то же при тебе и без тебя, только гостей меньше. Вижу я тебя редко и в Москве, а жизнь наша пошла врозь... Прощай, Левочка милый, будь здоров. Где ты? т. е. ты такой, какой был когда-то в отношении меня. Такого теперь тебя давно нет».
- 128 -
То же отношение, еще более резко выраженное, и в следующем письме Софьи Андреевны от 6 февраля: «Я пишу всегда такая усталая, что письма мои выходят злы. Да я-таки зла стала, верно, от желчной болезни. Не езди ко мне подольше, без меня тебе много лучше... Дети эти маленькие исключительно мои, и их больше у меня не должно быть и не будет. Лишние страдания и из чего — жизнь врозь пошла, пусть будет вполне врозь». Но далее Софья Андреевна в том же письме писала: «Как я хочу уязвить тебя, но если бы ты знал, как я всякий день плачу, когда после дня терзания для жизни плоти, как ты называешь, я ночью останусь одна с своими мыслями и тоской...»
Наконец, 7 февраля, отвечая на письмо Толстого с извещением о его скором возвращении, Софья Андреевна писала: «В первый раз в жизни моей, милый Левочка, я сегодня не обрадовалась твоему скорому возвращению... Может быть, завтра ты приедешь и опять начнешь страдать, скучать и быть живым, хотя и молчаливым, укором моей жизни в Москве. Господи, как это наболело во мне и как измучило мою душу!»132.
Но Толстой знал, что, несмотря на то, что его жизнь пошла врозь от жизни жены, несмотря на ее «язвительные» письма, она все-таки сильно тосковала во время его даже кратковременных отлучек, и так как его работа над статьей не пошла, то и пребывание его в Ясной Поляне, несмотря на всю прелесть деревенской жизни, не имело в его глазах оправдания, и 8-го или 9 февраля он вернулся в Москву.
Вернулся он «все с такими же расшатанными нервами», как писал он А. А. Толстой 9 или 10 февраля133.
XX
Вероятно, 10 февраля Толстой написал ответ на письмо графини П. С. Уваровой, приглашавшей его на благотворительном духовном концерте в пользу сирот Можайского приюта «помянуть добрым словом» память царя Александра II и «в теплых словах рассказать слушателям, что сделал покойный для всего человечества, что потеряла Россия вместе с ним, чем виноваты мы все в совершившемся преступлении».
На приглашение графини Уваровой Толстой ответил отказом по трем основаниям: во-первых, потому, что он «никогда не читал публично и считает это для себя «неприличным»;
- 129 -
во-вторых, потому, что он «поставил себе за правило не принимать участия в филантропических увеселениях», и, в-третьих, потому, что «несчастие 1 марта» есть, по его мнению, «такое событие, которое еще не пришло время обсуждать»134.
Последняя указанная Толстым причина означала, что он не соглашался с его корреспонденткой в той характеристике, которую она давала царствованию Александра II. В письмах к Страхову 1881 года Толстой, напротив, писал, что деятельность революционеров была вызвана бедственным положением русского народа и репрессиями правительства Александра II.
На этот раз Толстой провел в Москве только три недели и 27 февраля вновь уехал в Ясную Поляну. Уехал он в деревню с целью «очнуться от ужасной московской жизни»135.
В самый день приезда в Ясную Поляну Толстой писал жене: «Я испытываю то же чувство, как и тот раз: страшной усталости, слабости, грусти тихой и упадка сил»136.
Далее в том же письме, сравнивая городскую жизнь с деревенской, Толстой писал: «Нынче смотрю на Кузминских дом137 и думаю: «зачем он себя мучает, служит, где не хочет, и они все, и мы все. Взяли бы да жили все в Ясной и лето и зиму — воспитывали бы детей. Но знаю, что все безумное возможно, а разумное невозможно»138.
На другой день, 28 февраля, Толстой вновь писал Софье Андреевне: «Опять все утро ничего не делал и был в самом унылом, подавленном состоянии; но не жалею об этом и не жалуюсь. Как мерзлый человек отходит и ему больно, так и я, вероятно, нравственно отхожу — переживаю все излишние впечатления и возвращаюсь к обладанию самого себя. Может быть, это временно, но я ужасно устал от жизни, и мне хорошо отдохнуть»139.
В тот же день Софья Андреевна писала в дневнике: «Жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если бы Левочка не был так несчастлив в Москве. Он слишком впечатлителен, чтоб вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши, тунеядства городской жизни»140.
На письмо Толстого от 28 февраля Софья Андреевна отвечала 2 марта: «Сейчас хотела посылать письмо... и распечатала, чтоб... выразить тебе, главное, свое сочувствие, что ты,
- 130 -
независимо от своей воли, замерз в Москве. Я знаю, что ты не мог иначе, если б даже хотел. Мои просьбы и надежды развеселить и осчастливить тебя — напрасны. Мне очень больно твое состояние, и мне очень трудно все в жизни помирить. Зачем ты мне столько воли дал?.. Прощай, отдыхай, люби меня, не проклинай за то, что посредством Москвы привела тебя в такое положение, целую тебя»141.
Далее в том же письме от 28 февраля Толстой сообщал жене, что он «в первый раз раскрыл свои тетради» и видит «возможность писать»142. Но только 2 марта Толстой мог написать Софье Андреевне, что он «пытался писать, но сделал мало»143. Здесь, несомненно, идет речь о статье, начатой в предыдущий приезд в Ясную Поляну и озаглавленной «О помощи при переписи». Толстой исправлял первую или вторую копию статьи. В первой копии прежнее заглавие «О помощи при переписи» зачеркивается Толстым и заменяется другим — «Нельзя делать добро». Но и это заглавие было автором тут же вычеркнуто и заменено новым — «Так что же нам делать?», под которым впоследствии и была напечатана статья. Исправления в обеих копиях не вносят существенных изменений в текст статьи. В это пребывание Толстого в Ясной Поляне вся его работа над начатой статьей ограничилась одним днем.
Одновременно с обдумыванием статьи у Толстого зарождались и мечтания о художественной работе. 3 марта он писал жене: «Может быть, это мечты и загадыванья ослабевающего, но приходят все в голову мысли о поэтической работе. И как бы я отдохнул на такой работе. Как задумаю об этом, так точно задумаю об летнем купанье».
Но, чтобы разговорами не спугнуть» зарождающихся замыслов, Толстой просит жену даже детям не говорить об этом144.
На это письмо Толстого Софья Андреевна отвечала 5— 6 марта: «Каким радостным чувством меня вдруг охватило, когда я прочла, что ты хочешь писать опять в поэтическом роде. Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чем спасенье, радость; вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь. Эта работа настоящая, для нее ты создан, и вне этой сферы нет мира твоей душе. Я знаю, что насиловать ты себя не можешь, но дай бог тебе этот проблеск удержать, чтоб разрослась в тебе опять эта искра божия. Меня в восторг эта мысль приводит»145.
- 131 -
XXI
Софья Андреевна переслала Льву Николаевичу полученное в Москве на его имя письмо от А. А. Толстой. В этом письме, из которого сохранился только второй листок с датой 25 февраля, А. А. Толстая писала Льву Николаевичу: «Никогда не говорите и не думайте, что мы служим не одному богу. Христос один, и вы и я любим его»146.
Это письмо показалось Толстому неискренним, и в пылу возмущения он написал Александре Андреевне чрезвычайно резкое письмо — одно из самых резких писем, которые когда-либо были им написаны.
«Общего между мною и вами быть не может, — писал Толстой в самом начале письма, — потому что ту святодуховскую веру, которую вы исповедуете, я исповедывал от всей души и изучал всеми силами своего ума и убедился, что это не вера, а мерзкий обман, выдуманный для погибели людей. Убедившись в этом, я написал книгу, обличающую обманщиков... Я считаю вашу веру произведением дьявола, придуманным для того, чтобы лишать человечество спасения, данного Христом. И книга моя, и я сам есть обличение обманщиков — тех лжепророков, которые придут в овечьей шкуре и которых мы узнаем по плодам».
Толстой перечисляет все те злодеяния, в которых он обличает церковников.
«Выхода для обвиняемых, — пишет он, — только два: оправдаться и доказать, что все мои обвинения несправедливы. (Этого нельзя сделать почерком пера. Для этого нужно изучение предмета, нужна свобода слова и, главное, сознание своей правоты. А этого-то нет. Обличаемые спрятались за цензуру и штыки и кричат: «Господи, помилуй», и вы с ними). — Или признаться в своей вине и отречься от лжи и зла... Надо оправдаться в насилиях всякого рода, в казнях, в убийствах, в скопище людей, собранных для человекоубийства и называемых в насмешку над богом — христолюбивым воинством, — во всех ужасах, творившихся и теперь творимых с благословенья вашей веры, или покаяться».
Заканчивает Толстой письмо жесткими словами: «Обманщики сделают, что всегда делали, будут молчать. Но когда нельзя уже будет молчать, они убьют меня. Я этого жду. И вы очень содействуете этому, за что я вам и благодарен»147.
Толстой сам свез это письмо на почту, и только после этого ему стало ясно, каким тяжелым ударом обрушится на голову его ранее любимого друга это жесткое письмо. Он послал
- 132 -
на почту взять письмо обратно. И на другой день, 4 марта, написал другое письмо, менее резкое по выражениям, но по содержанию нисколько не отличающееся от первого.
«Я ведь в отношении православия — вашей веры, — писал Толстой, — нахожусь не в положении заблуждающегося или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя. Я обличаю православие в отклонении, во лжи сознательной и бессознательной, и потому со мной больше делать нечего, как или с презрением отвернуться от меня, как от безумца, или понять хорошенько то, в чем я обвиняю православие, и признаться в, своих преступлениях; или отвергнуть все мои обличения. Нет середины: или презирать, или оправдываться. А чтобы оправдываться, надо прежде всего понять. А для того, чтобы понять, надо прежде всего большую искренность (чем не отличается придворный быт); во-вторых, надо много труда, внимания и времени (тоже не часто встречаемые при дворе); в-третьих, надо смирение, а в вас я вижу гордость, не имеющую пределов — что́ вы думаете, то святой дух думает.
И потому мне нечего слушать о вашем Христе, я все это не только слышал, но изучал до малейших подробностей. Вам и вашим надо перестать прятаться за насилие и принуждение, а выступить защитниками своей веры, обличаемой во лжи, и смешать меня с грязью. Но этого они не сделают (и вы не делаете). А они будут молчать, пока можно, а когда нельзя уже будет, они убьют меня. И вы, говоря мне о вашем Христе, содействуете этому. Между мной и вами столь же мало общего, что было между Христом и фарисеями. И я могу погибнуть физически, но дело Христа не погибнет, и я не отступлюсь от него, потому что в этом только моя жизнь — сказать то, что я понял заблуждениями и страданиями целой жизни. Простите и вдумайтесь в то, что я пишу»148.
Этими словами закончил Толстой свое письмо.
Но и это письмо, обдумав, нашел очень резким и не послал его, так что письмо А. А. Толстой осталось без ответа.
Других писем в это свое непродолжительное пребывание в Ясной Поляне Толстой не писал (кроме писем к жене).
Много времени он посвящал чтению; с интересом читал в старых номерах парижского журнала «Revue des deux Monds» статьи по религиозным вопросам, и у него даже явилась мысль собрать из этого журнала все статьи, касающиеся философии и религии. «И это будет удивительный сборник религиозного и философского движения мысли за двадцать лет», — писал он жене 4 марта149. Намерение это осталось невыполненным.
Мучила Толстого неизвестность относительно судьбы десяти
- 133 -
народовольцев, приговоренных 15 февраля 1882 года к смертной казни через повешение. «Что о приговоренных? Не выходят у меня из головы и сердца. И мучает, и негодованье поднимается — самое мучительное чувство», — писал он жене в том же письме 4 марта. Еще раз тот же вопрос: «Что слышно про приговоренных?» — задавал Толстой Н. Н. Страхову в письме от 14 марта150.
Из всех десяти приговоренных был расстрелян как военный один Н. Е. Суханов; прочим смертная казнь была заменена заключением в Шлиссельбургской крепости. Некоторые из приговоренных по процессу двадцати, в том числе М. Ф. Фроленко, дожили до амнистии 1905 года.
Все письма Толстого жене, написанные из Ясной Поляны за неделю с 27 февраля по 5 марта 1882 года, а также и ее к нему за тот же период дышат неподдельной нежностью. Обращение Толстого в письмах: «душенька», «милая душенька». По поводу нерасположения Софьи Андреевны к В. И. Алексееву Толстой 5 марта писал ей: «Не могу я с тобой врозь жить. Мне непременно нужно, чтобы всё было вместе»151.
2 марта Софья Андреевна писала: «Когда я о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь производишь, — это что ты несчастлив. И так жалко тебя, и вместе с тем недоуменье: отчего? за что? Вокруг все так хорошо и счастливо. Пожалуйста, постарайся быть счастлив и весел, вели мне что-нибудь сделать для этого, конечно, что в моей власти и только мне одной в ущерб. Только одного теперь в мире желаю — это твоего спокойствия души и твоего счастья»152.
На другой день, 3 марта, Софья Андреевна закончила письмо Льву Николаевичу словами: «Прощай, милый мой друг, как бы утешить тебя, голубчик, я только одно могу — любить и жалеть тебя, но тебе уж этого теперь не надо»153.
На это Толстой отвечал 5 марта: «Ты говоришь: «я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо». Только этого и надо. И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня... Мое уединение мне очень нужно было и освежило меня, и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни».
За будущее Толстой, однако, не спокоен. «Боюсь, — писал он в том же письме, — как бы мы с тобой не поменялись ролями: я приеду здоровый и оживленный, а ты будешь мрачна и опустишься»154.
- 134 -
«Я давно уже лерестал тебя упрекать, — писал Толстой жене 4 марта, — это было только в начале... Московская жизнь мне очень много дала, уяснила мне мою деятельность, если еще она предстоит мне, и сблизила нас с тобою больше, чем прежде»155.
7 марта Толстой вернулся из Ясной Поляны в Москву.
XXII
По возвращении в Москву Толстой в письме к Н. Н. Страхову от 14 марта подводит грустный итог своей писательской работы за истекшую зиму.
«Я устал ужасно и ослабел, — писал он. — Целая зима прошла праздно. То, что, по-моему, нужнее всего людям, — то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна. Но если не умираю, еще, видно, нет на то воли Отца. И часто, отдаваясь этой воле, не тяготишься жизнью и не боишься смерти»156.
Страхов послал Толстому свою только что вышедшую книгу «Борьба с Западом в нашей литературе». Прочитав присланный Страховым сборник, Толстой в том же письме от 14 марта изложил свое мнение о статьях, входящих в состав сборника. Статьей о Герцене он был «восхищен», статьей о Милле — «удовлетворен», но статьями о Парижской Коммуне и о Ренане остался «не удовлетворен». В этих статьях Страхов, так же как в двух первых «Письмах о нигилизме», написанных в 1881 году157, выражал отрицательное отношение к революционному движению.
«Вы отрицаете... то, что делают люди, — писал Толстой Страхову в том же письме. — Вы говорите: они делают вздор. Задача в том, чтобы понять, что и зачем они делают».
Страхов не оставил упрек Толстого без ответа. В письме от 31 марта он пытался объяснить свою точку зрения.
«Все это движение, — писал он, — которое заполняет собою последний период истории — либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое — всегда имело в моих глазах только отрицательный характер. Отрицая его, я отрицал отрицание... И Вам ли меня упрекать? — обращался далее Страхов к Толстому. — Не Вы ли видите одно лишь безобразие и обман в самых огромных сферах и в самых распространенных формах человеческой жизни? Если у Вас одно отрицаемое, а у меня другое, то Ваше шире по объему и труднее для объяснения, чем мое»158.
- 135 -
На это письмо Толстой ответил 1 апреля, с совершенной ясностью объяснив своему другу причины своего разногласия с ним.
«Я говорю, — так начинает Толстой свое письмо, — что отрицать то, что делает жизнь, — значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать отрицание — значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание...
Вы находите безобразие, и я нахожу. Но Вы находите его в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, — что есть безобразие.
И почему мое отрицаемое труднее для объяснения, чем ваше, — тоже не знаю. Вы отрицаете то, что живет, а я отрицаю то, что мешает жить. Трудности же для объяснения того, что я отрицаю, нет никакой. Я отрицаю то, что противно смыслу жизни, открытому нам Христом, и этим занимается все человечество. До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенства людей, и человечество освободилось от него, и теперь уясняется безобразие государственности, войн, судов, собственности, и человечество все работает, чтобы сознать и освободиться от этих обманов. Все это очень просто и ясно для того, кто усвоил себе истины учения Христа, но очень неясно для того, для кого международное, государственное и гражданское право суть святые истины, а учение Христа — хорошие слова»159.
Письмо без обращения и без подписи, все целиком посвященное выяснению поставленного вопроса.
Страхов, который незадолго до своей смерти говорил, что он все силы своего ума употребил «на борьбу с нигилизмом»160, на письмо Толстого ответил обширным письмом, в котором до конца изложил свою точку зрения на затронутые им в переписке с Толстым вопросы.
В этом письме Страхов старался объяснить, по каким основаниям он «отрицает отрицание», то есть все перечисленные им в предыдущем письме либеральные, революционные, социалистические, нигилистические учения. Он отрицает их потому, что все эти учения «признают эгоизм священным принципом. Они пылают негодованием против неправды, а неправдою называют нарушение чьего-либо эгоизма».
Этим отрицательным учениям Страхов противопоставляет государство и церковь, которые, по его мнению, «действуют иначе». «Они выставляют своею целью общее благо и прямо требуют для этого блага ограничения эгоизма, пожертвования некоторою его долею. Это понятно, это логично и достижимо и выполняется в огромных размерах... Государство в известном
- 136 -
смысле требует от каждого, чтобы он отчасти отрекался от своего имущества, от своей воли и иногда от своей жизни»161.
Это восхваление церкви и государства должно было подействовать ошеломляюще на автора трактата «Исследование догматического богословия» и статьи «Церковь и государство». Никогда раньше Страхов не высказывался так определенно отрицательно против взглядов Толстого на существующее общественно-политическое устройство.
Более двух месяцев не отвечал Толстой на неожиданное для него письмо друга. Только 10 июня Толстой написал Страхову: «Я не отвечал на последнее письмо ваше потому, что совсем не согласен, и мне казалось, что я слишком резко выскажу причину этого несогласия». Чувствуя всю бесполезность начатого спора при полном различии основных точек зрения, Толстой далее писал: «Притом предметы эти такие сами по себе неинтересные, что не стоит из-за отступления мысли нарушать естественную любовную связь между людьми. При свиданьи поговорим, если хотите»162.
Толстой прекратил спор и старался забыть о нем, но теперь уже он не мог смотреть на Страхова как на своего «единственного духовного друга», как было в 1877 году. А Страхов не только возражал Толстому, но не скрывал И от своих друзей, в чем он был с ним несогласен. 19 июля 1883 года он писал Н. Я. Данилевскому: «Положительная сторона его [Толстого] понимания христианства несомненна, но в отрицательной есть много слабых мест и преувеличений»163.
XXIII
В марте — первой половине апреля 1882 года Толстой продолжал работу над первой редакцией повести «Смерть Ивана Ильича». Об этом мы узнаем из воспоминаний журналиста С. К. Эфрона. По его словам, Толстой после напечатания в «Современных известиях» статьи «О переписи в Москве» очень сошелся с редактором этой газеты Н. П. Гиляровым-Платоновым и часто бывал у него. Однажды он предложил Гилярову-Платонову напечатать в «Современных известиях» повесть «Смерть Ивана Ильича», которая в то время еще не имела определенного заглавия. От гонорара Толстой отказался, но Гиляров-Платонов не согласился на его предложение получить повесть бесплатно. «Ему стоило, — рассказывает С. К. Эфрон, — немало труда уговорить графа, чтобы он взял гонорар в размере 40 копеек за строчку».
- 137 -
Через несколько дней Толстой в редакции «Современных известий» прочитал вслух первые главы новой повести. «Нечего говорить о том, — вспоминает С. К. Эфрон, — с каким восторженным благоговением было выслушано чтение графа. Никита Петрович и его гости были очарованы, что и проявлялось каким-то особым оживлением на их лицах. После чтения граф недолго оставался у Гилярова. Ему, очевидно, не хотелось выслушивать в изобилии посыпавшиеся похвалы на его творение. Прощание его с Никитой Петровичем было в высшей степени дружеское, теплое»164.
Очевидно, Толстой прочел первую редакцию «Смерти Ивана Ильича»165.
Основная идея первой редакции повести — обличение лжи, которая пропитывала собой всю жизнь привилегированных классов того времени.
Рассказ ведется от имени сослуживца и друга покойного — Творогова. Вся роль этого персонажа в повести состоит только в том, что он рассказывает о последних днях, а затем и о предыдущей жизни Ивана Ильича. Автором не дается никакой характеристики этого лица.
Повесть начинается рассказом о том, как члены суда узнают о смерти своего сослуживца. Вечером рассказчик поехал на квартиру Ивана Ильича. Рассказ сразу же принимает сатирический характер: «Я вошел в комнату мертвеца, как обыкновенно, с недоумением о том, что собственно надо делать. Одно я знаю, что креститься в этих случаях никогда не мешает». Далее описана встреча рассказчика с вдовой Ивана Ильича, весь разговор их проникнут фальшью и неискренностью. Прасковья Федоровна спрашивала у Творогова совета относительно пенсии, которую она может получить по смерти мужа. «...Но я видел, что она уже знает до малейших подробностей то, чего я не знал, все то, что можно вытянуть от казны для себя и для детей».
Прасковья Федоровна передала Творогову записки, которые Иван Ильич начал за два месяца до смерти. Жена упрекала его, что этим он вредит себе. «... Иван Ильич отвечал, что это одно его утешенье — самим с собой говорить правду».
Чтение этих записок, как говорит друг Ивана Ильича, «изменило совсем» его «взгляд на смерть и на жизнь».
Автором приводится начало записок, датированное 16 декабря 1881 года. Иван Ильич писал: «Шестую ночь я не сплю, и не от телесных страданий. Они все-таки давали мне спать, но от
- 138 -
страданий душевных, ужасных, невыносимых. Ложь, обман ложь, ложь, ложь, ложь, все ложь. Все вокруг меня ложь, жена моя ложь, дети мои ложь, я сам ложь, и вокруг меня все ложь». Но Иван Ильич не впадает в отчаяние. Он считает, что если он страдает от окружающей лжи, значит он видит «эту мерзкую ложь» и, следовательно, не все в нем ложь, есть «и правда». «Теперь же, — писал Иван Ильич, — одна жизнь моя — это самому с собой среди этой лжи думать правду». И Иван Ильич решает «писать, пока силы есть», перечитывать написанное и надеяться, что «кто-нибудь после прочтет и, может быть, очнется».
Сначала он хотел описать, «как это все сделалось» с ним, но на этих словах начатые Иваном Ильичом записки прерываются и исключаются автором из текста.
Творогов называет записки Ивана Ильича, после чтения которых он не спал всю ночь, ужасными. На другой день он поехал к вдове, слушал ее рассказ о муже и получил его прежний дневник и переписку. После похорон Ивана Ильича он еще несколько раз был у Прасковьи Федоровны, расспрашивал ее, их дочь и слугу Герасима. Из всего этого он составил себе описание последнего года жизни Ивана Ильича.
«История эта, — говорит Творогов, — и самая простая, и обыкновенная, и самая ужасная»; далее излагается эта история.
С этого момента повесть превращается, говоря словами Толстого, в «описание простой смерти простого человека»166, причем описание это проводится «из него», то есть описывается все пережитое Иваном Ильичом не с точки зрения стороннего наблюдателя, а так, как если бы он сам рассказывал про все им пережитое.
Рассказывается о происхождении Ивана Ильича, о его молодых годах, когда он был совершенный comme il faut, непоколебимо уверенный, «что он светит во мраке провинции», несет «знамя порядочности и прогресса».
Иван Ильич занял в провинции место судебного следователя. Здесь на него «наскочила не старая, но уже и не молодая девица», которая и «затянула» его. Но оказалось, что «жена ревнива, зла, язычна, скупа, бестолкова» и что ему «вместо поэзии очага» приходится «иметь ворчливость, привередливость, укоризны. — Это была первая тяжелая пора жизни Ивана Ильича...» Теперь «вся энергия Ивана Ильича перешла на службу. Он стал честолюбив».
Но тут пошли несчастья: его обошли по службе, он перешел в другое ведомство на худшее место, и «жена замучила его упреками», умер сын, сам он заболел. В 1880 году Иван
- 139 -
Ильич снова получил хорошее назначение, однако «этот-то год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича... с этого-то времени и начинается эта ужасная история последнего года жизни Ивана Ильича».
«Все ожидания Ивана Ильича оправдались». Он получил высокое назначение и большое жалование. Переехав в Москву, он начал устраивать свою квартиру, стремясь, чтобы у него было «все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода». Жизнь Ивана Ильича на новом месте службы «казалась ему совершенно полною, приятною и хорошею». Он следовал правилу «не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных»167.
Иван Ильич поддерживал знакомство с «важными по светскому положению дамами и мужчинами». На вечере, устроенном им, он «танцевал с княгиней Турфоновой, сестрой той, которая известна учреждением находящегося под покровительством императрицы общества «Унеси ты мое горе». Здесь явная пародия на благотворительное общество, носившее название «Утоли моя печали», состоявшее под покровительством императрицы168. «Круг общества составился у них самый лучший», они «оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников замарашек, которые разлетались с нежностями в Москву в гостиную с майоликовыми блюдами по стенам».
«Так они жили. И все шло так, не изменяясь. Все были счастливы и здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота». Это происходило от того, что, устраивая квартиру, Иван Ильич упал с лесенки и ушиб бок.
На этом обрывается первая редакция повести «Смерть Ивана Ильича». По-видимому, прежде чем читать повесть в редакции «Современных известий», Толстой просмотрел написанное начало повести, исправил его и написал продолжение.
Но печатание будущей «Смерти Ивана Ильича» в «Современных известиях» не состоялось: повесть еще не была закончена; кроме того, когда Гиляров-Платонов, как славянофил, не одобрил
- 140 -
«Исповеди» Толстого, которую он читал в корректурах, полученных от С. А. Юрьева, Толстой увидел, что у него с редактором «Современных известий» мало общего, и отдалился от него.
XIV
Вероятно, к марту — началу апреля 1882 года относится первая попытка Толстого изложить свои эстетические воззрения того времени.
Эта статья была начата в форме письма к издателю «Художественного журнала» Н. А. Александрову, обратившемуся к Толстому с просьбой изложить для его издания свои взгляды на искусство. И Толстой, считая, что его взгляд на искусство «совершенно отличается от распространенных взглядов на этот предмет и по своему смыслу и по своей ясности», согласился на предложение Александрова.
Он начал свою статью с критики современных взглядов на данный вопрос. По его словам, в теории под искусством разумеется что-то очень возвышенное и неясное: «проявление красоты», «выражение конечного в бесконечном» и т. д. «Все это очень высоко и прекрасно, но очень туманно». На практике «все, что материально, бесполезно, и все то, что потешает людей, все это называется искусством». «Пляшут девки с голыми ногами — бесполезно, но есть охотники смотреть — искусство. Много звуков набрать и щекотать ими слух — искусство. Написать голых женщин или рощу — искусство. Подобрать рифмы и описать, как блудят господа, — искусство».
Толстой не жалеет самых резких выражений и сравнений, для того чтобы очернить свою прошлую писательскую работу. Он пишет: «И вот в тумане этой теории, оправдывающей похоть людскую, я жил и, как говорится высоким слогом, служил искусству тридцать лет. И это служение, должно сказать, очень веселое. Я делал то, что делают все так называемые художники: я выучился бесполезному мастерству, но такому, которым [мог] щекотать похоть людскую, и писал книжки об том, что мне взбредет в голову, но только так подделывал их, чтобы щекотать похоть людскую и чтоб мне за это платили деньги. И мне платили деньги и говорили еще, что я делаю очень важное дело, и я был доволен».
«Но лет пять тому назад, — пишет Толстой далее, — я вернулся к той простой истине, которую знает всякий человек, рождаясь на свет, что жизнь есть благо, и благо не одно личное, а благо общее, и на этом знании поверял свою жизнь. И, рассчитываясь сам с собой, я увидал, что в том деле, которое я делал, не было ничего высокого и нет никакой разницы от того, что девки без порток пляшут и обнимаются в балете,
- 141 -
и что вся эта теория искусства, которому я служил, есть большой, огромный соблазн, то есть обман, скрывающий от людей благо и вводящий их в зло».
И тогда Толстой, как он рассказывает, по народной поговорке «осердясь на блох — и шубу в печь», «решил, что все так называемое искусство есть огромное зло — зло, возведенное в систему». Но «потом, когда я остыл немного, я убедился, что я был не совсем справедлив, что в этой матерьяльно бесполезной деятельности не все есть служение похоти, а что есть и полезное, хотя и не матерьяльно, т. е. добро». И сам Толстой признается, что он «много добра получил от этой матерьяльно бесполезной деятельности».
Но «как провести черту не туманную, а строго определенную между развратом и добром в этой деятельности»?
Вопрос остается без ответа — статья не была закончена. По-видимому, самому Толстому вопрос о «добре» в искусстве был в то время не совсем ясен169.
23 марта редактор журнала «Устои» С. А. Венгеров обратился к Толстому с письмом, в котором напоминал о его обещании, данном при личном свидании, предоставить «Устоям» статью о московской переписи.
Венгеров желал поместить эту статью в апрельской книжке журнала. Толстой сейчас же ответил Венгерову, что «в апрельскую книжку поспеть нельзя». При этом он оговаривался, что статья его «для цензуры будет крута» и, хотя ему и «хочется сказать все», что он думает по затронутому в ней вопросу, он все-таки предоставляет Венгерову как «мастеру цензурных дел» «выкидывать то, что может быть опасностью для журнала»170.
Но статья Толстого «Так что же нам делать?» была более или менее готова к печати лишь в 1884 году — в «Устоях», просуществовавших только один год, Толстой ничего не напечатал.
Неожиданно для Толстого ему открылась возможность напечатать одну из самых дорогих для него работ — ту, которая впоследствии получила название «Исповедь».
- 142 -
Глава третья
«ИСПОВЕДЬ». «В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?»
(1882—1884)
I
В одном из писем к Толстому, относящемся к марту 1882 года, редактор журнала «Русская мысль» С. А. Юрьев писал: «Прочтенное Вами вчера произвело на меня очень сильное впечатление. Надо попытаться напечатать в моем журнале Ваше рассуждение».1
Это была работа Толстого, написанная в 1879—1880 годах и получившая впоследствии название «Исповедь».
Далее Юрьев сообщал, что он забыл взять с собой рукопись Толстого, и просил прислать ее, чтобы сдать в набор.
Толстой поспешил приготовить рукопись к печати для журнала Юрьева.
В архиве Толстого сохранились первый автограф «Исповеди» и две последовательные копии с него. Возможно, что обе эти копии были изготовлены тогда, когда встал вопрос о печатании в «Русской мысли».
«Исповедь» писалась в несколько приемов, и задача, которую ставил перед собой автор, изменялась. Первоначально обдумывая план своей новой работы, Толстой представлял себе ее содержание только как историю своих религиозных исканий. На обложке первой редакции «Исповеди» рукой Толстого набросан следующий план нового произведения:
Жизнь остановилась.
Страдания и смерть.
Гора — пропасть.
Ужас путника.
Как это со мной сделалось понемногу.
Справки с знаниями, с верою (она отброшена).
Оглядываюсь на сверстных. Соломон, Шопенгауэр.
Оглядываюсь чувством на человечество.
- 143 -
Вера — дела.
Облегчение, отдых, можно жить.
Не пускают попы.
Что ж они говорят — богословия.
Исторический обзор.
Так Евангелие как. Оно свет людей, утоливших меня.
Как его читать.
Евангелие — критич[ески].
Вывод2.Первые наброски будущей «Исповеди», относящиеся к 1875 году, были написаны согласно этому плану. Из этих набросков сохранилась только часть — те листы, которые затем вошли в первую редакцию произведения.
Позднее, в 1879 году, у Толстого явилась мысль описать свою прошлую жизнь, но описать ее таким образом, чтобы, как писал он Страхову 2 ноября, «возбудить к своей жизни отвращение всех читателей»3. Согласно этому замыслу, первая редакция «Исповеди» была начата с биографических подробностей детских лет автора — характеристики отца, матери и теток-воспитательниц.
Подготовляя рукопись к печати, Толстой включил в нее также воспоминания о некоторых событиях, оставивших наиболее заметные следы в его внутренней жизни.
На полях одной из черновых редакций «Исповеди» написаны следующие наметки плана, большая часть которых была развита в данной редакции, а некоторые — в последующих:
«В это время гильотина. Что-то екнуло, но ничего не нашел и продолжал жить по-старому, только стал искать в массах народа».
«Убиться не по причине рассуждений, а тоска».
«Дело разума только одно — понять и объяснить жизнь».
«Бог. Церковь Хомякова. Мне открылся бог (на пне)».
«Труд восстановить бога, чистого от наслоений церкви».
«Сам бог уничтожался»4.
Подготовка к печати будущей «Исповеди» — того произведения, в которое автор вложил так много своих самых задушевных мыслей и чувств, — оживила Толстого. 7 апреля он уехал на несколько дней в Ясную Поляну уже не с «разбитыми нервами», как раньше, а в бодром душевном состоянии.
На другой день по приезде, 8 апреля, Толстой писал Софье Андреевне, что, выйдя утром, в 11 часов, он «опьянел от прелести утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде то шпильками, то лопушками лезет из-под листа и соломы;
- 144 -
почки на сирени; птицы поют уже не бестолково, а уж что-то разговаривают, а в загишье, на углах домвв везде и у навоза жужжат пчелы... Нет ни городовых, ни мостовой, ни извозчиков, ни вони, и очень хорошо».
Вечером Толстой отправился на охоту. «Летали далеко от меня и мало, ни разу не выстрелил, но много, как всегда, религиозно думал и слушал дроздов, тетеревов, мышей по сухим листьям, собачий лай за засекой, выстрелы ближние и дальние, филина, — даже Булька на него лаяла, — песни на Груманте5. Месяц взошел с правой стороны из-за туч; дождался, пока звезды видны, и поехал домой»6.
Много яснополянских крестьян приходило к Толстому со своими нуждами, и, как писал он жене 10 апреля, «всем он был как будто нужен».
Незадолго до этого умер старый слуга Толстых Алексей Степанович Орехов — тот самый «Алеша», который был с Толстым на Кавказе и в Севастополе и описан в «Казаках» под именем Ванюшки. У сестры его жены Варвары Михайловой вышла распря с его племянником из-за наследства, Толстой ходил их мирить. «Удивительно, — писал он жене 10 апреля, — как нужно им доброе слово. Она горячилась, горячилась и вдруг затихла». А потом муж этой женщины приходил к Толстому и рассказал: «Она теперь успокоилась, говорит: граф с меня десять пудов снял»7.
II
8 апреля на имя С. А. Толстой в Москве были присланы корректуры «Исповеди», которые она сейчас же отправила Льву Николаевичу. Толстой получил их 10 апреля и, не желая задерживать печатание, 13-го выехал в Москву.
Сохранились три, правленные Толстым, корректуры «Исповеди» в гранках.
Правка была очень значительная. Целые абзацы вычеркивались и заменялись другими или вовсе исключались. Были выкинуты многие чисто автобиографические подробности, в том числе весь первый абзац об отце, матери, тетках и о переезде всей семьи в Казань. Вследствие таких вычеркиваний рассказ Толстого в этой части в значительной степени утратил свою задушевность и интимность, которыми он отличался в первой редакции. Взамен этого более рассказывается об отношении к вере и об исканиях смысла жизни. Толстой говорит о своей поездке за границу, чего не было в первой редакции; точнее и подробнее
- 145 -
излагает свое отношение к науке; перерабатывает и дополняет главы о народной вере и об исканиях бога, затем — о столкновениях с церковью по вопросу об отношении к другим вероисповеданиям.
Не забыта и художественная отделка произведения. Восточная притча о путнике в колодце, кратко изложенная в первоначальной редакции, превращается теперь в небольшой, но художественно законченный рассказ, так же как и легенда о Будде.
Произведение получает заглавие: «Вступление к ненапечатанному сочинению». Во второй корректуре появилось было иное название: «Как я потерял смысл жизни и в чем нашел его», но заглавие это тут же вычеркивается автором. Последние строки работы: «Что я нашел в этом [церковном] учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел — составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано»8.
Здесь Толстой разумел свои работы «Исследование догматического богословия» и «Соединение и перевод четырех Евангелий». Будучи вполне уверен, что обе эти работы нужны людям, Толстой спокойно ждал того времени, когда они будут «где-нибудь напечатаны». И он дождался этого времени.
Окончив чтение корректур «Исповеди», Толстой написал заключение ко всему произведению, в котором рассказал виденный им «на днях» сон.
«Сон этот, — писал Толстой, — выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому, думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах»9.
В 1897 году Толстой на вопрос Г. А. Русанова, действительно ли он видел сон, рассказанный им в «Исповеди», ответил: «Да, я действительно видел его»10.
Когда я в 1908 году, ничего не зная об этом разговоре Русанова с Толстым, предложил Льву Николаевичу вопрос, случалось ли ему видеть значительные сны и напомнил сон, описанный им в «Исповеди», он оживился и опять повторил: «Это я действительно видел; это я не выдумал»11.
16 мая чтение корректур было закончено, и Толстой уехал из Москвы в Ясную Поляну. Здесь он, любуясь «красотой весны», чувствовал себя «невыносимо хорошо».
- 146 -
Приходили к нему яснополянские мужики и бабы «с делом и бездельем». Первое время он занялся чтением только что вышедшей в Туле книги «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя». Перевод был сделан его другом Л. Д. Урусовым. 18 мая Толстой писал Софье Андреевне об этой книге: «Перевод и странен, и неправилен, но нельзя оторваться — мне по крайней мере — от этой книги. Недаром говорит Христос: «Прежде чем был Авраам, я есмь». И вот этого-то Христа, который был до Авраама, Марк Аврелий знал лучше, чем его знают Макарий и другие»12.
20 мая Толстой известил Софью Андреевну, что он занимается «большим сочинением и в очень серьезном настроении»13. Судя по упоминанию в предыдущем письме московского митрополита Макария, этим сочинением было «Исследование догматического богословия».
24 мая Толстой вернулся в Москву. С. А. Толстая с детьми была уже в Ясной Поляне. Толстому надо было быть в Москве по делам, главным из которых была «Исповедь»: духовная цензура требовала смягчений в тексте.
В тот же день он побывал на Всероссийской промышленно-художественной выставке, устроенной в Петровском парке. Выставка отличалась большой пышностью и включала следующие отделы: художественный, научно-учебный, сельскохозяйственный, горный, мануфактурный, изделия из металлов, произведения заводской обработки, фабричные и ремесленные изделия, машинный и инженерный отдел, кустарный отдел, произведения Кавказа, Туркестана, Финляндии, привисленских губерний. Кроме того, для посетителей были открыты музыкальная зала, выставка садоводства, выставка животных, манеж, паровая железная дорога, конно-железная дорога, павильоны заводчиков и фабрикантов14.
На выставке Толстой, как писал он Софье Андреевне в тот же день, встретил своего старого приятеля, литературного критика П. В. Анненкова, единственного остававшегося в то время в живых члена «бесценного» (для Толстого) триумвирата (А. В. Дружинин и В. П. Боткин умерли еще в 60-х годах). О своей встрече с Толстым П. В. Анненков 28 мая писал редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу:
«На выставке здешней, которая между прочим очень грандиозна..., я встретил Льва Толстого после пятнадцати лет разлуки... Он весь состоит из странностей, софизмов и оригинальностей, над которыми мозг его работает безустанно. На выставке
- 147 -
он перед каждым встречным мужиком снимал шляпу, кланялся в пояс и рвался пожать ему руку. Выставку он считает огромным дурацким колпаком с погремушками, говоря, что пока народ не носит тех Же тонких рубах и пестрых галстухов, как любой денди, выставки вообще не имеют смысла»15.
На выставке Толстой встретил также каких-то французов, с которыми разговорился. Узнав, что перед ними автор «Войны и мира», французы сказали ему, что после появления его романа во французском переводе его «исторические воззрения» начинают «цениться» французами. Этим Толстой был и удивлен и обрадован16.
III
С. А. Юрьев рассказал Толстому, что майская книжка «Русской мысли» с его статьей была отправлена в духовную цензуру, которая отметила ряд мест, требующих изменения. Толстой, как писал он жене 24 мая, согласился сделать некоторые смягчения «там, где смысл от этого не потеряет, и тогда, — писал Толстой, — возвращу ему [С. А. Юрьеву], и он напечатает и опять поедет с книгой в духовную цензуру. А там уже они будут делать как знают, то есть остановят книгу или пропустят»17.
Последние корректуры «Исповеди», правленные Толстым, не сохранились, но мы можем почти безошибочно определить смягчения, сделанные Толстым, на основании сравнения текста «Русской мысли» с текстом первого бесцензурного издания «Исповеди», вышедшего в 1884 году в Женеве в издании М. К. Элпидина. По-видимому, издание это было сделано по корректурам «Русской мысли», отпечатанным до внесения в них Толстым смягчающих изменений.
Приводим эти смягчающие исправления Толстого и тот бесцензурный текст «Исповеди», который эти поправки должны были заменить.
В фразе: «Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых» (глава 1) слова «Если и есть различие» были заменены: «Если я замечал различие», вследствие чего констатирование бесспорного факта представилось личным, сомнительным для самого автора наблюдением. Ту же цель преследовали вставки в тексте, который непосредственно следовал за приведенной выше фразой: «Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких,
- 148 -
безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими»18. В каждую из этих двух фраз была внесена оговорка: «как мне казалось».
В главе VIII в фразе: «Это бог 1 и 319, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума»20 — слова: «чего я не могу принять, пока я не сошел с ума» заменены: «что несовместимо с требованиями моего разума».
В главе IX в самом начале предложения: «Как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою»21 — было исключено слово «уродливы».
В главе X предложение: «Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью»22 — целиком выкинуто и заменено другим: «Я видел, что знание смысла жизни — в вере, но в какой вере и как понять ее?»
В главе XII, посвященной рассказу об искании бога, фраза: «И чем больше я молился, тем очевиднее для меня было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться»23 была изменена следующим образом: «И чем больше я молился, тем дальше становился от меня тот бог, к которому я обращался, я уж не чувствовал его».
Из главы XIV были исключены слова, касающиеся причастия: «это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера»24. Фраза была заменена двумя строками точек.
В главе XV Толстой рассказывает о том, как он допытывался у верующих разных исповеданий ответа на вопрос, почему они считают свою веру истинной, а все другие исповедания — заблуждением. «И не получал никакого объяснения, кроме того, что истина слишком очевидна. Католик видел очевидность истины в своем, православный — в своем, старообрядец — в своем исповедании». В женевском издании это место читается совсем по-другому. Здесь Толстой нарушает общий спокойный серьезный тон своей работы и с едкой иронией заканчивает рассказ словами: «И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире
- 149 -
сумский гусарский, а Желтые уланы считают, что первый полк В мире это желтые уланы»25.
Производя в статье цензурные смягчения, Толстой одновременно сделал в некоторых (очень немногих) местах своей работы стилистические поправки.
Редакция «Русской мысли» сочла необходимым предпослать статье Толстого введение на трех страницах, где говорилось о том значении, какое имеет статья «в наши дни тоски, неопределенных по своему внутреннему содержанию исканий правды самой по себе и правды в жизни», разочарований, приводящих к самоубийствам. «Великое значение», по мнению редакции журнала, сочинение Толстого «может получить для наших учителей веры: они ясно могут уразуметь от него свою задачу, каким запросам и каким нравственным требованиям должны они удовлетворять».
Кроме этого введения, от редакции к отдельным местам глав XIII—XV было сделано пять примечаний в духе церковного учения. С такими предосторожностями и смягчениями, сделанными Толстым в тексте его статьи, майская книжка «Русской мысли» была вновь отправлена в духовную цензуру.
IV
2 мая 1882 года Софья Андреевна писала сестре: «Левочка на днях, заявив, что Москва есть... зараженная клоака, вынудиз меня согласиться с этим и дать решение больше не приезжать сюда жить, вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам дом или квартиру для нас. Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ».
Приведя в своих воспоминаниях эту цитату из письма Софьи Андреевны, Т. Л. Сухотина-Толстая сочла нужным отметить, что в этих словах сказалась «некоторая наивность» ее матери26. Понять причину решения Толстого купить дом для семьи или, если это не удастся, переменить квартиру, было не так трудно. Видя, что образ жизни семьи не может быть изменен, что семья будет продолжать жить в Москве, Толстой решил переменить местожительство и поселиться подальше от центральных улиц Москвы и в таком доме, где есть сад.
«Мы не отдавали себе тогда отчета, — пишет далее Т. Л. Сухотина-Толстая, — какой это было для него жертвой, принесенной ради семьи».
- 150 -
После долгих поисков Толстой остановился на доме, расположенном в Долго-Хамовническом переулке в районе Девичьего поля под № 15 (теперь ул. Л. Толстого, № 21) и принадлежавшем И. А. Арнаутову27. О продаже этого дома было объявление в газете, на которое обратил внимание Толстого его знакомый, московский общественный деятель М. П. Щепкин.
Дом Арнаутова был построен в 1808 году и, по преданию, уцелел во время московского пожара 1812 года. Дом был деревянный, одноэтажный, с антресолями наверху. (Антресолями в старину назывались в барских особняках половинные верхние этажи с низкими потолками.) В нижнем этаже было десять комнат с высокими потолками (до шести аршин), в антресолях было шесть комнат, в которых потолки были так низки, что их можно было достать рукой. На дворе был небольшой деревянный флигель в шесть комнат.
Но Толстой гораздо больше интересовался садом, чем домом. Вдова владельца дома Т. Г. Арнаутова в 1915 году рассказывала, что когда Толстой в мае 1882 года в первый раз пришел смотреть владение Арнаутовых около 9 часов вечера, то на слова хозяина, что уже темно смотреть дом, Толстой отвечал: «Мне дом не нужен; покажите мне сад». При этом Толстой не назвал себя. По словам Т. Г. Арнаутовой, он был «в поношенном пальто и в порыжелой шляпе»28.
В обширном саду Арнаутова были фруктовые деревья и ягодные кусты, была столетняя липовая аллея, расположенная «глаголем», т. е. в форме буквы Г, был курган с дорожками вокруг него, был колодец с родниковой водой, была беседка перед террасой, была клумба из роз. Сад казался еще больше оттого, что примыкал к соседнему огромному саду В. А. Олсуфьева.
Дядя С. А. Толстой, К. А. Иславин, осматривавший сад 22 июня, в тот же день писал Толстому: «Я опять любовался садом. Роз больше, чем в садах Гафиза, клубники и крыжовника бездна, яблонь дерев с десять, вишен будет штук 30, две сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода тут же, чуть ли не лучше мытищенской. А воздух, а тишина! И это среди столичного столпотворения!»29
- 151 -
Сам Толстой впоследствии говорил, что в саду Арнаутовых в то время «было густо, как в тайге».
Арнаутовы рассказали Толстому, что на их дом находились покупатели, но отталкивало соседство двух домов: напротив была фабрика шелковых изделий, принадлежавшая французским капиталистам братьям Жиро, а рядом — пивоваренный завод, стена которого граничила с садом Арнаутовых. О тех порядках, которые царили на этом заводе, дает понятие следующий факт, происходивший незадолго до покупки дома Толстым. На заводе накапливались жидкие отбросы производства, в летние месяцы во время дождя владелец завода приглашал пожарных, и все отбросы через пожарную кишку выливались на мостовую вдоль по переулку. И. А. Арнаутову, по словам вдовы, стоило больших денег добиться ликвидации этого допотопного способа очистки завода.
Но Толстой, по-видимому, не обращал большого внимания на эти неприятные соседства.
После первого посещения он еще несколько раз приходи» осматривать дом Арнаутова — и один, и с Софьей Андреевной, и со старшими детьми.
Во второй половине мая покупка дома была окончательно решена. 25 мая, побывав накануне у Арнаутова, Толстой писал жене о плане перестройки дома.
23 июня Толстой приехал из Ясной Поляны в Москву, чтобы подготовить перестройку дома. Было решено нижний этаж оставить так, как он есть, а в антресолях поднять потолки и устооить три большие комнаты. Одну из комнат верхнего этажа Толстой предполагал занять под кабинет для работы; в этой комнате потолки не поднимались.
На этот раз Толстой пробыл в Москве шесть дней.
14 июля 1882 года была оформлена купчая на покупку дома Арнаутова за 27 тысяч рублей. Вместе с домом Толстой купил у прежнего владельца мебель красного дерева для гостиной. При осмотре мебели Толстой сказал: «Я старину люблю».
V
Московский духовный цензурный комитет долго не давал ответа относительно майской книжки журнала «Русская мысль» со статьей Толстого.
По воспоминаниям бывшего секретаря «Русской мысли» Н. Н. Бахметева, из Сергиева Посада, где помещался в то время Московский комитет духовной цензуры, приходили противоречивые сведения. «Там не знали», как отнестись к этому произведению Толстого, докладывали митрополиту, а в то время московским митрополитом был известный своими богословскими
- 152 -
сочинениями и большим для архиерея либерализмом преосвященный Макарий. «Ему не хотелось запретить, но и пропустить такую статью он не решался».
Н. Н. Бахметев отправился в Сергиев Посад, чтобы подвинуть решение вопроса о майской книжке «Русской мысли». Здесь он узнал, что рассмотрение этого вопроса поручено ректору Московской духовной семинарии протоиерею Сергиевскому. «Батюшка оказался очень любезным и словоохотливым, — продолжает свои воспоминания Н. Н. Бахметев. — Он подробно поведал мне о затруднении, в которое поставила «Исповедь» не только его, но и над ним стоящих, и предложил весьма удобный, по его мнению, выход из этого затруднения. Состоял он в том, чтобы граф Толстой, не изменяя ни единого слова в своей «Исповеди», в конце ее в нескольких словах высказал, что так он думал прежде, но теперь воззрения его иные, более соответствующие духу православной церкви, и тогда никаких затруднений со стороны духовной цензуры к выпуску книги не встретится. На мое возражение, что не только граф Толстой на это ни за что не согласится, но что и редакция не решится предложить ему подобный компромисс, батюшка стал доказывать, что в этом не было бы ничего предосудительного, и читатели отлично поняли бы, что такой «кончик» приделан только ради цензурных требований, суть осталась бы та же, а такое выдающееся, «захватывающее», как выразился отец протоиерей, произведение великого писателя было бы спасено и сделалось бы достоянием читающей публики. Никакого другого выхода он не видел. Без такой приклейки, по его, вполне оправдавшемуся впоследствии, уверению, духовная цензура не пропустит «Исповеди».
21 июня 1882 года состоялось следующее постановление духовной цензуры:
«В Московский Цензурный Комитет.
Рассмотрев в препровожденной из Комитета при отношении от 5 сего июня № 829 майской книжке журнала «Русская мысль» статью под заглавием «Вступление к ненапечатанному сочинению» (стр. 271—334), Московский комитет для цензуры духовных книг нашел, что статья сия принадлежит к числу статей, которые, по силе существующих постановлений, не должны быть пропускаемы к напечатанию.
Вопреки статье 237 Устава о цензуре, не дозволяющей пропуска в печать сочинений, «в которых под предлогом благонамеренного и основательного исследования вопросов, касающихся христианской веры и церкви, приводятся в сомнение важные истины веры или постановления православной церкви», равно как вопреки статье 10 временных правил о цензуре и печати (по продолжению 1876 г. Свод законов, том XIV, Устав
- 153 -
цензурный, приложение к статье 4 (примечание), по которой «во всех вообще произведениях печати следует не допускать нарушения должного уважения к учению и обрядам христианских исповеданий», вышеназванная журнальная статья именно приводит в сомнение важные истины веры и постановления православной церкви и допускает весьма неуважительные отзывы об истинах и обрядах православной веры.
Так, например, она с особенною подробностию и совсем не гадливостию, а как бы с усладою останавливается на изображении убеждения, правда, позднее откинутого автором: «Кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, хотя, вероятно, и нет никакого «кого-то», который бы меня сотворил» (стр. 285—286). С исступленным отчаянием богоборного надмения она высказывает признание: «Я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня; знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ожидать конца» (стр. 288). Не раз допускает глумления над высочайшею из истин христианской веры — таинством Пресвятой троицы; например, на стр. 306 говорит: «неразумное знание есть вера — та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы» (сличи стр. 308).
Вообще, [представление] о вере людей просвещенных и страждущих может быть только формализмом в деле веры, дает такой эпикурейски-легкомысленный и непростительный по отношению к священному писанию отзыв: «Эта вера годится... для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре» (стр . 312). В подрыв уважения к Символу веры утверждает, и, к удивлению, находит при этом защиту в подстрочном примечании от имени «Ред.», будто «любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения» (стр. 323), как будто беспредметное согласие есть нечто мыслимое или нравственное единение можно представлять себе в виде смыкания полых клеточек.
Статья с непонятным и неприятным для людей, преданных церкви, пренебрежением перевирает литургические формулы, когда говорит: «в обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга до единомыслия». Дальнейшие слова: «И едино исповедуем Отца и Сына и Святого Духа» я пропускал, потому что не мог понять их», мало того, статья эти формулы изображает едва не бессмысленными, когда говорит: «молитвы о покорении под ноги врагов и супостата... и другие, как Херувимская и все таинство проскомидии или «Возбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб — или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу... То же я испытывал при праздновании главных праздников» (стр. 324). «Главный праздник был воспоминание
- 154 -
о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресения назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесение, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д.». (стр. 325).
В последних из приведенных слов благочестивое чувство верных сынов церкви православной тяжко поражается смешением с великими праздниками, так называемыми дванадесятыми, праздника сравнительно меньшей важности — Покрова Пресв. Богородицы, а в особенности отрицанием чудесного характера у события, празднуемого в день Рождества, вероятно, Христова, которое есть чудо из чудес или, по выражению Писания, велия благочестия тайна.
Немного спустя в статье встречаются еще более возмутительные выражения о святейшем таинстве евхаристии, возмутительность этих выражений еще более ожесточается исправительным подстрочным примечанием к ним, в котором читателю подсказывается, что автор «воображает, что принимает мясо Христово» (стр. 326). На чудеса в житиях святых статья смотрит «как на фабулу, выражающую мысль» (там же).
Приближаясь к заключению статьи, автор прямо признается, что «уже почти совсем отрекся от православия» (стр. 330), и хотя потом говорит, что «обратился к изучению богословия», потому что «как ни кажется оно» ему «дико на его старый, твердый ум, это одна надежда на спасение» (стр. 331), но обращается не для того, чтобы научиться богословию, а для того, чтобы, если можно, переучить его на свой лад или, как выражается он сам, «найти» в этом богословии «истину и ложь и отделить одно от другого» (стр. 332).
Настоящая статья только подступ к этому процеживанию так называемого автором «богословия» сквозь слишком малопропускное сито маловерного свободомыслия, даже более — предварительное оправдание замышляемому изданию нового рафинированного вероучения, впрочем такое, которое само себе может найти оправдание только в этом вероучении предполагаемого новейшего издания. А потому, пока еще это издание не только не сделалось господствующим, но едва ли и состоялось, — и оправданию этому не может быть места в области публичной православной нашей печати.
При сем возвращается майская книжка «Русской мысли».
Член Комитета протоиерей Филарет Сергиевский»30.
- 155 -
26 июня Московский цензурный комитет определил: «Сообщить г. старшему инспектору, что статья гр. Толстого, как не дозволенная к печати, должна быть, по исключении ее из майской книги журнала, уничтожена; о вышеизложенном довести до сведения Главного управления по делам печати»31. Газета «Голос» 24 июля 1882 года (№ 198) сообщила, что статья Толстого «по передаче ее инспектором типографий в распоряжение полиции, полицией на днях уничтожена».
В действительности дело происходило не совсем так. По словам Н. Н. Бахметева, «для выпуска майской книжки «Русской мысли» «Исповедь» пришлось вырезать, под очень бдительным наблюдением инспектора типографий, который, опечатав вырезанные листы, препроводил их для уничтожения в Главное управление по делам печати. Впоследствии мне приходилось встречать у некоторых лиц в Петербурге эти вырезки из «Русской мысли». Оказалось, что Главное управление по делам печати выдало их нескольким высокопоставленным лицам, отказать в просьбе которым оно не могло. Осталось и в редакции «Русской мысли» и у меня лично несколько корректурных оттисков «Исповеди» в верстанных листах и в гранках, некоторые даже с поправками автора. С них в свое время снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном или литографированном виде расходились по всей России. В Петербурге существовал кружок студентов, специально занимавшийся таким издательством, и за три рубля за экземпляр в Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно оттисков «Исповеди». В Петербурге главный склад этого издания помещался в квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который заведывал тогда жандармской частью. Несомненно, что нелегальным путем «Исповедь» разошлась в числе во много раз большем, чем распространила бы ее «Русская мысль», печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров»32.
Те, кому удавалось достать оттиск или литографированное издание «Исповеди», устраивали у себя чтение ее в избранном кругу знакомых. Так, сохранилась записка историка русской литературы А. И. Незеленова к В. Г. Дружинину (племяннику А. В. Дружинина) от 15 ноября 1882 года, в которой Незеленов извещал его: «В среду 17 ноября назначено у меня чтение философской статьи гр. Л. Н. Толстого»33.
Толстой также получил несколько оттисков своей статьи, которые быстро разошлись по рукам. И кончилось тем, что
- 156 -
у Толстых остался только один оттиск «Исповеди», который Софья Андреевна хранила у себя, обозначив на нем свою фамилию. Толстой готов был и этот единственный оттиск отправить К. Д. Кавелину, просившему прислать ему «Исповедь», но Софья Андреевна — спасибо ей! — воспротивилась, и только вследствие ее нежелания выпускать из своих рук этот единственный экземпляр важнейшего религиозно-философского произведения Толстого он остался в ее архиве и теперь находится в Отделе рукописей музея Л. Н. Толстого.
Местонахождение других оттисков «Исповеди», вырезанных из «Русской мысли», нам неизвестно. В крупнейших библиотеках Советского Союза — Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве — оттисков запрещенной статьи Толстого не имеется.
За границей после первого женевского издания М. Элпидина «Исповедь» перепечатывалась неоднократно. Кроме того, в 1883—1884 годах работа Толстого была перепечатана в эмигрантском журнале «Общее дело» — органе русских конституционалистов, выходившем в Женеве под редакцией А. Христофорова34. В редакционной вступительной заметке «Граф Л. Н. Толстой» было сказано:
«Мы убеждены, что читатели будут нам благодарны за то, что мы даем им возможность познакомиться с печатаемым ниже произведением Л. Н. Толстого. Необыкновенная искренность его исповеди, великие дарования крупной личности ее автора делают ее явлением очень замечательным. К тому же «Исповедь» есть произведение величайшего из русских современных художников, отвергнутое русской цензурой».
В России довольно значительные выдержки из «Исповеди» были приведены в работе М. С. Громеки «Последние произведения графа Л. Н. Толстого», напечатанной в № 11 «Русской мысли» за 1884 год и вышедшей отдельным изданием в Москве в том же году, а также в статье В. Вогезского (В. М. Грибовского) «Беседы с гр. Л. Н. Толстым»35. В обоих случаях выдержки из «Исповеди» печатались в форме состоявшейся будто бы беседы автора с Толстым.
Кроме того, выдержки из «Исповеди» приводились в сочинениях некоторых церковных писателей, полемизировавших с Толстым. Разумеется, самые резкие места не приводились.
Без цензурных изменений и сокращений «Исповедь» появилась в России лишь в 1906 году в шести различных издательствах, после чего перепечатывалась несколько раз.
- 157 -
VI
Является вопрос: откуда появилось название «Исповедь»?
Ни в рукописях, ни в корректурах нигде нет названия «Исповедь», написанного рукой автора.
Что заглавие «Исповедь» не принадлежало Толстому, удостоверено редактором «Русской мысли» С. А. Юрьевым. В своей записке в Главное управление по делам печати от 6 февраля 1885 года Юрьев упоминал о том, что по требованию цензуры из майской книжки его журнала за 1882 год была исключена «так называемая «Исповедь» графа Л. Н. Толстого»36.
Впервые слово «Исповедь» было употреблено С. А. Толстой в записи ее дневника 31 января 1881 года, но без кавычек — не как название, а как характеристика произведения. Здесь С. А. Толстая писала, что Лев Николаевич «написал религиозную исповедь в начале нового сочинения»37.
Принадлежит ли эта характеристика самому Толстому или его жене — трудно сказать. Быть может, сам Толстой в задушевном разговоре с женой (в те годы он делился с ней своими замыслами), говоря о своем задуманном или уже законченном произведении, дал ему такую характеристику; но более вероятно, что эта формулировка содержания первого законченного религиозно-философского произведения Толстого сделана его женой, переписывавшей «Исповедь».
Название нового произведения Толстого — «религиозная исповедь» или просто «Исповедь» — в 1882 году было услышано в московском доме Толстых редактором «Русской мысли» С. А. Юрьевым. Редакция этого журнала отправила статью Толстого в корректурах для прочтения Н. П. Гилярову-Платонову, причем на корректуре было проставлено заглавие — «Исповедь гр. Л. Н. Толстого»38.
Из редакции «Русской мысли» название запрещенной статьи широко распространилось в литературных кругах. «Исповедью» статью Толстого называет в журнале «Русское богатство» критик Л. Е. Оболенский39.
«Исповедью» называет новую статью Толстого Н. Н. Страхов в письме к Н. Я. Данилевскому от 13 сентября 1883 года, в котором он писал, что «величайший поклонник новой мысли
- 158 -
Толстого» Л. Д. Урусов перевел на французский язык «Исповедь», «которая появилась в «Русской мысли» и сожжена»40. 17 ноября 1883 года В. В. Стасов писал Толстому: «Мне давно уже бог знает как хотелось сказать вам, как мне нравились иные из последних ваших писаний, например «Чем люди живы бывают» (только кроме сверхъестественных, так сказать волшебных сцен), или еще собственно автобиографическая сторона в вашей «Исповеди». Все это чудесно»41.
Дошло название сожженной статьи Толстого и оттиск ее до Тургенева в Париже. 31 октября 1882 года он писал Д. В. Григоровичу: «Я получил на днях через одну очень милую московскую даму ту Исповедь Льва Толстого, которую цензура запретила»42.
Но каково бы ни было происхождение названия первого опубликованного религиозно-философского произведения Толстого, название это вскоре по выходе заграничного издания «Исповеди» было признано самим автором. Это название было упомянуто Толстым в письмах к Л. Д. Урусову от 1 мая 1885 года43, к С. А. Толстой от 15—18 декабря того же года44, к Н. Д. Валову от 16 августа 1887 года45.
В упомянутом письме к С. А. Толстой от 15—18 декабря 1885 года Толстой дает следующую характеристику «Исповеди»: «В Исповеди, написанной в 1879 году, но выражающей чувства и мысли, в которых я жил года два тому назад46, — вот что я писал. Писал не для публики, а то, что я выстрадал, то, к чему я пришел не для разговора и красивых слов, а пришел, как ты знаешь, я приходил ко всему, к чему я приходил, — искренно и с тем, чтобы делать то, что я говорил». Далее Толстой делает выписку из женевского издания «Исповеди» о своем отходе от класса «богатых и ученых».
В письме к Н. Д. Валову Толстой перечисляет те свои работы, в которых он рассказал, как он «выбирался из мрака», и первой из этих работ называет «Исповедь».
Эти характеристики делают для нас понятным, почему Толстой признал то заглавие, под которым вышло в свет важнейшее его религиозно-философское сочинение. Это заглавие вполне соответствовало внутреннему содержанию произведения.
- 159 -
VII
Все лето 1882 года Толстой против обыкновения никуда не ездил и «не переставая занимался», как уведомлял он Н. Н. Страхова письмом от 11 октября47.
Подобно тому как это было при начале работы над «Анной Карениной» и затем над большим религиозно-философским сочинением (в 1879 году), когда Толстой, извещая Страхова о своих новых работах, ни одного слова не сказал о том, над чем именно он работал, — так было и на этот раз.
Однако определение того, какую работу начал Толстой летом 1882 года, не представляет трудности. Это был большой религиозно-философский трактат, впоследствии получивший название «В чем моя вера?». Трактат этот составил, по словам самого автора, относящимся к 1883 году, последнюю — четвертую часть «большого сочинения», первые части которого были: 1) «Исповедь», 2) «Исследование догматического богословия» и 3) «Соединение и перевод четырех Евангелий». Последние две части в то время еще не были напечатаны.
По определению Толстого, четвертая часть «большого сочинения» содержала «изложение настоящего смысла христианского учения, причин, по которым оно было извращено, и последствий, которые должна иметь его проповедь»48.
В своих предшествующих религиозно-философских работах Толстой главной своей задачей ставил доказательство ложности церковного толкования христианского учения. Теперь он ставит себе ин>ю задачу — изложить сущность христианского учения в его истинном смысле. Для Толстого христианство — не мистическое учение, а руководство в жизни, выраженное в пяти заповедях «Нагорной проповеди» Христа, входящей в состав Евангелий49.
Сохранился написанный рукой Толстого конспект всего трактата «В чем моя вера?», дающий общее представление о содержании трактата50. Вот этот конспект:
«1) Нагорная проповедь истинна сама по себе.
2) Только учение церкви привело к отрицанию ее исполнимости.
3) Она одна дает возможность осуществления царства божия для всего человечества.
4) Она дает одно разумное объяснение моей жизни.
- 160 -
5) Исполнение ее одним среди неисполняющих дает единственную возможность спасения жизни.
6) Исполнение ее легче, чем исполнение учения мира.
7) И потому она не может не быть исполнена».
Началом трактата «В чем моя вера?» послужили «Записки христианина», начатые Толстым в 1881 году. Толстой взял это свое незаконченное произведение и принялся продолжать и исправлять его.
В начале сентября 1882 года первая редакция будущего трактата «В чем моя вера?» была закончена.
Толстой был доволен своей новой работой. 11 октября он пишет спокойное, умиротворенное письмо Н. Н. Страхову, в котором запрещает ему тосковать, так как это «не велят» не только Христос, но римский философ Эпиктет, которого Страхов прислал Толстому. «Они велят радоваться» — прибавляет Толстой. И уверенно заявляет: «И можно».
В этом же письме находим следующее признание Толстого: «Перемениться я нисколько не переменился; но разница моего прошлогоднего состояния и теперешнего такая же, как между строющимся человеком и построившимся. Надеюсь снять леса, вычистить сор вокруг жилья и жить незаметно и покойно»51.
Трудно понять эти строки как в смысле какой-либо внутренней перемены, происшедшей с Толстым за последний год, так и в смысле внешней перемены в его жизни, которой Толстой был бы доволен. По-видимому, в этих словах Толстой имел в виду то внутреннее удовлетворение, которое он испытывал, изложив подробно в новой работе свой взгляд на значение христианского учения как для разумной постановки личной жизни каждого человека, так и для переустройства общей жизни всего человечества.
Высокий нравственный подъем, который Толстой испытал, работая над первой редакцией будущего трактата «В чем моя вера?», оживил его давнишние мечты об уходе от семьи и перемене условий своей жизни. На этот раз он посвятил жену в свои мечтания. 26 августа Софья Андреевна делает в дневнике необычную запись:
«20 лет тому назад, счастливая, молодая, я начала писать эту книгу, всю историю любви моей к Левочке. В ней почти ничего больше нет, как любовь. И вот теперь, через 20 лет сижу всю ночь одна и читаю и оплакиваю свою любовь. В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня
- 161 -
громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце. Молю бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда эта любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает меня и надоедает ему. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствованьи. Я ревную его... Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа. Я загадала — если он не придет, он любит другую. Он не пришел. Долг, я прежде так знала, что мой долг, а теперь?»
Семейный конфликт уладился на другой день. В этот день Софья Андреевна записала в дневнике: «Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь»52.
Но «надрез любви» (так еще в молодости называл Толстой семейные ссоры) остался.
Разумеется, конфликты между родителями не могли быть тайной для детей. Описанные Софьей Андреевной ссора и примирение ее с Львом Николаевичем были отмечены также в записях дневника Татьяны Львовны от 29 августа:
«На днях папа с мамой ужасно поссорились из-за пустяков. Мама стала упрекать папа, что он ей не помогает и т. д., и кончилось тем, что папа ночевал у себя в кабинете... Но на другой день последовало примирение. Леля53 говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут. Теперь они между собой так ласковы и нежны, как уже давно не было».
Второй случай был записан Татьяной Львовной 7 сентября: «Папа с мама за обедом поссорились. Папа ушел, мама за ним. Уж не знаю, куда они ходили, но пришли примиренные. Меня, слава богу, за обедом не было»54.
Хотя Толстой в это время усиленно занимался переустройством и ремонтом купленного им московского дома, он больше, чем когда-либо раньше, испытывал недовольство своим положением богатого человека и помещика. Это недовольство он не скрывал даже от посторонних. В конце августа или в самом начале сентября он писал известному ученому и публицисту К. Д. Кавелину, с которым познакомился еще в Петербурге
- 162 -
в 1856 году, когда был озабочен освобождением принадлежавших ему крепостных крестьян: «Мое положение мне до глубины души вместе со мною отвратительно».
В недошедшем до нас письме К. Д. Кавелин, по-видимому, прочитав «Исповедь», вырезанную из «Русской мысли», задавал Толстому вопрос о том, в чем состоит его новое мировоззрение. На этот вопрос Толстой в письме к Кавелину отвечал:
«Я вижу истину в старом, всем известном христианском объяснении смысла жизни, как я его понимаю, но держусь этого обяснения не потому, что оно сошло с неба, а потому, что оно без всякого сравнения разумнее и яснее всех тех, которые я знаю. Так что если завтра кто-нибудь даст мне объяснение более разумное, я тотчас же с восторгом отброшу то, которое имею, и приму новое»55.
VIII
13 августа Толстой уехал в Москву, чтобы начать при себе перестройку верхнего и ремонт нижнего этажа купленного им дома. Пробыв в Москве пять дней, он вернулся в Ясную Поляну. 10 сентября вновь уехал в Москву, чтобы подвинуть дело ремонта и перестройки дома.
Первое время по приезде в Москву Толстой чувствовал усталость после напряженных занятий, продолжавшихся все лето. Кроме того, переход от усиленной умственной работы к не требующей большого умственного напряжения практической деятельности был так разителен, что Толстой и не мог сразу войти в колею нового образа жизни, который ему приходилось вести. 14 сентября он писал Софье Андреевне в Ясную Поляну: «Я все это время в сонном, глуповатом и спокойном, немного меланхолическом состоянии»56.
С течением времени Толстой, однако, втянулся в это новое представившееся ему дело. 19 сентября, перечислив в письме к жене дела, которыми он тогда был занят, Толстой прибавлял: «Все это делать мне скорее весело, только бы ты похвалила»57. Он любил заниматься практическими делами, когда это не было связано с эксплуатацией труда других, — тем более,
- 163 -
что в данном случае он занимался практическими делами не для себя.
Толстой пробыл в Москве десять дней, в течение которых вместе с архитектором руководил и следил за выполнением самых разнообразных работ по дому: ремонт крыши, побелка и оклейка обоями стен, штукатурка всего дома, ремонт печей, настилка и строганье паркета, устройство и обивка лестницы, постановка новых водосточных труб и желобов, устройство форточек в оконных рамах, ремонт подвалов и сторожки, в которой жил дворник, и другие. Кроме того, Толстой занимался покупкой мебели для гостиной и других комнат, а также перевозкой в купленный дом мебели со своей прежней квартиры, покупкой сбруи для лошадей и кучерской одежды, различных предметов домашнего обихода.
Софья Андреевна была очень довольна тем, что все дела по перестройке и устройству дома Лев Николаевич взял на себя. «Я рада, что всем занимаешься ты, а не я; мне от этого так легко», — писала она Льву Николаевичу 14 сентября58. В другом письме от 17 сентября Софья Андреевна писала: «Еще сколько хлопот впереди — ужас! Не ослабей и вперед, милый Левочка, и помогай мне и после, а то одной и скучно, и страшно, и трудно устраиваться. А вместе и легче и как много веселей! А я не буду зла, я так желаю не быть, — что надеюсь достичь этого»59.
20 сентября Толстой уехал в Ясную Поляну, а 28-го вновь вернулся в Москву для окончательной отделки дома перед переездом в него всей семьи.
К 8 октября все главные работы по ремонту и перестройке дома были закончены. Некоторые работы было решено доканчивать позднее. Комнаты нижнего этажа были распределены следующим образом: столовая, угловая, спальня родителей, детская, классная, комната сыновей, комната Татьяны Львовны; кроме того — передняя, девичья и буфетная. В верхнем этаже находились: зала, большая гостиная, малая гостиная, комната Марии Львовны, рабочая комната и кабинет Льва Николаевича; кроме того, комнаты экономки и камердинера.
В кабинет Толстого можно было пройти через особый, так называемый черный ход.
8 октября вся семья Толстых переехала из Ясной Поляны в Москву. Татьяна Львовна 10 октября писала в своем дневнике: «Мы приехали в Арнаутовку вечером... Первое впечатление было самое великолепное, — везде светло, просторно, и во всем видно, что папа все обдумал и старался все устроить как можно лучше, чего он вполне достиг. Я была очень тронута
- 164 -
его заботой о нас, и это тем более мило, что это на него не похоже. Наш дом чудесный. Я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно было бы обратить внимание. А уж моя комната в сад — восхищение!»
IX
Последние месяцы 1882 года, весь 1883 год и январь 1884 года прошли для Толстого главным образом в работе над рукописью и корректурами трактата «В чем моя вера?»
В октябре — ноябре 1882 года Толстой отвлекся от своей основной работы изучением древнееврейского языка под руководством московского раввина Соломона Алексеевича Минора.
О С. А. Миноре Толстой узнал от посетившего его в Москве 2 октября еврея, фамилия которого остается неизвестной. Заинтересовавшись рассказом этого посетителя о московском раввине, Толстой выразил желание с ним познакомиться, и уже на другой день в квартире Толстого состоялось его знакомство с С. А. Минором, который, как писал Толстой жене 5 октября, произвел на него впечатление «очень умного человека»60.
Вероятно, во время беседы у Толстого и родилась мысль об изучении древнееврейского языка. Он просил Минора рекомендовать ему какого-либо знатока этого языка, но Минор выразил желание сам заняться с Толстым.
О своих занятиях древнееврейским языком Толстой писал В. И. Алексееву около 10 ноября: «Все это время я очень пристально занимался еврейским языком и выучил его почти, читаю уж и понимаю. Учит меня раввин здешний Минор, очень хороший и умный человек. Я очень многое узнал благодаря этим занятиям. А главное — очень занят»61.
Софья Андреевна была очень недовольна этими занятиями Льва Николаевича. 14 октября она писала сестре: «Левочка учится по-еврейски читать, и меня это очень огорчает; тратит силы на пустяки. От этого труда и здоровье и дух стали хуже, и меня это еще больше мучит, а скрыть свое недовольство я не могу». Затем 19 ноября: «Левочка — увы! — направил все свои силы на изучение еврейского языка, и ничего его больше не занимает и не интересует. Нет, видно, конец его литературной деятельности, а очень мне это жаль».
Немецкий биограф Толстого Р. Левенфельд в 1890 году беседовал с С. А. Минором о его занятиях с Толстым. Минор рассказывал, что Толстой «с большой энергией принялся за работу... Он схватывал все необыкновенно быстро, но читал
- 165 -
только то, что ему было нужно; то же, что его не интересовало, он пропускал. Мы начали с первых слов Библии и дошли с такого рода пропусками до Исаии. Здесь обучение прекратилось. Грамматикой языка он занимался только постольку, поскольку это казалось ему необходимо.
Он знает также и Талмуд. В своем бурном стремлении к истине он почти за каждым уроком расспрашивал меня о нравственных воззрениях Талмуда и толковании талмудистами еврейских легенд. Кроме того, он черпал свои сведения из написанной на русском языке книги «Мировоззрение талмудистов», изданной петербургским обществом для поднятия образования среди евреев62.
Около получаса мы работали как ученик и учитель. Один раз в неделю я ездил к графу, другой раз он приходил ко мне. Через полчаса обучение превращалось в разговор. Я отвечал ему на все вопросы, которые занимали его. Однажды мы пришли к его пониманию существования мира любовью. «Об этом, — сказал он, — нет ни одного слова в Библии». Я указал ему на третий стих псалма 89-го, который я перевел ему так: «Мир существует любовью». Он был очень удивлен таким пониманием известного места»63.
Сын С. А. Минора Лазарь Соломонович Минор, профессор-невропатолог, впоследствии рассказывал П. И. Бирюкову, что он был еще мальчиком, когда его отец давал уроки Толстому. «Он помнил споры отца со Львом Николаевичем о том или другом понимании еврейского текста. Он помнил также удивление его отца, когда после немногочисленных уроков Лев Николаевич стал настолько хорошо читать и понимать прочитанное и с такой проницательностью вдумываться в смысл текста, что иногда в спорах с ним ученый раввин должен был соглашаться с мнением своего ученика»64.
Но отношения между Толстым и С. А. Минором не ограничивались учебными занятиями; между ними возникла и некоторая душевная близость. В письме к Н. Н. Страхову от
- 166 -
3 января 1884 года и к В. В. Стасову от того же числа Толстой, прося каждого из них о содействии сыну С. А. Минора в утверждении его в звании приват-доцента в Московском университете, называл С. А. Минора своим другом65.
X
В начале ноября Толстой пишет В. И. Алексееву дружеское письмо, в котором рассказывает о себе, о своих семейных и делится впечатлениями о московской жизни.
Сравнивая условия жизни В. И. Алексеева, который в то время занимался земледельческим трудом на хуторе Толстого в Самарской губернии, с условиями своей жизни в Ясной Поляне и в Москве, Толстой находит внешние условия жизни Алексеева более легкими. «По внешним условиям, — пишет Толстой, — можно жить в самых тяжелых условиях — в самой гуще соблазнов, можно в средних и в самых легких; вы, — обращается он к В. И. Алексееву, — почти в самых легких. Мне бог никогда не давал таких условий, — с грустью замечает Толстой и прибавляет. — Завидую вам часто. Любовно завидую, но завидую».
Перейдя к своей семье, Толстой особенно останавливается на старшей дочери. «Таня, — пишет он, — полу-добрая, полу-серьезная, полу-умная66 — не делается хуже, скорее делается лучше».
Обратившись к молодым дневникам Татьяны Львовны, мы найдем в них разгадку того, что разумел ее отец под троекратным повторением «полу» в характеристике, которую он дал своей восемнадцатилетней дочери.
Описывая приезд отца из Москвы в Ясную Поляну 20 сентября 1882 года, Татьяна Львовна пишет: «Мне было очень приятно папа увидеть, и он такой милый и трогательный... Я была ему рада тоже и потому, что он всегда мне напоминает, что хорошо и что дурно, — то-есть не то, что напоминает, а при нем я ясно чувствую, о чем стоит думать и беспокоиться и о чем — нет, что важно в жизни и что пустяк». Или еще более выразительная запись 12 июля того же года: «...Больше всего меня мучает, что я на Дуняшу [горничная] сержусь, но с некоторых пор это стало реже... Как это гадко и противно, что за мной бог знает за что, за семнадцатилетней девчонкой, должна ходить 35-летняя женщина и исполнять
- 167 -
все мои капризы за то, что ей платят деньги, на которые тоже я никакого права не имею».
А вот запись противоположного характера 12 сентября того же года: «Недавно папа вечером спорил с мама и тетей Таней67 и очень хорошо говорил о том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошим. Уж мама нас гнала спать, и мы с Маней68 уже уходили, но он поймал нас, и мы простояли и говорили почти целый час. Он говорит, что главная часть нашей жизни проходит в том, чтобы стараться быть похожими на Фифи69 Долгорукую, и что мы жертвуем самыми хорошими чувствами для какого-нибудь платья. Я ему сказала, что я со всем этим согласна и что я умом все это понимаю, но что душа моя остается равнодушной ко всему хорошему, а вместе с тем так и запрыгает, когда мне обещают новое платье или новую шляпку».
Чтобы его «полу-серьезная» дочь не приходила в отчаяние от сознаваемых ею в себе противоречивых, взаимоисключающих стремлений, отец на ее признание ответил: «Тогда носи платья какие хочешь, башмаки от Шопенгауэра (это он Шумахера70 так называл), кокетничай с Колей Кисленским71 и т. д., но принцип, который ты поняла и имеешь в голове, все-таки сделает свое».
Татьяна Львовна уже с молодых лет заняла особое положение в семье. В конфликтах между матерью и отцом она почти всегда принимала сторону отца. Она старалась оберегать отца от ненужных беспокойств, волнений, хлопот. В письме к Льву Николаевичу из Ясной Поляны в Москву от 4 октября 1882 года Софья Андреевна писала, что Таня «в большом негодовании» на нее за то, что в предыдущем письме ко Льву Николаевичу она в слишком мрачных красках описала болезнь их годовалого сына Алеши, который скоро выздоровел, и тем могла обеспокоить и взволновать его. «Таня, — писала Софья Андреевна, — мне все время говорит грубое и неприятное, пока я пишу, и мешает мне... Она даже говорит, что я налгала на Алешину болезнь. Очень тебе должно быть приятно, — не без иронии замечает Софья Андреевна, — что у тебя такие защитники, а мне больно; она все время была мила, а теперь за тебя стала со мной жестока»72.
Таким «защитником» отца Татьяна Львовна продолжала оставаться во всю свою дальнейшую жизнь.
- 168 -
Свои впечатления от московской жизни Толстой в письме к Алексееву выразил в следующих словах:
«Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего, самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки; и мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь, и осуждая друг друга. Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно».
Разумеется, говоря это, Толстой имел в виду не только свою семью, но и все общество «богатых и досужих», среди которых он жил в Москве. В письме к Софье Андреевне из Москвы в Ясную Поляну 1 октября 1882 года, рассказывая о стараниях ее брата Петра Андреевича получить место исправника в одном из уездов Московской губернии, он прибавлял: «Вся эта всеобщая нищета и погоня, и забота только о деньгах, а деньги только для глупостей, — все это тяжело видеть»73.
«Здоровье мое слабеет, — писал Толстой в конце письма к Алексееву, — и очень часто хочется умереть; но знаю, что это дурное желание»74.
Под влиянием тяжелых впечатлений от московской жизни Толстой 22 декабря 1882 года делает в дневнике следующую запись:
«Опять в Москве. Опять пережил муки душевные ужасные. Больше месяца. Но не бесплодные.
Если любишь бога, добро (кажется, я начинаю любить его), любишь, т. е. живешь им — счастье в нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному — не добру самому, но тому, чтобы видеть его, плоды его. Станешь смотреть на плоды добра — перестанешь его делать, мало того — тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. — Только тогда то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. — Но заготовляй его больше. Сей, сей, зная, что не ты, человек, пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Л. Н., не сожнешь. Если станешь не только жать, но полоть — испортишь пшеницу. — Сей, сей. И если сеешь божье, то не может быть сомненья, что оно вырастет. То, что прежде казалось жестоким, то, что мне не дано видеть плодов, теперь ясно, что не только не жестоко, но благо и разумно. Как бы я узнал истинное благо — божие — от неистинного, если б я, человек плотский, мог пользоваться его плодами?
- 169 -
Теперь же ясно; то, что ты делаешь, не видя награды, и делаешь любя, то наверно божие. — Сей и сей, и бог возрастит, и пожнешь не ты, человек, — а то, что в тебе сеет»75.
XI
Очень отрадны были Толстому в те годы осветившиеся новым светом его дружеские отношения с Тургеневым.
В начале мая 1882 года Толстой писал Тургеневу в Париж, что известия о его болезни, о которой он слышал и читал в газетах, «ужасно поразили» его. «Я почувствовал, — писал Толстой, — как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно... В первую минуту, когда я поверил — надеюсь, напрасно, — что вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтоб повидаться с вами. Напишите или велите написать мне определительно и подробно о вашей болезни. Я буду очень благодарен. Хочется знать верно. Обнимаю вас, старый, милый и очень дорогой мне человек и друг».
Подпись: «Ваш Толстой»76.
Письмо это глубоко тронуло Тургенева. Оно всколыхнуло в нем незабытые воспоминания о его хотя и неровной, но крепкой в своей основе дружбе с молодым Толстым.
«Милый Толстой, — писал Тургенев в ответном письме 14 (26) мая, — не могу сказать, как меня тронуло Ваше письмо. Обнимаю Вас за каждое в нем слово».
Рассказав далее о своей болезни, Тургенев писал:
«Что же касается до моей жизни — так я, вероятно, еще долго проживу, хотя моя песенка уже спета; — вот Вам надо еще долго жить — и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому Вы призваны и на которое, кроме Вас, у нас мастера нет. Вспоминаю Ваши прошлогодние полуобещания и не хочу думать, чтобы Вы их не исполнили! Не могу много писать — но Вы меня понимаете».
Здесь Тургенев, очевидно, намекал на свои встречи с Толстым в Спасском и в Ясной Поляне в 1881 году, когда он убеждал Толстого вернуться к художественной работе, на что Толстой ответил «полуобещаниями».
«Кланяюсь всем Вашим, — продолжал Тургенев. — Вторично Вас обнимаю и радуюсь, что нахожу в сердце своем самый горячий отзыв на Ваши добрые, дружеские слова.
Любящий Вас Ив. Тургенев»77.
- 170 -
4 (16) сентября Тургенев вновь пишет Толстому, прося прислать его статью, вырезанную из «Русской мысли». Сообщив далее о ходе своей болезни, Тургенев писал: «Не спрашиваю Вас, не принялись ли Вы за литературную работу — так как я знаю, что Вам этот вопрос не совсем приятен»78.
Толстой ответил Тургеневу в первой половине октября, обещая прислать оттиск статьи со своей знакомой А. Г. Олсуфьевой, отправлявшейся в Париж. Письмо Толстого до нас не дошло, но из ответного письма Тургенева от 19(31) октября видно, что Толстой просил его при чтении посылаемой статьи понять его точку зрения и «не сердиться». На настойчивые уговоры Тургенева вновь приняться за художественную работу Толстой отвечал, что прежде всего нужно жить «как следует».
В своем ответном письме Тургенев обещал прочесть статью Толстого так, как этого желал автор. «Я знаю, — писал Тургенев, — что ее писал человек очень умный, очень талантливый и очень искренний; я могу с ним не соглашаться — но прежде всего я постараюсь понять его, встать вполне на его место... Это будет для меня и поучительней и интересней, чем примеривать его на свой аршин или отыскивать, в чем состоят его разногласия со мною. Сердиться же — совсем немыслимо, — сердятся только молодые люди, которые воображают, что только и света, что в их окошко..., а мне на днях минет 64 года».
Сообщив в конце письма, что он «в последнее время опять принялся за работу», Тургенев прибавлял: «Как бы я обрадовался, если б узнал, что и Вы принялись за нее! — Конечно, Вы правы: прежде всего нужно жить как следует, но ведь одно не мешает другому»79.
Таким образом, и это письмо Тургенев заключал своей излюбленной темой — просил Толстого вернуться к художественному творчеству.
Получив и прочитав «Исповедь», Тургенев убедился, что философские основы мировоззрения Толстого очень далеки от основ его мировоззрения80.
«Я начал было, — писал Тургенев Толстому 15 (27) декабря, — большое письмо к Вам в ответ Вашей «Исповеди», — но не кончил и не кончу именно потому, чтобы не впасть в спорный тон. Если бы я свиделся с Вами — я бы, конечно, много говорил с Вами об этой «Исповеди», но конечно бы не спорил, а просто сказал бы, что я думаю — разумеется, не из желания доказать свою правоту (это прилично только молодым,
- 171 -
неопытным людям), — а чтобы в свою очередь исповедаться перед дорогим мне человеком»81.
Решив не высказывать автору своего мнения относительно его новой работы, Тургенев выразил свое отношение к «Исповеди» в письме к Д. В. Григоровичу от 31 октября 1882 года. «Прочел ее с великим интересом, — писал Тургенев, — вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убежденья. Но построена она вся на неверных посылках — и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни...82 Это тоже своего рода нигилизм».
Закончил же Тургенев свой отзыв об «Исповеди» словами: «И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России!»83.
Письмо Тургенева от 15 (27) декабря 1882 года является ответом на недошедшее до нас письмо Толстого, в котором он хвалил некоторые из только что появившихся тогда «Стихотворений в прозе» Тургенева.
«Милый Лев Николаевич, — писал Толстому Тургенев, — Ваше письмо доставило мне большую радость. — Во-первых, мне очень приятно, что некоторые из моих «Стихотворений в прозе» Вам понравились; а главное: я снова почувствовал, что Вы меня любите и знаете, что и я Вас люблю искренне»84.
За отсутствием писем Толстого нам неизвестно, какие именно из стихотворений в прозе Тургенева ему понравились. Но Толстой в 1909 году, прослушав некоторые стихотворения в прозе в чтении М. С. Сухотина, высказал о них свои мнения, записанные Д. П. Маковицким в его «Яснополянских записках». По записи Д. П. Маковицкого, Толстому понравились: «Голуби», «Что я буду думать?», «Русский язык», «Морское плавание»85.
«Морское плавание», так же как и другое стихотворение в прозе Тургенева — «Воробей», Толстой в 1904 году поместил в свой «Круг чтения». К обоим этим произведениям вполне применима та общая характеристика Тургенева, которую Толстой, с своей точки зрения, после свидания с ним в Спасском в июле 1881 года записал в дневнике: «Тургенев боится имени бога, а признает его».
«Морское плавание», в котором описывается, как автор ехал на пароходе из Гамбурга в Лондон, причем пассажиров было только двое: он да жалобно пищавшая маленькая обезьянка, которую один купец отправлял в подарок другому, заканчивается
- 172 -
такими словами: «Все мы — дети одной матери, и мне было приятно, что бедный зверек так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному».
«Воробей» заканчивается совершенно в духе легенды Толстого «Чем люди живы»: «Любовь, — думал я, — сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь».
После письма от 15 (27) декабря 1882 года Тургенев послал Толстому еще написанное под диктовку письмо от 8 (20) января 1883 года с описанием перенесенной им операции. И на этом его переписка с Толстым вследствие все усиливавшейся мучительной болезни прекратилась впредь до его последнего, предсмертного письма Толстому.
XII
Встречи Толстого с самарскими молоканами летом 1881 года, а также сношения с ними исследователя русского сектантства и старообрядчества А. С. Пругавина вызвали донос местного священника самарскому архиерею. Самарский архиерей уведомил об этом светские власти. После переписки между различными учреждениями, тянувшейся год с лишним, в сентябре 1882 года министр внутренних дел разослал губернаторам предложение об учреждении негласного полицейского надзора как за Пругавиным, так и за Толстым. Губернаторы, в свою очередь, разослали соответствующие циркуляры уездным исправникам.
Один из циркуляров, рассылавшихся саратовским губернатором «господам уездным исправникам», с датой 25 сентября 1882 года и с пометой «Совершенно секретно», сделался достоянием печати86.
Напомнив о своем циркуляре от 6 июля того же года, в котором обращалось внимание «на вредный характер учения, распространяемого отставным полковником Пашковым», губернатор далее сообщал:
«В последнее время сделалось известным, что в связи с этим учением представляется не менее вредною деятельность графа Льва Толстого и члена Географического общества Александра Пругавина, вследствие сношений их с сектантами. Из них последний своими поездками к сектантам и похвальными статьями об них в литературе не только внушает не знающим дела ложные понятия о расколе, но и возбуждает в самих сектантах понятие о сочувствии их учению со стороны высших и образованных классов общества и самого правительства.
- 173 -
Ввиду сего и согласно предложения г. министра внутренних дел от 11 сего сентября, предписываю г.г. исправникам сделать распоряжение о наблюдении за деятельностью и сношениями с сектантами помянутых лиц, с тем, чтобы о всяком проявлении их в этом отношении мне донести».
Между тем крапивенское дворянство, собравшись для выбора предводителя на предстоящее трехлетие и ничего не зная об установлении над Толстым негласного полицейского надзора, выбрало Толстого своим предводителем. Узнав об этом, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев 26 декабря 1882 года направил министру внутренних дел графу Д. А. Толстому следующее послание:
«...2. Граф Толстой в последние годы, вдруг переменив еще раз свою фантазию, впал в религиозную манию. Это разрешилось совершенным его отчуждением от христианства — в смысле верования. Он составил перефраз евангелия с комментарием, исполненным цинизма, в котором, опровергая и учение о личном божестве и о божественности Христа спасителя, проповедует христианскую мораль в рационалистическом смысле. Это сочинение он имел намерение печатать за границей, но удержался по усиленным просьбам жены (последний ребенок у него не крещен, вопреки мольбам жены его), оно распространяется теперь в рукописи. Он входит в сношения со всеми рационалистическими сектантами и молоканами, потяевцами и проч., для чего ездил однажды летом в Самарскую губ.; принимает и чествует новых сектантов, действуя на них возбудительно сам и через г. Пругавина»87.
Но опасения Победоносцева были совершенно напрасны. Не только в 1882 году, при изменившемся миросозерцании, но и раньше Толстой никогда не согласился бы занять презираемую им должность предводителя дворянства (вспомним уничтожающее изображение дворянских выборов в «Анне Карениной»). 16 декабря он отправил тульскому губернскому предводителю дворянства Ф. А. Свечину следующее официальное заявление:
«По незаявлению мною своевременно отказа баллотироваться по дворянским выборам, я был избран сего декабря предводителем по Крапивенскому уезду.
Не желая служить, прошу покорно Ваше превосходительство исходатайствовать мое увольнение»88.
- 174 -
XIII
20 декабря 1882 года С. А. Толстая писала сестре: «Левочка в хорошем духе. Кажется, начал писать в прежнем духе, но не любит, когда я его спрашиваю и говорю об этом».
Надо думать, что здесь идет речь о неозаглавленной и незаконченной легенде Толстого, начинающейся словами «Жил в селе человек праведный. Звать его Николай...»
На стр. 2—3 автографа этой легенды находим черновую редакцию вышеприведенного письма Толстого к тульскому губернскому предводителю дворянства Ф. А. Свечину, беловой текст которого датирован автором 16 декабря 1882 года. На этом основании датируем легенду серединой декабря того же года.
Назначение легенды, по мысли Толстого, состояло в том, чтобы с новой стороны осветить те мысли, какие были выражены им за год до того в легенде «Чем люди живы».
Николай «жил по-божьи тридцать лет, ни с кем не ругался, не ссорился и мирился — просил прощенья. Сроду не знал женщин, кроме жены Лизаветы... На брань молчал и на зло зла не держал и ни с кем не судился ни за добро [то-есть за имущество], ни за обиду. А всех жалел и всех любил, и не было у него разницы между турком и русским, жидом и христианином. Всех любил, всем помогал и советом делился».
В числе добродетелей, отличавших Николая, желавшего жить «по-божьи», указывается также и то, что он «в должности никакие не ходил» (имеются в виду существовавшие в дореволюционной России в деревне административные должности сотских, старост, старшин).
В том селе, где проживал Николай, жил один бедный мужик. Он заболел и занял деньги у богатого мужика, который в легенде называется то Петром, то Архипом. В обеспечение долга богатый мужик «подписал под себя» дом бедного мужика. Бедный мужик скоро умер, богатый мужик завладел его домом и выгнал на улицу его вдову. Вдова с грудным младенцем пошла побираться, а ее мальчика Архип взял к себе в пастухи, держал его впроголодь и заставлял под дождем в рваной одежде стеречь скотину.
Узнал об этом Николай и пошел обличать Архипа. Он застал у Архипа гостей: попа, старшину, писаря, старосту, богатых и бедных мужиков из деревни. Всех угощал хозяин.
Николай стал обличать Архипа за его бессердечное отношение к мальчику. «Не показались слова Николая и гостям и хозяину». Старшина и поп стали восхвалять Архипа. Поп сказал: «От бога всем нам дается, все посылается богом, худое и доброе. От бога наслата на тех нищета за то, что они бога забыли. Ни попу, ни на свечи покойник не подавал. Он забыл бога, и бог его оставил. А Архип, наш хозяин, и старостой
- 175 -
в храме божием предстоящий, трудящийся, и во всякое дело Служителям у алтаря — травки ли покосить, дровец ли привезть — все Архип. А в храме божьем от кого свеча, от кого молебен, кто образа поднимает? — Все Архип. За то и посылает ему бог за добродетель».
«Подтвердили слова попа дьякон, дьячок и просвирня».
Чтобы показать свое великодушие, Архип тут же призвал мальчонку, дал ему старую женину шубу, накормил и поднес стакан вина. Стал хозяин угощать и Николая, и тот поел и выпил.
Пошел Николай домой и сам с собой говорит: «Жил я тридцать лет хорошо, а Петр тридцать лет живет худо. Приду я домой, у меня ничего нет, а у него всего много. Меня осудили, его похвалили... А помрем и мы все так же. Все то же что праведному, что неправедному. Помрем... — ничего не останется ни от злых, ни от добрых дел. Все пройдет, ничего не останется».
«Сказал это Николай и подумал, и тошно ему стало на сердце. И думает: неужели обманул меня бог? И пошел Николай спать и не может заснуть. Болит его сердце. И застонал Николай голосом: «Бог, не обманщик ты, покажи ж мне свою правду. Покажи мне, какая польза от добра, что я делал на свете».
Ночью Николаю явилось видение — старец в белых ризах. Старец сказал, что он покажет Николаю «все злые дела. Покажу натрое: злые дела в долину́, злые дела в ширину и злые дела в глубину. Тогда не будешь больше спрашивать бога».
И старец начинает показывать Николаю «злые дела в глубину». Николай очутился в лавке у Архипа. Видит: «входит в пальто человек» и спрашивает четверку чаю, два фунта сахару и котелок (баранок).
На этом легенда обрывается, но на последней странице автографа, сразу после заключительной фразы легенды, Толстой набрасывает один за другим два кратких плана продолжения, дающих представление о замысле автора.
Вот первый из этих планов:
1. Облагодетельствованный мужик обманул мукой.
2. У мужика украли 2-х лошадей.
3. Мужика обманул купоном лавочник.
4. Лавочника обманула <девка>.
5. Девку обманул прикащик.
6. Прикащика обидел хозяин.
7. Хозяина обманул кирпичник.
8. Кирпичника посадили в острог за подушки брата жены.
10. Хозяйку подушек разочли по наговорам.
11. Наговорщицы отняли сына в солдаты.
- 176 -
12. Отняли сына в солдаты. Мужик.
13. У мужика оттянули усадьбу.
Очевидно, все эпизоды, указанные в плане, должны были иллюстрировать движение зла «в глубину», как обещал старец показать Николаю.
Третий пункт плана должен был показать, как лавочник обманул мужика «купоном». Следовательно, сюжет повести «Фальшивый купон», над которым Толстой работал в 1902—1904 годах, возник в его творческом сознании еще в 1882 году.
Подобно тому как в легенде «Чем люди живы» вместе с элементом чудесного даются совершенно реальные характеры сапожника, его жены, барина, заказывающего сапоги, и купчихи, воспитавшей девочек-сироток, и вполне реальные картины жизни деревенского сапожника, так и в незаконченной легенде «Жил на селе человек праведный» нарисованы совершенно реальные образы деревенского попа, кулака-мироеда, волостного старшины и реальная картина пиршества у мужика-богатея.
Кулак Петр, он же Архип, дополняет образ кулака Рябинина в «Анне Карениной», фигуры же своекорыстного деревенского попа и притеснителя крестьян — старшины в этой легенде появляются у Толстого впервые.
Начало незаконченной легенды «Жил в селе человек праведный» написано тем же народным разговорным языком, как и легенда «Чем люди живы»89.
XIV
В декабре 1882 года у Толстого завязалась оживленная переписка с бывшим студентом Московского университета Михаилом Александровичем Энгельгардтом, сыном известного сельского хозяина и автора «Писем из деревни», печатавшихся в «Отечественных записках», Александра Николаевича Энгельгардта.
Эта переписка не только заинтересовала Толстого, но и глубоко взволновала его и послужила для него поводом высказать его основные религиозно-нравственные взгляды в обширном письме.
В письме, датированном 10 декабря, М. А. Энгельгардт объяснял свое обращение к Толстому тем, что много слыхал о нем «как о человеке, хорошо изучавшем Евангелие и вообще религиозные вопросы»; кроме того, из статьи, вырезанной из журнала
- 177 -
«Русская мысль», он увидел, что Толстой находит «учение нашей ортодоксальной церкви противным учению Христову». «Я тоже, — писал Энгельгардт, — читая Евангелие, пришел к такому же заключению».
Это свое убеждение Энгельгардт выразил в статье, написанной по поводу статьи В. С. Соловьева «О церкви и расколе90. Так как у него «остаются еще некоторые сомнения», то он решил послать свою статью Толстому с просьбой прочесть ее и «высказать о ней свое мнение, сходятся ли выражаемые в ней мнения с евангельским учением».
Эта статья М. А. Энгельгардта в архиве Толстого не сохранилась, но в своем письме к И. С. Аксакову, написанном в начале декабря 1882 года и присланном Толстому в копии, М. А. Энгельгардт в следующих словах формулировал содержание своей статьи: «Я старался доказать, что учение так называемой православной церкви не есть учение Христово, что оно противно учению Христову, основывается на положениях, которые Христос считал ложью, и имеет результатом такое общественное устройство, которое Христос считает гнусным, языческим; я старался доказать, что Христос боролся именно против таких учений и таких общественных отношений, каковы учение и общественные отношения церкви, именующей себя православною».
Ответ Толстого на письмо Энгельгардта до нас не дошел, но судя по второму письму Энгельгардта, ответ был вполне благоприятный. Свое второе письмо Толстому (не датировано) М. А. Энгельгардт начал словами: «Я не могу выразить, как обрадовало меня Ваше письмо. Оно придало мне новые силы, убедило меня, что я не один в поле воин, и уничтожило последние сомнения в том, что я стою на верном пути».
Толстой в своем ответном письме предлагал Энгельгардту приехать к нему в Москву для подробной беседы об интересующих его вопросах. Но Энгельгардт ответил, что приехать не может, так как выслан под надзор полиции в имение своего отца Батищево, Смоленской губернии, без права отлучки даже в уездный город. Далее Энгельгардт писал, что его особенно занимает вопрос об отношении к власти, к насилию.
«Должен ли христианин покоряться даже несправедливым и гнусным постановлениям; не делается ли он через это соучастником преступления? По-моему, — писал Энгельгардт, — делается.
- 178 -
Если перед моими глазами убивают или мучат людей, не должен ли я заступиться за них, когда они просят меня о помощи, хотя бы пришлось освобождать их силой?»
И еще другой вопрос волновал юного студента: «Но как же теперь добиться осуществления евангельского учения? Что делать? Проповедовать словом и делом, основывать самим общины, действовать на народ и на интеллигенцию, стараться приобресть сторонников как из народа, так и из интеллигенции? Не так ли? Стараться завести сношения с существующими в России сектами и добиваться того, чтобы разбросанные по всей России приверженцы истинного учения соединились в один союз? Должно ли при этом преследовать и политические цели, т. е. наряду с проповедью истинного учения среди народа стараться влиять на правительство с целью добиться известных реформ? Мне кажется, должно — для успеха самой проповеди... Если бы несколько сот человек могли соединиться в один союз, то это была бы уж огромная сила. Как вы думаете обо всем этом?»
В конце письма Энгельгардт просил Толстого доставить ему возможность познакомиться с «комментариями к Евангелию», написанными Толстым, и, кроме того, задавал вопрос, стоит ли ему стараться напечатать свою статью против Соловьева, сократив ее и выпустив резкие выражения. «Мне бы хотелось, — писал Энгельгардт в заключение своего письма, — чтобы мои мнения распространились; быть может, найдутся в интеллигенции еще люди, которые поймут, что нельзя смешивать христианство с православием и что насколько лживо последнее, настолько же высоко первое».
При письме Энгельгардт приложил копию своей переписки с редактором газеты «Русь» И. С. Аксаковым по поводу статьи Соловьева. В пирьме к Аксакову он с такой же резкостью, как и в письме к Толстому, отзывался об учении православной церкви, называя его «гнусным, лживым, богохульным, страшно вредным», а православное духовенство признавал «нечестивым скопищем лицемеров по профессии».
Так же как и в письме к Толстому, Энгельгардт и в письме к Аксакову выражал убеждение, что «христианин должен стоять за несчастных и угнетенных до последней капли крови». Вспоминая статьи Достоевского в «Дневнике писателя», в которых тот оправдывал войну с турками 1877—1878 года, восхищаясь их «здравым смыслом», Энгельгардт полагал, что «если позволительна и даже обязательна внешняя война за угнетенных, то тем более обязательна внутренняя»91.
- 179 -
Письмо неизвестного ему молодого человека поразило Толстого своей искренностью, горячим желанием служить народу, не боясь правительственных преследований, резкостью и определенностью суждений о церковном учении. Он решил обстоятельно ответить на его письмо.
Надо думать, что второе письмо Энгельгардта Толстой получил в конце декабря 1882 или в начале января 1883 года, в период обострения семейного конфликта. Иначе трудно объяснить то, что в своем письме Толстой не остановился перед тем, чтобы вполне откровенно рассказать своему новому корреспонденту о своем одиночестве в семье.
Второе письмо Толстого к Энгельгардту92 было начато такими словами:
«Дорогой мой М. А., пишу вам «дорогой» не потому, что так пишут, а потому, что со времени получения вашего первого, а особенно второго письма, чувствую, что вы мне очень близки и я вас очень люблю. В чувстве, которое я испытываю к вам, есть много эгоистичного. Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня. Знаю, что претерпевый до конца спасен будет; знаю, что только в пустяках дано человеку право пользоваться плодами своего труда или хоть видеть этот плод, а что о деле божьей истины, которая вечна, не может быть дано человеку видеть плод своего дела, особенно же в короткий период своей коротенькой жизни, знаю все и все-таки часто унываю, и потому встреча с вами и надежда, почти уверенность найти в вас человека, искренно идущего со мной по одной дороге и к одной и той же цели, для меня очень радостна».
Высказав далее свое мнение о том, что говорить с такими людьми, как Соловьев и Аксаков, — напрасный труд, потому что они «закрыли глаза на истину», Толстой переходит к главному содержанию его письма.
Он цитирует выдержку из письма Энгельгардта: «Не должен ли я заступиться за людей, если они просят меня о помощи, хотя бы пришлось освобождать их силою, если перед моими глазами убивают и мучают людей?»
На этот вопрос Толстой решительно отвечает:
«Освобождать и заступаться за людей силой — не должно, потому что этого нельзя и потому, что пытаться делать добро насилием, т. е. злом, глупо».
Он берет самый простой пример из окружающей жизни: «Если на моих глазах мать засекает своего ребенка, что мне делать?» Он предупреждает, что вопрос «не в том, какое будет
- 180 -
мое первое побуждение при этом», а «вопрос в том, что мне следует делать, т. е. что хорошо и разумно».
Прежде чем ответить на поставленный вопрос, Толстой ставит другой вопрос: «Если мать своего ребенка сечет, то что мне больно и что я считаю злом? То, что ребенку больно, или то, что мать вместо радости любви испытывает муки злобы?»
«Зло в том и другом», — отвечает Толстой. «Зло есть разобщение людей. И потому, если я хочу действовать, то могу только с целью уничтожить разобщение и восстановить общение между матерью и ребенком». Если употребить насилие против матери, то этим я не уничтожу ее «разобщения (греха) с ребенком, а только внесу новый грех — разобщение со мной». Одно только «не будет неразумно»: «подставить себя вместо ребенка».
На слова Энгельгардта, что он «восхищается здравым смыслом» того, что писал Достоевский по поводу войны с турками в 1877—1878 годах, Толстой замечает, что написанное Достоевским по этому поводу в «Дневнике писателя» ему «очень противно».
Переходя далее к более широким обобщениям, Толстой утверждает, что сказанное — «поднявший меч мечом погибнет» — это не предсказание, а утверждение всем известного факта. «Христианин, — пишет Толстой, — ясно видит, что насилие — первое, что напрашивается человеку при виде зла, но он видит, что насилие отдалит его от цели, а не приблизит к ней».
Христианская деятельность, по мнению Толстого, состоит в том, чтобы не противиться злу насилием, а «рассеивать его добром и истиной». «Нельзя огнем тушить огонь, водой сушить воду»93, злом уничтожать зло... Если есть движение вперед, то только благодаря тем, которые добром платили за зло».
Подтверждение своей мысли Толстой видит в истории деятельности русских революционеров-террористов. Он пишет:
«Вспомним Россию за последние двадцать лет. Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам, сколько потрачено нашей интеллигенцией молодой на то, чтобы установить правду, чтобы сделать добро людям. И что же сделано? Ничего. Хуже, чем ничего. Погубили страшные душевные силы. Колья переломали и землю убили хуже, чем прежде, что и заступ не берет».
Террористической деятельности Толстой противопоставляет христианскую борьбу с общественным злом:
«Вместо тех страшных жертв, которые принесены молодежью, вместо выстрелов, взрывов, типографий, что, если бы эти люди верили в учение Христа, т. е. считали бы, что христианская жизнь есть одна разумная жизнь, что, если бы вместо этого
- 181 -
страшного напряжения сил, один, два, десятки, сотни людей просто бы на призыв их в военную службу сказали бы: мы не можем служить убийцами, потому что мы верим в учение Христа, то, которое вы исповедуете. Это запрещено его заповедью... То же бы сказали по отношению судов, то же бы сказали и исполняли по отношению к насилию, утверждающему собственность. Что бы было из этого, я не знаю, но знаю, что это подвинуло бы дело и что это один путь деятельности и плодотворной — не делать того, что противно учению Христа и прямо и открыто утверждать его — и не для достижения только внешних целей, а для своего внутреннего удовлетворения, которое состоит в том, чтобы не делать зла другим, пока еще я не в силах сделать добро им».
Но что делать христианину, если на его страну нападут чужие народы? В том экстазе христианского настроения, в каком находился Толстой, когда писал это письмо, он отвечает на этот вопрос следующими словами:
«Все люди братья одинакие. И если пришли зулу, чтобы изжарить моих детей, то одно, что я могу сделать, это постараться внушить зулу, что это ему не выгодно и не хорошо, — внушить, покоряясь ему по силе. Тем более, что мне нет расчета с зулу бороться. Или он одолеет меня и еще больше детей моих изжарит, или я одолею, а дети мои завтра заболеют в мучениях худших и умрут от болезни».
Мысль Толстого, выраженная в последних строках, сводится к тому, что телесная жизнь человека неминуемо подвержена болезням и смерти и не может быть обеспечена; поэтому нарушение нравственных законов во имя недостижимого обеспечения своей телесной жизни неразумно.
Свой общий ответ на все вопросы Энгельгардта о том, что нужно делать, Толстой формулирует словами: «Наилучшее, что мы можем сделать, это исполнять самим все учение Христа». Но, «чтобы исполнять его, — говорит далее Толстой, — мы должны быть уверены, что оно есть истина для всего человечества и для каждого из нас. Имеете ли вы эту веру?» — спрашивает он своего корреспондента.
В заключительной части письма Толстой оставляет общие вопросы и отвечает на тот вопрос, который задавали ему многие из тех, с кем он разговаривал о христианском отношении к жизни, — вопрос об исполнении им самим на деле христианского учения. Он пишет:
«Теперь другой вопрос, прямо, невольно вытекающий из этого. — Ну, а вы, Л. Н., проповедовать-то проповедуете, а как исполняете? — Вопрос этот самый естественный, и мне его делают всегда и всегда победоносно зажимают мне рот. — Вы проповедуете, а как вы живете? — И я отвечаю, что я не проповедую и не могу проповедовать, хотя страстно желаю этого. Проповедовать
- 182 -
я могу делом, а дела мои скверны. То же, что я говорю, не есть проповедь, а есть только опровержение ложного понимания христианского учения и разъяснение настоящего его значения. Значение его не в том, чтобы во имя его насилием перестраивать общество; значение его в том, чтобы найти смысл жизни в этом мире. Исполнение пяти заповедей дает этот смысл... Но, — говорят мне, — если вы находите, что вне исполнения христианского учения нет разумной жизни, а вы любите эту разумную жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? — Я отвечаю, что я виноват и гадок и достоин презрения за то, что не исполняю, но притом не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей говорю: посмотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнял и 1/1000, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, помогите мне, и я исполню, но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где по моему мнению дорога. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаясь из стороны в сторону, то неужели от этого не верен путь, по которому я иду? Если не верен, покажите мне другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что сбился, не кричите с восторгом: вон он! говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да, не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня. Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один, и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне, у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились и, когда я бьюсь всеми силами, вы при каждом отклонении вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте.
Так вот мое отношение к учению и к исполнению. Всеми силами стараюсь исполнить и в каждом неисполнении не то что только каюсь, но прошу помощи, чтобы быть в состоянии исполнять, и с радостью встречаю всякого ищущего путь, как и я, и слушаюсь его».
Письмо заканчивалось словами: «Пишите мне, я очень рад общению с вами и с волнением буду ждать вашего ответа».
Письмо не было отправлено по назначению. Нет сомнения, что причиной этого послужило то, что, излив на бумаге свою грусть, почти отчаяние, вызванное сознанием одиночества в семье, Толстой, успокоившись, скоро понял всю неуместность такого откровенного признания перед человеком, которого он знал только по его письмам и представлял себе очень молодым.
- 183 -
Без сомнения, то же самое почувствовал он и относительно заключительной части своего письма, в которой он с такой болью сердечной рассказал о своем одиночестве не только в семье, но и во всем окружающем его обществе.
Толстой решил письмо Энгельгардту не отсылать, а отправить ему с верным человеком рукопись «Краткого изложения Евангелия».
Таким верным человеком оказался новый знакомый Толстого, учитель русского языка в калишской гимназии М. С. Громека. Толстой поручил ему съездить к Энгельгардту и передать ему благоприятное впечатление, произведенное его письмами, и вместе с тем приглядеться к нему, что он за человек и насколько он действительно близок к его взглядам.
17 января 1883 года М. С. Громека был уже в Батищеве, а 24 января М. А. Энгельгардт коротким письмом уведомил Толстого о получении его рукописи94.
25 января М. С. Громека уже из Калиша послал Толстому большое письмо с описанием образа жизни молодого Энгельгардта и впечатления, какое он производит95. Это впечатление сводилось к следующему. М. А. Энгельгардт, — «человек, одаренный от природы очень добрым сердцем, искренним и высоким самоотвержением», «он глубоко страдает при виде всего угнетенного и несчастного, он так искренне желает ему служить, как очень немногие, но у него к этому примешивается другое, еще более страстное, чувство ненависти и желание уничтожать силою все угнетающее и делающее несчастным... Он искренно убежден, что насилие и война силою против зла есть следствие и орудие любви». В нем «ненависти больше, чем христианской любви. Всего менее было в нем истинного христианского
- 184 -
чувства, а религии и бога совсем не было в душе и системе, хотя на языке они и были».
Толстой не сразу ответил на это письмо. Только спустя некоторое время (письмо без даты) он пишет М. С. Громеке: «Мне все казалось, что я только что получил ваше прекрасное письмо (так мне скоро идет время), а выходит, что это давно, и давно бы пора ответить... Письмо ваше мне все объяснило об Энгельгардте. Ужасно больно было; а впрочем, так и должно быть. Копаешь канаву и все воображаешь, что добрый человек придет и за тебя выкопает. Нет, видно, сам выкопаешь, и будет канава, а сама канава не сделается. Это я о себе говорю, о своем ребяческом желании и надежде, что другие с ветра получат те взгляды на жизнь, которые выросли во мне, да еще будут помогать мне уяснять их»96.
Между тем М. А. Энгельгардт, очевидно не представлявший себе, как далеко отстоит он от мировоззрения Толстого, 19 марта пишет Толстому третье письмо, в котором решительно высказывается в пользу насильственной борьбы против деспотов и угнетателей народа. Здесь он признает «Краткое изложение Евангелия» неоценимым «как философское изложение основ христианского учения» и задает Толстому вопрос, какие он укажет пути, кроме проповеди и писания, «для осуществления нашего учения на практике».
Переходя к вопросу о насилии как средстве борьбы со злом, Энгельгардт писал: «Конечно, бороться со злом надо не злом же, а добром, но в число добрых действий входит заступничество за угнетенных, когда они просят помощи; хотя бы при этом пришлось употребить силу». Он вспоминает о рязанском предводителе дворянства генерале Измайлове, который, как рассказывают современники, в крепостное время травил собаками крестьянского мальчика.
«Если бы христианин, — пишет Энгельгардт, — мог спасти ребенка не иначе, как убив генерала Измайлова, то обязан был убить его... Предоставляется выбор между двумя убийствами — ребенка или изверга. Избежать обоих убийств нельзя, нужно выбирать между ними; лучше выбрать убийство изверга».
«Если кто скажет, — пишет далее Энгельгардт, — «Я, как христианин, не мог употребить насилия — это грех», то такому человеку следует сказать: «Ну, коли так — согреши, погуби свою душу, но все же спаси невинного».
На это письмо Толстой уже не ответил.
Написанное с таким горячим чувством и с такой силой убежденности письмо к Энгельгардту осталось в архиве автора.
Софья Андреевна восприняла это письмо как личное оскорбление. Впоследствии она рассказывала: «Я положила его в конверт
- 185 -
и написала: «Письмо к Энгельгардту, которого Лев Николаевич не только никогда не знал, но и не видал, а там пусть судят, как хотят. Я ужасно оскорбилась этим письмом»97.
Весной 1884 года Толстой познакомил В. Г. Черткова со своим письмом к Энгельгардту, причем дал ему разрешение поступить с этим письмом, как он найдет нужным. Чертков нашел приводимые Толстым в этом письме доказательства в пользу его миросозерцания убедительными и распространение этого письма признал желательным. 9 июня он уведомил Толстого, что напечатал на гектографе ответ Энгельгардту, который таким образом «пошел в мир». Толстому было радостно это сообщение Черткова, и он отметил его в своем дневнике 12 июня98.
В гектографированном и рукописном виде письмо к Энгельгардту под названием «Письмо к NN» получило широкое распространение. Редактор журнала «Русское богатство» Л. Е. Оболенский просил Толстого разрешить ему перепечатать «Письмо к NN» в его журнале. Толстой сначала ответил согласием, но затем просил В. Г. Черткова передать Оболенскому: «Письмо к NN», я боюсь, будет неудобно к напечатанию»99. (Конечно, по семейным соображениям). Да и сам Л. Е. Оболенский, попытавшись привести «Письмо к NN» в такой вид, чтобы оно было пропущено цензурой, пришел к заключению, что это совершенно исказило бы весь смысл письма, и отказался от такой попытки.
«Письмо к NN» проникло и за границу и в 1885 году появилось в женевском издании М. Элпидина, с которого было перепечатано в эмигрантском журнале «Общее дело»100.
XV
3 января 1883 года С. А. Толстая писала сестре: «Вчера был самый настоящий бал, с оркестром, ужином, генерал-губернатором и лучшим московским обществом у Щербатовых... Я разорилась, сшила черное бархатное платье... очень вышло великолепно. Таня очень веселилась, танцовала котильон с дирижером в первой паре, и лицо у нее было такое веселое, торжествующее... До 6 часов утра мы все были на балу. Я очень устала, но нашлись приятные дамы; перезнакомилась с такой пропастью людей, что всех и не припомнишь101. Теперь мы совсем,
- 186 -
кажется, в свет пустились: денег выходит ужас! Веселого, по правде сказать, я еще немного вижу. Кавалеры в свете довольно плохие. Назначили мы в четверг прием. Вот садимся, как дуры, в гостиной, Лелька юлит у окна, кто приехал — смотрит. Потом чай, ром, сухарики, тартинки — все это едят и пьют с большим аппетитом. И мы едем тоже, и так же нас принимают по приемным дням».
Затем 10 февраля Софья Андреевна писала ей же: «Это время я совсем с ног сбилась: Таня 20-го играет в двух пьесах, а 12-го у меня детский вечер, будет всего человек 70. Одних детей соберется 45 человек, все это будет танцевать, я взяла тапера... Вчера у гр. Капнист после репетиции затеяли плясать пар восемь и так бешено веселились, что просто чудо. Завтра тоже затевают у княжен Оболенских. Я всеми силами удерживаюсь от лишних выездов, но Таня так и стремится плясать».
2 марта ей же: «Последний бал наш был в Собрании102 в субботу вечером; все московское высшее так называемое общество поехало на этот бал. Таня так была уставши, что в мазурке два раза упала, и ей, как она говорит, было скучно на этом бале».
5 марта С. А. Толстая писала в дневнике:
«В голове моей теперь, в тиши первой недели поста, проходит вся моя только что прошедшая зимняя жизнь. Я немного ездила в свет, забавляясь успехами Тани, успехами моей моложавости, весельем, всем, что дает свет. Но никто не поверит, как иногда и даже чаще, чем веселье, на меня находили минуты отчаяния и я говорила себе: «не то, не то я делаю». Но я не могла и не умела остановиться»103.
24 апреля перед отъездом на лето из Москвы в Ясную Поляну Софья Андреевна писала сестре: «Делала я визиты всем, вчера 10 визитов сделала! В четверг у меня перебывали все, и в пятницу у нас был вечер молодежи: 13 барышень и 11 молодых людей и один стол в винт и целая гостиная маменек»104.
Толстой еще до покупки дома, предвидя будущий образ жизни семьи в Москве, старался пробудить в дочери критическое отношение к светскому обществу. Татьяна Львовна записала в своем дневнике 29 мая 1882 года: «Нынче вечером папа говорил о том, за какого рода человека он бы хотел меня отдать замуж; говорит, непременно за человека, выдающегося чем-нибудь, только не светского, — как, говорит, если мазурку хорошо танцует,
- 187 -
значит, никуда не годится». «По-моему — тоже», — заканчивает молодая девушка эту запись в своем дневнике.
Но теперь эти наставления отца были уже забыты. 24 марта 1883 года Софья Андреевна писала сестре: «Таня ничем, кроме светских сплетен, серьезно не интересуется».
В то время как его жена и дочь вели рассеянный светский образ жизни, Толстой с таким же увлечением, как и прежде, работал над своим трактатом «В чем моя вера?». Он считал себя обязанным рассказать людям о своих мучительных исканиях смысла жизни и о том, что он нашел в результате этих исканий.
В феврале он писал М. С. Громеке: «Дела много. Мне часто говорят: пишите художественное, и т. д. Я всей душой бы рад, и кажется, что есть что, да кто же то напишет, что я теперь пишу. Пусть кто-нибудь снимет с меня это дело, или покажет мне, что оно не нужно, или сделает его — в ножки поклонюсь»105.
30 января Софья Андреевна писала сестре:
«Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи; иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает; но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я — толпа, живу с теченьем толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это свет. Но не могу идти скорее, меня давит и толпа, и среда, и мои привычки».
Она же писала 10 февраля: «Левочка муж все пишет о христианстве, здоровье его не совсем хорошо, и нервы не крепки; но лучше гораздо, чем в прошлом году... Мы очень дружны и во все время очень слегка один раз поспорили»106.
Затем 2 марта: «Левочка все пишет свои евангельские сочинения; у него два переписчика постоянно пишут; но напечатать ни одного слова нельзя».
5 марта Софья Андреевна записывает в дневнике: «Левочка спокоен и добр, иногда прорываются прежние упреки и горечь, но реже и короче. Он делается все добрее и добрее... Пишет Левочка все еще в духе христианства, и эта работа нескончаемая, потому что не может быть напечатана, и это нужно, и это воля божья и, может быть, для великих целей»107.
Уходя с головой в свою работу, Толстой на время забывал о той ненавистной ему обстановке барской жизни, в которой ему приходилось жить. В начале апреля он писал М. С. Громеке:
- 188 -
«Я живу все той же жизнью — тяжелой. К весне способность умственной работы перемежается и становится тяжелее»108.
Калишский учитель Михаил Степанович Громека, к которому обращено было это письмо Толстого, впервые писал ему 24 июля 1877 года. Он напоминал, что был у Толстого два с половиной года тому назад, и беседа с ним доставила ему большое удовольствие. Преподавая историю русской литературы, он еще больше полюбил Толстого за то высокое воспитательное значение, какое имеют для молодежи его великие творения.
В январе 1883 года Громека привез Толстому в Москву свою рукопись «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого», посвященную главным образом «Анне Карениной». Просмотрев начало его работы, Толстой остался им вполне удовлетворен. «Я не могу сказать, — писал он автору в начале января 1883 года, — что мне нравится или я одобряю то, что я прочел, как не может сказать человек, что ему нравятся его слова, которые передал переводчик так, что слова, прежде непонятные, стали понятны. Я испытывал только то облегчение, которое испытывает этот говоривший среди не понимавших его на чуждом языке, когда нашел переводчика, чтобы восстановить его человеческую связь с другими. Разумеется, переводчик приложил своего, и в переводе выходит уж слишком хорошо. Это еще больше бы тронуло этого человека прежде. Теперь же человек этот от нужды во время непонимания его стал делать отчаянные жесты, и кое-как стали уже понимать его жесты»109.
Работа Громеки начата печатанием в журнале «Русская мысль» в том же 1883 году. Толстой с интересом прочитывал и просматривал главу за главой работу молодого автора. В начале апреля он писал М. С. Громеке: «Сейчас прочел вашу третью статью. Она мне очень нравится»110.
24 августа 1883 года в беседе с Г. А. Русановым, отвечая на его вопрос, правда ли, что он не читает критических статей о его произведениях, появляющихся в газетах и журналах, Толстой ответил: «Правда... Но вот недавно я сделал исключение для одной, это — статья Громеки в «Русской мысли». Превосходная статья. Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение»111.
Вероятно, разговор с Русановым напомнил Толстому о письме Громеки, полученном еще в мае. Вскоре после этого разговора Толстой пишет Громеке ответ, в котором справляется, почему не печатается продолжение его работы, и прибавляет: «Я очень ценю вас, высоко ставлю и люблю»112.
- 189 -
В письмах к Громеке и в разговоре с Г. А. Русановым Толстой впервые после происшедшего в его мировоззрении перелома снисходительно отозвался о своем романе. До этого времени он и в письмах и в разговорах находил только самые жесткие слова о своем гениальном творении. Так, в письме к В. В. Стасову от 1 мая 1881 года Толстой обозвал «Анну Каренину» «мерзостью»113, а в разговоре с П. Д. Боборыкиным, происходившем, вероятно, в 1882 году, сравнивал себя с состарившейся француженкой, которую ее бывшие обожатели восхваляют за то, что она «восхитительно пела шансонетки и придерживала юбочки»114.
В 1900 году Толстой еще раз вспомнил о М. С. Громеке.
«Это был симпатичный, страстный и талантливый человек, — рассказывал Толстой. — Он застрелился еще молодым человеком, говорят, вследствие душевного расстройства... Мне было дорого, что человек, сочувствующий мне, мог даже в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» увидеть многое, о чем я говорил и писал впоследствии»115.
Работа М. С. Громеки вышла отдельным изданием в 1884 году уже после смерти автора и выдержала шесть изданий, последнее из которых было выпущено в 1914 году.
XVI
26 апреля 1883 года Толстой уехал на лето в Ясную Поляну.
Здесь на третий день по приезде ему довелось быть свидетелем большого пожара в деревне и принимать участие в тушении огня. Яснополянский крестьянин А. Т. Зябрев в своих воспоминаниях рисует следующую картину постигшего яснополянских крестьян бедствия:
«В 1883 году в апреле месяце загорелась наша Ясная Поляна. Прибежал на пожар и Л. Н. в простом обыкновенном пиджачишке. Не глядя на большое пламя и не жалея себя, он кидался в крестьянские хатенки, вышвыривал какое ему попадалось крестьянское имущество, срывал двери, снимал ворота, а когда огонь охватывал весь дом, перебегал к соседней избе и делал то же самое. Когда, наконец, он увидел, что пожар больше не распространяется, то он, усталый, с ободранными до крови руками, взял пожарный кран и начал вместе с народом растаскивать обгорелые бревна, засыпать их снегом и заливать
- 190 -
водой. Когда огонь был прекращен, на каждом пепелище послышался неугомонный крик и плач. Л. Н., несмотря на свою усталость, весь мокрый и грязный, домой не пошел, а обращался к крестьянам и уговаривал бедных погорельцев не унывать, а надеяться на бога. Погорельцам не было приюта: они разместились: кто в сарае, кто по родным, и кое-как провели ночь почти не спавши. Но видно не спалось и Л. Н. Он рано-рано утром пришел в Ясную Поляну, осмотрел сгоревшие 22 двора, обошел сараи, где помещались погорелые крестьяне, обещал им помочь, чем сможет. В то время Л. Н. еще сам распоряжался в своем имении. У кого не было хлеба, он выдал хлеб; у кого не было картофеля, обещал на семена дать. Семенной овес весь погорел, и Л. Н. обещал тоже овса. Также обещал дать кольев, слег, сох, кое-кому и срубы на избу. Потом сам поехал в Пирогово к своему брату, купил у него овса и приказал крестьянам ехать за овсом в Пирогово. Потом собрал народ, взял двуручную пилу и отправился с крестьянами в рощу. Сам резал с ними слеги, кому сколько понадобилось. Сам соображал, из какой слеги что может выйти. Не один так день с раннего утра и до позднего вечера работал Л. Н. с мужиками. Но этим Л. Н. не удовольствовался: от пожара особенно пострадали крестьяне, неспособные работать, как Осип Макаров и Прокофий Власов. И вот Л. Н., не покладая рук, рубил с ними хворост, тесал колья, плел плетень, резал бревна, сам возил лес для сруба, ставил с ними дворы, помогал косить овес, траву, возил с ними снопы, сено, сам клал в одонья хлеб, покрывал их от дождя и вообще помогал этим мужикам во всех работах»116.
Толстой писал Софье Андреевне в Москву вечером в день пожара:
«Очень жалко мужиков. Трудно представить себе все, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10 тысяч. Страховых будет тысячи 2, а остальное все надо вновь заводить нищим, и заводить все то, что нужно необходимо только для того, чтобы не помереть с семьями с холоду и голоду».
На другой день он писал ей же:
«Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость и уверенность в свою силу, и спокойствие. Главная нужда теперь — овес на посев».
Лев Николаевич просит Софью Андреевну спросить его брата Сергея Николаевича, проживавшего в Москве, не может
- 191 -
ли он дать записку в его имение Пирогово на 100 четвертей овса. «Цена пусть будет та самая высокая, за какую он продает. Если он согласен, то пришли эту записку или привези»117.
В начале мая в Ясную Поляну приехала и Софья Андреевна.
21 мая Толстой выдал жене доверенность на ведение всех его имущественных дел118.
Право на издание его сочинений в этой доверенности специально не оговорено, но наличие этого права за С. А. Толстой можно было вывести из следующих слов доверенности: «Для исполнения всего этого Вы имеете: ...вообще получать всякие мне следующие суммы отовсюду». Так понимал и сам Толстой смысл выданной им жене доверенности. 13—14 мая 1885 года, отвечая на вопрос В. Г. Черткова, Толстой писал ему: «Доверенность эта года уже 4 дана мной жене на все мои права по всему имуществу и в том числе и изданию сочинений»119.
По этой доверенности С. А. Толстая издавала сочинения Льва Николаевича вплоть до последнего года его жизни.
В 1891 году Толстой напечатал в газетах заявление, в котором разрешал всем желающим безвозмездно переиздавать, переводить, ставить на сцене все его произведения, написанные после 1 января 1881 года. Таким образом за женой Толстого осталось исключительное право издания только тех его произведений, которые были написаны ранее указанного срока.
22 июля 1910 года Толстой подписал завещание, по которому в случае его смерти все его сочинения, когда бы они ни были написаны, перестают быть собственностью его семьи. После опубликования этого завещания доверенность, выданная им жене 21 мая 1883 года на издание его сочинений, потеряла свою силу.
В тот же день 21 мая Толстой уехал из Ясной Поляны в свое самарское имение. Целей поездки было две: ликвидировать все хозяйство на самарском хуторе и подкрепиться кумысом, который Толстой считал полезным для своего здоровья.
Софья Андреевна противилась этой поездке Льва Николаевича. Произошел резкий разговор. В письме от 21 июня Софья Андреевна вспомнила, как Лев Николаевич перед отъездом упрекал ее за то, что она его «никуда не пускает». Вообще весной этого года обнаружились серьезные несогласия между Толстым
- 192 -
и его женой. О них в том же письме Софья Андреевна вспоминала: «Так многое наболело в прошлую весну, что когда вспомню, такую чувствую невыносимую сердечную боль, что думаю: все, только не то, что было»120.
24 мая Толстой приехал на свой самарский хутор.
В пути ему случилось увидеть много переселенцев — «очень трогательное и величественное зрелище», — как писал он жене 25 мая.
На этот раз Толстой пробыл на самарском хуторе больше месяца и занят был преимущественно ликвидацией своего хозяйства: продажей лошадей, скота, построек, хлеба на корню, сдачей земли крестьянам в аренду. Уведомляя Софью Андреевну в письме от 25 мая, что половина долгов крестьян за арендованную землю — около 5 тысяч — «пропащие», Толстой вместе с тем увещевал жену не досадовать, а радоваться этому. «И так уж так много лишнего».
Работой над трактатом «В чем моя вера?» Толстой на хуторе почти не занимался. Некоторое время читал Библию на древнееврейском языке под руководством «кумысника» — студента народовольца И. М. Гурьяна. Ездил к молоканам в деревни Гавриловку и Павловку и беседовал с ними, как писал он жене 2 июня, «о христианском законе». На предостережение жены, что об этих беседах могут донести по начальству, Толстой в том же письме отвечал ей: «Пускай доносят. Я избегаю сношений с ними, но сойдясь не могу не говорить того, что думаю»121.
Уже 29 мая Софья Андреевна писала Толстому на самарский хутор: «Мне иногда без тебя невыносимо одиноко и тоскливо, но это минутами; а разумно я желаю, чтобы ты кумыс пил подольше и отдыхал бы от нас и нашей несимпатичной тебе жизни»122.
Софье Андреевне была памятна та «страшная ночь» 26 августа 1882 года, когда Лев Николаевич в первый раз с такой потрясающей искренностью объявил ей о своей заветной мечте — уйти от семьи. Примирение вскоре состоялось, но Софья Андреевна все-таки не была уверена, что это заветное желание рано или поздно не загорится в нем с еще большей силой, чем прежде. Поэтому, получив от Толстого после первого краткого письма два письма «приятных, милых и радостных», Софья Андреевна испытала надежду, что «страшная ночь» не повторится. «В них [в письмах] я увидела, — писала она 2 июня, — что ты не убежишь от нас, какие бы мы ни были». Но кончается письмо все-таки грустной нотой: «Как иногда мне тяжело,
- 193 -
Левочка, одно: знать, что ты всю мою жизнь и всю меня так не одобряешь и не считаешь серьезной. Разве мало хоть того, что я всей душой желаю делать хорошее — и не могу»123.
Толстого мучило то, что, как писал он жене 2 июня, он «так вдруг скоро уехал. Как будто что-то недоговорено, и как будто что-то холодно мы простились... Думаю о тебе беспрестанно», — писал он далее124.
На это воспоминание о холодности перед отъездом Софья Андреевна отвечала в письме от 7 июня:
«Ты мне неприятно напомнил о твоем холодном внезапном отъезде; я забыла уже. Но тогда ты даже забыл проститься со мной. Ты уехал, а я заплакала; потом стряхнула с себя горькое чувство и сказала себе: «не нужна я, так и не надо, постараюсь и я так же быть свободна от всяких чувств». И мне уж не так был тяжел твой отъезд, как бывало; я стала жить спокойно; и часто очень мне бывало хорошо, особенно от природы. Если и тебе спокойно, то не спеши домой. Освежайся умом и телом»125.
Толстой был потрясен спокойным рассказом жены о том, как легко и свободно устроила она свою жизнь без его участия, нисколько не жалея об утраченной (как она полагала) близости с ним. 15 июня он отвечал ей:
«Я первым распечатал твое письмо от 7-го июня, последнее; и чем дальше я читал, тем большим холодом меня обдавало... Ничего особенного нет в письме; но я не спал всю ночь, и мне стало ужасно грустно и тяжело. Я так тебя любил, и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь. Я писал, что мне больно то, что я слишком холодно и поспешно простился с тобой; на это ты мне пишешь, что ты стараешься жить так, чтобы я тебе был не нужен, и что очень успешно достигаешь этого...»
Далее в том же письме Софья Андреевна писала:
«С грустью иногда думаю: вот приедешь, будет у всех радость свиданья — и опять тебе, и следовательно и мне станет тяжело, что жизнь, кажущаяся нам нормальная и даже очень хорошая и счастливая, тебе будет тяжела. Ведь все тот же крокет по вечерам, катанье, гулянье, купанье, болтовня, ученье греческих, русских, немецких, французских и прочих грамматик по утрам, одеванье к обеду, ситники и проч. и пр. Но мне все это освещено красотой лета и природы, чувством любви и исполнения долга к детям, радостью чтения (читаю Шекспира теперь), прогулок и многим другим. А ты уж не можешь этим жить — и грустно, очень грустно. Я ничего не прошу, только
- 194 -
прошу после хорошего, настоящего, спокойного питья кумыса привезти себя снисходительного, здорового, молодого, какой был прежде, по духу молодого, чтоб не видеть во всем какой-то упрек, а видеть счастье и благодарить за него бога, и ничего, ничего не желать и не выдумывать и не изменять».
На это Толстой отвечал в письме от 15 июня:
«Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, пишешь как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса. О предстоящем нашем свидании, которое для меня радостная, светлая точка впереди, о которой я стараюсь не думать, чтобы не ускакать сейчас, ты пишешь, предвидя с моей стороны какие-то упреки и неприятности... Я так живо вспомнил эти ужасные твои настроения, столько измучившие меня, про которые я совсем забыл; и я так просто и ясно люблю тебя, что мне стало ужасно больно.
Ах, если бы не находили на тебя эти дикие минуты, я не могу представить себе, до какой степени дошла бы моя любовь к тебе. Должно быть, так надо. Но если бы можно было избегать этого, как бы хорошо было!..
Боюсь за это письмо, как бы оно не огорчило тебя. По себе знаю, когда любишь (но это я про себя говорю), то так натянуто сердце в разлуке, что каждое неловкое, грубое прикосновение отзывается очень больно»126.
В следующем — и последнем из Самары — письме от 20 июня Толстой писал:
«Последнее письмо мое к тебе у меня на сердце. Может быть, я был в дурном расположении духа, когда писал. Во всяком случае не сердись на меня и не скучай, если только у тебя все хорошо».
Письмо заканчивается словами:
«Прощай, душенька! Слишком много хочется сказать, от этого не пишу... Обнимаю тебя»127.
Софья Андреевна, еще не получив этого письма, ночью 21 июня написала свое письмо, разорвала и отправила другое.
Здесь она рассказывала, что читает рукопись «В чем моя вера?»: «Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо бы людям быть совершенными, и непременно надо напомнить людям, как надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. — Но все-таки не могу не сказать, что трудно отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят, и шумят, и забавляют»128.
- 195 -
XVII
8 июня Толстой писал Софье Андреевне, что у А. А. Бибикова (управляющего его имением) он познакомился с двумя революционерами, привлекавшимися по «процессу 193-х».
По этому процессу 193 революционера из разных местностей России обвинялись в «противозаконном сообществе, имеющем целью ниспровержение и изменение порядка государственного устройства». Процесс слушался в Особом присутствии Сената с 18 октября 1877-го по 23 января 1878 года.
Алексей Алексеевич Бибиков, сын сенатора, помещик Чернского уезда Тульской губернии, окончивший физико-математический факультет Харьковского университета, в 1866 году привлекался по делу Каракозова. Просидев шесть месяцев в тюрьме, был приговорен к ссылке, которую отбывал в Вологодской губернии и затем в Воронеже. В 1870-х годах отдал свою землю крестьянам, оставив себе только несколько десятин, и женился на крестьянке. С Толстым познакомился в 1878 году; управлял самарским имением Толстого с 1878 по 1884 год и жил недалеко от его хутора.
Толстой всегда относился к Бибикову с большой любовью и уважением.
О своей встрече у Бибикова с участниками процесса 193-х Толстой писал жене 8 июня: «Это люди, подобные Бибикову и Василию Ивановичу [Алексееву], но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик — и говором, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями, мужиками, пашет и жнет, и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно одни — о насилии»129.
Егор Егорович Лазарев происходил из крестьян села Грачевки Бузулукского уезда Самарской губернии. Учился в сельской школе, потом в трехклассном уездном училище, затем при содействии местных интеллигентов, заинтересовавшихся способным крестьянским мальчиком, поступил в гимназию, но в седьмом классе был арестован за революционную пропаганду и курса не кончил. Просидев более трех лет в тюрьме, приговором Сената по делу 193-х был оправдан, после чего был взят на военную службу и Служил в Уральске, затем в Карсе, сначала рядовым, а потом унтер-офицером. На службе продолжал революционную пропаганду как среди солдат, так и среди офицеров. По окончании службы вернулся в родное село и продолжал крестьянствовать.
- 196 -
С. Л. Толстой, встречавшийся с Лазаревым у Бибикова, следующими чертами рисует его облик в своих воспоминаниях: «Это был мускулистый, белокурый, бодрый, веселый крепыш среднего роста, двадцати восьми лет, с открытым лицом. В его разговоре сказывалось его крестьянское происхождение: он пересыпал свою речь народными выражениями»130.
Само собою разумеется, что разговоры и споры Толстого с Лазаревым и другими представителями революционно настроенной молодежи сосредоточивались главным образом на вопросе о революционном насилии. Толстой энергично отстаивал свои убеждения. «Им хочется, — писал Толстой жене 8 июня, — отстоять право насилия; я показываю им, что это безнравственно и глупо»131.
И. М. Ивакин приводит следующий рассказ Толстого о Лазареве:
«Лазарев — сын мужика, который был вроде управляющего. Его сына приставили к господам для охоты, вместе с барскими детьми стали учить. Он стал учиться — чего они не поймут, поймет он. Дальше — больше; способности, видят, большие; отдали его в гимназию. Он учился там до седьмого класса, а потом вместе с другими товарищами за два месяца до экзамена заявил директору, что учиться больше не желает, вышел и отправился в народ. Он судился в процессе 193-х, сослан на родину под надзор, а потом за «дурное направление» отправлен в Сибирь на поселение на три года. В Москве он целый почти год сидел в остроге. Лев Николаевич был у него раза три. Бодрей он никогда себя не чувствовал, чем в это время. Он говорил, что в деревне ему уже становилось тошно, а тут впереди ждут новые впечатления, новая жизнь. Он просил достать ему компас. Лев Николаевич достал и спрашивает: «Для чего вам это? уж не для побега ли?» Он ответил, что на пути все может быть — этапные начальники бывают всякие, пожалуй, бить, притеснять станут»132.
Лазарев послужил прототипом революционера Набатова в романе «Воскресение». С. Л. Толстой сообщает: «Отец впоследствии вспомнил о нем [Лазареве], когда писал «Воскресение». На Лазарева похож Набатов»133.
То же подтверждает и литератор В. А. Поссе, хорошо знавший Лазарева. «Толстой, — писал В. А. Поссе, — его [Лазарева] очень полюбил: сначала как мужика, каким он и был как по происхождению, так и по натуре, а затем и как революционера.
- 197 -
Он вывел его в своем романе «Воскресение» под фамилией Набатов. Характеризовал его ярко и верно»134.
Ожидания доносов во время пребывания Толстого на самарском хуторе, высказывавшиеся как им самим, так и его женой, вполне оправдались.
13 июня 1883 года начальник тульского жандармского управления уведомил самарского губернатора, что «состоящий под негласным наблюдением отставной поручик граф Лев Николаевич Толстой» «выехал в 20-х числах минувшего мая» на свой хутор Самарской губернии Бузулукского уезда.
Получив это «отношение», самарский губернатор на другой же день дал знать бузулукокому исправнику об учреждении негласного надзора за «отставным поручиком гр. Львом Николаевичем Толстым».
8 июля 1883 года бузулукский жандармский штабс-капитан «совершенно секретно» доносил самарскому губернатору.
«Вследствие предписания от 12 июня за № 225, имею честь донести вашему превосходительству, что состоящий под негласным наблюдением отставной поручик гр. Лев Николаевич Толстой прибыл в свое поместье близ села Гавриловки, Патровской вол., второго стана, Бузулукского уезда, 24 мая с. г., а 12 июня делал сход в селе Гавриловке проездом через нее вроде беседы для изложения своего образа мыслей. На этой беседе граф Лев Николаевич Толстой старался внушить принцип равенства, доказывая, что все должны делиться друг с другом. Церкви украшать — глупо, так как это составляет напрасные траты денег. Может пройти не более 100 лет, когда наступит время, что не нужно будет замков к амбарам, так как все будет общее, и что тогда явится благодать на земле. Что он составил на этот предмет евангелие, которое не понравилось правительству и поэтому его сожгли, но что у него в деревне все-таки оно осталось. Что он пять лет уже как отстал от православия, но к какой секте пристал — не сказал, и крестьяне увидели из его беседы, что он отвергает власть и правительство, а потому по выходе из беседы заключили, что он не сектант, а просто социалист... О времени его отъезда и сколько он намерен пробыть и будет ли еще проповедывать, пока сведений не имеется».
13 июля бузулукский исправник отправил самарскому губернатору следующее «совершенно секретное» донесение:
«Прибывший на свой хутор Патровской волости, Бузулукского уезда граф Лев Николаевич Толстой бывал в селе Гавриловке
- 198 -
и внушал им, что их понятия об учении господа Иисуса Христа ложны, что напрасно они устраивают храмы, совершают богослужения въявь, что по учению Спасителя, люди — живущие на земле — все равны между собой, никто ничего не должен считать своим, все общее: царства на земле нет, оно в самом человеке. На возражение крестьянина того села Тимофея Булыгина, старосты церковного, отчего он, придерживаясь учения Спасителя, не раздает даром имения, а сдает за деньги — граф ответил, что лично он согласен даром отдать землю, но ему не позволяет его жена. На вопрос же Булыгина: если царства на земле нет, то должны ли они платить подати и разные налоги? граф ответил неутвердительно; тогда Булыгин сказал, что Спаситель сам платил подати царю Кесарю. Это граф пояснял так. Иисус Христос платил подать не ради обязанности, а чтобы ему не делали притеснения в его учении. Булыгина граф назвал серьезным человеком и обещал придти к нему еще раз побеседовать. Настоящий разговор происходил в доме крестьянина Курносова при крестьянах»... Следуют имена крестьян135.
——
28 июня Толстой уехал с своего самарского хутора, — уехал, чтобы больше никогда в него не возвращаться. Хозяйство было ликвидировано.
Вероятно, 1 июля он был уже в Ясной Поляне.
XVIII
На третий день по возвращении в Ясную Поляну Толстой пишет Н. Н. Страхову, гостившему в то время у Фета в его имении Воробьевке, что он желал бы видеть Афанасия Афанасьевича. «Мы с ним, — писал Толстой, — во всю зиму никогда так хорошо не беседовали, как перед отъездом, так странно, что мы иногда как будто не понимаем друг друга»136.
Страхов, в то время уже уехавший из Воробьевки, не замедлил послать Фету касающуюся его выписку из письма Толстого; но на Фета письмо Толстого произвело грустное впечатление. «Спасибо Льву Николаевичу за его отзыв обо мне, — писал он в ответном письме Страхову. — Вы хорошо знаете, как высоко я ценю его как человека и художника. Но это мне мало помогает».
- 199 -
Фет рассказывает далее, как одна его знакомая «начала распространяться» о его прежней солидарности с Толстым, и прибавляет: «То ли это теперь? Конечно, сущность (абстрактная) лиц от такой перемены не пострадала. Но где тот могучий интерес взаимного ауканья?».
«Последние слова — прелесть», — замечает Страхов, приведя выдержку из письма Фета в своем письме к Толстому от 16 августа137.
Первое время по возвращении в Ясную Поляну Толстой в течение нескольких дней косил траву бедной яснополянской вдове; старшие дочери ему помогали — растрясали и копнили сено. Было убрано несколько возов.
24 августа к Толстому неожиданно приехал незнакомый ему член Харьковского окружного суда, небогатый помещик Воронежской губернии, Гавриил Андреевич Русанов, приезд которого вдвойне был приятен Толстому. Оказалось, что приезжий читал добытые им с большим трудом литографированные «Исповедь» и «Новое Евангелие» Толстого, которые, по его словам, произвели в нем «нравственный переворот, открыли глаза на многое». Но вместе с тем некоторые места этих книг остались для него неясными, и он нарочно приехал к Толстому, чтобы попросить у него разъяснения этих мест. Когда он рассказал это Толстому, лицо Толстого, который сначала принял его «не особенно приветливо», «мгновенно сделалось приветливым, радостным, он был в восхищении».
Кроме того оказалось, что приезжий был не только горячим поклонником художественных произведений Толстого, но знатоком и любителем всей передовой русской литературы. И Толстой, в то время уже не так отрицательно относившийся к художественной литературе, как это сказалось в «Исповеди», а также в письмах 1882 года к Энгельгардту и к Александрову, очень охотно беседовал с Русановым о произведениях русской и иностранной литературы, высказывая о них свои суждения.
По возвращении из Ясной Поляны Г. А. Русанов написал подробные воспоминания о своем двухдневном пребывании у Толстого138. Благодаря образованности и широкому умственному кругозору автора, содержательности и достоверности сделанных им записей суждений Толстого по вопросам литературы и общественной жизни (некоторые слова Толстого были им записаны буквально), воспоминания Г. А. Русанова заняли одно из первых мест в мемуарной толстовской литературе.
- 200 -
Из воспоминаний Г. А. Русанова видно, что у Толстого в то время нисколько не ослабел интерес к художественной литературе. Приведем наиболее интересные и характерные суждения Толстого о писателях, выраженные им в разговоре с Русановым, а также некоторые попутно высказанные им замечания о своем художественном творчестве.
Впервые сообщил Толстой Русанову рассказ о Пушкине, который передавала ему Е. Н. Мещерская139, — о том, как Пушкин сказал своему приятелю: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее».
Впоследствии Толстой не один раз с некоторыми вариантами вспоминал этот рассказ140.
Эти слова Пушкина Толстой в разговоре с Русановым применил и к своей писательской деятельности. Он сказал: «Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется».
О Лермонтове Толстой говорил:
«— Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имеющий. У него нет шуточек, — презрительно и с ударением сказал Толстой. — Шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего».
К этой характеристике Лермонтова Толстой прибавил еще:
«— Тургенев — литератор, Пушкин был тоже им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев. Лермонтов и я не литераторы».
У Тургенева, как сказал Толстой, ему нравятся только «Записки охотника», «хотя теперь, — прибавил он, — уж нельзя так изображать народ, как он там изображается».
«Все остальное у Тургенева, — продолжал Толстой, — я не очень ценю, и мне кажется, что слава его сочинений не переживет его».
«Песнь торжествующей любви» Толстой назвал «отвратительной».
На замечание Русанова, что у Тургенева прекрасные описания природы, Толстой ответил: «Да. Несравненные».
Заговорили о Достоевском, Толстой сказал, что «Записки из мертвого дома» — лучшая его вещь, но остальные его произведения он не ставит высоко. «Братья Карамазовы» «не мог дочитать». На замечание Русанова, что «недостаток этого
- 201 -
романа тот, что все действующие лица, начиная с пятнадцатилетней девочки, говорят одним языком — языком автора», Толстой ответил: «Мало того, что они говорят языком автора — они говорят каким-то натянутым, деланным языком, высказывают мысли самого автора».
Толстой согласился с мнением Русанова, что «Преступление и наказание» — лучший роман Достоевского141, однако прибавил: «Но вы прочтите несколько глав с начала — и вы узнаете все последующее, весь роман. Дальше рассказывается и повторяется, то что вами было прочитано в первых главах».
О других романах Достоевского сказал: «— Отдельные места прекрасны, но в общем — в общем это ужасно! Какой-то выделанный слог, постоянная погоня за отысканием новых характеров, и характеры эти только намечены».
Толстой похвалил статьи Михайловского о Достоевском — первую, написанную вскоре после смерти; Достоевского142, и вторую — «Жестокий талант»143.
«— Вообще Михайловский очень хорошо пишет, — заметил Толстой, прибавив, что он «с удовольствием» прочитал его статью «Герои и толпа»144.
- 202 -
На слова Русанова, что любимым писателем современной молодежи является Щедрин, так как он «касается политики, злобы дня», Толстой ответил:
«— И он вполне стоит этого. Щедрина я люблю, он растет, и в последних произведениях его звучит грустная нота».
Толстой спросил Русанова, читал ли он «Современную идиллию» Щедрина и помнит ли из нее «суд над пескарями». Русанов заметил, что в «Современной идиллии» хороши еще «лоботрясы».
— Это прелестно, — согласился Толстой и привел на память цитату о лоботрясах.
— Хорошо он пишет, — продолжал Толстой, — и какой оригинальный слог выработался у него»145.
Русанов высказал мнение, что такой же в своем роде оригинальный слог был у Достоевского, но Толстой возразил:
«— Нет, нет. У Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог, а у Достоевского что-то деланное, ненатуральное».
Зашел разговор о беллетристах-народниках. Толстой заявил, что Златовратский ему не нравится, но Глеба Успенского похвалил.
«— Он очень хорош, — сказал Толстой, — но его беда в том, что к своим прекрасным изображениям народа он постоянно примешивает разные идейки свои, и идейки довольно мелкие».
На слова Русанова, что у Успенского «прекрасный юмор», Толстой опять повторил, что Успенский «очень, очень нравится» ему146.
Толстой сам заговорил о беллетристах Е. В. Салиасе и П. И. Мельникове-Печерском, которых он читать не может.
«— Это противное подражание простонародному языку, слащавое, деланное, фальшивое отношение к народу невыносимо».
Когда Русанов сказал, что он мало читает современных
- 203 -
беллетристов, Толстой спросил, читал ли он Гаршина, назвал Гаршина «прелестью», с восхищением говорил о его рассказах: «Художники», «Ночь», «Attalea princeps»147. На слова Русанова, что в военных рассказах Гаршина некоторые места напоминают «Войну и мир», Толстой «заступнически» возразил:
«— Ну что ж. Это ничего не значит».
На вопрос Русанова, как он относится к стремлению создать особую малорусскую литературу, Толстой ответил, что «если идеал — отсутствие национальности, братство людей, один язык, уничтожение всяких перегородок между людьми, то к чему это стремление разъединять два племени одного народа вместо того, чтобы стараться соединить их. Из того, что искусственно, ничего и не выйдет». Он высказал мнение, что когда-нибудь, может быть и не скоро, но непременно у человечества выработается один общий язык. Указание на это можно видеть уже теперь в употреблении иностранных слов, когда они употребляются «умело, а не без надобности».
Беседа мало касалась иностранной литературы. Толстой сказал, что «Евангелистка» Додэ ему не понравилась, а «Мадам Бовари» Флобера он читал давно и теперь забыл, но помнит, что роман ему понравился.
Русанов, который, по его словам, «Войну и мир» прочитал четырнадцать раз, «Анну Каренину» — семь раз и многие места из художественных произведений Толстого знал наизусть, старался разубедить Толстого в его отрицательном отношении к своим прежним художественным произведениям. Он выразил несогласие с мнением Толстого, что М. С. Громека в своей статье об «Анне Карениной» уяснил то, что автор «бессознательно» вложил в произведение. «Самый эпиграф к «Анне Карениной», — возражал Русанов, — мне кажется, указывает на сознательное отношение автора к произведению», на что Толстой ответил: «В известном смысле, пожалуй».
В разговоре о Тургеневе Русанов, похвалив пейзажи Тургенева, тем не менее прибавил: «Но я ни у кого, однако же, положительно ни у кого не встречал таких описаний зимы, как у вас в «Войне и мире», «Метели», «Анне Карениной».
Отвечая на вопросы Русанова, Толстой подтвердил, что «Наташа Ростова отчасти взята с натуры», но князь Андрей «ни с кого не списан». Он прибавил: «У меня есть лица списанные и не списанные с живых людей. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры и дает им эту несравненную
- 204 -
яркость красок в воображении. Но зато изображение страдает односторонностью».
— Мне приятно видеть, — говорил Толстой, — такое симпатичное отношение ко мне и к моим сочинениям, хотя все эти прежние сочинения мои не имеют теперь для меня при моем теперешнем настроении прежнего значения.
Когда Русанов привел некоторые отзывы о Толстом русских и иностранных критиков, Лев Николаевич сказал:
«— В последнее время я действительно с удивлением вижу переворот нашей критики в отношении ко мне. Прежде ведь меня ужасно бранили, совсем отрицали меня как мыслителя. Вы помните, что было после «Войны и мира»? Тогда еще меня занимало это.. А об «Анне Карениной» чего не писали!.. Меня очень радует, — сказал далее Толстой, — что мне говорят, что мои прежние сочинения не противоречат моим теперешним воззрениям».
От литературных вопросов разговор переходил к текущим общественно-политическим событиям.
Русанов сказал, что на железной дороге и везде только и разговоров, что о близкой войне с Германией и Австрией. На это Толстой ответил, что народ не хочет войны, как он не хотел ее во время войны с турками в 1877—1878 годах.
«— А если немцы завоюют нас, подчинят своей власти, станут онемечивать нас?» — спросил Русанов.
Толстой ответил, что насильно онемечить нельзя, пример того — эльзасцы.
Толстой сурово порицал Александра III за то, что он «пальцем до сих пор не подвинул для народа».
«— А уж что-нибудь да будет у нас, — говорил Толстой, хорошо знавший положение и настроение народа. — Народ недоволен, он ждет, разочаровывается, бродит в нем что-то». (Вот почему Толстой говорил, что «теперь нельзя уже так изображать народ, как изображал его Тургенев в «Записках охотника».)
Он возмущался тем, что Александр III говорил крестьянам: «слушайтесь предводителей дворянства» и объявил, что увеличения земельных наделов не будет, «чтобы этого и не ждали».
«— Как может говорить он это?... Почему он знает, что ему самому не придется потом другое говорить? Самая форма правления может измениться, и тогда что?» — горячо говорил Толстой, как вспоминает Г. А. Русанов.
Русанов рассказал об одной помещичьей семье, жившей в Воронежской губернии: отец — заядлый крепостник и кулак, одна дочь сослана, другая замужем за помощником петербургского присяжного поверенного и кончает ученье на медицинских курсах; муж ее в крепости, как говорят, будет сослан, и она хочет ехать с ним в ссылку. А отец настолько ненавистен
- 205 -
«ИСПОВЕДЬ» («ЧТО Я?»)
Вариант начала. Рукописная копия с исправлениями Толстого
- 206 -
крестьянам, что они каждый год его жгут. По этому поводу Толстой заметил, что Тургенев многого не исчерпал в своей «Нови», и что подобные факты часто встречаются в жизни148.
Русанов мало сообщает о своих беседах с Толстым по поводу религиозных взглядов. Он указал Толстому на одно место в «Новом Евангелии», где понятие о боге определялось, по его словам, противоречиво. Толстой согласился, что указанное противоречие действительно существует, и обещал «принять к сведению» оказанное Русановым.
По поводу фразы «Нового Евангелия»: «Радости жизни плотской суть мечта» Толстой сказал Русанову:
«— Я вовсе не отвергаю радостей жизни, они должны быть, они совершенно законны, и я говорю об этом в той статье, которую пишу теперь».
(Толстой имел в виду трактат «В чем моя вера?»).
Свои религиозно-нравственные взгляды Толстой резюмировал в следующих словах: «Выше христианства, как метафизического учения, я ничего не знаю... Но я могу, пожалуй, допустить, что может явиться метафизическое учение и выше этого. Что же, касается христианства как нравственного учения, то это учение так высоко, что уж безусловно никогда и ничего не может быть выше его. Безусловно!».
«После того как уже много было переговорено», — рассказывает Русанов, — Толстой вдруг «с горечью» сказал ему:
«— Вы можете справедливо указать мне на противоречие моей жизни с моими убеждениями. Вы можете спросить меня: почему же я не роздал своего имения, и вы будете правы, к сожалению».
Видя, что Толстому тяжело говорить это, Русанов перебил его, сказав, что хотя ему пришлось провести в Ясной Поляне только один день, но он уже узнал много о том добре, которое делает Лев Николаевич местным крестьянам. Но Толстой, не слушая его, продолжал:
«— Это трудный вопрос. Мучительный вопрос. Я не один. У меня восемь человек детей и жена. Я хотел раздать и роздал бы все, если бы был один. Жена, дети вопиют, что я сделаю их несчастными. Как поступить? Положим, с моей точки зрения, я ничего бы не желал так, как если бы (я часто думал это) какая-нибудь волшебница сделала, чтобы я лишился всего имущества. Я лично убежден, что это было бы лучше для моей семьи. Сыновья мои больше бы работали, чем имея состояние, дочь моя не думала бы о модных нарядах... Но
- 207 -
сделать это самому — я не могу. Кроме того, «два будут в плоть едину» — я и жена моя это одно. Она половина меня, она то же, что и я, что мое, то и ее, и я не могу раздать всего имущества, пока не хочет этого она, а она этого не хочет. Когда она согласится со мной, тогда только я буду вправе раздать имение».
«— Я очень, очень хотел бы, — горячо говорил Толстой, — чтобы меня сослали куда-нибудь или куда-нибудь засадили, очень хотел бы. Тогда я больше, вполне отрешился бы от своей исключительности».
Толстой ласково простился с Г. А. Русановым.
« — Я очень благодарен вам за вчерашний день, — сказал он на прощанье Русанову. — Вы много, много сказали мне приятного и доставили мне отрадные минуты, которых я никогда не забуду. Такое сочувственное, симпатичное отношение ко мне, такая родственность наших натур мне очень, очень отрадны».
Софья Андреевна сначала была очень любезна и разговорчива с гостем, считая его человеком своего круга и своих воззрений, но увидев в нем единомышленника Толстого, «сухо» простилась с ним.
Дружеские отношения между Толстым и Русановым продолжались до самой смерти Русанова в 1907 году.
XIX
В беседе с Г. А. Русановым 24 августа 1883 года Толстой спросил его, что слышно о болезни Тургенева. Он не знал, что за два дня до этого, 22 августа, Тургенев скончался.
В последних числах июня 1883 года Тургенев написал Толстому последнее, ставшее знаменитым письмо. Письмо датировано: «В начале июля по русс[кому] ст. Буживаль, 1883»; на конверте почтовый штемпель получения: «Тула, 3 июля 1883. Отправлено из Буживаля, судя по штемпелю, 11 июля н. ст. (т. е. 29 июня по ст. ст.). Написано карандашом, трудно разбираемым почерком, в конце — без соблюдения знаков препинания.
Письмо имело целью излить просившиеся наружу более чем дружеские чувства, какие питал умирающий Тургенев к Толстому, и умолить его вернуться к художественной работе149.
«Милый и дорогой Лев Николаевич! — писал Тургенев. — Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был
- 208 -
рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. — Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! Я же человек конченый — доктора даже не знают, как назвать мой недуг, névralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни есть, ни спать, — да что! Скучно даже повторять все это! — Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших не могу больше устал».
Поражает необычайная деликатность, проявленная Тургеневым в этом письме по отношению к религиозному миросозерцанию Толстого. Тургенев знал, что добиться своей цели — побудить Толстого вернуться к художественной работе — он мог бы наиболее успешно, употребив аргументы религиозного характера; но он был атеист и не хотел кривить душой. И он находит такую формулировку своего мнения, которая и для Толстого была бесспорна: «Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое»...
Письмо Тургенева тронуло Толстого.
«Недавно он [Тургенев] написал мне собственноручно, — говорил Толстой Русанову, — тогда еще он мог сам писать — очень доброе письмо, просил меня не оставлять писанье».
Однако Толстой не ответил Тургеневу на его последнее письмо. Чем это можно объяснить? Толстой мог бы ответить Тургеневу так, что ответ его более или менее удовлетворил бы знаменитого романиста. На вопрос Русанова, сделанный тогда же, будет ли он писать художественные произведения, Толстой ответил:
«— Конечно, буду. Если умеешь писать, нельзя не писать, так же как если умеешь говорить, то нельзя не говорить».
Можно думать, что Толстой не ответил на письмо Тургенева потому, что из его письма увидал, что он уже близок к смерти. И, смотря на смерть как на «высочайший момент в жизни»150, он счел неуместным писать умирающему другу о своих будущих литературных занятиях.
Смерть Тургенева всколыхнула в Толстом всю полноту дружеского чувства к тому писателю, в котором он при первом знакомстве почувствовал «прелесть, привязывающую с первого раза». «Смерть Тургенева я ожидал, — писал Толстой Н. Н. Страхову 2 сентября, — а все-таки очень часто думаю о нем теперь»151.
- 209 -
Он начинает перечитывать Тургенева, и перечитывание это продолжается весь сентябрь.
«Все читал Тургенева», — писал Толстой жене 29 сентября из Ясной Поляны в Москву. 30 сентября он писал ей же: «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу... Сейчас читал Тургенева «Довольно». Прочти, что за прелесть»152.
(Уместно вспомнить, что при первом чтении «Довольно» произвело на Толстого совсем иное впечатление. 7 октября 1865 года он писал Фету: «Довольно» мне не понравилось. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания»153).
1 октября Толстой писал жене: «Вчера очень долго не мог заснуть — читал Тургенева». Ей же 4 октября: «Читал Тургенева»154.
16 сентября в заседании Общества любителей российской словесности, председателем которого состоял С. А. Юрьев, было постановлено устроить специальное торжественное заседание Общества в память И. С. Тургенева и обратиться к ближайшим друзьям покойного — Я. П. Полонскому, П. В. Анненкову и графу Л. Н. Толстому — с просьбой принять участие в этом заседании155. Толстой охотно согласился на просьбу Общества. 30 сентября он писал Софье Андреевне: «Непременно или буду читать или напишу и дам прочесть о нем. Скажи так Юрьеву».
Заседание было назначено на 23 октября. 9 октября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «23 октября Левочка будет публично читать о Тургеневе, это теперь уже волнует всю Москву, и будет толпа страшная в актовом зале университета»,
Известие о предстоящем выступлении Толстого с речью, посвященной памяти Тургенева, проникло в газеты. Новый начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов, когда-то друг Тургенева и член кружка Грановского, а теперь крайний реакционер, находившийся под влиянием Победоносцева, уведомил министра внутренних дел156 о намерении Льва Толстого произнести публичную речь о Тургеневе.
- 210 -
С самого начала службы Феоктистова Победоносцев, который не забыл, конечно, письма Толстого к Александру III с мольбой простить убийц его отца и, без сомнения, читал вырезанную из «Русской мысли» «Исповедь», возбуждал его против Толстого. Уже 10 января 1883 года он писал Феоктистову: «От внимания вашего, конечно, не укрылась сегодняшняя телеграмма в «Голосе» из Москвы, что в «Московском телеграфе» появится новый философский труд графа Л. Н. Толстого». Победоносцев имел в виду следующую телеграмму, напечатанную в № 10 газеты «Голос» за 1883 год: «Новый философский труд графа Льва Толстого появится в газете «Московский телеграф». Речь шла, разумеется, о трактате «В чем моя вера?», который в «Московском телеграфе» не появился, и нет никаких сведений о том, чтобы Толстой имел намерение печатать свою работу в газете.
Далее Победоносцев продолжал: «Эти философские труды полоумного гр. Толстого известно к чему клонятся. Посему не лишним считаю обратить ваше внимание на означенное заявление»157.
Уведомляя министра внутренних дел о готовящемся публичном выступлении Толстого, Феоктистов обозвал его таким же бранным словом, как Победоносцев в письме к Феоктистову. Он писал:
«В Москве есть Общество любителей российской словесности, о котором достаточно сказать, что председателем его состоит редактор «Русской мысли» Юрьев, а секретарем бывший профессор Гольцев. В газетах помещено известие, что это общество постановило устроить в память Тургенева публичное заседание (на что оно по уставу своему имеет право), и что в заседании этом граф Лев Толстой произнесет речь.
Толстой — человек сумасшедший; от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный. Осмеливаюсь обратить на это внимание вашего сиятельства. Не следовало ли бы предупредить московского генерал-губернатора, чтобы он — в случае, если заседание действительно устроится, и если действительно граф Толстой намерен выступить в нем с речью — призвал к себе Юрьева и потребовал бы к себе на просмотр статьи и речи, предназначенные для прочтения? Казалось бы, необходимо принять меры предосторожности».
Министр внутренних дел последовал совету Феоктистова. Он отправил московскому генерал-губернатору князю В. А. Долгорукову шифрованную телеграмму, в которой сообщал:
«Имея в виду, что Юрьев и Гольцев вместе с графом Толстым могут произвести нежелательную демонстрацию, имею
- 211 -
честь просить ваше сиятельотво, не признаете ли удобным, пригласив к себе Юрьева, потребовать от него для личного просмотра статьи и речи, предназначенные для прочтения».
Московский генерал-губернатор князь Долгоруков 20 октября 1883 года ответил министру внутренних дел следующим «конфиденциальным» письмом: «Я пригласил к себе председателя названного общества г. Юрьева и, усмотрев из его объяснений со мною, что на предложение г.г. Гольцеву и графу Толстому представить приготовляемые ими к заседанию статьи и речи, они могут отозваться неимением их в рукописи, а затем, в самом заседании, потребовав слова, могут произнести приготовленное ими заранее, как бы импровизацию, причем отказать им в ту минуту в праве произнесения речей было бы неудобно, так как это могло бы возбудить в публике нежелательные толки, — я предпочел, по соглашению с г. Юрьевым, устранить вовсе предположенное заседание. С этой целью оно объявлено отложенным на неопределенное время. Формальным поводом к этому выставлено то, что лица, желающие участвовать в заседании своими статьями и речами, не все еще к этому подготовились»158.
Толстой, как писал он А. Н. Пыпину 10 января 1884 года, «очень жалел», что ему «помешали» говорить о Тургеневе159.
На другой день после намеченного дня заседания С. А. Толстая писала сестре: «Чтение в память Тургенева запретили из вашего противного Петербурга. Говорят, что это министр Толстой запретил; ну, да что от него может быть, как не бестактные, неловкие выходки. Представь себе, что это чтение должно было быть самое невинное, самое мирное; никто не только не думал о том, чтобы выстрелить какой-нибудь либеральной выходкой, — но даже все страшно удивились, что же могло быть сказано? Где могла бы быть противоправительственная опасность? Теперь, конечно, все могут предположить. Публика взволнована, подозревают чуть ли не целый замысел целой революционной выходки.
Левочка говорил, что ему писать речь некогда, но что он будет говорить, и то, что он хотел сказать, так же невинно, как сказка о Красной Шапочке.
Но мне и всей Москве было ужасно досадно. Озлоблены все, все без исключения, кроме Левочки, который, кажется, даже
- 212 -
рад, что избавлен явиться к публике: это ему так непривычно».
Впоследствии Толстой вспоминал: «Когда Тургенев умер, я хотел прочесть о нем лекцию. Мне хотелось, особенно ввиду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем. Лекция эта не состоялась. Ее не разрешил Долгоруков»160.
Толстой ничего не записал из того, что предполагал сказать в своей речи о Тургеневе. Но, посылая А. Н. Пыпину, по его просьбе, одно из писем Тургенева, Толстой вместе с тем в письме к нему от 10 января 1884 года «не мог удержаться не сказать» то, что он думал о Тургеневе161. В этом письме он в общих чертах высказал то, что хотел сказать в своей речи. «Я и всегда любил его, — так начал Толстой свою характеристику Тургенева, — но после его смерти оценил его как следует».
Прежде чем высказать свой взгляд на произведения Тургенева, Толстой вкратце изложил основные принципы оценки художественных произведений, которыми он тогда руководился. «В каждом произведении словесном, — писал он, — включая и художественные, есть три фактора: 1) кто и какой человек говорит?, 2) как? — хорошо или дурно он говорит, и 3) говорит ли он то, что думает, и совершенно то, что думает и чувствует».
Переходя далее к характеристике Тургенева, Толстой пишет:
«Тургенев прекрасный человек (не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек), который хорошо говорит всегда то, самое то, что думает и чувствует. Редко сходятся так благоприятно эти три фактора, и больше нельзя требовать от человека, и потому воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел — всё, что нашел. Он не употреблял свой талант (уменье хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу».
Толстой видит три фазиса в жизни и произведениях Тургенева: «1) вера в красоту (женскую любовь — искусство). Это выражено во многих и многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно и прелестно в «Довольно»; и 3) не формулированная, как будто нарочно, из боязни захватать ее (он сам говорит где-то, что сильно и действительно в нем только бессознательное), не формулированная,
- 213 -
двигавшая им и в жизни и в описаниях вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче и прелестнее всего в «Дон-Кихоте»162, где парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра»163.
«Много еще хотелось бы сказать про него», — говорит Толстой в заключение своего письма о Тургеневе.
Характеристику Тургенева, эволюции его творчества и миросозерцания, сделанную Толстым в письме к А. Н. Пыпину, следует считать наиболее полным выражением его общего отношения к Тургеневу.
XX
Все последние месяцы 1883 года, а также начало января 1884 года Толстой был усиленно занят работой над трактатом «В чем моя вера?».
2 сентября 1883 года он писал Страхову: «Я все переделываю, поправляю свое писанье и очень занят». Вероятно, в тот же день писал он и М. С. Громеке: «Я все работаю работу, которая поглощает и радует меня»164.
Редактор «Русской мысли» С. А. Юрьев, а также издатель этого журнала В. М. Лавров предложили Толстому напечатать его статью в их журнале с таким расчетом: книжка журнала со статьей Толстого будет запрещена цензурой, но хотя бы три экземпляра удастся удержать; с этих трех экземпляров будут делаться рукописные и литографированные копии, и работа Толстого таким образом получит распространение. Толстой согласился с этим планом; теперь уже он писал не только лично для себя — чтобы уяснить себе не вполне ясные и определенные пункты своего мировоззрения, но писал уже для распространения.
В последних числах сентября трактат «В чем моя вера?» был сдан в типографию, хотя заключительные главы еще не были написаны. 22 сентября Толстой приехал из Ясной Поляны в Москву, но 27 сентября вновь уехал в Ясную Поляну, чтобы в тишине работать над последними главами своей книги.
- 214 -
28 сентября в жизни Толстого произошло важное событие. В этот день он открыто заявил о своем непризнании одного из основных институтов, на которых держался насильнический общественно-политический строй самодержавной России — правительственного суда.
Еще в Москве Толстой получил повестку о назначении его присяжным заседателем на выездную сессию тульского окружного суда, назначенную в городе Крапивне на 28—29 сентября. Он решил заявить на суде об отказе по своим религиозным убеждениям выступать в качестве присяжного. Жене он о своем намерении не сказал. На другой день 29 сентября он писал Софье Андреевне:
«Я приехал в третьем часу. Заседанье уж началось, и на меня наложили штраф в 100 рублей. Когда меня вызвали, я сказал, что не могу быть присяжным. Спросили: почему? Я сказал: по моим религиозным убеждениям. Потом другой раз спросили, решительно ли я отказываюсь. Я сказал, что никак не могу. И ушел. Все было очень дружелюбно. Нынче, вероятно, наложат еще 200 рублей, и не знаю, кончится ли все этим. Я думаю, что — да. В том, что я именно не мог поступить иначе, я уверен, что ты не сомневаешься. Но, пожалуйста, не сердись на меня за то, что я не сказал тебе, что я был назначен присяжным. Я бы тебе сказал, если бы ты спросила или пришлось; но нарочно говорить тебе мне не хотелось. Ты бы волновалась, меня бы встревожила; а я и так тревожился и всеми силами себя успокаивал... Сказал я самым мягким образом и даже таким выражением, что никто — мужики — не поняли»165.
Впоследствии Толстой вспоминал: «Я никогда не забуду, как лет двадцать тому назад меня назначили в судьи. Я поехал. Но когда вошел в зал суда, когда увидал судей, подсудимых и всю картину суда, мне стало очевидно, что я не могу судить»166.
В ответ на письмо Льва Николаевича Софья Андреевна писала ему 1 октября:
«Во мне поднялось старое эгоистическое чувство, что ты нас — семью — не жалеешь и вводишь в тревогу о тебе и твоей безопасности. Конечно, ты поступил по убеждениям; но, не поехавши, не говоривши ничего, а заплативши штраф, ты тоже поступил бы по своим убеждениям, но ничем бы не рисковал и никого бы не огорчал. Ты оттого от меня скрыл, что я это самое желала бы и на этом бы настаивала. А тебя это смутно радовало — высказать это публично и чем-то рисковать»167.
- 215 -
Сведения об отказе Толстого от исполнения обязанностей присяжного заседателя проникли в печать. В «Петербургских ведомостях» появилась следующая заметка:
«Гр. Л. Н. Толстой — присяжный».
«Нам пишут из г. Крапивны:
«Необъяснимое впечатление произвел наш писатель, граф Лев Николаевич Толстой, в отделении тульского окружного суда, в г. Крапивне. 28 сентября, в 12 часов дня, было открыто заседание; при поверке списка присяжных заседателей в числе неявившихся лиц оказался и граф Лев Николаевич. Так как причины неявки его суду не были известны, то, по заключению прокурора, граф оштрафован был на 100 руб. Дело пошло своим чередом, и уже было разобрано три дела, как явился Лев Николаевич. Тихо и незаметно скромная фигура великого художника предстала в зале заседания. Неподалеку от двери, облокотившись на перила у эстрады для обвиняемых, Лев Николаевич тихо, но для всех внятно, проговорил: «Я не могу, г. председатель, быть присяжным заседателем не по указанным в законе причинам, а по другим... Если нужно, я могу вам сказать». Когда председатель объявил, что законных причин им не предъявлено, Лев Николаевич сказал: «Я не могу быть присяжным заседателем по религиозным убеждениям». Суд, по заключению прокурора, объявил графу, что он будет считаться как неявившийся. После 2—3 минут граф ушел.
Не знаю, что думал и чувствовал каждый из присутствовавших в зале суда, но только во время слов графа и по окончании, при невозмутимой тишине, глаза всех были обращены в сторону этого человека. Что заключается в этих немногих словах? «Не судите — не судимы и будете». «Любите ближнего своего, как самого себя», «человек не может судить человека» — вот великие изречения, которые после слов великого писателя овладевают душою человека и тормозят его ум, вооруженный всевозможными человеческими кодексами. Заседание в Крапивне будет еще один день, 29 сентября, на котором едва ли будет Лев Николаевич»168.
Эта заметка была напечатана в «Новом времени» со следующими добавлениями от редакции:
«Справедливы ли догадки корреспондента о мотивах, побудивших графа Л. Н. Толстого отказаться от обязанностей присяжного — трудно судить, но самый факт этого отказа является, бесспорно, указателем глубокой искренности знаменитого писателя в вопросах веры и убеждения»169.
- 216 -
В. В. Стасов в письме к Толстому от 17 ноября выразил полное сочувствие его поступку. Называя «чудесными» художественные стороны легенды «Чем люди живы» и «Исповеди», Стасов далее писал: «Сверх того мне крепко понравился ваш отказ быть присяжным заседателем. Я точно так же вполне убежден, что все эти «суды» и «судьи» — все это лишь чепуха, произвол и беззаконие против здравого человеческого смысла... Так называемые преступники в большинстве случаев вовсе не преступники, а прекрасные невинные люди, жертва нелепых, жестоких общественных и государственных условий. Ходячие понятия о «праве» и «преступлении» — вопиющая чепуха, произвол и фантазия, а главное — рутина»170.
Министр внутренних дел граф Д. А. Толстой счел нужным направить Александру III донесение об отказе Л. Н. Толстого от исполнения обязанностей присяжного заседателя. В этом донесении, датированном 18 октября 1883 года, Д. А. Толстой писал царю:
«В последних числах минувшего сентября месяца в Крапивенском уезде, Тульской губернии, происходила очередная выездная сессия Окружного суда. В качестве присяжного заседателя, строго соблюдая установленные для сего законом правила, был вызван известный писатель граф Лев Николаевич Толстой. Своевременно получив повестку и собственноручно расписавшись в получении таковой, граф Толстой, однако, не явился к открытию судебного заседания, почему по постановлению Окружного суда был оштрафован.
Спустя некоторое время, когда судом уже были рассмотрены два дела, граф Л. Н. Толстой явился и словесно заявил суду, «что по религиозным и нравственным убеждениям своим не может отправлять возлагаемые на него обязанности, что, как человек и истинный христианин, считает недопустимым для себя судить и осуждать поступки людей — своих братьев и, главное, карать их за поступки и, наконец, что, сознательно отказываясь от обязанности присяжного заседателя, он поступает согласно велению совести своей». На дополнительный вопрос председательствовавшего, он ответил категорическим отказом и демонстративно удалился из залы заседания, не вручив суду никакого письменного заявления об отказе своем и мотивах своего поступка.
По предварительному соглашению с г. министром юстиции, мною приняты меры к тому, чтобы сведения об этой возмутительной выходке пользующегося известностью и влиянием писателя не проникли в печать. Столь оскорбляющее достоинство суда заявление гр. Л. Н. Толстого подлежит безусловно резкому
- 217 -
осуждению со стороны правительства и вызывает необходимость принятия мер к предупреждению подобных нежелательных явлений, способных подорвать доверие к суду и вызывающих возмущение у всех искренне верующих людей.
Изложенное министр внутренних дел честь имеет представить на благоусмотрение вашего императорского величества».
Однако донесение министра внутренних дел, явно имевшее целью добиться «резкого осуждения» поступка Толстого и «принятия мер к предупреждению подобных нежелательных явлений», успеха не имело.
25 октября министр беседовал с царем о «возмутительной выходке» Толстого, после чего на своем донесении написал только: «Его императорское величество соизволили читать»171.
XXI
2 октября Толстой получил из типографии, как писал он жене, «гору корректур» трактата «В чем моя вера?» и принялся усердно их исправлять.
Большой подъем, с каким Толстой работал над корректурами одного из своих основных религиозно-философских трудов, привел его в состояние нервного возбуждения, повлекшее за собой бессонницу. 4 октября, рассказывая в письме к жене из Ясной Поляны в Москву о своем времяпровождении, Толстой писал: «... Погуляю при лунном свете и ложусь спать. И это самое дурное время. Долго не могу заснуть»172.
5 октября чтение корректур было закончено, и 6 октября Толстой уехал в Москву
Проездом через Тулу он побывал у Л. Д. Урусова, переводившего «В чем моя вера?» на французский язык. Здесь он познакомился с индологом и путешественником Иваном Павловичем Минаевым. Беседа с И. П. Минаевым, дважды побывавшим в Индии, автором книг о буддизме и о языке пали и других работ по востоковедению, была очень интересна Толстому. Он пришел к Минаеву в гостиницу, и беседа их продолжалась часов пять-шесть. Племянница И. П. Минаева А. П. Шнейдер рассказывает:
«Толстой ставил Ивану Павловичу целый ряд самых детальных вопросов о буддизме, на которые, чтобы ответить исчерпывающим образом, и потребовалось так много времени, которое прошло самым незаметным образом в интенсивном обмене мнений. По возвращении из Тулы Иван Павлович
- 218 -
с подъемом подробно рассказывал нам об этой встрече и разговорах»173.
8 октябре 1883 года И. П. Минаев был у Толстого в Москве. 28 ноября Н. Н. Страхов писал Толстому: «А как Вы нашли И. П. Минаева? Он очень восхищен»174.
Позднее, 6 апреля 1888 года, Страхов писал Толстому: «Посылаю Вам «Буддизм» И. П. Минаева, нашего знаменитого санскритолога. Он величайший Ваш почитатель и просил меня переслать Вам книгу»175.
9 октября 1883 года Софья Андреевна писала сестре: «Левочка третьего дня приехал из Ясной, и я уже вижу его напряженное, даже несчастное выражение лица. Он жил там десять дней, писал, охотился, был у него Урусов два дня, и, видно, уединение так было по душе Левочке, что он тяжело с ним расстался. Я вполне его понимаю, а теперь более, чем когда-нибудь, осталась бы в деревне, но увы! это невозможно с учением и с выездами Тани, которая собирается начать свои выезды в декабре».
Вернувшись в Москву, Толстой продолжал усиленно работать над заключением «В чем моя вера?», которое сильно разрослось.
28 октября он подписывает последний лист рукописи для сдачи ее в набор.
План печатанья «В чем моя вера?» в «Русской мысли», ввиду большого размера новой работы Толстого, которая из статьи превратилась уже в трактат, был оставлен, и было решено выпустить его отдельным изданием.
В начале ноября Т. А. Кузминская писала Софье Андреевне, что ее муж А. М. Кузминский, который летом переписывал для себя «В чем моя вера?», просит прислать ему начало и конец этой рукописи, которые Лев Николаевич в то время ему не дал, вероятно, имея в виду переработать эти части своего труда.
В том же письме Т. А. Кузминская сообщала, что у их знакомых Ауэрбахов состоялось чтение первой половины той части рукописи «В чем моя вера?», которой они располагали. В числе слушателей присутствовали В. В. Стасов и Ярошенко (вероятно, художник Николай Алексеевич Ярошенко, автор картины «Всюду жизнь» на тему «Чем люди живы» Толстого).
«Стасов, — писала Т. А. Кузминская, — (страшный спорщик) вначале резко, громким голосом оспаривал иное, но дальше
- 219 -
все стихал и стихал, качал головой и твердил: «верно», «справедливо», но насчет «не судите» и т. д., спорил страшно и остался один при мнении. Два брата Стасовых одинаковы совершенно, страховский и этот. Ярошенко понял лучше всех, всего не передашь письмом. Все, что он говорит, так умно и просто»176.
В ответ на это письмо Т. А. Кузминской С. А. Толстая 9 ноября писала: «Насчет рукописи — я от Левочки ее не добилась. Он говорит: «Напиши Саше, что двух слов не осталось подряд от старой рукописи. Все переделано».
28 ноября Толстой подписывает последнюю гранку корректуры, но после того он еще читал корректуру в гранках и корректуру в листах.
XXII
Всецело поглощенный работой над трактатом, излагающим основы его жизнепонимания, Толстой последние месяцы 1883 года почти не писал писем. Известны только двенадцать его писем, относящихся к сентябрю — декабрю 1883 года, из которых гри письма могут быть отнесены к данным месяцам лишь предположительно.
На некоторых письмах Толстого, относящихся к концу 1883 года, необходимо остановиться.
16 августа Н. Н. Страхов сообщал Толстому, что кончает биографию Достоевского, прибавляя при этом: «Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное»177.
По окончании биографии Достоевского Страхов 28 ноября пишет Толстому письмо с единственной целью «исповедаться» перед ним.
«Все время писанья, — рассказывал Н. Н. Страхов в этом трагическом по тону письме, — я был в борьбе, я боролся с поднимавшимся во мне отвращением, старался победить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход», — обращался Страхов к Толстому. Далее он излагал свой взгляд на Достоевского, как на человека:
«Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо,
- 220 -
считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил эти черты... Он не мог удержать своей злости...
Всего хуже то, что он ...никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... Лица, наиболее на него похожие, это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах»... При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и шумным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости.
Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примиренья! Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько. Я только готов плакать, что это воспоминанье, которое могло бы быть светлым, только давит меня!..
Одна минута настоящего раскаянья может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил ему и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — боже, как это противно!
Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя...
Вот маленький комментарий к моей «Биографии». Я мог бы записать и рассказать и эту сторону в Достоевском; много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!...»178
Толстой ответил Страхову большим письмом от 5 декабря 1883 года179.
«Письмо ваше, — писал Толстой — очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но вас я вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам.
Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми преувеличения его
- 221 -
значения, и преувеличения по шаблону — возведения в пророка и [мученика] святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомства нельзя человека, который весь борьба. Из книги вашей я первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. И я все так же жалею, что не знал его. Книги Pressensé180 тоже прочитал, но вся ученость пропадает от загвоздки. Бывают лошади — красавица, рысак, цена 1000 рублей, и вдруг заминка, и лошади, красавице и силачу, грош цена. Чем больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. А главное, за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Pressensé и Достоевский оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого ум и сердце пропали за ничто. Ведь Тургенев переживет Достоевского, и не за художественность, а за то, что без заминки...»
Это письмо Толстого показывает, что взгляд его на Достоевского как на человека не совпадал со взглядом Страхова. Хотя Толстой и допускал справедливость той характеристики Достоевского, которую дал Страхов («почти верю вам»), все же Достоевский был для него человек ищущий, мятущийся, находившийся в процессе внутренней борьбы, напряженно работавший над выяснением для самого себя основных вопросов нравственности. Эта характеристика очевидно совсем не сходится с той, которую давал Достоевскому Страхов.
В ответном письме Толстому от 12 декабря 1883 года Страхов отстаивал свой взгляд на Достоевского. Он писал: «Сказать ли? И Ваше определение Достоевского хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу далее известной черты? Говорю — ничто в точном смысле этого слова: так мне представляется его душа»181.
Но и это письмо Страхова не убедило Толстого, и он остался при своем взгляде на Достоевского.
13 мая 1887 года в письме к В. Г. Черткову Толстой вспомнил о Достоевском по случаю знакомства Черткова с народным учителем и начинающим писателем Ф. Ф. Тищенко. «Это исключительно тонкий, чувствительный и даровитый человек, — писал Толстой, — он мне напоминает своим душевным складом Достоевского, и у него падучая»182.
- 222 -
Еще раз вернулся Страхов к Достоевскому в письме к Толстому от 21 августа 1892 года, где он писал: «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что описывает с действительности и что такова именно душа человеческая»183.
И на этот раз Толстой не согласился со Страховым, которому он отвечал 3 сентября того же года: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее»184.
Толстой навсегда сохранил интерес к жизни и личности Достоевского. Незадолго до смерти на вопрос С. А. Стахович, читал ли он в приложении к «Новому времени» воспоминания о Достоевском его семипалатинского знакомого А. Е. Врангеля, Толстой ответил: «Читал. Все, что касается Достоевского, все это мне интересно»185.
XXIII
В тот же день, 5 декабря 1883 года, когда Толстой писал Страхову ответ на его письмо о Достоевском, он написал первое письмо своему новому знакомому В. Г. Черткову, которому было суждено в скором времени сделаться его ближайшим другом.
Впервые Толстой услыхал о Черткове от Г. А. Русанова 14 августа 1883 года. Русанов рассказал, что у них в Острогожском уезде живет молодой помещик Чертков, сын богача, генерал-адъютанта; он раньше служил в конной гвардии, но потом оставил службу, поселился в имении своих родителей и занялся благотворительной деятельностью в пользу окрестных крестьян.
Толстой заинтересовался рассказом Русанова и сказал:
— А интересно, должно быть, отчасти жить в вашем захолустном угле... Вот какие новые, интересные личности появляются у вас186.
По словам Русанова, жена Толстого также заинтересовалась личностью Черткова. Когда Русанов рассказал о некоторых чудачествах Черткова, из-за которых соседи считают его сумасшедшим: грызет семечки на земских собраниях, имеет превосходного
- 223 -
повара, а готовит ему кухарка и т. п. — Толстой осведомился: «А умен он?», на что Русанов ответил, что он мало знает Черткова, но ему кажется, что он умен, «а главное — у него очень хорошее сердце».
Русанову Чертков говорил, что хочет познакомиться с Толстым.
Владимир Григорьевич Чертков (род. 22 октября 1854, ум. 9 ноября 1936 года) происходил из высшего круга петербургского аристократического общества, близкого ко двору. Как Александр II, так и Александр III запросто бывали в гостях у родителей Черткова. Двадцати лет он поступил на службу в конногвардейский полк. Ему предстояла блестящая военная или административная карьера: он мог быть командующим войсками округа, генерал-губернатором и т. д. Но у него постепенно зарождались сомнения в справедливости существующего общественно-политического строя и в совместимости военной службы с христианством. Сомнения все разрастались, и в 1881 году Чертков, к крайнему огорчению родителей, мечтавших видеть его флигель-адъютантом при Александре III, вышел в отставку и поселился в имении родителей Лизиновке, Острогожского уезда, Воронежской губернии.
Здесь Чертков посвятил себя деятельности, имевшей целью облегчить труд и содействовать просвещению местных крестьян: устроил потребительское и ссудосберегательное товарищество, ремесленное училище, заводил школы, библиотеки, читальни. Работал Чертков также в местном земстве в качестве члена училищного совета, объезжал школы, вел борьбу с рутиной преподавания, заступался за народных учителей, преследуемых администрацией, и заботлся о повышении их образовательного уровня.
Летом 1883 года на свадьбе их общего знакомого, происходившей в его имении, Чертков встретился с прокурором Тульского окружного суда Н. В. Давыдовым. В откровенной беседе, продолжавшейся всю ночь в саду, Чертков рассказал Давыдову о своих исканиях и сомнениях. Как вспоминал впоследствии Н. В. Давыдов, искание Черткова «носило очень энергичный, даже страстный характер. Чертков говорил, что чувствует, что дальше так жить не может, что ему необходимо найти выход из той пустоты, в которой он находится... В долгой беседе он передал мне все то, что его душевно мучило, и те запросы, на которые он не находил ответа»187.
Давыдов рассказал Черткову, что писатель граф Лев Николаевич Толстой, живущий в Москве, занят разрешением тех же вопросов, какие волновали и Черткова, и Чертков сказал, что он непременно познакомится с Толстым.
- 224 -
Знакомство произошло в Москве в доме Толстых около 25 октября 1883 года. Впоследствии Чертков так вспоминал о своем первом посещении Толстого:
«Мы с ним встретились, как старые знакомые, так как оказалось, что он с своей стороны уже слыхал обо мне от третьих лиц. Он в то время кончал свою книгу «В чем моя вера?» Помню, что вопрос об отношении истинного учения Христа к военной службе уже был тогда в моем сознании твердо решен отрицательно и что, будучи тогда очень одинок в этом отношении (о квакерах и других антимилитаристах я тогда еще не знал), я при каждом новом знакомстве на религиозной почве спешил предъявить этот пробный камень. Во Льве Николаевиче я встретил первого человека, который всецело и убежденно разделял такое же точно отношение к военной службе. Когда я ему поставил свой обычный вопрос и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи «В чем моя вера?» категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества наконец прекратился, что, погруженный в мои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: «Лев Толстой»188.
В самых последних числах октября Чертков еще дважды виделся с Толстым189.
По-видимому, впечатление Чертков произвел на Толстого самое благоприятное. Первое письмо, написанное Толстым Черткову 5 декабря 1883 года, начинается с обращения: «Дорогой и милый и ближний мой Владимир Григорьевич», а заканчивается
- 225 -
словами: «Прощайте, милый друг, напишите мне, если вздумаете»190.
Письмо Толстого было посвящено религиозным вопросам и оценке английских религиозных книг, присланных ему Чертковым. На это письмо В. Г. Чертков отвечал 7 января 1884 года. Он писал: «Ваше письмо пришло как нельзя более кстати и меня очень ободрило. Почти во всем я с вами согласен и признаю вас выразителем моих лучших стремлениий»191.
Благодаря личному общению и переписке дружба между Толстым и Чертковым все более укреплялась, «Я очень люблю вас, — писал Толстой Черткову 17 февраля 1884 года, — и ваша жизнь для меня важна как часть моей». И в конце того же месяца: «Мне не менее вас дорого знать, что вы и как». 4—6 марта: «Спасибо вам, что пишете мне. Меня волнует всякое письмо ваше»192.
18 марта, получив письмо Черткова, Толстой записывает в дневнике: «Люблю его и верю в него». 23 марта, после получения другого письма от Черткова: «Как он горит хорошо». 6 апреля после нового посещения Черткова Толстой записывает: «Он удивительно одноцентренен со мною»193. Именно эта «одноцентренность» — общность мировоззрения — явилась основой крепкой дружбы Толстого с Чертковым. И эта общность мировоззрения не была у Черткова только теоретическим убеждением; Толстой видел, что он стремится строить свою жизнь на основе этого мировоззрения. Бесспорным доказательством этого для Толстого служил отказ Черткова от придворной и военной карьеры.
Привлекала Толстого в Черткове также независимость его суждений и поступков. Толстой в своих письмах давал Черткову разные советы: не увлекаться прозелитизмом, быть строже к себе в своей личной жизни и другие, но при этом оговаривался: «Мне хочется и посоветовать и страшно, как бы не помешать»194. На это опасение Толстого Чертков возражал в ответном письме. «Зачем вам страшно давать мне советы, Лев Николаевич?... Я понимал бы ваше опасение, если бы вы имели основание полагать, что советы ваши будут тотчас же мною беспрекословно применены... Но ведь этого вовсе нет. Советы ваши служили бы для меня лишь справкою. Я в них очень нуждаюсь, уверяю вас, Лев Николаевич, но вовсе не буду и не могу непременно с ними соглашаться»195.
- 226 -
Чертков обещал Толстому в письмах к нему быть «откровенен и правдив до бесконечности»196 и обещание это выполнил.
Не только Толстой был нужен Черткову, — и Чертков был нужен Толстому. Выше говорилось о том, как Толстой в первом же письме к М. А. Энгельгардту, которого он лично не знал, откровенно писал о своем положении в семье и как о том же в первый день знакомства он так же откровенно стал рассказывать Г. А. Русанову. Уже с марта 1884 года Толстой, чтобы облегчить давившую его тяжесть семейных отношений, стал вполне откровенно писать о них Черткову. 28 марта он писал ему: «Письма ваши для меня радость и утешение, а как вы видите из моего последнего письма, мне нужно иногда утешение — поддержка бодрости духа». Затем 6 июня: «Бывает тяжело быть одному. И голос живого человека освежает и радует»197.
Но не об одних своих личных переживаниях писал Толстой Черткову. Он свободно делился с Чертковым самыми дорогими своими мыслями в важнейших вопросах жизни, сообщал ему свои замыслы, рассказывал о ходе своих работ, о встречах с людьми и т. д. Вследствие этого пи́сьма Толстого к Черткову за последние 27 лет его жизни являются драгоценным дополнением к его дневникам за тот же период.
Письма Толстого к Черткову за первые два года их знакомства содержат целый ряд обращений к нему Толстого, указывающих на то, что их соединяло высокое чувство истинной дружбы и глубокой любви, основанное на единстве взглядов.
Приведу несколько примеров.
«Письма ваши для меня радость и утешение» (28 марта 1884 г.); «Я часто об вас думаю, как думают про людей, ко торые дороги» (28—29 августа 1884 г.); «Спасибо вам, что вы пишете мне, мне всегда радость увидать ваш почерк» (29—30 августа 1885 г.); «Ваши замечания мне очень дороги и полезны и, пожалуйста, делайте их и порезче» (26 октября 1885 г.)198».
В письмах к своим друзьям и знакомым Толстой также неоднократно отзывался о Черткове как о самом близком и любимом друге. Так, К. М. Сибирякову он писал 16 апреля 1885 г.: «Есть в Петербурге очень близкий мне человек Чертков... мы с ним совершение одних убеждений и взглядов».
В том же году, когда в редакции «Посредника» обсуждался вопрос о будущем редакторе предполагаемой народной газеты, 1—2 июня Толстой писал П. И. Бирюкову: «...Вы будете прекрасный редактор, но Чертков еще лучше. Вы во многих отношениях
- 227 -
будете лучше его, но в одном — в пуризме христианского учения — никого не знаю лучше его. А это — самое дорогое»199.
Такие исключительно близкие отношения крепкой дружбы и глубокой любви связывали Толстого с В. Г. Чертковым до самой смерти Льва Николаевича, несмотря на временные разногласия по важнейшим вопросам.
Однако следует иметь в виду, что, по мнению Толстого, «человек, как ни сходится с другим, все же в конце концов, каждый остается один, сам по себе». Эти слова Толстого были записаны В. Г. Чертковым (по-видимому, не вполне точно) и приведены в его письме к Толстому от 26 марта 1884 года200.
Мнение, выраженное в этих словах, Толстой считал справедливым до конца своей жизни.
В 1904 году, работая над составлением сборника «Круг чтения», Толстой записал для него, между прочим, следующий афоризм: «У каждого человека есть глубина внутренней жизни, сущность которой нельзя сообщить другому. Иногда хочется передать это людям. Но тотчас же чувствуется, что передать это вполне другому человеку невозможно»201.
В дополнение к этой мысли Толстой поместил в «Круг чтения» еще следующий афоризм любимого французского писателя Анри Амиеля: «В важных вопросах жизни мы всегда одни, и наша настоящая история почти никогда не может быть понята другими»202.
6 июня 1905 года, после 12-дневного пребывания в Ясной Поляне В. Г. Черткова, возвратившегося в Россию из Англии, куда он был выслан в 1897 году за помощь гонимым правительством сектантам-духоборам, Толстой записывает в дневнике, что ему было «очень, сверх ожидания, хорошо» с Чертковым. Но в конце записи того же числа он пишет: «Только когда один, в тишине, т. е. в общении с тем богом, который в тебе, поднимаешься на ту высоту, на которой был и можешь быть. С людьми сейчас спускаешься. Я испытал это с Чертковым. Уж как он мне близок, а как только я не один — я только 1/100 себя»203.
XXIV
10 января 1884 года Толстой писал А. Н. Пыпину: «Нынче первый день, что я не занят корректурами того, что я печатаю. Я вчера снес последнее в типографию»204.
- 228 -
Однако исправление корректур продолжалось еще некоторое время. Окончательно трактат «В чем моя вера?» был подписан лишь 22 января 1884 года; эта дата (проставлена автором на последней странице книги. Как велика была правка Толстым в корректурах «В чем моя вера?», видно из того, что счет типографии за исправление корректур (200 рублей) оказался равен общему счету за набор, печатанье и бумагу.
Заглавие трактата не должно вводить в заблуждение относительно его содержания.
Под «верой» разумеется обычно признание сверхъестественного существа или существ, держащих человека в своей власти; этим существам верующие молятся и просят их об исполнении своих желаний. Толстой же под «верой» разумел «познание истины»205.
Вся метафизика трактата Толстого состоит только в признании «начала» жизни и затем в признании того, что назначение человека — исполнять «волю» этого начала. Но «воля» эта познается не путем откровения свыше, как учат религии, а разумом человеческим («разумение жизни стало вместо бога»). 19 февраля 1884 года Толстой писал А. С. Бутурлину: «Вам как будто претит слово и понятие бог...»206, отец. Бог с ним — с богом, только бы то, что требует от нас наша совесть... было бы разумно и потому обязательно и обще всем людям. В этом вся задача, и задача эта вполне разрешена (для меня) Христом или учением, называемым христовым. Не я буду отстаивать метафизическую сторону учения. Я знаю, что каждый видит ее — метафизическую сторону — сквозь свою призму. Важно только то, чтобы в этическом учении все неизбежно, необходимо сходились. А за свои слова и выражения и ошибки я не стою. Дорого мне то, что и вам дорого — истина, приложимая к жизни»207.
О том же Толстой писал В. Г. Черткову 5 декабря 1883 года: «Мне кажется, что по мере того, как мы понимаем жизненное, т. е. истинное значение учения Христа, вопросы метафизические (о воскресении в том числе) все дальше и дальше отходят от нас. И когда вполне оно ясно, то совсем устраняется возможность всякого интереса и потому несогласия в метафизических вопросах. Сколько прямого, несложного, ежеминутного и такой огромной важности дела для ученика Христа, что некогда этим заниматься»208.
- 229 -
Трактат «В чем моя вера?» впервые дает полное и систематическое изложение этического мировоззрения Толстого последнего периода в применении как к личной, так и к общественной жизни. В этом трактате Толстой ставил своей задачей «выразить свое исповедание»209. При этом Толстой считал, что мысли и чувства, изложенные им в его трактате, разделяются не им одним. 30 апреля он писал художнику Н. Н. Ге: «Мысли..., которые я выразил в моем последнем писании, — это мысли и чувства не мои, а общие всем людям, ищущим бога»210. В своем дневнике Толстой писал 19 мая 1884 года: «Я так твердо уверен в том, что то, что для меня истина, есть истина для всех людей»211.
Отчасти для того, чтобы работа его легче прошла через цензуру, Толстой придал ей форму изложения своих религиозных исканий и тех результатов, к которым он пришел на этом пути. На личный, субъективный характер работы указывает само название ее: «В чем моя вера?». Вместе с тем форма, принятая Толстым в его трактате, представляла большие удобства и для него самого. Считая усвоенное им мировоззрение всеобщей истиной и страстно стремясь ее пропагандировать всем людям, Толстой при избранной им форме изложения мог избежать стеснительной для него и казавшейся ему нескромной формы проповеди, хотя книга его по существу была проповедью.
Проповедь в широком смысле этого слова Толстой в то время считал главным делом своей жизни. 24 июня 1884 года он писал В. Г. Черткову: «Я... живу только тем, что надеюсь... передать свою веру другим»212, в декабре 1884 года писал об этом же В. И. Алексееву: «Одно средство жить радостно — это быть апостолом. Не в том смысле только, чтобы ходить и говорить языком, а в том, чтобы и руками, и ногами, и брюхом, и боками, и языком между прочим служить истине (в той мере, в какой я знаю ее) и распространению ее — вселению ее в других...»213
Толстой начинает свою книгу с утверждения, что за исключением 14—15 детских лет всю остальную жизнь он прожил нигилистом «в настоящем значении этого слова», то-есть без всякой веры (что не вполне справедливо), и только пять лет тому назад поверил в христианское учение и «испытал радость и счастье жизни, не нарушаемые смертью».
- 230 -
И Толстой задает вопрос, обращенный к людям, имеющим власть: «Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мной?»
Далее Толстой излагает содержание пяти заповедей, найденных им в Евангелии, в которых он видит сущность учения Христа. Каждую из этих заповедей он обосновывает правильным переводом греческого текста Евангелия (церковные переводы он считает неправильными), доводами разума и требованиями сердца. Вот содержание этих заповедей в изложении Толстого.
Первая заповедь: «Живи в мире со всеми людьми, никогда своего гнева на людей не считай справедливым. Ни одного, никакого человека не считай и не называй пропащим или безумным. И не только своего гнева не признавай ненапрасным, но чужого гнева на себя не признавай напрасным».
Вторая заповедь: «Всякий человек, если он не скопец, т. е. не нуждается в половых сношениях, пусть имеет жену, а жена мужа, и муж имей жену одну, жена имей одного мужа, и ни под каким предлогом не нарушайте плотского союза друг с другом».
В трактате «В чем моя вера?» нет и намека на ту проповедь полного целомудрия, с которой Толстой через пять лет выступил в своей «Крейцеровой сонате». Напротив, в одной из черновых редакций трактата214 Толстой решительно утверждает, что «половые отношения не есть зло» и что при условии неразрывного брака «это — одно из величайших благ, данных людям».
Третья заповедь: «Не присягай никогда никому ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла... Именем бога освящается обман. Обман же состоит в том, что люди вперед обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира — убийство на войнах, заключения, казни, истязания людей — совершается только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло».
«Разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать... Обещаться с клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни»215.
Четвертая заповедь: «Никогда силой не противься злому, насилием не отвечай на насилие: бьют тебя — терпи, отнимают —
- 231 -
отдай, заставляют работать — работай, хотят взять у тебя то, что ты считаешь своим, — отдавай».
«Эта четвертая заповедь Христа, — писал Толстой, — была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл всех остальных».
«Если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насилием. Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зло. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло. То, что это так, есть в мире души человека такой же непреложный закон, как закон Галилея, но более непреложный, более ясный и полный... И ученик Христа может увереннее, чем Галилей, в виду всех возможных соблазнов и угроз, утверждать: «И все-таки не насилием, а добром только вы уничтожите зло».
«Месть есть самое низкое, животное чувство...»
«Насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишающий человека истинного счастья... Радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием».
«Всякий человек с сердцем не миновал того впечатления ужаса и сомнения в добре при рассказе даже, не говоря при виде, казни людей такими же людьми — шпицрутены на смерть, гильотины, виселицы»216.
Толстой, конечно, не забыл того впечатления «ужаса и сомнения в добре», которое произвело на него зрелище смертной казни гильотиной, виденное им в Париже в 1857 году217.
Пятая заповедь (или правило): «Не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия: не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим».
- 232 -
«Признание каких бы то ни было государств, особенных законов, границ, земель есть признак самого дикого невежества... Воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода, есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного»
И Толстой вспоминает предвидение древнего поэта:
«Перекуют люди мечи на орала и копья на серпы».
Все пять заповедей Христа, по мнению Толстого, «ясные, определенные, важные и исполнимые». Они «исключают всякое зло из жизни людей».
Заповеди эти «очень просты, но в них выражен закон бога и человека, единственный и вечный».
«Исполняй все люди учение Христа, и было бы царство бога на земле; исполняй я один — я сделаю самое лучшее для всех и для себя. Без исполнения учения Христа нет спасения».
«Учение Христа, — говорит Толстой, — имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для каждого отдельного человека». Этот «практический» смысл Толстой формулирует простыми житейскими словами: «Христос учит людей не делать глупостей»218.
Отчего же люди не исполняют христианского учения? — ставит Толстой вопрос и отвечает на него: в этом виновато псевдохристианское учение, которое называется догматической христианской верой. Он излагает учение этой веры «в самом точном его выражении». Изложение заняло три страницы и заканчивается словами: «Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать все это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение, пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку? Ведь это полное сумасшествие»219.
«Ясность, простота, разумность, неизбежность и обязательность учения Христа скрыты от большинства людей самым хитрым и опасным образом, скрыты под чужим учением, ложно называемым его учением».
Церковное учение исключило «из всей области знания человеческого знание того, что должен делать человек для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше». «Надо думать — говорят верующие — о том, какое естество у какого лица троицы, какие таинства надо и не надо совершать, потому что спасение людей произойдет не от наших усилий, а от троицы и от
- 233 -
правильного совершения таинств». Таким образом, «то, что называется этикой — нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдохристианском обществе»220.
Не нашел Толстой этики и в «теозофическом» понимании церковного учения, которое он услышал от Владимира Соловьева. Не называя имени, но, несомненно, имея в виду этого философа, Толстой пишет: «Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение, как нравственное учение о жизни, неважно». «Все это, — сказал он мне, — можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теозофическом учении, выраженном в догматах». «То-есть, — поясняет Толстой мысль Соловьева, — не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно непонятно и потому ненужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей»221.
XXV
В своем трактате Толстой в следующих словах формулирует основные положения христианской этики:
«Жить для себя одного неразумно».
«Одинокая личная жизнь человека, вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имеет для каждого отдельного человека не только никакого смысла, но она есть злая насмешка над сердцем, над разумам человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке».
- 234 -
«Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу современной и благу жизни будущей».
«Люди должны понимать и чувствовать, что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то — перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить и перед тем, что было и есть и будет началом всего».
«Только этой вечной жизни учит Христос по всем Евангелиям».
Толстой говорит, что Христос «никогда ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом». Понятие о будущей жизни за гробом пришло в церковную религию «совершенно со стороны»222.
В черновой редакции трактата «В чем моя вера?» Толстой опровергает церковное учение о личном бессмертии и будущей загробной жизни. Он говорит:
«Для того чтобы принять учение Христа, необходимо освободиться от ложного представления о какой-то будущей жизни, с которым мы так свыклись, что и не видим всю неосновательность этого представления. А чтобы освободиться от него, надо вдуматься в то, что мы разумеем под этой будущей бессмертной жизнью.
Есть люди, утверждающие, что они верят в будущую жизнь. Но они ошибаются, утверждая, что верят в будущую жизнь.
Предположение будущей жизни может быть, может быть смутная надежда, но веры в будущую жизнь быть не может для живого человека и никогда не было. Надо понять хорошенько значение слов — вера, т. е. несомненное знание, и вечная жизнь, жизнь, не имеющая конца во времени, — чтобы понять невозможность соединения веры в будущую вечную жизнь с жизнью земною. Вера в предстоящую вечность личной жизни уничтожает возможность временной, настоящей жизни. Два понятия эти несовместны.
Миллионы христиан живших и живущих, утверждающих, что они имеют веру в будущую жизнь, жизнью своей не только не исповедуют, но прямо отрицают эту веру. Если человек истинно верит, что после мгновения этой жизни его ожидают или вечные муки, или вечное блаженство, то он не может делать того, что лишает его вечного блага и ведет к вечному злу, так же как нельзя себе представить голодного человека, который, веруя в то, что ему дадут есть на том конце улицы и что идя в противную сторону он умрет, пошел в противную сторону; а между тем все верующие идут в противную сторону. Мало того, если человек истинно поверит, что после мгновения этой
- 235 -
жизни ему предстоит вечность, То все бедствия, радости, интересы этой жизни для него мгновенно уничтожатся...
Вера исключает возможность сомнения. А если нет сомнения, то не может быть и колебаний, страданий, горестей и страха за себя и за близких. А я вижу, что все верующие боятся, мучаются за свои земные блага, за свою жизнь и не в силах преодолеть в себе горести при смерти дорогих близких и даже чужих людей. А если человек знает, что смерть его вводит в вечную блаженную жизнь, и что смерть дорогого ему праведника или ребенка дает умирающему вечное блаженство, то он должен радоваться, а не страдать. А все страдают при потерях близких. Да не только простые люди боятся и страдают за себя, — святые, мученики боялись и страдали. Страдал, жалел и боялся и сомневался сам Христос и при виде Лазаря и перед своей смертью в Гефсиманском саду. А не только Христос — всякий верующий в вечность блаженства не может встречать этого блаженства иначе, как с радостью.
Но положим, что люди, живя этой данной жизнью, могут верить в вечную личную жизнь. Какой прямой и неизбежный вывод из этой веры? Уничтожение всех интересов этой жизни. Какое мне может быть дело до кого-нибудь и до чего-нибудь, когда я знаю, что вот-вот после короткого мгновения этой жизни наступает вечность. Положим, что мне предписано в этой жизни делать добро для того, чтобы получить вечное блаженство — добрые дела здесь положены условием вечной жизни, и потому я должен делать добро здесь; но разве не очевидно, что при таком условии я буду делать добрые дела нехотя. В сущности, я знаю, что вся эта моя жизнь и жизнь других — пустяки, призрак, и сердце мое не может быть озабочено этим призраком; одно важно и существенно — вечность, и я буду делать добрые дела не по сердцу, но по расчету. Не пускают без этого — стало быть, хоть и нехотя, надо отдать.
Таковы неизбежные выводы из представления о вечной загробной жизни. Но что же такое — самое понятие этой вечной загробной жизни? Первое, что поражает каждого, кто оставив в стороне привычное утешение, которое соединяется с этим представлением, спросит: что такое — эта вечность, ожидающая меня? — первое, что поражает, это — то, что эта вечность — это какая-то непонятная вечность в одну сторону. Меня не было целую вечность, и вдруг в середине вечности я стал существовать и буду существовать вечно. Может быть очень утешительно думать, что душа моя бессмертна, но понятие о такой кривобокой вечности не влезает в голову и подрывает к себе веру. Утешительно думать и то, что молебен Иверской может избавить меня от моих бед и что мощи исцелят меня, и что на том свете будет у меня 300 жен молодых, как обещает Магомет, — все это утешительно думать, но верить во все это нельзя, потому
- 236 -
что это неразумно, точно так же, как неразумна кривобокая вечность... Верование в будущую жизнь есть призрак или самого низкого уровня духовного развития или упадка религиозного чувства. Так верование это развилось в Талмуде, в псевдоиудаизме и в псевдохристианстве».
XXVI
От общих, отвлеченных рассуждений Толстой переходит к иллюстрированию своих положений примерами из современной жизни.
Пользуясь евангельской терминологией, Толстой утверждает, что «мирская» жизнь, основанная на «учении мира», доставляет людям больше страданий, чем жизнь по учению Христа. Он рисует следующую типическую картину московской жизни его времени:
«Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам удалось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей — мученики учения мира.
На-днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкутся здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь — в своих углах и конурах. Воскресение — это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу.
Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жен и детей, отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что по учению мира считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уже о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших все и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах, — все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и их жен, все несут самую тяжелую и неестественную жизнь и все-таки не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.
- 237 -
Поищите между этими людьми и найдите — от бедняка до богача — такого человека, которому бы хватало того, что́ он зарабатывает, на то, что́ он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется из всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретает то, что требуется, от него потребуется еще другое и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизни людей. Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400... Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавтра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры и гостиную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, картины в золотых рамах, после — заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и также отдает жизнь тому же Молоху, также умирает и также сам не знает, зачем он делал все это».
Толстой твердо убежден в том, что богатство не приносит счастья. Он подробно обосновывает это свое убеждение. «Существует, — говорит он, — пять условий человеческого счастья, и ни одно из этих условий не осуществляется в жизни богача».
«Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья, — пишет Толстой, — есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то-есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе, общении с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем... Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира: чем больше они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья; чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них — почти все женщины — доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро... Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанные людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым... Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне и за границей, куда они уезжают, у них те же ткани и дерево под ногами,
- 238 -
те же гардины, скрывающие от них свет солнца, те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастья. Как заключенные утешаются травкой, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят не они сами.
Другое несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий успокаивающий сон. Опять, чем большего, по-своему, счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого другого условия счастья. Все счастливцы мира — сановники и богачи, или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно — со скукой, одолевающей их (я говорю безуспешно потому, что работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостиные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю ненавистную потому, что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник счищает снег перед домом.) Все эти счастливцы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, то-есть находятся в том положении, в котором находятся каторжные.
Третье несомненное условие счастья есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство — прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сделать совокупление бесплодным...
Четвертое условие счастья есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем у́же, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое
- 239 -
близкое общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное все отрезано от них. Для министра и богача и их семей есть один десяток таких же важных или богатых людей, как они. Для императоров и королей кружок делается еще менее...
Наконец, пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену; несмотря на весь голод и непомерный труд, который, не по своей вине, но по жестокости людей, несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины. Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом, — такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все беззубые, все седые или плешивые бывают в те годы, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными или половыми болезнями от объядения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в вспрыскивании морфина или обрюзгшими калеками, неспособными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы... Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели».
Непримиримый противник войны, Толстой рисует картину тех страданий и бедствий, которые приносит людям этот злейший бич человечества:
«Христос сказал: возьми крест свой и иди за мной... И никто не идет. Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполетах, которому это взбредет в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружье и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, — и все идут. Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди, Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешенным вопросом — зачем? — и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразительных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их
- 240 -
живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло»223.
В одной из черновых редакций «В чем моя вера»? находим следующий первоначальный вариант этой картины:
«Исполнение учения Христа трудно. Он говорит: возьми крест и иди за мной. Но исполнение учения мира разве легко? Не крест возьми и иди за Христом, а ранец и ружье возьми и иди по 40-градусному жару без сапог, без пищи за Скобелевым в Турцию, под Плевну, или возьми державу и скипетр и под бомбами иди на коронацию».
Толстой имел в виду коронацию Александра III, которая долго откладывалась из опасения покушения на его жизнь и произошла лишь через два с половиной года после смерти Александра II — 30 августа 1883 года.
Считая себя самого в прошлом «мучеником учения мира», Толстой рассказывает, какие страдания он переносил, следуя этому учению. В одной из черновых редакций «В чем моя вера?» Толстой писал:
«Пусть всякий человек моих лет, какого бы ни было сословия вспомнит все тяжелые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенес и переносит во имя учения мира — личной жизни и спросит себя: пришлось ли бы переносить столько же, следуя закону Христа, — и всякий ответит, что нет.
Мучился ли бы я так, как я мучился: честолюбием, тщеславием, бедностью в моей молодости. Проводил ли бы я столько бессонных ночей за праздной работой; страдал ли бы я столько вследствие безобразия половых отношений; ходил ли бы я столько, сколько я ходил на войне — без еды и сна, ночуя в снегу и дрожа за свою жизнь и перенося раны и увечья. Болел ли бы я сердцем, раздражался ли бы я столько на людей за фиктивные причины, сколько я раздражался теперь».
В следующей — тоже черновой редакции это место было вычеркнуто и заменено следующим:
Все черные пятна моей жизни — все, начиная от студенческого пьянства и раннего разврата, которых я терпеть не мог, до дуэлей, участия в войнах, унижений, злобы и отчаяния, пережитых мною для приобретения и удержания собственности и для чванства перед людьми, — все это делалось мною не по влечению сердца, я никогда не любил всего этого, — но все делалось для того, чтобы исполнить то, что требовало учение мира».
В окончательный текст трактата воспоминания Толстого о своей прошлой жизни вошли в следующей редакции: «Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства
- 241 -
и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — все это есть мученичество во имя учения мира»224.
XXVII
Образ жизни христианина Толстой представляет себе так: «Ученик Христа будет беден... Быть бедным, быть нищим, быть бродягой... это то самое, чему учил Христос, — то самое, без чего нельзя войти в царство бога, без чего нельзя быть счастливым здесь на земле»225.
На возражение, что никто не будет кормить такого человека и он умрет с голоду, Толстой отвечает: «Если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь; о пропитании же не может быть и речи... Человек обеспечивает себе пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделался полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование»226.
Толстой до такой степени был убежден в справедливости этих мыслей, что в разговорах с близкими ему по взглядам людьми советовал им строить свою жизнь на основании этих рассуждений. Близкий ему по взглядам Е. И. Попов рассказывает в своих воспоминаниях, что когда он однажды сказал Толстому, что у него нет средств и он не знает, как будет жить дальше, Лев Николаевич сказал: «Кому вы будете нужны, тот вас и прокормит». «Под впечатлением этого ответа, — писал далее Е. И. Попов, — я провел всю свою жизнь»227.
«Возражение против исполнимости учения Христа, — продолжает далее Толстой, — состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью, справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе не нужны»228.
- 242 -
В последних главах своего трактата Толстой вновь возвращается к учению церкви.
«Я убедился, — говорит он, — что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам».
«Но пришло время, — пишет далее Толстой, — и свет истинного учения Христа, которое было в Евангелиях, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрывать его (запрещая переводы Библии), — пришло время, и свет этот через так называемых сектантов, даже через вольнодумцев мира проник в народ, и неверность учения церкви стала очевидна людям, и они стали изменять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основании этого помимо церкви дошедшего до них учения Христа. Так, сами люди помимо церкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью, религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств».
«Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через восемнадцать веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир со своим устройством, освященным церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живет без нее. Все, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, все живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своею жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это так в гнилой западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава богу, гораздо гнилее Европы. Все живое — независимо от церкви...»
«Мало того, что жизнь вся эмансипировалась от церкви, — жизнь эта не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права...
Все церкви — католическая, православная и протестантская — похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков и даже воюет с ними. Все то, чем истинно живет теперь мир: социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, все, что ворочает миром и представляется церкви враждебным, — все это части того же учения,
- 243 -
которое, сама того не зная, пронесла с скрываемым ею учением Христа та же церковь»229.
Откинув официальную религию, — говорит Толстой, — большинство людей нашего времени остались без всякой веры и без всякого разумного руководства в жизни.
«Тщетно искал я, — пишет Толстой, — в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни. Их нет. Нет даже сознания, что они нужны. Есть даже странное убеждение, что они не нужны..., а что жизнь идет сама собой, и что для нее не нужно никаких основ и правил; нужно только делать то, что велят».
Отыскиванием истины математической, научной, — писал Толстой в одной из черновых редакций «В чем моя вера?», — считается похвальным заниматься. Разрешением разных восточных, римских вопросов можно заниматься. Можно заниматься писанием опер, комедий, историй, можно заниматься геральдикой — чем хотите, все это допускается, но истиной жизни нашей человеческой не позволяется заниматься. Это считается глупым, смешным или непозволительным. Единственные люди — социалисты и коммунисты, которые пытаются заниматься этим, считаются врагами и религии, и государства, и человечества, и всего святого»230.
В окончательной редакции трактата эта мысль развита следующим образом: «Все цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городового и урядника. Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди.
Люди эти считаются самыми зловредными, опасными и, главное, неверующими людьми; а между тем это единственные верующие люди нашего времени и не только верующие вообще, но верующие именно в учение Христа, если не во все учение, то хотя в малую часть его.
Люди эти часто вовсе не знают учения Христа, не понимают его, часто не принимают, так же как и враги их, главной основы Христовой веры — непротивления злу, часто даже ненавидят Христа; но вся их вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа. Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это — единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, — единственные верующие люди»231.
- 244 -
Толстой не интересовался различиями политических программ революционных партий, но его привлекало общее всем революционерам отрицание существующего общественно-политического строя, основанного на насилии, и их самоотверженная борьба за осуществление нового экономического и социального порядка, основанного на труде, всеобщем равенстве и свободе. Он находил, что идеалы, за которые борются социалисты и коммунисты, выражены в Евангелии, и потому считал социалистов и революционеров верующими (хотя и не целиком) в учение Христа, несмотря на то, что средства, которыми они боролись за осуществление своих идеалов, часто противоречили христианскому учению.
Частичное признание нравственных основ учения Христа находим в высказываниях некоторых революционеров-семидесятников232.
Так, начав с утверждения (в эпилоге «Анны Карениной»), что «социалисты и коммунисты борются против угнетения половины рода человеческого», Толстой пришел к признанию того, что революционная борьба частично имеет своим основанием учение Христа.
При этом террор, служивший главным средством борьбы членов партии «Народная воля», Толстой считал не достигающим цели. Об этом он писал М. А. Энгельгардту: «Вспомним Россию за последние двадцать лет. Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам, сколько потрачено нашей интеллигенцией молодой на то, чтобы установить правду, чтобы сделать добро людям! И что же сделано? Ничего! Хуже, чем ничего. Погубили страшные душевные силы. Колья переломали и землю убили хуже, чем прежде, что и заступ не берет»233.
XXVIII
В последней (XII) главе трактата «В чем моя вера?» Толстой рассказывает о том, какие изменения произошли в его жизни, после того как в корне изменилось его мировоззрение. Он говорит:
- 245 -
«Теперь я понимаю, что выше других людей будет стоять тот только, кто унизит себя перед другими, кто будет всем слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко перед людьми, есть мерзость перед богом, и почему горе богатым и прославляемым, и почему блаженны нищие и униженные. Только теперь я понимаю это и верю в это, и вера изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — почести, слава, образование234, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов — все это стало для меня дурным и низким; мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня хорошим и высоким... Теперь я не могу содействовать ничему тому, что́ внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них, не могу, как я прежде это делал, признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы; не могу искать таких занятий, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что разъединяет меня, а соединяет с большинством людей... Я не могу приобретать собственности: не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьей, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах... Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств — ни в таможнях и сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами — и не могу содействовать людям, чтобы они делали это.
Я понял, в чем мое благо, верю в это и потому не могу делать того, что несомненно лишает меня моего блага...»
На возражение, что если не защищаться оружием, то придут немцы, турки, дикари и перебьют непротивящихся злу христиан, Толстой отвечает:
- 246 -
«Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели — ни немцы, ни турки, ни дикие — не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе все то, что и так отдали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком и дикарем...»235
На возражение, что правительство не может допустить того, чтобы какие-либо члены общества не признавали основ государственного порядка и уклонялись от исполнения гражданских обязанностей, и потребует от христиан присяги, участия в судах, военной службе и за отказ подвергнет их наказанию — ссылке, заключению, даже казни, Толстой отвечает:
«Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий ее, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими ее. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабеж, казни... производятся людьми заблудшими и лишенными знания истины. И потому чем больше зла делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям Христинин не может иначе, как воздержанием от того заблуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло»236.
В черновой редакции трактата Толстой, жаждавший гонений, ту же мысль выразил еще сильнее. Здесь он писал:
«Стоит понять учение Христа, чтобы все представление о благе жизни совершенно переменилось. Быть сожженным, разрубленным, повешенным, заключенным — это, по мирскому учению, самое ужасное несчастие, и потому к нему присуждаются люди, как к самому большому злу. Что же будет хоть так называемая постыдная казнь — повешение — для ученика Христа, если его присудят к этому за исполнение учения? Это будет смерть. Но смерть по учению Христа и по здравому смыслу всех людей есть неизбежный конец жизни. Смерть в большинстве случаев приходит к людям от насильственных причин, от болезней и сопровождается продолжительными плотскими страданиями и самым тяжелым страданием сознания бесцельности смерти и сожалением о жизни. Что же будет повешение за исповедание учения? Это будет смерть скорая, не мучительная, и смерть, полная смысла, смерть, которая будет делом жизни. Повешение будет для ученика Христа одной из самых счастливых случайностей жизни. То же будет и сожжение и убийство турками,
- 247 -
и всякая смерть, и всякое страдание, если страдание и смерть будут продолжением дела жизни».
Определив свое (и всякого христианина) отношение к преследованиям правительства, Толстой далее определяет свое отношение к революционной борьбе.
Существующий общественный строй представляется ему сцеплением людей посредством лжи и обмана; люди, связанные между собой посредством лжи и обмана, составляют как бы сплоченную массу. Все революции, по мнению Толстого, суть попытки «насильственного разбивания этой массы». Но попытки эти бесплодны. «Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по ней, но, стараясь разбить ее, они только куют ее».
Чтобы уничтожилось это сцепление частиц, нужно, чтобы частицам массы сообщилась «внутренняя сила», тогда только эти частицы отделятся от массы. «Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления», построенного на лжи и обмане, «есть истина. Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана»237. От массы, связанной между собой сцеплением обмана, отрываются люди, просвещенные истиной. Это — единственный путь разрушения общественного строя, основанного на обмане и лжи.
Таким образом, учение о «пассивном сопротивлении» (выражение М. К. Ганди) было в своих основах уже сформулировано Толстым в трактате «В чем моя вера?».
XXIX
На последних страницах своей книги Толстой пишет:
«Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла». Но «всегда жила и будет жить» иная церковь, «составленная из людей... делами истины и блага, соединенными воедино». Эта церковь, «как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: господи, господи! и творящих беззакония, но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их».
«Мало ли, много ли теперь таких людей, но это — та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди».
«Не бойся, милое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство»238.
- 248 -
Этим евангельским изречением Толстой закончил свою книгу.
Весь трактат «В чем моя вера?», в котором Толстой изложил свои размышления и чувства, волновавшие его на протяжении свыше семи лет, с 1877 по январь 1884 года, с первой строки до последней написан с большим воодушевлением; в каждой строке чувствуется непоколебимая вера автора в то, что он пишет и к чему призывает людей.
По справедливому замечанию П. И. Бирюкова, «это сочинение едва ли не самое сильное» из религиозно-философских работ Толстого239.
Общее мировоззрение Толстого в данной работе — оптимистическое. «Мир дан богом для радости человека», — пишет он240, предвосхищая утверждение «Воскресения»: «Красота мира божьего, данная для блага всех существ».
«Любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором родятся дети»241.
Страх смерти, который раньше беспокоил Толстого, теперь не существует для автора «В чем моя вера?». Он убежден, что для того, «чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни»242.
Страх смерти уничтожается не тем, что признается личное бессмертие за гробом, а тем, что жизнь в этом мире каждого человека, понявшего смысл и назначение своего существования, перестает быть личной жизнью, а сливается с предшествующей, настоящей и будущей жизнью всего человечества.
Когда-то, еще в 1855 году, молодым офицером, находясь в осажденном Севастополе, Толстой мечтал об основании «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущего блаженства, но дающей блаженство на земле»243.
Эти мечтания были осуществлены почти через тридцать лет в трактате «В чем моя вера?».
XXX
Трактат «В чем моя вера?» печатался в количестве только 50 экземпляров. Была назначена высокая цена: 25 рублей за экземпляр. И то и другое было сделано для того, чтобы книга
- 249 -
легче могла пройти через цензуру. Однако ни эти меры предосторожности, ни заглавие книги, ни способ изложения, указывавший на ее будто бы исключительно личный, субъективный характер, не оказали на цензуру никакого воздействия. Цензорам совсем не трудно было догадаться, что когда Толстой писал: «Я ужаснулся перед той грубостью обмана, в котором я находился», то он при этом разумел, что не только он один, но и множество русских людей находились под властью того же «грубого обмана», производимого духовенством. Кроме того, Толстой в своем трактате часто не выдерживал субъективной формы изложения.
Председатель Московского цензурного комитета В. Я. Федоров, ознакомившись с книгой Толстого еще в корректурах, 14 января 1884 года отправил на имя начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова следующее заключение:
«Сочинение читается с большим интересом и возбуждает полное внимание. По существу же оно должно быть признано крайне вредной книгой, так как подрывает основы государственных и общественных учреждений и в конец рушит учение церкви. По получении книги я полагал бы немедленно задержать выпуском из типографии и экземпляр отправить в духовную цензуру; что же касается до судебного преследования, то предоставляю вопрос этот благоусмотрению вашего превосходительства, с своей стороны, я бы думал, что судебное преследование по такому сочинению невозможно».
После этого корректурные листы книги Толстого были переданы на рассмотрение духовной цензуры.
23 января 1884 года на заседании Московского цензурного комитета председательствующий В. Я. Федоров заявил:
«Предоставляя духовной цензуре обсуждение вопросов догматического характера в сочинении, каковы вопросы: о сущности учения Христа, об искуплении, о первородном грехе, о силе таинства и молитвы, вопросы о том, вытекает ли из учения евангельского представление о загробной жизни, о бессмертии души и проч., я с своей стороны не мог не обратить моего внимания на то, что автор книги в окончательных выводах своих не только приходит к отрицанию церкви и ее учения, но колеблет и основы государственного и общественного порядка. Мысли такого рода разбросаны по всей книге.
Уже на стр. 16, 17 светская власть называется пустым кумиром, заслоняющим от людей истину, а на стр. 93 учение церкви — полным сумасшествием; во всей же своей силе и отрицание и порицание как церкви так и светской власти высказывается в главе XI-ой и отчасти XII-ой сочинения.
«Когда мне открылся в первый раз смысл Христова учения, — говорит автор на стр. 164, 165, — я никак не думал, что разъяснение
- 250 -
этого смысла приведет меня к отрицанию учения церкви, но чем дальше я шел в изучении Евангелия, тем неизбежнее становился для меня вывод: учение Христа, разумное, ясное, согласное с моей совестью и дающее мне спасение, или — учение прямо противоположное, не дающее мне ничего, кроме сознания погибели вместе с другими». Разбирая «пространный христианский катехизис православной церкви для употребления всех православных христиан, изданный по Высочайшему Его Императорского Величества повелению» (полное заглавие катехизиса Филарета очевидно выписано не без умысла), гр. Толстой останавливается на заповедях Моисея и находит, что они излагаются в катехизисе как будто для того только, чтобы научить людей не исполнять их и поступать противно им. После каждой заповеди, по его мнению, — оговорка, уничтожающая заповедь. Так, по случаю первой заповеди, повелевающей почитать единого бога, катехизис научает почитать ангелов и святых, не говоря уже о матери бога и трех лицах бога. По случаю второй заповеди не сотворять кумира, катехизис учит поклоняться иконам; по случаю третьей — не клясться напрасно, учит людей клясться по всякому требованию законной власти (подчеркнуто автором); по случаю пятой — почитать отца и мать, катехизис научает почитать государя, отечество, пастырей духовных, начальствующих в разных отношениях, и о почитании начальствующих — три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. По случаю заповеди не убивать, люди с первых же строк поучаются убивать. И этому хламу, ужасается автор, учат всех невинных ангелов — детей, говоря им, что это единственный священный закон бога!
«Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой». И я убедился, резюмирует Толстой, что церковное учение, несмотря на то, что оно называет себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам.
Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни, между этикой и метафизикой учения Христа, по утверждению Толстого, начался еще с проповеди Павла, преследовавшего чуждую Христу метафизическо-кабалистическую теорию, а совершился окончательно во время Константина, этого язычника из язычников, когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские одежды и потому признать христианским. Но ныне учение о жизни людей эмансипировалось от церкви, установилось независимо от нее, и у церкви ничего не осталось, кроме храмов, икон, парчи и слов. Церковь, по выражению Толстого, пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете.
- 251 -
Все, что точно (?) живет, все живое, говорит [автор] на той же странице, отпало от церкви и всяких церквей, и живет своею жизнию независимо от церкви. «И пусть не говорят, что это так только в гнилой Европе; наша Россия, в смысле отпадения от церкви, бесспорно доказывает, что она, слава богу, гораздо гнилее Европы...».
Церковь не нужна: никакой связи с жизнью у нее нет; всякая связующая нить была только помехой (183), и утверждая это, гр. Толстой не только не признает обязательным учение церкви и между прочим учение о повиновении властям (178), но, наоборот, то, что представляется враждебным церкви: и социализм, и коммунизм, и свободу и равенство людей, сословий и женщин, и все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, все, что ворочает миром, все это он называет частями того учения Христа, которое эта же церковь, сама того не зная, пронесла чрез целый ряд веков.
В последней XII главе, объясняя, в чем именно состоит его вера и какие соблазны открылись ему в мире с уверованьем в учение Христа, гр. Толстой к числу соблазнов и обманов относит: и клятву, и обязанность повиноваться тому, что велит человек или велят люди, и патриотизм, и любовь к отечеству и служению государству в ущерб другим людям и проч.
Все это, с уяснением евангельского учения, показалось автору жалким и отвратительным, и наоборот, что прежде представлялось ему дурным и позорным, — космополитизм, отречение от отечества, явилось хорошим и высоким».
Далее В. Я. Федоров заявил, что «настоящее сочинение, подобного которому не поступало из типографии, должно быть отнесено к числу тех, которые предусмотрены законом 7 июня 1872 года, и что оно подлежит действию ст. 1 этого закона», т. е. запрещено.
Комитет, соглашаясь вполне с мнением г. председательствующего, определил: «исполнить согласно заключению его»244.
29 января С. А. Толстая, со слов издателя В. Н. Маракуева, сообщала Льву Николаевичу в Ясную Поляну, что председатель Комитета духовной цензуры архимандрит Амфилохий, прочитав «В чем моя вера?», сказал, что «в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он, с своей стороны, не видит причины не допустить ее»245.
На это письмо Толстой ответил 31 января: «Известие твое от Маракуева о мнении архимандрита мне очень приятно. Если оно справедливо. Ничье одобрение мне не дорого было бы, как духовных. Но боюсь, что оно невозможно»246.
- 252 -
Сообщение Маракуева о мнении архимандрита Амфилохия представляется до известной степени правдоподобным: по-видимому, это был либеральный цензор. В 1886 году он пропустил книжку священника Н. Елеонского «О новом Евангелии графа Толстого», содержащую критику «Краткого изложения Евангелий» с точки зрения учения православной церкви, вместе с цитатами из предисловия Толстого к своему труду, где «безобразное» учение церкви сравнивается с «мешком вонючей грязи», на дне которого «только после долгого труда и борьбы» Толстому, по его словам, удалось отыскать «заваленную грязью бесценную жемчужину».
Но Московский комитет духовной цензуры взглянул на книгу Толстого иначе. За подписью члена Комитета священника М. Боголюбского в Московский цензурный комитет был представлен отзыв, в котором сообщалось, что книга Толстого «развенчивает» всех «исказителей Евангелия», в том числе и апостола Павла, и порицает все церковные и государственные установления. «Все самые вредные направления мысли, как-то: социализм, коммунизм и проч., по мнению Толстого, суть «части учения Христова, проносимые церковью». «По мыслям явно противным духу и учению христианства, разрушающим начала нравственного учения его, устройство и тишину (!) церкви и государства, книга Льва Толстого «В чем моя вера?» принадлежит к числу сочинений, о которых говорит 239-я статья цензурного устава», т. е. подлежит запрещению и конфискации.
Получив заключения о книге Толстого московских цензурных комитетов — светского и духовного, начальника Главного управления по делам печати 14 февраля отношением за № 785 распорядился о «безусловном запрещении означенного сочинения», с тем чтобы все его экземпляры были доставлены в Главное управление по делам печати.
18 февраля инспектор по типографиям Москвы арестовал в типографии Кушнерева 39 экземпляров «В чем моя вера?», которые препроводил в Главное управление247.
Однако постановление Главного управления по делам печати не было исполнено — книга не была уничтожена. 19 февраля Толстой писал А. С. Бутурлину: «Книга моя... вышла и запрещена, но не сожжена, а увезена в Петербург, где, сколько мне известно, те, которые запретили ее, разбирают ее по экземплярам и читают. И то хорошо»248. То же сообщал Толстой и Н. Н. Ге 2 марта 1884 года: «Книгу мою, вместо того, чтобы сжечь, как следовало по их законам, увезли в Петербург и
- 253 -
здесь разобрали экземпляры по начальству. Я очень рад этому. Авось кто-нибудь и поймет»249.
Уже первые девять экземпляров «В чем моя вера?», доставленные по закону из типографии в Московский цензурный комитет, были распределены между разными высокопоставленными лицами, как об этом свидетельствует ведомость, находящаяся в деле. По этой ведомости эти девять экземпляров книги Толстого были предоставлены следующим лицам: автору — 1, московскому генерал-губернатору — 1, «доложено государю-императору» — 1, г. министру внутренних дел по личному его требованию — 1, г. обер-прокурору святейшего синода, по распоряжению г. начальника — 2, взято г. начальником — 2, генерал-адъютанту князю Орлову, по распоряжению г. министра — 1»250.
Н. Н. Бахметев, бывший тогда заведующим делами редакции «Русской мысли», передает следующие подробности запрещения «В чем моя вера?»:
«В Петербурге очень скоро узнали о печатании нового произведения графа Толстого и оттуда, задолго еще до окончания печатания, пришло распоряжение обязать типографию подпиской в том, что она, как только книга будет отпечатана, передаст все экземпляры в распоряжение инспектора типографий, а сей последний, не передавая в местный цензурный комитет, отправит их в Главное управление по делам печати. Все это, конечно, было в точности выполнено. В Петербурге книга передана была в духовную цензуру, ею, конечно, запрещена, и Главному управлению по делам печати оставалось только сжечь ее. Но именно этого-то и не случилось. Все экземпляры без исключения уцелели и теперь находятся в целости и невредимости в частных библиотеках.
Дело в том, что как только стало известно, что книгу решено уничтожить, то в Главное управление посыпались от разных особ просьбы о выдаче им экземпляров этой книги. Тогдашний министр внутренних дел граф Толстой потребовал присылки ему нескольких экземпляров, попросили и другие министры, главноуправляющие и т. п. должностные лица; взяли себе по экземпляру и Феоктистов и некоторые из членов Главного управления. В дворцовых и придворных сферах также пожелали иметь несколько экземпляров. Словом, как говорил мне сам Феоктистов и В. М. Юзефович, состоявший тогда членом Главного управления по делам печати, все запрещенное цензурой издание избегло уничтожения и разошлось.
Таким образом, цель издания, хоть и иным, совершенно неожиданным путем, была достигнута: произведение было напечатано
- 254 -
вполне легально, его читали и передавали из рук в руки в печатном виде, и можно с уверенностью сказать, что все экземпляры этой обреченной цензурой на сожжение книги существуют и до сих пор. Несколько экземпляров проходило потом через руки московских букинистов-антикваров, которые, приобретя их случайно за недорогую, конечно, цену, брали, по нескольку сот рублей за экземпляр. Многие из тех, которые так или иначе добыли себе эту книгу, переплетали ее в очень дорогие художественные переплеты, и мне приходилось видеть несколько таких экземпляров, переплетенных работавшим тогда в Петербурге замечательным художником переплетчиком Жюлем Мейером»251.
Удалось ускользнуть от ареста лишь десяти экземплярам книги Толстого, отпечатанным типографией Кушнерева сверх заказа: их у владельца типографии приобрел В. Н. Маракуев. С. А. Толстая предъявила свои права на эти десять экземпляров, после чего Маракуев передал ей не все десять, а только два экземпляра «В чем моя вера?».
В настоящее время «В чем моя вера?» издания 1884 года составляет большую библиографическую редкость. Этого издания нет в наших крупнейших библиотеках — в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина в Москве и Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде; нет его также в библиотеке Ясной Поляны. Известно местонахождение трех экземпляров данного идания: один находится в библиотеке Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде, другой — в библиотеке Гос. музея Л. Н. Толстого и третий принадлежал покойному библиофилу Н. Смирнову-Сокольскому252.
Запрещение «В чем моя вера?» не успокоило Победоносцева. Он считал книгу Толстого чрезвычайно опасной для церковного учения и потому находил нужным принять против автора репрессивные меры. Чтобы напомнить царю о Толстом, Победоносцев воспользовался состоявшейся в мае 1884 года высылкой за границу без права возвращения отставного полковника кавалергардского полка В. А. Пашкова, последователя так называемого евангелического учения, занесенного в Россию английским проповедником лордом Редстоком.
В. А. Пашков основал «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», которое по очень дешевой цене издавало книги священного писания и брошюры религиозно-нравственного содержания. Сам Пашков, обладая большими денежными
- 255 -
средствами, развил широкую благотворительную деятельность. Центральным пунктом евангелического учения была вера в спасение рода человеческого смертью Христа; в этом евангелическое учение не расходилось с учением православной церкви; но учение это отрицало всю внешнюю обрядовую сторону церковного учения.
Учение Пашкова получило большое распространение не только в светских кругах, но и в народе. Народ привлекала искренняя вера пашковцев, которой он не видел в православном духовенстве; привлекало также и то, что евангелическое учение требовало от своих последователей соблюдения известных нравственных правил, в то время как церковное учение требовало только исполнения внешних обрядов.
Число отпадений от церкви под влиянием проповеди Пашкова и его последователей быстро увеличивалось. Когда же В. А. Пашков вместе со своим другом и единоверцем бароном М. А. Корфом устроил съезд представителей сектантов разных исповеданий, Победоносцеву удалось добиться постановления о высылке Пашкова и Корфа за границу.
26 июня 1884 года Победоносцев посылает Александру III какую-то записку Пашкова вместе с письмом, в котором пишет: «Письмо Пашкова имею честь возвратить при сем, на случай, если ваше величество пожелали бы оставить его в виде курьезного документа. Это нечто вроде одностороннего умопомешательства, которым отличаются, впрочем, все узкие сектанты. К сожалению, это безумие бывает заразительно. К сожалению, им страдают не только люди глупые или ограниченные, каковы Пашков и Корф, но подвергаются ему и умные, и люди с художественною натурой, как например, граф Л. Толстой. У Толстого это явление еще поразительнее»253.
Упоминание о Толстом в письме Победоносцева, имевшее целью побудить царя принять против него репрессивные меры, было чрезвычайно ловко вставлено Победоносцевым в письмо о Пашкове и Корфе. Если бы царь на основании его письма решил подвергнуть Толстого репрессиям, как еще гораздо более опасного врага православия, чем Пашков и Корф, Победоносцев выразил бы удивление мудрости и прозорливости царя. Если бы царь приказал не трогать Толстого, как автора знаменитых романов и повестей, хотя и заблуждающегося в делах веры, Победоносцев сказал бы: «Я давно обращал внимание государя на то, что нельзя нашего выдающегося романиста ставить на одну доску с Пашковым и Корфом». И в том и в другом случае Победоносцев вышел бы сухим из воды. Но Александр III и на этот раз не принял никаких мер против великого писателя.
- 256 -
XXXI
Недоступная широкому кругу читателей в печатном виде, «В чем моя вера?», так же как и «Исповедь», получила широкое распространение в рукописных, гектографических и литографских копиях. Некоторое количество экземпляров рукописных копий «В чем моя вера?» разошлось через самого автора, который 19 февраля 1884 года писал А. С. Бутурлину: «Книга моя ответит на большую часть ваших вопросов... У меня есть и будут рукописные экземпляры. Плачу я за переписку по 15 рублей»254. В. Г. Черткову Толстой также писал 6 июня того же года: «У меня лежат два переписанных хорошим почерком отлитографированных экземпляра «Веры»... Два уже я должен послать, и остальные мне могут понадобиться»255.
28 апреля 1884 года Н. Н. Страхов писал со слов профессора О. Ф. Миллера Толстому, что гектографированные экземпляры «В чем моя вера?» продаются по четыре рубля за экземпляр в пользу Исполнительного комитета партии «Народная воля»256.
В отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого хранится переплетенный полный экземпляр трактата «В чем моя вера?», составленный из фотографических снимков со всех страниц запрещенного издания 1884 года.
«В чем моя вера?» впервые появилась в печати во французском переводе Л. Д. Урусова под заглавием «Ma réligion», вышедшем в 1885 году в Париже. Толстой был не вполне доволен этим переводом. В 12-й главе перевода Урусова Толстым были сделаны исправления, вошедшие в печатный текст; рукопись исправлений не сохранилась.
В мае — декабре 1885 года в эмигрантском журнале «Общее дело», выходившем в Женеве, появился сокращенный обратный перевод «В чем моя вера?» с французского перевода Л. Д. Урусова на русский язык со следующим примечанием от редакции: «В начале нынешнего года под заглавием «Ma réligion» вышел в Париже французский перевод русского сочинения Л. Н. Толстого «Моя религия», которое в России можно читать только в рукописях и притом украдкой от полицейского надзора. Так как это произведение талантливейшего из наших беллетристов, редкого по своей искренности, очень интересует русскую публику, а цензура наложила на него запрет, то мы сочли своей обязанностью познакомить с ним нашего читателя».
- 257 -
В том же 1885 году в Женеве в издании М. Элпидина появился русский текст «В чем моя вера?» и в Лейпциге вышел немецкий перевод книги Толстого, исполненный Софией Бер. Этот перевод Толстой нашел «прекрасным». В том же году в Лондоне вышла книга «Christ’s Christianity» («Христианство Христа»), содержавшая в английском переводе три произведения Толстого: «Исповедь», предисловие к «Краткому изложению Евангелия» и «В чем моя вера?» Толстой был очень доволен появлением его книг в английском переводе. 6—7 декабря он писал Черткову: «Мне было очень приятно видеть эту книгу, держать ее в руках и думать, что найдутся, может быть, англичане, американцы, которые сблизятся с нами через эту книгу. Главное, просто было приятно. Очень благодарен вам за эту книгу»257.
К 1885 году относится новая попытка издания «Исповеди» и «В чем моя вера?» на русском языке в Москве.
С. А. Толстая в то время подготовляла новое, шестое, издание сочинений Льва Николаевича. Либеральный священник, профессор истории церкви в Московском университете А. М. Иванцов-Платонов258 посоветовал С. А. Толстой поместить в новое издание «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?» в первой редакции. Он предлагал выпустить из трактата «В чем моя вера?» самые резкие места и переменить заглавие книги, а также выражал готовность снабдить текст Толстого своими примечаниями, имевшими целью облегчить прохождение книги через цензуру.
17 мая 1885 года Толстой писал В. Г. Черткову про Иванцова-Платонова: «Он, хотя православный, находит полезным это печатанье... Пускай моя мысль будет estropiée [искалечена]; но думаю, что это хорошо»259. На предложение Иванцовым-Платоновым исключить из книги «В чем моя вера?» наиболее резкие места Толстой выразил согласие.
Для нового издания трактат Толстого получил название «Как я понял учение Христа». Для того чтобы дать понятие о положительном религиозном мировоззрении Толстого, Иванцов-Платонов предложил в том же томе напечатать легенду «Чем люди живы» и «Сказку об Иване-дураке». Он усиленно советовал С. А. Толстой самой поехать в Петербург, чтобы лично переговорить с Феоктистовым и Победоносцевым о разрешении 12-го тома Собрания сочинений Толстого, куда должны были войти и его работы религиозного содержания.
- 258 -
18 ноября С. А. Толстая отправилась в Петербург, где встретилась и с начальником Главного управления по делам печати, и с обер-прокурором Синода. Оба они обещали просмотреть новое издание религиозных произведений Толстого и письменно сообщить ей о результатах просмотра.
Феоктистов очень быстро просмотрел доставленные ему Софьей Андреевной корректуры тома и уже 25 ноября ответил ей, что доставленный ею том подлежит рассмотрению не светской, а духовной цензуры. Победоносцев же 16 декабря ответил С. А. Толстой следующим письмом:
«Многоуважаемая Софья Андреевна,
Получил я ваше письмо, и увидев вашу горячность к делу, о коем вы пишете, не хочу оставить вас без ответа. Я немедленно вытребовал из канцелярии синода корректурные листы и прочел их. Они будут рассматриваться в синоде, но я скажу вам прямо, во избежание недоумений, что нет никакой надежды, чтобы они были пропущены к печатанию. Все, что пропускается, считается одобренным, а эти листы никак не могут быть одобрены. Я на словах уже объяснял вам мою мысль, а теперь, прочитав листы, сознаю ее явственно. И вас убеждаю, не настаивайте, и буде запрещение представляется вам злом, не противьтесь сему злу.
Примечания Иванцова-Платонова не только не ослабляют действие сочинения на читателя, но еще усиливают его в отрицательном смысле. Вообще примечания неискусно написаны и отрывочно. Для того чтобы противодействовать впечатлению книги, нужен цельный взгляд и глубокий анализ мысли автора и всех ходов ее — нераздельный с сочувственным к ней отношением.
По совести скажу вам: книга эта при всем добром намерении автора — книга, которая произведет вредное действие на умы. Ради этого — хотя бы сомнения — автор по совести должен бы воздержаться от ее распространения и принесть в жертву свое Я, хотя бы и вполне убежденного. Увы! истина сама странным образом переломляется, отделяясь в пущенном слове, от того ума и сердца, в которых блеснула. Первые проповедники революции и начал ее тоже думали, что они несут мир и любовь в своем девизе: fraternité, egalité. А во что превратился этот девиз на самом деле!
Душевно преданный К. Победоносцев»260.
Письмо Победоносцева очень характерно для него и проливает свет на те мотивы, какими он руководствовался в своей государственной деятельности как обер-прокурор Синода. Обращаясь к жене знаменитого русского писателя, Победоносцев
- 259 -
не находил нужным разыгрывать роль верующего православного, религиозное чувство которого было бы оскорблено теми резкими словами о церковном учении, которые встречаются на многих страницах книги Толстого. Он совершенно откровенно заявил С. А. Толстой, что считает сочинения Толстого вредными политически, как вредны были, по его мнению, учения, приведшие к французской революции; поэтому для охраны существующего общественно-политического строя следует запретить сочинения Толстого. Охранение существующего общественно-политического строя, выгодного для привилегированных классов, путем укрепления в народе церковного учения, было главной целью всей государственной деятельности обер-прокурора Святейшего синода.
Заявление, сделанное Победоносцевым С. А. Толстой о том, что «нет никакой надежды» на то, что 12-й том нового издания сочинений Толстого будет разрешен к печатанию Синодом, как это само собой разумелось, полностью оправдалось.
5 июля 1886 года из Московского духовного комитета на имя С. А. Толстой было послано следующее уведомление: «Святейший синод, принимая во внимание, что в присланных Вами в Московский цензурный комитет сочинениях графа Льва Николаевича Толстого, под названием «Исповедь» и «Как я понял учение Христа», по местам излагаются мысли и суждения, несогласные с учением православной церкви, определяет: не разрешать к печати означенные сочинения и представленные Вами корректурные листы сих сочинений хранить в синодальном архиве. Член комитета протоиерей Платон Капустин»261.
Из всего трактата русским читателям была доступна лишь часть десятой главы, напечатанная под заглавием «В чем счастье?» в первой книжке журнала «Русское богатство» за 1886 год. Этот отрывок помещался потом и в собраниях сочинений Толстого. Кроме того, русские читатели могли знакомиться с запрещенным произведением Толстого по тем выдержкам из него, которые помещались в полемических сочинениях церковных писателей, написанных с целью опровержения взглядов Толстого262.
«В чем моя вера?» появилась в России только после первой революции, в 1906 году, сразу в нескольких изданиях.
- 260 -
Глава четвертая
ОБОСТРЕНИЯ СЕМЕЙНОГО РАЗЛАДА
(1884)
I
С самого начала 1883 года в образе жизни семьи Толстых произошли большие перемены.
Старшей дочери Толстых Татьяне Львовне шел девятнадцатый год, и по обычаю того времени, соблюдавшемуся в дворянском обществе, нужно было ее «вывозить» в свет. Мать сопровождала ее в выездах.
В письмах к сестре Т. А. Кузминской и особенно в написанной позднее автобиографии «Моя жизнь» С. А. Толстая подробно описывает свою светскую жизнь в 1883 году.
«Этот год, — писала С. А. Толстая в автобиографии, — и начался и прошел в самой светской жизни, — выездах и удовольствиях всяких для моей Тани, которая так несомненно этого желала, так всем существом требовала этого и безумно веселилась, что устоять было невозможно».
Из дальнейшего рассказа С. А. Толстой видно, что она была захвачена светскими удовольствиями не в меньшей степени, чем ее юная дочь.
2 января 1883 года мать и дочь Толстые были на своем первом балу у князя А. А. Щербатова. На другой день Софья Андреевна писала сестре:
«Мы тоже, слава богу, процветаем и веселимся. Была у нас елка на первый день, потом был спектакль и детский вечер с бантиками, котильоном и проч. у Боянус (рожд. Хлюстина). Потом был французский спектакль и большой детский вечер у Тепловых. Было очень хорошо, парадно, весело. Маша и Леля танцовали до 3-х часов. Мне тоже очень было приятно. А вчера был самый настоящий бал с оркестром, ужином, генерал-губернатором и лучшим московским обществом у Щербатовых. Таня была в белом tullo Illusion с атласом и белыми акациями. Я разорилась, сшила черное бархатное платье с Alencon своим, очень вышло великолепно (стоило 250 рублей серебром). Таня очень веселилась, танцовала котильон с дирижером в первой паре, и лицо у ней было такое веселое и торжествующее, что меня
- 261 -
и всех стариков смех разбирал. До шести часов утра мы все были на бале. Я очень устала, но нашлись приятные дамы: Ермолова и Шереметьева, с которыми очень приятно время провела, и тоже смотреть довольно весело. Перезнакомилась я с такой пропастью людей, что всех и не припомнишь. Теперь мы совсем, кажется, в свет пустились: денег выходит ужас!...»
«На этом балу, первом в моей жизни, — писала С. А. Толстая в своей автобиографии, — мне было ужасно весело. Я — мать взрослой дочери, не ожидала к себе никакого отношения, и хотя это нескромно писать, но все же это правда, что и я имела тогда так называемый в свете успех». «Мы неудержимо стремились с Таней всюду, — пишет далее Софья Андреевна, — и обе, прожив всю жизнь в деревне, веселились теперь всем: и блеском балов, и весельем игры на сцене, и большим количеством приятных по внешним отношениям людей... Все нам было ново и весело. Весь февраль мы были в каком-то чаду выездов...»
Далее С. А. Толстая, забыв слова Лермонтова о свете — «завистливом и душном», вспоминает те комплименты, какие она слышала на балах по своему адресу, далее продолжает: «Все это льстило моему самолюбию, и я радовалась похвалам, чтобы передать их Льву Николаевичу и чтоб слышал о них Урусов, которого я тогда любила больше всех моих друзей»... «2 марта был большой бал в [Московском благородном] Собрании, и все лучшее московское общество было на этом бале. Моя Таня до того уж устала, что в мазурке два раза упала... Потом опять мы получали всякие приглашения... А то уговорили меня взять ложу в студенческий концерт..., и вот наше дружное светское общество взяло подряд пять лож, бенуаров; молодежи было пропасть; веселье, невинный флирт, конфеты, фрукты... Я невольно, любя и молодежь и веселье и насидевшись сама всю молодость в деревне и одиночестве, сочувствовала всему этому».
Как же Толстой относился к этому «неудержимому веселью»?
По словам С. А. Толстой, во время первых выездов его Тани вместе с матерью Лев Николаевич «вдруг повеселел, перестал упрекать». Это воспоминание С. А. Толстой подтверждается тем самым ее письмом к сестре от 3 января 1883 года, в котором она описывала свой первый бал. Здесь читаем: «Левочка в самом хорошем духе — прелесть! Дай бог, чтобы так продолжалось!» И в письме от 10 февраля: «Мы очень дружны и во все время очень слегка, один раз поспорили».
Вероятно, Толстой был рад за жену, что исполнилась ее давнишняя мечта вступить в круг светского общества и участвовать в его удовольствиях и развлечениях. Но Толстой, конечно, не предвидел, какие огромные размеры примет у его жены и дочери это увлечение светской жизнью и светскими удовольствиями.
- 262 -
Через некоторое время у него является протест против образа жизни жены и дочери, который он выражает в очень мягкой форме. В автобиографии С. А. Толстой рассказывается, что Лев Николаевич однажды зашел к ней перед ее поездкой на бал и, оглядев ее наряд (на ней было «серебристо-серое шелковое платье с белыми блондами и чайными розами»), «как будто с досадой» сказал ей: «Не могу скрыть от тебя, что ты очень красива сегодня». И тотчас же ушел.
Быть может, несколько примиряло Толстого с образом жизни его жены то, что, несмотря на свое увлечение светской жизнью, она продолжала исполнять обязанности матери и кормить грудью меньшого сына, родившегося 31 октября 1881 года. В своей автобиографии С. А. Толстая рассказывает: «Иногда поручишь кому-нибудь из маменек Таню и [с бала] уедешь домой ночью кормить Алешу. Поскорее схватишь ребенка, спустишь на пол бальное платье, покормишь, опять оденешься и летишь в карете из Хамовников на Тверскую на бал за Таней»1.
Нам неизвестно никаких резких протестов Толстого против светской жизни его жены в 1883 году. По-видимому, их в то время не было.
В 1884 году положение изменилось.
II
В декабре 1883 года возобновилась в еще более широких размерах, чем в предыдущем году, светская жизнь жены Толстого и его старшей дочери.
После бала у Самариных 28 декабря 1883 года и у московского генерал-губернатора князя Долгорукова 2 января 1884 года С. А. Толстая 9 января писала сестре:
«Чудный был бал, ужин, народ такой, что лучше бала и не было. — На Тане было розовое газовое платье, плюшевые розы, на мне лиловое бархатное и желтые всех теней Анютины глазки. Потом был бал у генерал-губернатора, вечер и спектакль у Тепловых и еще три елки для малышей, вечеринки для Лели и Маши и сегодня опять бал у гр. Орлова-Давыдова, и мы с Таней едем. У нее чудное платье tulle illusion зеленовато-голубое и везде ландыши с розовым оттенком. Завтра большой вечер у Оболенских, опять танцуют... У нас третьего дня был танцевальный вечер. Было пар 16, все как следует: котильон с затеями, буфет, все канделябры зажгли, тапер, бантики, бульон и тартинки
- 263 -
и пирожки; а в гостиной играли в карты в два стола. Вечер очень удался, всем было весело».
31 января, после нового бала у московского генерал-губернатора С. А. Толстая пишет Льву Николаевичу в Ясную Поляну: «Долгоруков вчера на бале был любезнее, чем когда-либо. Велел себе подать стул и сел возле меня, и целый час все разговаривал, точно у него предвзятая цель оказать мне особенное внимание, что меня приводило даже в некоторое недоумение. Тане он тоже наговорил пропасть любезностей. Но нам что-то совсем не весело было вчера; верно, устали слишком»2.
«Был прекрасный бал на маслянице в Лицее, — писала впоследствии С. А. Толстая в своей автобиографии. — Таня была прелестна в своем тюлевом зеленом платье с бархатными темнозелеными точками. Дирижировал граф Ностиц, и дотанцовались до того, что музыканты отказались играть. Уже было утро, когда все разъехались. Были и разные веселья для меньших детей. Так, например, был танцевальный вечер у Анпенкович, куда пригласили Леву и Машу, которая безумствовала от радости, что там будет Ваничка Мещерский, ухаживавший тогда за Таней. Но Таня внушала Маше, что Ваничка Мещерский прелестен, и Маша поверила и стала тоже его обожать»3.
Отношение Толстого к светской жизни его жены и дочери в 1884 году определилось как вполне отрицательное. Этому было много причин.
Жизнь великосветского общества была для Толстого тем же, чем и для Пушкина, который в письме к П. А. Осиповой, написанном около 26 октября 1835 года, называет свет «мерзкой кучей грязи», прибавляя, что Тригорское (имение П. А. Осиповой) ему «милее».
Отрицательное отношение к светскому обществу начало складываться у Толстого еще в молодости. В письме к В. В. Арсеньевой от 23 августа 1856 года он писал: «Насчет флигель-адьютантов — их человек сорок, кажется — а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки»4.
В «Анне Карениной» Толстой изобразил светское общество с самой отрицательной стороны. Софья Андреевна очень любила этот роман, охотно переписывала его, но не усвоила отношения автора к большому свету. И Толстой имел все основания опасаться вредного влияния праздного, роскошествующего и безнравственного светского общества не только на его старшую дочь, но и на 14-летнего Льва и 13-летнюю Машу, которые уже были вовлечены матерью в водоворот светской жизни.
- 264 -
В трактате «В чем моя вера?» Толстой строго осудил светские балы, сказав, что «увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение»5.
Толстой боялся за старшую дочь, которая в «невинном флирте», царившем, по словам С. А. Толстой, в светском обществе, могла увлечься пустым, ничтожным или прямо негодным молодым человеком. Опасался Толстой и нравственной порчи его детей-подростков, невольно заражавшихся нездоровой атмосферой, царившей на светских балах.
Неприятно было Толстому и то, что его жена, женщина уже немолодая и мать многочисленного семейства, на светских балах, к соблазну своих детей, забывала все и веселилась как девочка.
Выезды на балы и вечера требовали от С. А. Толстой больших расходов на туалеты; дорого обходилось и устройство вечеров в собственном доме. С. Л. Толстой в своих мемуарах рассказывает о матери: «После переезда в Москву она стала заботиться не только о благосостоянии себя и семьи, она стала жить роскошнее, чем прежде, и тратила гораздо больше, чем в Ясной Поляне»6.
Наконец, не мог Толстой забыть и того, что туалет каждой из дам, приезжавших на бал, переведенный на деньги, мог бы обеспечить благосостояние средней крестьянской семьи, а также и того, как старые бородатые кучера по нескольку часов мерзли у подъездов «роскошных палат», ожидая своих беспечно веселящихся господ.
В письмах к жене из Ясной Поляны в Москву 1884 года Толстой очень деликатно, но решительно высказал свое неудовольствие ее образом жизни. 30 января он писал жене: «Ты, теперь, верно, собираешься на бал. Очень жалею тебя и Таню». 2 февраля он писал ей же: «Получил твое письмо и радуюсь, что у вас все хорошо и нет балов»7.
Особенно тяжело действовал на Толстого образ жизни его жены и дочери тогда, когда он в конце 1883-го и в январе 1884 года напряженно работал над окончанием своей книги «В чем моя вера?». 23 марта, вспоминая приезд в Москву в январе его нового друга, художника Н. Н. Ге, Толстой писал ему: «Мы живем по-старому, с тою только разницей, что у меня нет такой пристальной работы, которая была при вас, и от этого я спокойнее переношу ту нелепую жизнь, которая идет вокруг меня»8.
Слишком велик был контраст между тем, что с такой искренностью
- 265 -
и воодушевлением провозглашал Толстой в своей книге, и окружающей его жизнью. В книге — возвеличение труда, бедности, простоты обстановки, пищи, одежды, а рядом — платья по 250 рублей9, балы до шести часов утра, роскошные ужины и т. д.
Однажды, когда его жена и дочь уехали на светский бал, Толстой вписал в трактат «Так что же нам делать?», которым он был тогда занят, следующие строки:
«В ту ночь, в которую я пишу это, мои домашние ехали на бал. Бал, не говоря уже о той безумной трате людских сил на несколько часов мнимого удовольствия, бал сам по себе, по своему смыслу, есть одно из самых безнравственных явлений нашей жизни. Я считаю его хуже увеселений непотребных домов, и потому, не будучи в состоянии внушить своим домашним мои взгляды на бал, я ухожу из дома, чтобы не видеть их в их развратных одеждах»10.
Разумеется, строки эти писались Толстым не для печати, а только для того, чтобы излить на бумаге переполнявшие его чувства негодования и возмущения и тем хоть отчасти освободиться от давившей его тяжести этих чувств.
Позднее Толстой в более спокойной форме в том же трактате высказал свое отвращение к светским балам. Здесь он рассказывает, как зимой около одиннадцати часов ночи, прогуливаясь по улицам Москвы (очевидно, уйдя из дома, чтобы не видеть наряжающихся на бал его семейных), он стал замечать, как «показались со всех сторон кареты, все направляющиеся в одну сторону. На козлах кучер, иногда в тулупе; лакей-щеголь с кокардой. Сытые рысаки в попонах летят по морозу с быстротой 20 верст в час; в карете дамы, закутанные в ротонды и оберегающие цветы и прически. Все, начиная от сбруи на лошадях, кареты, гуттаперчевых колес, сукна на кафтане кучера до чулок, башмаков, цветов, бархата, перчаток, духов, — все это сделано теми людьми, которые частью пьяные завалились на своих нарах в спальнях, частью в ночлежных домах с проститутками, частью разведены по сибиркам. Вот мимо их во всем ихнем и на всем ихнем едут посетители бала, и им и в голову не приходит, что есть какая-нибудь связь между тем балом, на который они собираются, и этими пьяными, на которых строго кричат их кучера.
Люди эти с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не делают, но что-то очень хорошее, —
- 266 -
веселятся на бале. Веселятся! Веселятся от 11 до 6 часов утра в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают, как прачки.
Веселье в том, что женщины и девушки, оголив груди и наложив накладные зады, приводят себя в такое неприличное состояние, в котором неиспорченная девушка или женщина ни за что в мире не захочет показаться мужчине; и в этом полуобнаженном состоянии, с выставленными голыми грудями, оголенными до плеч руками, с накладными задами и обтянутыми ляжками, при самом ярком свете, женщины и девушки, первая добродетель которых всегда была стыдливость, являются среди чужих мужчин, в тоже неприлично обтянутых одеждах, и с ними, под звуки одурманивающей музыки, обнимаются и кружатся. Старые женщины, часто так же оголенные, как и молодые, сидят, глядят и едят и пьют то, что вкусно; мужчины старые делают то же. Не мудрено, что это делается ночью, тогда, когда весь народ спит, чтобы никто не видел этого. Но это делается не для того, чтобы скрыть; им кажется, что и скрывать нечего, что это очень хорошо, что они этим весельем, в котором губится труд мучительный тысяч людей, не только никого не обижают, но этим самым они кормят бедных людей...»
Нарисовав эту отталкивающую картину, Толстой обращается к совести молодой и старой женщин, беззаботно веселившихся на балах. Он говорит:
«Ведь каждая из женщин, которая поехала на этот бал в 150-ти рублевом платье, не родилась на бале или у M-m Minangoy, а она жила и в деревне, видела мужиков, знает свою няню и горничную, у которой отцы и братья бедные, для которых выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни, — она знает это; как же она могла веселиться, когда она знала, что она на этом бале носила на своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта брата ее доброй горничной? Но, положим, она могла не сделать этого соображения; но того, что бархат, и шелк, и конфеты, и цветы, и кружева, и платья не растут сами собой, а их делают люди, — ведь этого, казалось бы, она не могла не знать; казалось бы, она не могла не знать того, какие люди делают всё это, при каких условиях и зачем они делают это. Ведь она не может не знать того, что швея, которой она была так недовольна, совсем не из любви к ней делала ей это платье; поэтому не может не знать, что все это делалось для нее из нужды, что так же, как ее платье, делались и кружева, и цветы, и бархат. Но, может быть, они так отуманены, что и этого они не соображают? Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтенных, часто хворых лакеев, горничных не спали и хлопотали из-за нее, этого она уж не могла не знать. Она видела их
- 267 -
усталые, мрачные лица. Не могла она не знать тоже того, что в эту ночь мороз доходил до 28 градусов, и что кучер-старик сидел в этот мороз всю ночь на козлах. Но я знаю, что они точно не видят этого. И если они, те молодые женщины и девушки, которые из-за гипнотизации, производимой над ними балом, не видят всего этого, их нельзя осудить: они, бедняжки, делают то, что считается старшими хорошим; но старшие-то как объяснят эту свою жестокость к людям?»11
Проповедь эта писалась Толстым прежде всего для его семьи. Молодая девушка, которая здесь упоминается, это его дочь Таня; «старшая» — его жена Софья Андреевна.
Толстой не скрывал от посторонних своего возмущения легкомысленным образом жизни жены и дочери. Писатель П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях, относящихся к 1884 году, приводит следующий разговор с ним Толстого, происходивший с глазу на глаз в его кабинете:
«— Я вот на этих днях говорю своим дамам: как вам не стыдно так жить? ... Костюмированный бал у генерал-губернатора... Разрядятся и оголят себе руки и плечи. Им с полгоря: под шубой и в теплых комнатах. А кучер старик на 20-градусном морозе ждет их до 4 часов ночи. Хоть бы к нему почувствовали жалость...»
«Это вступление, — прибавляет от себя П. Д. Боборыкин, — дало тон и всей дальнейшей беседе. Вы уже имели дело с человеком, который как раз в ту полосу своей жизни проходил через страстное отрицание всего суетного, себялюбивого, хищного и бессмысленного, чем сытые господа услаждают свое праздное существование. И в том, что предметом его обличений явились сейчас его же «дамы», не было ничего удивительного»12.
Уже после того как прекратились выезды Татьяны Львовны на балы, Толстой 15—18 декабря 1885 года пишет жене большое письмо о своем отношении к ней за последние годы. В этом письме он касается и причин тяготения Софьи Андреевны к большому свету. Он считает, что причинами были ее раннее замужество, «усталось от материнских трудов, незнание света», который представлялся ей «чем-то пленительным»; отсюда желание «составить знакомства в обществе, устроить приличную обстановку»13.
Тяготение к высшему обществу так крепко было внушено Софье Андреевне в родительском доме, что оставалось в ней на протяжении всей ее жизни. В апреле 1907 года Толстой записывает в записной книжке: «У каждого человека есть высшее
- 268 -
для него миросозерцание, — то, во имя чего он живет. И он воспринимает только то, что согласно с его миросозерцанием, нужно для него (для миросозерцания), остальное проскальзывает, не оставляя следа». Далее Толстой характеризует миросозерцание своей жены, сыновей, старшей дочери, зятя, свояка, некоторых знакомых. Миросозерцание Софьи Андреевны характеризуется им словами: «Жизнь в высшем свете с романом»14.
30 апреля того же года Толстой из записной книжки переписывает приведенную здесь мысль в следующей редакции: «У каждого человека есть высшее, то, до которого он дошел, миросозерцание, во имя которого он живет... И всякий человек способен воспринять только то, что согласно с его миросозерцанием. Все же несогласное, как бы он ясно ни понимал сказанное, прочитанное, проходит через него, не оставляя никакого следа». Не называя имени жены, Толстой здесь характеризует ее миросозерцание словами: «Есть такое миросозерцание: хороша жизнь высших светских людей с украшениями влюбления, искусства, роскоши»15.
Образ жизни самого Толстого в то же время, в связи с его новым миросозерцанием, претерпел значительные изменения. С. Л. Толстой пишет об отце: «В Москве он стал рано вставать, сам убирать свою комнату, пилить и колоть дрова, качать воду из колодца, бывшего во дворе дома, и подвозить к дому эту воду в большой кадке на салазках»16.
Француженка-гувернантка в доме Толстых Анна Сейрон в своих воспоминаниях рассказывает, что когда в колодце не оказалось воды, Толстой «бедно одетый, подобно всем прочим водовозам», спустился «к самой Москве-реке. Он употребил на этот путь целый час и вернулся домой смертельно утомленный»17.
Писатель В. А. Гиляровский вспоминал, как в начале 80-х годов он увидел в одном из переулков Арбата старика, одетого в поношенное пальто, высокие сапоги, в круглой драповой шапке, который помогал огороднику подымать телегу, груженную картофелем, и подбирал с мостовой рассыпавшийся картофель. Извозчик, везший Гиляровского, сказал: «Свой дом в Хамовницком переулке, имение богатое... Настоящий граф-Толстой по фамилии...» и добавил, что Толстой помогал извозчикам укладывать дрова на извозчичьем дворе18.
- 269 -
III
27 января 1884 года Толстой на короткое время уехал из Москвы в Ясную Поляну, чтобы отдохнуть от напряженной, поглощавшей все его силы работы, от тяжелой семейной атмосферы и вообще утомлявшей и неприятной для него московской жизни.
Манил его к себе и новый замысел народной пьесы, которой он надеялся заняться в уединении. «Обдумываю ее [пьесу], — писал он жене 30 января, — с большим удовольствием. И, как всегда, все разрастается и, главное, углубляется и делается очень (для меня) серьезно»19.
Вероятно, в связи с этим замыслом Толстой вновь перечитывает Шекспира в «прекрасном» немецком переводе, но остается при прежнем о нем мнении. Он читает «Кориолана», но находит, что пьеса эта «несомненная чепуха, которая может нравиться только актерам»; читает «Макбета» «с большим вниманьем», но находит, что трагедия эта, как и другие вещи Шекспира, — «балаганные пьесы, писанные умным и памятливым актером, который начитался умных книг»20.
Также, очевидно, в связи с замыслом народной драмы, Толстой читает составленную П. А. Бессоновым и изданную в шести выпусках в 1861—1864 годах книгу «Калики перехожие. Сборник духовных стихов и исследование».
31 января Толстой писал жене: «Не берусь за работу, потому что не хочется взяться и бросить. Она укладывается в голове». 2 февраля Толстой «попытался утром работать, но не пошло», и он не «стал баловать»21.
Других попыток работы у Толстого в этот его приезд в Ясную Поляну не было. Он отдыхал. Гулял, охотился, шил башмаки Агафье Михайловне, жившей на покое бывшей горничной его бабушки, слушал рассказы о жизни яснополянских крестьян. Нужда у крестьян была так велика, что Толстой не видел возможности облегчить ее путем денежной помощи, о чем 3 февраля писал жене: «Полезное сделать даже не приступаю, так это невозможно трудно».
2 февраля Толстой писал жене: «Ты, душа моя, пожалуйста, на меня не пеняй и мне не завидуй. Мне это уединение очень хорошо, если я и ничего не напишу»22.
Девять писем, написанных С. А. Толстой Льву Николаевичу в Ясную Поляну с 27 января по 5 февраля 1884 года,
- 270 -
очень характерны как показатели крайней переменчивости ее отношении к мужу на протяжении этих десяти дней23. Письма посвящены главным образом описанию смены ее настроений, а также описанию времяпрепровождения ее детей. 4 февраля Софья Андреевна писала: «Твои письма коротки и сухи, но я других не заслуживаю, сама и спутана и не кротка. Прощай, на меня тоже не сердись; по тому, как я жду твоих писем, знаю наверное, как ты мне дорог, и как без тебя я ничто».
Но проходит всего только один день, и 5 февраля Софья Андреевна пишет сестре: «Вчера Сергей Николаевич вернулся из Тулы и видел Левочку в Ясной Поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрепанный и невеселый, шьёт ботинки Агафье Михайловне. Учитель школьный читает вслух Жития святых. В Москву до тех пор не вернется, пока я его не вызову, или пока у нас что не случится. Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни просто обязанностей — и у меня все больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого»24.
Поводом к обвинению Толстого его женой в том, что он не исполнял своих обязанностей по отношению к семье, на этот раз служило то, что «старшие мальчики», как называла Софья Андреевна семнадцатилетнего Илью и четырнадцатилетнего Льва, к ее огорчению, неуспешно проходили курс гимназического обучения. В письмах к Льву Николаевичу в Ясную Поляну Софья Андреевна жаловалась, что Лев очень плохо учится, а Илья до поздней ночи играет в винт, выступает на любительских спектаклях, снаряжает свою собаку на выставку, а ученьем совсем не занимается.
Толстой мало интересовался учебными занятиями своих сыновей, потому что видел, что учатся они не ради приобретения знаний, а только для того, чтобы получить диплом и занять привилегированное положение — по выражению Толстого, «сесть народу на шею». 4 апреля 1884 года Толстой записал в дневнике: «Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости — экзамены, успехи света, музыка, обстановка, покупки — все это я считаю несчастьем и злом для
- 271 -
них»25. То же писал Толстой жене 15—18 декабря 1885 года: «Все то, что ты делала: и переезд в Москву, и устройство тамошней жизни, и воспитание детей, — все это уже было до такой степени чуждо мне, что я не мог уже подавать в этом никакого голоса, потому что все это происходило в области, признаваемой мною за зло»26.
Толстой видел то пагубное влияние, какое оказывали на детей несогласия родителей во взглядах на основные вопросы жизни. Позднее он говорил своему будущему зятю М. С. Сухотину: «Беда, когда в семье нелады между мужем и женой. Эти нелады очень дурно отзываются на детях. Вот, например, у нас. Мать говорит, что надо хорошо учиться, ходить в церковь, посещать так называемое хорошее светское общество. Я говорю, что важно не ученье, а честная, целомудренная и трудовая жизнь; в церковь ходить не следует; следует удаляться от так называемого хорошего общества. А дети наши делают выборку между противоположными убеждениями отца и матери с точки зрения того, что для них легко и приятно. Учиться скучно — отец прав; светское общество заманчиво — мать права; ходить в церковь скучно — отец прав; трудовая жизнь тяжела — мать права...»27
Толстой считал нужным указать своему четырнадцатилетнему сыну Льву, что напрасно он считает себя единомышленником отца по вопросу о гимназическом обучении. В мае 1884 года в Москве Лев говорил матери, будто бы отец сказал ему, что он будет очень огорчен, если Лев выдержит экзамены. Приехав в том же месяце из Москвы в Ясную Поляну, Софья Андреевна рассказала об этом Льву Николаевичу. Толстой счел нужным разъяснить Льву недоразумение, кроющееся в этих словах.
«Я не мог сказать этого», — писал Толстой в своем письме к сыну. Далее он пояснял, что, по его мнению, «человеку никогда не надо переменять свое внешнее положение, а надо постоянно стараться переменять свое внутреннее состояние, т. е. постоянно становиться лучше. (А лучше, — пояснял далее Толстой, — значит быть более полезным и приятным другим) ... Если бы у тебя было в виду дело более полезное другим, чем гимназия, и ты бы уж начал его и знал, что оно хорошо, и не мог бы отстать от него, тогда бы ты мог бросить гимназию. А так как у тебя (к сожалению) нет другого дела и даже представления о другом деле, кроме своего plaisir’а [удовольствия],
- 272 -
то самое лучшее для тебя есть гимназия. Она, во-первых, удовлетворяет требованиям от тебя мама, а во-вторых, дает труд и хотя некоторые знания, которые могут быть полезны другим... Бросить начатое дело по убеждению или по слабости и бессилию — две разные вещи, — внушал Толстой сыну. — А у тебя убеждений никаких нет, и хотя тебе кажетсч, что ты все знаешь, ты даже не знаешь, что такое убеждения и какие мои убеждения, хотя ты думаешь, что ты это очень хорошо знаешь. Но это и рано еще».
Письмо заканчивается пожеланием отца, чтобы его сын «хоть немножко, изредка» старался «быть лучше и обдумывать себя и работать над собой»28.
Это письмо выясняет то общее направление, в котором Толстой старался воспитывать своих детей, борясь с влиянием жены, которая стремилась только к тому, чтобы ее дети были comme il faut в обычном светском значении этих слов29.
IV
В декабре 1882 года Толстой получил датированное 18 декабря письмо от деятельницы по народному образованию, основательницы (в 1862 году) и бессменной преподавательницы харьковской женской воскресной школы Христины Даниловны Алчевской.
В своем письме Х. Д. Алчевская рассказывала о работе руководимого ею коллектива харьковских учительниц по изучению книг, поступающих в школьные библиотеки для внеклассного чтения учащихся в народных школах. Каждая книга рецензировалась педагогами, а затем выдавалась для чтения десяткам учениц разных возрастов и различного развития, после чего педагоги расспрашивали учениц, понравилось ли им прочитанное, и как оно было ими усвоено. Ответы учениц и пересказы ими прочитанного записывались в школьные тетради.
Х. Д. Алчевская обращалась к Толстому с вопросом, следует ли напечатать сборник рецензий учительниц и отзывов учениц о прочитанных книгах. Не будет ли слишком смело им — дилетантам — выступать в печати с такого рода книгой?
Для образца при письме было приложено несколько отзывов учениц о прочитанной ими легенде Толстого «Чем люди живы»30.
- 273 -
Как писал Толстой Х. Д. Алчевской вскоре по получении ее письма (ответ Толстого не датирован), отзывы учениц о его легенде привели его «в сильнейшее волнение», читая их, он «плакал от умиления».
Он вполне одобрил намерение Х. Д. Алчевской и руководимого ею коллектива напечатать «и отзывы учащих, преимущественно в форме сведений о том, что больше читается и лучше передается, и отзывы учащихся в форме пересказов прочитанного с наивозможной точностью передачи». Эти пересказы учащихся, по мнению Толстого, будут вместе с тем и «самым верным и серьезным отзывом». «Сколько раз я замечал в своей практике: все хорошее, все правдивое, гармоничное, меткое запоминается и передается; все фальшивое, накладное, психологически неверное пропускается или передается в ужасающем безобразии». «Кроме того, — прибавлял Толстой, — пересказы эти драгоценны по отношению к русскому языку, которому мы только начинаем немножко выучиваться».
«Я так люблю это дело, и письмо ваше так расшевелило во мне старые дрожжи... — писал Толстой далее. — Очень благодарю вас за ваше письмо и желаю успеха вашему прекрасному делу»31.
Книга, рекомендованная к изданию Толстым, вышла в свет в январе 1884 года под названием «Что читать народу?» Критический указатель книг для народного и детского чтения. Составили учительницы харьковской частной женской воскресной школы Х. Д. Алчевская, Е. Д. Горбунова, А. П. Гриценко и другие.
Этот огромный том в 785 страниц мелкой печати разделялся на отделы: духовно-нравственный, литературный, естествознание, сельское хозяйство и медицина, история, биографии, география и путешествия, земское дело и народное хозяйство. Всего по всем отделам было прорецензировано 1007 книжек. В литературный отдел входили рецензии на произведения Жуковского, Пушкина, Шевченко, Кольцова, Гоголя, Лермонтова, Марко Вовчка, Тургенева, Некрасова, Л. Н. Толстого, Островского и других, и зарубежных писателей: Бичер-Стоу, Жюля Верна, Жорж Санд, Ожешко, Майн-Рида, Купера, Вальтер Скотта и других. Из произведений Толстого были прорецензированы: легенда «Чем люди живы», рассказы «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник» и ряд рассказов и статей по естествознанию (во втором издании книги, вышедшем в 1888 году, появились рецензии на другие народные рассказы Толстого). Толстой очень внимательно прочел рецензии, входящие в состав литературного отдела книги «Что читать народу?».
- 274 -
Книга «Что читать народу?» не только очень заинтересовала Толстого, но и послужила для него толчком к началу новой деятельности — работе над книгами для народа. Об этом мы имеем свидетельство самого Толстого.
14 апреля 1884 года в беседе с Х. Д. Алчевской в Москве Толстой сказал ей: «Мы задались целью ответить на вопрос, поставленный вашей разумной книгой, — на вопрос, что читать народу. Она — ваша книга — дала нам эту мысль, так и знайте, мы не хоронимся с этим. Скажу более: она вызвала движение, расшевелила дремавший вопрос. Спасибо ей»32.
Хотя мемуаристкой в данной записи явно не схвачен разговорный язык Толстого («расшевелила дремавший вопрос» Толстой не мог сказать), тем не менее мы не имеем оснований сомневаться в самом смысле слов Толстого, записанных Х. Д. Алчевской.
По-видимому, Толстой познакомился с книгой Алчевской еще в Москве в январе 1884 года. Вероятно, под влиянием чтения этой книги у него и явилась мысль о народной пьесе, к исполнению которой, как сказано выше, он приступил в Ясной Поляне 2 февраля.
Сюжет пьесы был заимствован из жития Петра Мытаря. Это житие — одно из немногих, в которых, с одной стороны, ясно выступает нравственный смысл, с другой — совсем нет чудесного элемента (если не считать чудесным наставительного сна, который видит Петр). Для Толстого это житие было особенно привлекательно тем, что он видел в нем воплощение того христианского идеала нищеты, труда, бездомности, бессемейности, неизвестности, к которому он сам стремился всей душой, но который ему не удавалось осуществить в своей жизни.
Содержание этого жития в следующем.
«В африканской стране» жил сборщик податей по имени Петр; «человек богатый, но не милостивый, жалости к нищим не имевший».
Однажды между нищими того города, где жил Петр, зашел разговор о том, получил ли кто из них когда-либо милостыню от Петра; такого не нашлось ни одного. Тут выступил один нищий и заявил, что он берется на спор выпросить у Петра милостыню. Он пошел к дому Петра, который в это время вез хлеб на княжий двор, и стал клянчить у него милостыню. Петр пришел в ярость и стал искать около себя камень, чтобы бросить им в нищего, но камня поблизости не нашлось, и он бросил в нищего хлебом. Нищий с торжеством вернулся к своим товарищам — он выиграл спор.
- 275 -
Вскоре Петр тяжело заболел и в болезни увидел сон. Стоит он будто бы перед судилищем, где взвешиваются все его добрые и злые дела; злых дел оказалось множество, а добрых — только один хлеб, брошенный в нищего. Но чаша весов с одним этим хлебом перетянула чашу со множеством злых дел Петра Мытаря. И Петр услыхал голос: «Иди, убогий Петр, и приложи еще добрых дел к хлебу тому, чтобы не погибнуть тебе».
Петр проснулся и стал думать над тем, что видел во сне. Он изменил всю свою жизнь, роздал все свое имение бедным, оставив при себе только одного из рабов, и велел этому рабу отправиться с ним в Иерусалим и там продать его в рабство христианину, а полученные деньги отдать бедным. Раб сначала отказывался, но потом исполнил приказание Петра и продал его в Иерусалиме своему знакомому серебрянику Зоилу.
Зоил полюбил Петра; Петр прожил у него несколько лет, работая всякую работу, какую поручал ему хозяин. Через некоторое время Зоил предложил Петру выйти на свободу, но Петр отказался и прожил бы у Зоила до самой смерти, если бы не приехали к Зоилу из той страны, где раньше жил Петр, купцы, торговавшие золотом и серебряными вещами. Они узнали Петра и стали просить хозяина отпустить его с ними, так как их князь очень тоскует по нем. Услыхав это, Петр сейчас же бежал из дома своего хозяина. За ним отправили погоню, но нигде не нашли его. И так до самой смерти своей Петр скрывался и умер неизвестно где.
Приступив к работе над народной пьесой на основе сюжета жития Петра Мытаря, Толстой написал план всей пьесы, в котором старался приблизить действие и обстановку задуманной пьесы к реальным условиям жизни, и вывел несколько новых лиц, не действующих в житии. Таковы: друг Петра, старающийся смягчить его жестокость и скупость; жена, поддерживающая Петра в его жестокосердии и алчности; старец, подающий советы. Вводится сцена раздачи Петром народу после перемены в его жизни мешков с хлебом: толпа бросается за хлебом, происходит давка, одну старуху задавили до смерти. Старец не одобряет этого способа помощи бедным. Оставшись один, Петр произносит монолог о собственности и затем приказывает своему рабу продать его в рабство.
Живя у хозяина, Петр также произносит монолог о богатстве и собственности, о неравенстве, о тщете богатства и оказывает благотворное влияние на своего хозяина.
Финал задуманной пьесы напоминает финал легенды «Чем люди живы». Друг Петра, повсюду разыскивая его, приходит к хозяину, у которого жил Петр; Петр, опасаясь, что его узнают, «бежит на крышу и улетает», — подразумевается: чудесным образом. Старец произносит речь.
- 276 -
Кроме общего плана, Толстой написал два варианта первого действия задуманной пьесы.
По первому варианту на площади перед домом Петра Мытаря сидят нищие — слепые, безногие, безрукие, и просят милостыню; им подают. Трое «калик перехожих» поют духовные стихи. Помечено, что духовные стихи, которые они поют, нужно взять из сборника П. А. Бессонова «Калики перехожие»; указаны выпуск и страница книги. Этот вариант зачеркивается и пишется другой, более краткий.
Было намечено и второе явление первого действия. Петр Мытарь везет хлеб на продажу и швыряет хлебом в назойливого нищего. Была написана еще следующая ремарка ко второму действию: «Маленькая горница в доме Петра Мытаря. Петр Мытарь лежит больной раскидавшись на постели. Явление первое. Жена и врач (входит)».
На этом работа Толстого над народной пьесой прекратилась33. Заглавия начатая пьеса не получила. Толстой остался недоволен написанным, считая, что работа «не пошла», и отложил продолжение ее на неопределенное время.
Рукопись начатой пьесы Толстой положил в книгу П. А. Бессонова, и книга была поставлена на свое место в яснополянской библиотеке.
В 1885 году, когда уже образовалось издательство «Посредник», Толстой вспомнил о житии Петра Мытаря. 1 или 2 июня он писал П. И. Бирюкову, в то время заведовавшему издательством «Посредник»: «Житие Петра Мытаря надо бы изложить и издать... Я было начал делать из него народную драму, но затерял начало; да если бы и нашел, то постарался бы докончить в драматической форме»34.
Житие Петра Мытаря было написано одним из сотрудников «Посредника», а Толстой так и не нашел рукописи начатой пьесы.
В 1894 году в Ясной Поляне предполагалось устройство спектакля в исполнении младших детей Толстого и крестьянских мальчиков. Для этого спектакля Толстой 15 июля 1894 года, как записано у него в дневнике, продиктовал дочери Марии Львовне полный текст «драмы Петра Мытаря», назвав ее «Петр Хлебник». Но спектакль не состоялся, и продиктованная Толстым пьеса при жизни его не исполнялась35.
Написанные Толстым первое действие и план всей пьесы были найдены в книге П. А. Бессонова «Калики перехожие» при просмотре яснополянской библиотеки в 1914 году.
- 277 -
V
В феврале — марте 1884 года Толстой был очень увлечен обдумыванием нового предприятия — издания хороших общедоступных книг, замысел которого возник у него под влиянием чтения книги Х. Д. Алчевской «Что читать народу?»
17 февраля он писал В. Г. Черткову: «Я увлекаюсь все больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегаю слова «для народа», потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа... Не верится, чтобы вышло, боюсь верить, потому что слишком было бы хорошо. Когда и если дело образуется, я напишу вам»36.
В конце февраля Толстой опять пишет В. Г. Черткову: «Мое занятие книгами больше и больше захватывает меня. Хотелось бы отплачивать, чем могу, за свои 50-летние харчи. Не пишу вам подробно потому, что кое-как рассказать не хочется, а мысль мне очень дорога, да еще и подвергнется многим изменениям, когда начнется самое дело»37.
Около Толстого образовался кружок лиц, сочувствующих делу народного издательства, в который входили: гласный Московской городской думы М. П. Щепкин, земский деятель Р. А. Писарев, издатель «Народной библиотеки» В. Н. Маракуев и другие лица. Все намеченные к изданию книжки должны были получить одобрение Толстого. Материальную сторону нового издательства предполагалось поручить В. Н. Маракуеву.
7 марта 1884 года Р. А. Писарев писал В. Г. Черткову: «Толстой продолжает находиться в том же живом настроении, и возвратившись из деревни он с большим еще интересом относится к вопросу об издании доступных для грамотного люда книг. Он задается мыслью издавать такого рода книги, которые имеют вечное, мировое значение, и при этом не имея в виду лишь один народ, но вообще всех, исходя из той точки зрения, что эти творения должны быть читаны всеми и одинаково для всех будут понятны. Черпать эти издания он предполагает в древних и средневековых классиках, не гнушаясь и нашими летописями, былинами и т. п. Как примеры он выставляет возможность и необходимость издать Геродота, Монтеня, Паскаля, конечно, не целиком, а делая выборку. Третьего дня у него — Толстого — было собрание людей, сочувствующих этому делу. На первый раз Толстой собрал человек десять, но в этот вечер ни к чему окончательному еще не пришли.
- 278 -
Мысль эта, несомненно, хорошая, и так было бы хорошо, если бы она осуществилась. Толстой очень горячо относится к ней»38.
В числе десяти лиц, присутствовавших на устроенном Толстым совещании, кроме Р. А. Писарева можно с уверенностью назвать М. П. Щепкина, В. Н. Маракуева и близкого Толстому профессора Московского университета С. А. Усова. Возможно, что на это совещание Толстой пригласил и других знакомых ему московских профессоров, а также Н. Н. Златовратского.
Сохранился черновик, написанный Толстым для себя, его предполагаемой речи на этом собрании39.
Враг всякой официальности и формализма, Толстой начинает свою речь словами: «Вот что». Затем он ставит две точки и приступает к рассмотрению вопроса: чем объяснить то, что хотя существует очень много «сочинителей» и издателей книг для народа, сочинители, составители и писатели не достигают того, чего хотят, и читатели из народа не получают, чего хотят.
Толстой видит три причины этого безотрадного явления: «одна — что сытые не накормить хотят голодного, а хотят настроить голодного известным, для сытых выгодным, образом; другая — что сытые не хотят давать того, что точно их питает, а дают только ошурки, которые и собаки не едят; третья — что сытые совсем не так сыты, как они сами воображают, а только надуты, и пища-то их самих нехороша».
К литературе первой категории относятся, по мнению Толстого, все религиозные издания монастырей, религиозных обществ, пашковцев и т. п. — издания, имеющие целью возбудить в читателях «известное настроение, почему-нибудь желательное для издателей».
«Но настроение, — говорит Толстой, — может быть передаваемо только художественным произведением... Только поэзия, которая не зависит от целей, может передавать настроение, а дидактическое, не имеющее ни разумного, ни научного, ни художественного достоинства, не только бесполезно, но вредно, возбуждая презрение к книге... Очень понятно, что голодные
- 279 -
никак не хотят принимать то подобие пищи, которое бьет на то, чтобы их как-то настроить по-новому, не привычному им».
Другой разряд книг, входящих в состав так называемой народной литературы, это те книги, которые пишутся людьми, неспособными что-нибудь написать для людей образованных. Приходится, — говорит Толстой, — слышать такие речи: «Я никуда не гожусь, не попробовать ли писать для народа?» И они пишут разные истории и рассказы для народа.
Такие речи и такое сочинительство вызывает у Толстого глубокое возмущение. Он говорит: «То, что для нас, десятков тысяч, не годится, то годится для миллионов, которые теперь сидят с разинутыми ртами, ожидая пищи. Да и не в количестве главное дело, а в том, при каких условиях находимся мы, не признавшие годным для себя это кушанье, и в каких условиях они, для которых мы признаем кушанье годным? Мы, не признающие этих ошурков, напитаны уже хорошо... А они девственны, ядок во всех формах — и лжи художественной, и фальши всякого рода, и логических ошибок — попадает в пустой желудок».
И Толстой вспоминает, как немецкий писатель Бертольд Ауэрбах, с которым он виделся в Берлине в 1861 году, сказал «очень хорошо», что «для народа самое лучшее, что только есть, только оно одно годится».
Третий разряд книг, предлагаемых народному читателю, это, по словам Толстого, «наша самая пища, но такая, которая годится нам, сытым с жиру, которая надувает нас, но не кормит, и от которой, когда мы предлагаем ее народу, он тоже отворачивается».
Творцами той пищи, которая только «надувает» образованное общество, но «не кормит» его, и от которой народ отворачивается, оказываются — по Толстому — наши знаменитые писатели и поэты, которых он тут же перечисляет: Пушкин, Жуковский, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тургенев, Толстой, а также историки и духовные писатели последних лет (они не названы). «Мы питаемся этим, и нам кажется, что это самая настоящая пища, а он не берет».
Чувствуя, насколько это его утверждение поразит слушателей, Толстой считает себя обязанным пояснить свою мысль. Он пишет: «В наше время мы, образованные люди, выработали (в особенности школой) искусство притворяться, что мы знаем то, чего не знаем, делать вид, что вся духовная работа человечества до нас нам известна... У нас выработалось искусство быть вполне невежественным с видом учености».
«Если два собеседника, — продолжал Толстой, — в разговоре упоминали о Сократе, о книге Иова, об Аристотеле, об Эразме, о Монтене, о Данте, Паскале, Лессинге и продолжают говорить о них, то подразумевается, что они достаточно знают
- 280 -
этих мыслителей. А попробуйте спросить их подробнее о мыслях тех, кого они упомянули, вы увидите, что ни тот, ни другой их не знают».
Переходя к прямому ответу на поставленный вопрос, Толстой далее говорит:
«С тех пор, как есть история, есть выдающиеся умы, которые сделали человечество тем, что оно есть. Эти высоты умственные распределены по всем тысячелетиям истории. Мы их не знаем, закрыли от себя и знаем только то, что вчера и третьего дня выдумали сотни людей, живущих в Европе. Если это так, то мы и должны быть очень невежественны; а если мы невежественны, то понятно, что и народ, которому мы предлагаем плоды нашего невежества, не хочет брать его. У него чутье неиспорченное и верное».
Почему же народ отвергает ту умственную пищу, которую предлагает ему образованное общество?
На этот вопрос Толстой отвечает:
«Мы предлагаем народу Пушкина, Гоголя, — не мы одни: немцы предлагают Гете, Шиллера, французы — Расина, Корнеля, Буало — точно только и свету, что в окошке, — и народ не берет. И не берет потому, что это не пища, а это hors d’oeuvres, десерты. Пища, которой мы живы, не та; пища эта — все те откровения разума, которыми жило и живет все человечество и на которых выросли Пушкины, и Корнели, и Гете... Этим только можно питаться не народу одному, но всякому человеку... Народ не берет нашей пищи: Жуковского, и Пушкина, и Тургенева, — значит, пища не скажу дурная, но не существенная.
Вся неудача происходит от путаницы понятий: народ и мы, не народ, интеллигенция. Этого деления не существует. Мы все — безралично от рабочего мужика до Гумбольта — имеем одни знания и не имеем других... Надо найти ту [пищу], которая существенна. Если мы найдем ее, то всякий голодный возьмет ее».
И подобно тому как за два года до этого свою речь по поводу московской переписи на заседании городской Думы Толстой закончил призывом соединить дело переписи с делом помощи нуждающимся, так и теперь свою речь об издании книг «для образования русских людей» он закончил призывом:
«Соберемтесь все те, которые согласны в этом, и будем, каждый в той области, которая ему больше знакома, передавать те великие произведения ума человеческого, которые сделали людей тем, чем они есть. Соберемтесь, — будем собирать, выбирать, группировать и издавать это».
После речи Толстого начались высказывания присутствовавших. Не все слушатели усвоили точку зрения Толстого на народное чтение. Как писал Толстому 6 марта М. П. Щепкин, некоторые из присутствовавших встали на ту точку зрения,
- 281 -
которую отрицал Толстой. «Задача предприятия, — писал М. П. Щепкин, — получилась в том, чтобы учить народ, действовать на него посредством издания книг, которые так называемая интеллигенция признала бы для него полезными».
Другие высказывались за то, чтобы издавать такие книги, которые были бы полезны для обиходной жизни крестьянина, в том числе и лечебники.
Толстой предложил в виде опыта издать несколько книг для народного чтения и на основании отзывов народного читателя об этих книгах решить, «какая именно пища нужна народу и какую он охотно принял бы из наших рук». Щепкин не согласился с этим предложением. Он писал Толстому, что, по его мнению, необходимо сначала условиться в понимании того, что следует разуметь под именем народного чтения, а потом уже приступить к делу издания. Договориться об этом, по мнению Щепкина, можно лишь в более тесном кругу лиц, сочувствующих начинанию Толстого40. При этом Щепкин склонялся к тому, чтобы задуманному Толстым обществу придать официальный характер, к чему Толстой не был расположен.
Собрание разошлось, не придя ни к какому определенному практическому решению по поставленному вопросу.
VI
Продолжению и развитию мыслей, высказанных Толстым в своей речи, была посвящена его беседа с Х. Д. Алчевской, состоявшаяся 14 апреля 1884 года в Москве.
Здесь Толстой говорил, что предлагаемая народу литература делится на четыре сорта.
Во-первых, лубочная литература41. «Ее любит народ, — сказал Толстой, — и он прав, так как в ней попадается много ценного, истинно поэтического и неподдельно народного. Но вместе с тем в ней масса цинизма и грязи, которые систематически деморализуют народ».
- 282 -
Второй сорт народной литературы — литература тенденциозная. «Ее не любит народ, — говорил Толстой, — не люблю и я и считаю себя не в праве прививать народу ни тенденции «Московских ведомостей», с одной стороны, ни доктрины «Отечественных записок», с другой. Я сам не знаю, в них ли истина, и, быть может, народ выберет иной путь вернее и безошибочнее».
Третий сорт — литература бездарная, о которой не стоит говорить.
И, наконец, четвертая категория — это литература Тургеневых, Толстых и Достоевских. «Ее не принимает народ, так как это — пирожное, а не хлеб насущный. Я умею готовить и отлично могу приготовить утонченные любимые блюда моих приятелей, но в то же время не умею сварить щи с салом. Так и тут».
Все четыре категории для народа не годятся.
Но «есть гиганты мысли, есть гении, завещавшие миру великие сокровища своего ума. Они доступны каждому человеческому сердцу; история уже отвела им надлежащее место и зовет их провозвестниками истины и добра. Таких людей, такие творения необходимо популяризировать для народа».
Собеседница Толстого выразила несогласие с его мнением о том, что Тургенев, Толстой, Достоевский недоступны для народа, ссылаясь на «Записки охотника» Тургенева.
Толстой вспомнил, что в книге «Что читать народу?» указываются два рассказа из «Записок охотника» — «Певцы» и «Живые мощи» — как произведения, доступные народу. Таким образом из целой книги Тургенева выбраны только два рассказа. «Возьмите другие, капитальные произведения — они никуда не годятся», — прибавил Толстой.
На вопрос Х. Д. Алчевской, как он находит понимание народом сочинений Островского, Толстой ответил: «Прелестно. Я давно не читал Островского и не виделся с ним, а потому и впечатления от его произведений как-то улеглись и стушевались. Но по прочтении этих отзывов он вдруг опять вырос передо мной во весь рост, и я пришел в такой азарт, что собрался одеваться и ехать к нему делиться впечатлениями, да что-то помешало».
В заключение Толстой выразил желание побывать в школе Х. Д. Алчевской, послушать пересказ прочитанных рассказов городским населением «с пахнувшей на него цивилизацией. Насколько, с одной стороны, осветила она его ум, а, с другой, деморализовала. Вот вопрос, представляющий величайший интерес», — говорил Толстой42.
Х. Д. Алчевская, как записал Толстой в дневнике, произвела
- 283 -
на него впечатление «умной и дельной» женщины, но неприятно поразил ее наряд — бархатное платье. Толстой же, по ее описанию, пришел к ней в своей обычной одежде, которую он ни для кого не менял: поношенная серая блуза, подпоясанная кожаным ремнем, широкие серые шаровары, запрятанные в сапоги грубой работы, узкое порыжелое пальто нараспашку. Швейцар гостиницы, в которой останавливалась Алчевская, не хотел даже его впускать.
Когда же после ухода Толстого Х. Д. Алчевская объяснила ему, кто у нее был, и начала рассказывать о том, кто такой Толстой, швейцар перебил ее и сказал: «Как же-с, мы очень даже об них наслышаны. Говорят, они очень умные, хорошо сочиняют и к тому же простонародьем очень интересуются»43.
VII
Считая, что русские люди в первую очередь должны ознакомиться с великими мудрецами древности, Толстой в феврале 1884 года снова приступил к изучению древних китайских философов в европейских переводах, прежде всего Конфуция (551—479 до н. э.). В конце февраля он писал В. Г. Черткову:
«Читаю Конфуция второй день. Трудно представить себе, что это за необычайная нравственная высота. Наслаждаешься, видя, как это учение достигает иногда высоты христианского учения».
11 марта Толстой писал ему же:
«Я занят очень китайской мудростью. Очень бы хотелось сообщить вам и всем ту нравственную пользу, которую мне сделали эти книги»44.
Чтение Конфуция не один раз отмечено в дневнике Толстого 1884 года. Так, 7 марта он «читал о Конфуции»; 11 марта записано: «Учение середины Конфуция удивительно. Все то же, что и Лаоцы: исполнение закона природы — это мудрость, это сила, это жизнь... Но оно тогда оно, когда оно просто, незаметно, без усилия, и тогда оно могущественно. Не знаю, что будет из этого моего занятия, но мне оно сделало очень много добра».
21 марта снова запись о чтении Конфуция, а 29 марта записывается: «Читал Конфуция. Все глубже и лучше. Без него и Лаоцы Евангелие не полно. И он ничего без Евангелия». 30 марта: «Читал Конфуция. Надо сделать это общим достоянием». 31 марта опять отмечено чтение Конфуция. 8 апреля записано: «Читал Великое учение» и Учение о середине. Все яснее и действительнее».
- 284 -
Толстой начал писать изложение учения Конфуция под названием «Китайская мудрость. Книги Конфуцы», присоединив к нему книгу Конфуция «Великое учение» в своем переводе с английского перевода. Основные положения учения Конфуция изложены в этом сочинении в виде семи пунктов, очень близких к учению Толстого. Первое положение гласит: «Великое учение, иначе сказать — мудрость жизни, в том, чтобы раскрыть и поднять то начало света разума, которое мы все получили с неба. Оно состоит в том, чтобы обновить людей; оно состоит в том, чтобы свое последнее назначение полагать в совершенстве, иначе сказать — в совершенном благе».
Последние два положения книги «Великое учение» Конфуция говорят о том, что «От царя и до последнего мужика одна обязанность для всех: исполнять и улучшать самого себя, иначе сказать — самоусовершенствование. Это — основание, на котором строится все здание улучшения людей». «Не может того быть, чтобы здание было в порядке, когда основание, на котором оно стоит, в расстройстве».
Начатое Толстым изложение учения Конфуция не было закончено и появилось в печати только после смерти автора45.
Несколько изречений Конфуция по метафизическим и нравственным вопросам, очень близких взглядам Толстого, записаны в переводе Толстого в тетради его дневника 1884 года. Вот некоторые из этих изречений.
«Сладкие речи — яд, горькие — лекарство».
«Кто бьет на самое лучшее, добьется хорошего, а кто бьет только на хорошее, тот никогда не дойдет до него».
«Настоящий человек всегда как дитя».
«Себя попрекай, в чем других попрекаешь, а других прощай, в чем себя прощаешь».
В той же тетради дневника находим следующие недатированные записи, относящиеся к религиозному учению конфуцианства:
«Конфуций не упоминает о Шанг-ти — личном боге, а всегда только о небе. А вот его отношение к миру духовному. Его спрашивают, как служить духам умерших? Он сказал: «Когда вы не умеете служить живым, как вы будете служить мертвым?» Спросили о смерти. [Он ответил:] «Когда вы не знаете жизни, что вы спрашиваете о смерти?» Спросили, знают ли мертвые о нашем служении им? Он сказал: «Если бы я сказал, что знают, я боюсь, что живые погубили бы свою жизнь, служа им; если бы я сказал, что не знают, я боюсь, что совсем бы забыли о них. Вам незачем желать знать о том, что знают мертвые. Нет в этом нужды. Вы всё узнаете в свое время».
- 285 -
«Что есть мудрость? — Искренно отдаваться служению людям и держаться дальше от того, что называют духовным миром — это мудрость».
Изложенные здесь ответы на философские вопросы очень близки к взглядам Толстого по тем же вопросам, изложенным в трактате «В чем моя вера?».
Далее следует запись выраженных в оригинальной форме афоризмов Конфуция по общественно-политическим вопросам, также достаточно близких к взглядам Толстого. Например:
«Управлять значит исправлять. Если вы ведете народ правильно, кто посмеет жить неправильно?»
«Было много воров. Спросили: как от них избавиться? — «Если бы вы сами не были жадны, то вы бы деньги платили им, и они не стали бы воровать».
«Спросили: хорошо ли для блага добрых убивать дурных? — «Зачем убивать? Пусть ваши желания будут добрые, и все будут добры. Высшее все равно как ветер, а низшее — как трава. Ветер дует, трава гнется».
Изучая Конфуция, Толстой одновременно изучал и другого китайского мудреца Лаоцы или Лао Тзе (по современной транскрипции, Лао Цзы; V—IV вв. до н. э.). Книгу Лао Тзе «Тао-Те-Кинг» Толстой читал во французском переводе St. Julien, озаглавленном «Jao Je king. Le livre de la voie et de la vertu» («Книга пути и добродетели»). Эта книга Сен Жюльена, вышедшая в Париже в 1841 году, произвела на Толстого, как писал он М. М. Ледерле 25 октября 1891 года, «огромное» впечатление46.
На отдельном листе Толстой отметил целиком или частично 67 глав из книги Сен Жюльена, которые он рекомендовал к переводу на русский язык, с прибавлением своих оценок некоторых из этих глав. Оценки следующие: «Метафизика — прелестно», «Прелестно начало», «Прелестно», «Удивительно», «Прекрасно». Автограф этого списка не сохранился, но сохранилась копия с него, сделанная переводчиком П. А. Буланже.
Из книги Сен Жюльена Толстой перевел несколько изречений Лао Тзе, в том числе следующие, выраженные в очень оригинальной, кажущейся парадоксальной форме:
«Когда человек родится, он гибок и слаб; когда он колян и крепок, он умирает».
«Когда деревья родятся, они гибки и нежны. Когда они сухи и жестки, они умирают. Крепость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость — спутники жизни. Поэтому то, что сильно, то не побеждает». «То, что сильно и велико, — то ничтожно; то, что гибко и слабо, то важно»47.
- 286 -
Толстой предполагал перевести на русский язык ряд изречений Лао Тзе, из которых составилась бы книжка, связно излагающая его учение. Но, кончив выборку изречений Лао Тзе, Толстой пришел к выводу, что составить из этих изречений книжку, последовательно излагающую учение китайского мудреца, не удастся. 6 марта он записал в дневнике: «Переводил Лаоцы. Не выходит то, что я думал». Затем 9 марта: «Читал Лаоцы. Перевести можно, но цельного нет».
10 марта Толстой заносит в дневник переведенную им следующую мысль Лао Тзе:
«Вот чем надо быть. Как говорит Лаоцы — как вода. Нет препятствий — она течет; плотина — она остановится; прорвется плотина — она потечет; четвероугольный сосуд — она четвероугольная, круглый — она круглая. Оттого-то она важнее всего и сильнее всего». Это изречение Лао Тзе Толстой в 1904 году включил в сборник «Круг чтения».
15 марта Толстой заносит в дневник, что чтение Конфуция и Лаоцы оказывало на него благотворное действие. Он пишет: «Мое хорошее нравственное состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и главное Лаоцы». И далее прибавляет: «Надо себе составить круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и для всех бы нужно».
Так чтение древних китайских мудрецов привело Толстого к новому замыслу, осуществлению которого он впоследствии посвятил много времени и сил.
Кроме Конфуция и Лао Тзе, Толстой читал еще китайского философа Менгце (по современной транскрипции, Мэн Цзы; 372—289 гг. до н. э.), ученика Конфуция. Ему понравилось то, что он прочел о Мэн Цзы — что этот мудрец учил тому, как «найти потерянное сердце».
Упомянем также о том, что в письме к В. Г. Черткову от 17 марта Толстой приводит без указания источника следующее переведенное им изречение китайской мудрости: «Возобновляй сам себя каждый день с начала, и опять с начала, и всегда с начала». «Мне это очень нравится», — прибавлял Толстой, приведя это изречение48.
Кроме изложения учения древних мудрецов, Толстой, очевидно, имел в виду писать для народа и рассказы. Тетрадь его дневника 1884 года открывается следующей записью: «Мужик вышел вечером за двор и видит вспыхнул огонек под застрехой. Он крикнул. Человек побежал прочь от застрехи. Мужик узнал своего соседа — врага и побежал за ним. Пока он бегал, крыша занялась и двор и деревня сгорели»49.
- 287 -
Записанное воспроизводит часть сюжета рассказа «Упустишь огонь — не потушишь», написанного Толстым в 1885 году для издательства «Посредник». Запись не датирована, но, несомненно, была сделана ранее первой датированной записи дневника, т. е. раньше 6 марта 1884 года.
Задуманное Толстым дело издания книг «для образования русских людей» в 1884 году не получило осуществления.
В мае Толстой уехал в Ясную Поляну, и совещания приглашенных им лиц по делу основания нового издательства не повторялись. Но мысль об издательстве книг для народа не была оставлена. В 1885 году при участии Толстого было основано книгоиздательство «Посредник», поставившее себе целью издание хороших и дешевых книг для народного читателя.
VIII
С 6 марта по 13 сентября 1884 года Толстой почти ежедневно ведет дневник.
Главное содержание дневника Толстого 1884 года составляют записи о тягостности для него условий барской жизни как в Москве, так и в Ясной Поляне и о столкновениях с женой, препятствовавшей ему устроить жизнь свою и своей семьи согласно его убеждениям, — отчасти и о недоразумениях со старшими детьми, не разделявшими его взглядов.
Но записями о семейной жизни не ограничивается содержание дневника Толстого 1884 года. Дневник содержит также записи о его образе жизни за это время, о литературных работах и замыслах, о его чтении, переписке, встречах с людьми, а также его наблюдения над окружающей жизнью, в том числе над жизнью яснополянских крестьян, и записи мыслей по философским и общественно-политическим вопросам.
Таким образом, дневник Толстого за 1884 год дает довольно полную картину его внешней и внутренней жизни за данный период.
Кроме записей в дневнике, Толстой сообщал о своей семейной жизни в письмах к В. Г. Черткову, а С. А. Толстая — в письмах к своей сестре Т. А. Кузминской.
Уже 10 марта, через четыре дня после начала дневника, Толстой записывает: «Очень я не в духе. Ужасно хочется грустить на свою дурную жизнь и упрекать. Но ловлю себя. Написал Черткову — кажется, хорошо, т. е. без фальши».
В этот день Толстой написал Черткову письмо, которое просил уничтожить, что Чертков и исполнил, выписав из письма Толстого только мысли отвлеченного характера.
11 марта в дневнике находим запись, аналогичную записи предыдущего дня: «Упреки поднимаются в душе жене. Нехорошо».
- 288 -
Затем 14 марта: «Недоволен своей жизнью, и упреки поднимались».
22 марта С. А. Толстая пишет Т. А. Кузминской:
«Левочка очень невесел последнее время; молчаливо-критически и сурово смотрят его глаза; я не спрашиваю, что его тревожит и о чем он думает; бывало я его вызывала на откровенность, и он разражался громкими, отчаянными жалобами и неодобрением моей жизни и образа действий. Но теперь я не вынесу этого, не довольно здорова и бодра сама; потому и я молчу, и мы, как чужие порядочные люди, которые живут в лучших, но совсем не откровенных отношениях».
Нервное состояние С. А. Толстой обусловливалось прежде всего ее беременностью, и беременностью нежеланной. В письмах к Т. А. Кузминской от февраля, марта и апреля 1884 года С. А. Толстая не один раз с неприязнью и даже с отвращением упоминает о предстоящих родах. В письме от 5 февраля она писала: «Лето мне нынешний год ничего не доставит, кроме скуки и болезней». 22 марта: «Жаль, что мои роды не кончатся до вашего приезда. Хорошо бы эту мерзость проделать в одиночестве». Апрель (письмо без даты): «Не на радость нынешний год, а на муку еду в Ясную. Лучшее время — купанье, покос, длинные дни и чудные летние ночи я проведу в постели, с криком малыша и пеленками. Иногда на меня находит буйное отчаяние, я готова кричать и приходить в ярость. Кормить я не буду, возьму кормилицу и все купила уже в Москве на дешевых товарах, чтоб ее одеть».
Разумеется, такое отношение к их будущему ребенку, к событию, которое Толстой называл «неразгаданной тайной», «вызывавшей к любви и жизни»50, никак не могло способствовать душевному единению супругов.
27 марта Толстой вновь пишет письмо Черткову с просьбой по прочтении уничтожить его, и Чертков, как и в первом случае, письмо уничтожает, сделав для себя выписку только тех мыслей, которые не касались семейной жизни Толстого. О своем душевном состоянии Толстой в этом письме писал Черткову: «Про себя не пишу: хотелось бы сказать, что я бодр и счастлив, и не могу. Не несчастлив я — далек от этого, и не ослабел — еще более далек от этого. Но мне тяжело. У меня нет работы, которая поглощала бы меня всего, заставляя работать до одурения, и с сознанием того, что это мое дело, и потому я чуток к жизни, окружающей меня, и к своей жизни, и жизнь эта отвратительна»51.
- 289 -
И далее Толстой описывает два потрясших его случая из жизни московского «дна», которых он был свидетелем в тот день и накануне.
Ночью предшествовавшего дня он ходил гулять и, возвращаясь домой, увидал на бульваре Девичьего поля что-то барахтающееся в снегу. Подойдя ближе, Толстой увидал пьяную женщину и возле нее городового и дворника. Он спросил, что тут происходит, и получил ответ: «Забрали девок из Проточного переулка, трех провели [в полицейский участок], а одна, пьяная отстала». Ее также должны были привести в полицейский участок, а на другой день утром доставить на освидетельствование врача.
Совсем молодая девушка эта была в одном грязном и разорваном платье, «голос хриплый, пьяный», «курносое, серое, старое, дикое лицо». «Она не шла и закуривала папироску». Толстой спросил, сколько ей лет. Она ответила: «Шестнадцатый». Спросил, есть ли отец и мать? Она сказала: «Мать есть».
Утром Толстой отправился в полицейский участок, чтобы узнать о дальнейшей судьбе несчастной девушки. Но оказалось, что ее уже отвели на освидетельствование к врачу.
«Полицейский, — писал Толстой, — с недоверием отвечал на мои вопросы и объяснил, как они поступают с такими. Это их обычное дело». На слова Толстого, что его поразил возраст этой девушки, полицейский ответил: «Много и моложе есть».
В то же утро к Толстому пришел его переписчик А. П. Иванов, которого Толстой в том же письме к Черткову называет «потерянным и прекрасным человеком»52. Он ночевал в ночлежном доме и рассказал, что там у них «случилось ужасное».
В их номере жила прачка 22-х лет. Она заболела и не могла больше работать и платить хозяйке за угол. Хозяйка пожаловалась в полицию, по ее жалобе явился городовой и вывел прачку на улицу. На ее вопрос, куда ей идти, городовой ответил: «Околевай где хочешь, а без денег жить нельзя» и посадил ее на паперть церкви. Наступил вечер. Прачка отправилась назад к хозяйке, у которой жила, но в воротах дома упала и умерла.
- 290 -
Выслушав рассказ Иванова, Толстой отправился в дом, где жила прачка.
«В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с закостеневшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьякон читает что-то вроде панихиды. Я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить. Вот когда я молюсь: Боже мой, научи меня, как мне быть, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной. Я жду, что Он научит меня...»
Такими словами Толстой закончил рассказ о двух потрясших его происшествиях в московском «дне».
В тот же день Толстой записывает в дневнике свое излюбленное противопоставление «мира божьего» и «мира человеческого» в следующих словах: «Колокола звонят, и палят из ружей, учатся убивать людей, а опять солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит, опять бог говорит: живите счастливо». В этом противопоставлении слышится будущее начало романа «Воскресение».
После потрясших его московских впечатлений Толстой не спал всю ночь. На другой день — 28 марта — он записал в дневнике: «Сколько в голове и сердце, но повеления бога определенного не слышу».
IX
Толстой неоднократно пытался уговаривать жену переменить их роскошную жизнь как в Москве, так и в Ясной Поляне на более простую, но успеха не имел.
23 марта он записывает в дневнике: «Попробовал поговорить после обеда с женой. Нельзя. Это одно огорчает меня. Одна колючка и больная». Вечером того же дня он вновь записывает: «Опять попробовал говорить, опять зло — нелюбовь». На другой день: «Два раза с женой начинал говорить — нельзя». 31 марта опять запись об отношениях с женой:
«Остался один с ней. Разговор. Я имел несчастье и жестокость затронуть ее самолюбие, и началось. Я не замолчал. Оказалось, что я раздражил ее еще 3-го дня утром, когда она приходила мешать мне. Она очень тяжело душевно-больная. И пункт — это беременность. И большой, большой грех и позор».
Толстой в то время называл душевнобольными всех людей, которые преданы исключительно личной, эгоистической жизни и не понимают того, что истинное благо только в жизни общей. Об этом он писал в дневнике 29 марта:
- 291 -
«Я боялся говорит и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверное они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно».
Прилагая к своей семье то, что сказано в этой записи, Толстой 2 апреля записывает: «Безумная жизнь страшно жалка».
В других случаях Толстой, пользуясь евангельской терминологией, называл людей, ведущих исключительно эгоистическую жизнь, мертвецами. Так, 27 марта, отмечая в дневнике приезд родственников жены, Толстой писал в дневнике: «Приехали мертвецы Шидловские».
4 апреля Толстой пишет в дневнике об отношении к нему его семейных:
«Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им... Мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты — теперь такая — я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни — я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство — я ворчливый старик, как все старики».
Как бы продолжением этой записи служит запись следующего дня — 5 апреля:
«Целый обед, кроме покупок и недовольства теми, которые нам служат, ничего. Все тяжелее и тяжелее. Слепота их удивительна... С Страховым разговор о том, что [по его мнению] нельзя следовать [нравственному] правилу, т. е. нет [нравственных] правил. Вмешательство грубое, бестолковое в разговор и нельзя даже показать этого безумия. Если показать — гнев и обвинение в личной злобе. Если не показывать, то уверенность, что так и надо, и падение все глубже и глубже. Жду выхода», — многозначительно заканчивает Толстой эту запись дневника.
Говоря о тех, чья «слепота удивительна», кто не обращает никакого внимания на его страдания, Толстой имел в виду не только жену, но и старшего сына и старшую дочь.
Сергей Львович успешно продолжал занятия на третьем курсе отделения естественных наук физико-математического факультета Московского университета. Главным интересом его жизни была наука. Светская жизнь, светские удовольствия его нисколько не занимали. Жил он сравнительно скромно, получая от матери ежемесячно на свои расходы сорок рублей; и на ее предложения увеличить эту сумму Сергей Львович отвечал отказом.
- 292 -
В общественно-политических вопросах примыкал к либералам. Часто спорил с отцом. В своих воспоминаниях С. Л. Толстой рассказывает: «Я не сочувствовал требованию отца изменить нашу, в частности мою, жизнь, не соглашался с его нападками на науку, университет и профессоров и с его проповедью «непротивления злу»53. Возражения сына раздражали Толстого, но нисколько не заставляли его изменить свои взгляды. 18 марта в дневнике Толстого записано: «Внизу возразил Сереже-сыну на его тупость». 16 апреля, получив от Черткова «возмутительную», «отвратительную» по лицемерию записку англичанина консерватора о том, что преступников нужно наказывать «для их же пользы», Толстой, чувствуя потребность поделиться с кем-либо своим негодованием, прочел эту записку сыну и дочери, после чего записал в дневнике: «Как он [сын] либерально жестоко туп. Мне очень было больно»54.
Татьяна Львовна продолжала посещать Школу живописи и ваяния, хотя часто пропускала занятия. Раньше Толстой, считая ее «полу-умной» и «полу-доброй», надеялся, что добрые и умные начала возьмут в ней верх; теперь же она вся была поглощена светской жизнью и светскими развлечениями, и общение ее с отцом прекратилось. Вечером 16 марта Толстой провожал дочь домой от своего брата Сергея Николаевича, проживавшего ту зиму в Москве, и потом записал в дневнике: «С Таней шел домой и молчал. Тяжело мне было молчание. Так далека она от меня. И говорить я еще не умею».
Толстой все-таки пытался «говорить» со старшими детьми, о чем свидетельствует запись в дневнике 26 марта: «С старшими детьми говорил за кофе. Еле-еле хорошо».
30 марта трогательная запись: «Вечер... пришли племянницы и Леонид55. Пошел с ними пить чай. И до того гадко, жалко, унизительно стало слушать особенно бедную, умственно больную Таню, что ушел спать. Долго не мог заснуть от грусти и сомнений и молился богу так, как я никогда не молился. Научи, избави меня от этого ужаса. Я знаю, что я молитвой выражал только подъем свой. И странно, молитва исполнена — пришли в голову «Записки несумасшедшего». Как живо я их пережил, — что будет?»
Содержание задуманного Толстым нового произведения понятно. Считая 99% всех людей ведущими неразумный образ жизни или, по его терминологии, сумасшедшими, Толстой задумал
- 293 -
изобразить тип человека, живущего разумно, — или, в противоположность толпе, несумасшедшего.
Но гнетущая обстановка семейной жизни и нездоровье не давали ему возможности сосредоточиться для творческой работы. «Не могу работать головой», — записывает он 4 апреля.
На другой день, 5 апреля, Толстой записывает: «Пришла Таня — отвратительно». Запись объясняется частыми посещениями дома Толстых светским кавалером Н. А. Кислинским, сыном председателя Тульской губернской земской управы56. Толстой замечал увлечение дочери светским молодым человеком и боялся этого увлечения. 11 марта он записывает в дневнике: «Обедал Кислинский. Мне больно было, но боль не выразилась сердцем». Затем 8 апреля: «Обедал Кислинский. Не мог сказать и не мог быть спокоен». На другой день Толстой «стал выговаривать Тане», но не мог сохранить спокойствие (появилась «злость», как записал он в дневнике). Он не мог простить себе эту несдержанность. «Большая вина, вторая за месяц», — записывает он в дневнике, подчеркивая эту запись. «Все ходил около Тани, желая попросить прощения, и не решился. Не знаю, хорошо или дурно». Позднее, очевидно, у дочери с отцом произошло какое-то объяснение, удовлетворившее отца, и посещения Кислинского отмечаются Толстым уже спокойно.
Даже веселость Татьяны Львовны, к которой она была очень склонна по натуре, не радовала отца. Он, который в своих наставлениях крестьянам, вопреки церковному учению, утверждал, что «веселье богу приятно»57, который вместе с Лермонтовым был —
Готов до полночи смотреть
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужиков;который 13 марта отмечает в дневнике относительно меньших детей: «Дети очень шумели весело-глупо. Хорошо», — теперь в том же дневнике (21 апреля) записывает: «Дома обед. Ужасно то, что веселость их, особенно Тани — веселость, наступающая не после труда — его нет, а после злости, веселость незаконная, — это мне больно».
Толстому было очень тяжело чувствовать полное отсутствие душевного общения с женой и детьми. «За что и почему
- 294 -
у меня такое страшное недоразумение с семьей?» — с горечью спрашивает он себя в дневнике 13 апреля и вновь повторяет прежнее решение: «Надо выйти из него».
«Отчего я не поговорю с детьми: с Таней? — писал Толстой в дневнике 24 апреля. — Сережа невозможно туп. Тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно».
К числу противников Толстого принадлежал также и его брат Сергей Николаевич, а также дядя С. А. Толстой Константин Александрович Иславин (Костенька), подолгу гостивший у Толстых.
Толстой старался объяснить брату свои взгляды, но большого успеха не имел. 16 апреля в дневнике записано: «Дома Сережа — сердитый. Они меня с Соней называли сумасшедшим, и я чуть было не рассердился». На другой день, 17 апреля: «Пришел Сережа злой. И они вместе с женой и Костинькой два часа разрывали мне сердце. Я был порядочен, но вовлекся в разговор. Возненавидели меня напрасно». 6 мая: «...Потом у Сережи под окном. Он ненавидит меня за мою веру».
До какой степени Толстой чувствовал себя одиноким в своей семье и как он дорожил малейшей искрой сочувствия со стороны своих семейных, показывает следующая запись его дневника (26 апреля), относящаяся к 17-летнему сыну Илье: «Дома разговаривал с ...Ильей. Он искал общения со мной. Спасибо ему. Мне было очень радостно».
Толстой видел, что его средние сыновья — Илья и Лев — более способны к восприятию его взглядов, чем старший сын. «Илья как будто прислушивается», — записал он в дневнике 8 мая.
Под влиянием отца и по его примеру Илья и Лев Толстые сами начали убирать свою комнату, в чем их отец видел первый шаг на пути к освобождению от ненавистного ему барства.
X
10 апреля 1884 года Толстой посылает В. Г. Черткову третье письмо с просьбой по прочтении его уничтожить, и Чертков поступает с его письмом так же, как он поступил в двух первых аналогичных случаях: выписывает из письма то, что не касалось семейной жизни Толстого, после чего письмо уничтожает. Вот что писал Толстой в этом письме:
«...Вы пишете: «Жду, когда зародится во мне действительная любовь к людям». Не может ее не быть (она во всех), а тем более в тех, кто в ней одной ищут свое благо. Но сказано: люби бога и ближнего. О ближнем сказано: делай другим то, что́ бы ты хотел, чтобы тебе делали. Больше этого нельзя.
- 295 -
И есть ближние, которых я не могу (не то, что не хочу), но не могу любить, если я люблю бога. Не могу я любить того, для кого не нужно от меня любви ни в какой форме — ни в форме денег и вещей (у него все есть), ни в форме моего труда (ему и так служат во всем, что ему нужно), ни в форме общения моего с ним — ему противно мое дорогое и главное. Просто любить его я не могу, потому, что я люблю бога, от закона которого он отступает. Я могу не ненавидеть его — не злиться (и это часто случается со мной, и я как умею поправляю себя), могу быть готовым служить ему и любить его, когда ему будет нужно, но любить не могу. Часто прежде мои попытки любить, жалеть приводили меня к фальши и раздражению. Дальше того, чтобы делать другому то, что желал бы, чтобы тебе делали, нельзя идти. — А я, находясь в его положении, желал бы одного, чтобы меня не раздражали и в добрую минуту сказали бы мне истину так, чтобы я поверил ей. И это все, что я стараюсь делать по отношению других, не разделяющих моей веры. И чем спокойнее, тем лучше не для себя, а для других...»58
В последние месяцы (апрель — май) 1884 года перед отъездом из Москвы в Ясную Поляну отношения Толстого с семейными продолжали оставаться такими же напряженными, как и в первые месяцы года.
14 апреля он записывает в дневнике: «Дома тяжело... Дома упреки, но я промолчал». Затем 20 апреля: «Жена все не в духе. Я спокоен довольно». 21 апреля: «Дома жена лучше. Но говорить (о перемене жизни) и думать нельзя». «Решительно нельзя говорить с моими, — записывает Толстой 23 апреля. — Не слушают. Им неинтересно. Они всё знают». 26 апреля: «Приехали наши. Мертво». 30 апреля: «Дома не в духе жена, но не поддался своей досаде».
3 мая записано, что в то время как Толстой отыскивал одно из полученных им писем, ему попалось письмо к нему жены. Он перечитал его, после чего записал в дневнике: «Бедная, как она ненавидит меня. — Господи, помоги мне. Крест бы — так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души ужасно не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне!»
На другой день 4 мая в дневнике подлинный вопль истерзанной души: «Господи, избави меня от этой ненавистной жизни, придавливающей и губящей меня. Одно хорошо, что мне хочется умереть. Лучше умереть, чем так жить».
Запись 5 мая начинается словами: «Во сне видел, что она меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть».
- 296 -
Эта запись заслуживает особого внимания; она проливает свет на отношения Толстого к жене в самую трудную пору его жизни.
Было бы ошибочно думать, что после происшедшего перелома в его мировоззрении, которому жена его осталась совершенно чуждой, у него сложились исключительно неприязненные отношения к жене. Такие неприязненные отношения бывали, и иногда они брали верх; но в основе его отношений к жене лежало другое чувство. Это было, по его выражению, «просто чувство любви», совершенно независимое от его или ее взглядов на жизнь, образовавшееся вследствие долгой совместной жизни. И чувство это было для него так важно, так озаряло своим светом всю его жизнь, что когда это чувство бывало взаимно, когда он чувствовал ее любовь, все для него в жизни становилось легко и ясно; когда же он чувствовал с ее стороны холодность и вражду, это пагубным образом отражалось на его жизни.
Таков несомненный смысл записи дневника Толстого 5 мая 1884 года. Он подтверждается записью Толстого после первой попытки ухода из Ясной Поляны 18 июня того же года.
Далее под тем же числом 5 мая в дневнике Толстого записано: «Дома все та же всеобщая смерть. Одни маленькие дети живы. Какой-то за чаем опять тяжелый разговор. Всю жизнь под страхом». 8 мая: «Дома все то же — ничего... Точно моя жизнь на счет их. Чем я живее, тем они мертвее».
Впечатления от окружающей московской жизни были не таковы, чтобы они могли радовать Толстого и заставить его забыть о тяжелых условиях его семейной жизни. Там была «та же всеобщая смерть».
Вот он наблюдает в Пассаже так называемую «распродажу дешевых товаров» и видит: «Дикие, страшные женщины, кучера старцы, их рабы, ждут, принимают свертки».
Вот он вместе с А. С. Пругавиным на пашковском молитвенном собрании слушает английского проповедника Дикмана. В речи его Толстому «кое-что» кажется «хорошо, но лицемерно». От молитвы Толстой уходит. Московский студент С. Соломин, бывший на том же собрании, так описывает приход и уход Толстого с собрания:
«... В синей блузе, стянутой широким ременным поясом, с простым картузом в руках, грузно вошел Толстой. Уселся неловко у стола, подпер бороду рукою. Во всей этой мощной фигуре я с удивлением заметил знакомое всем в юности чувство конфуза, когда вас оглядывают. И было так странно, что этот большой человек с седой бородой, знаменитый писатель, конфузился, как юноша. Не то что английский апостол! Тот вылощен, подкован на все четыре ноги. Того не смутишь любопытным взглядом.
- 297 -
А Толстой оглядывался, сердито сверкая глазами из-под нависших бровей, будто зверь, окруженный облавой. Все ждали конца чтения.
— Помолимся! — возгласил, наконец, апостол, и все поникли головами.
А Толстой встал. Помню хорошо лицо его. Тень за тенью пробегали по нем внутренние ощущения. И стыд за людей, и насмешка над религиозным фарсом, и желание обличить... Повернулся круто и, молча, вышел.
За ним бросилась хозяйка, кое-кто из гостей. Толстой спешно одевался.
— Лев Николаевич, вы уходите от моления...
— Не могу, не могу! Все это прекрасно, что он читал. Но я не могу молиться, не могу сегодня молиться!
И, словно отмахиваясь от назойливых мух, Толстой упорно двигался к выходной двери, защищая себя руками. И озирался, бегая глазами по любопытным физиономиям.
— Не могу, не могу!
Большой человек, переживавший в то время огромный душевный перелом, рушивший все прошлое, почувствовал ложь и лицемерие и отряхнул прах от ног своих на пороге «молитвенного салона»59.
Вот в пасхальную ночь Толстой прогуливается по улицам Москвы и видит: «толпы бегут к заутрене». И у него рождается вопрос: «Да, когда будут бегать хоть не так, но в 1/100 к делу жизни! Тогда не могу представить жизни. Переставлять это — задача — радостное дело жизни. Страшно трудно — невозможно, и одно только возможно» (7 апреля).
XI
Жизнь с людьми, враждебно относящимися к его мировоззрению, замечающими все его слабости и отступления от принятого им учения и ставящими их ему в вину, чрезвычайно усилили внимание Толстого к своему внутреннему миру, к своим словам и поступкам.
Подобно тому как за тридцать с лишним лет до этого, весною 1851 года, двадцатидвухлетним юношей, живя в Москве, Толстой вел так называемый «Франклиновский журнал», в который заносил все замеченные за собой отступления от принятых им для себя жизненных правил60, так и теперь автор «Анны Карениной» и «Исповеди» усердно и внимательно каждый
- 298 -
вечер записывает все «грехи», в которых чувствовал себя виноватым за минувший день. В дневнике Толстого (март) появляются такие записи: «бесполезно и недостойно провел вечер», «раздражился на мгновенье», «болтовня», «тщеславие», «у Самарина забыл о здоровье ее», «говорил лишнее — праздное», «утром как будто задирал жену и Таню за то, что жизнь их дурна», «о музыке говорил лишнее», «за чаем был неласков с женой», «был болтлив, но много спокойнее прежнего», «курил и неприятным тоном заговорил за чаем» (май). И т. д.
Но как счастлив бывал Толстой, когда, подводя итоги минувшего дня, а иногда и нескольких дней, он находил, что ему не в чем упрекнуть себя. Вот некоторые из этих записей: «День провел довольно хорошо. Ничего не было упречного» (12 марта). «Страшно сказать, но с трудом могу найти себе упреки в злости. В душе поднимается, но помню. Так вчера в разговоре о богатстве с Соней» (14 марта). «Как удивительно, что гнева нет за месяц почти» (30 марта).
Записывал Толстой и отдельные случаи, когда ему удавалось сдержать себя и не проявлять раздражения или недобрых чувств. «Очень не в духе был за обедом, но держался», — записывает он 17 марта. 2 апреля: «Сережа брат сидел горячился, но я не ошибся».
В мае в Ясной Поляне «Франклиновский журнал» прекращается.
XII
Как записал Толстой в дневнике 30 марта 1884 года, теперь он «в обращении» с людьми не мог «не выражать своей веры».
Чтобы в общении с людьми «выражать свою веру», нужно было прежде всего быть искренним, т. е. не проявлять уважения к тому или к тем, кто не заслуживает уважения, не пользоваться титулами, выдуманными людьми для того, чтобы возвеличивать себя перед другими. Толстой так и старался поступать, а когда отступал от этого правила, то упрекал себя за это. В дневнике 1884 года находим такие записи:
«Встретил Самарина [Петра Федоровича]. Был холоден, но недостаточно. Дурная привычка — ценить в шляпах и колясках дороже».
После встречи с знакомым придворным генералом А. В. Олсуфьевым Толстой записывает: «Нехорошо, что определенно не выразил ему презрения».
Увидевшись по какому-то делу с священником А. М. Иванцовым-Платоновым, преподававшим в университете «закон божий», Толстой 6 апреля записывает: «Совестно было за уважение,
- 299 -
которое я ему оказывал. Я был в сомнении. И теперь только решил, что я был неправ. Надо было просто и грубо (не враждебно, но грубо) передать ему».
Встретившись с тульским прокурором Н. В. Давыдовым, Толстой записывает 4 мая: «Прокурорство Давыдова невыносимо отвратительно мне. Я вижу, что в этих компромиссах все зло. Я не сказал ему». В следующую встречу Толстому нужно было по просьбе яснополянского крестьянина Рыбина, сидевшего в тюрьме за кражу и приглядевшего там себе невесту, навести у Давыдова справку, можно ли жениться, сидя в тюрьме. Но он не мог пересилить себя: «тошно прокурорство» (16 мая).
А. А. Толстая в своих воспоминаниях рассказывает о Толстом тех лет: «Достаточно было быть оборванцем или отщепенцем, чтобы возбудить интерес во Льве Николаевиче; зато эполеты, аксельбанты, генеральский чин [можно бы прибавить: ряса] и всякий выдающийся пост внушали ему непреодолимое отвращение»61.
Но очень отрадны были Толстому его редкие встречи с городским рабочим людом.
Дважды он побывал у сапожника, чтобы посоветоваться относительно шитья сапог. Эти посещения вызвали следующие записи в дневнике: «Как светло и нравственно изящно в его темном, грязном углу. Он с мальчиками работает, жена кормит» (16 марта). «Стоит войти в рабочее жилье — душа расцветает» (14 апреля).
Заходил Толстой к колодочнику заказывать колодки, после чего записал в дневнике: «В подвале пристально, бодро работают и пьют чай» (9 марта).
В 1884 году в Москве Толстой виделся или переписывался с близкими ему людьми, к числу которых принадлежали: Л. Д. Урусов («Урусов тверд и ясен» — запись в дневнике 1 апреля), учитель В. Ф. Орлов, в котором Толстой, однако, начал сомневаться («С Орловым немного неясно. Я дорожу его единомыслием и не совсем в него верю» — запись 6 апреля), библиотекарь Румянцевского музея Н. Ф. Федоров («Николай Федорович добр и мил» — запись 9 мая), художник Н. Н. Ге, В. Г. Чертков.
Что касается Н. Н. Страхова, которого Толстой в 1877 году называл своим «единственным духовным другом», то после его статей в защиту существующего строя («Письма о нигилизме») Толстой к нему очень охладел. Письмо Страхова от 18 марта Толстой в дневнике называет «совершенно пустым». 5 апреля, увидавшись с Страховым, приехавшим в Москву, Толстой
- 300 -
записывает: «Пришел Страхов... Та же узость и мертвенность. А мог бы проснуться». Но уже 10 апреля иная оценка Страхова: «Разговор Страхова интересный. Я его понял». И на другой день: «Ходил к Страхову. Хорошо говорил с ним и Фетом».
Большую отраду Толстому доставляла дружба с Н. Н. Ге, который к этому времени уже признавал себя полным единомышленником Толстого. В мае 1884 года он писал Толстому: «Вы идете твердо, хорошо, и я за вами поплетусь, хотя бы расквасить мне нос!»62 24 марта Толстой записал в дневнике: «Приехал Ге... Он ушел еще дальше на добром пути. Прекрасный человек». В письме к А. М. Кузминскому в мае 1884 года Толстой писал о Н. Н. Ге: «Это один из лучших моих друзей и святой человек»63.
Ближайшим другом Толстого был В. Г. Чертков. Ему одному поверял Толстой свою семейную трагедию. Чертков жил в Петербурге, изредка наезжая в Москву и всегда навещая при этом Толстого. Переписка между ними не прекращалась.
Для круга близких к Толстому лиц первой половины 1880-х годов характерен тот живой интерес, с каким обсуждался вопрос о «непротивлении злу». 24 апреля Толстой записывает в дневнике: «Поехал верхом к Юрьеву... Мне внушал мое учение о Христе, но прекрасно». При разговоре присутствовал племянник С. А. Юрьева, 12-летний Юрий Юрьев (впоследствии артист). В своих воспоминаниях Ю. М. Юрьев так рассказывает об этой интересной беседе его дяди с Толстым:
«... Позднее, когда я стал постарше, мое отношение к Толстому изменилось, и его приезды к дяде возбуждали во мне большой интерес, и я всегда старался присутствовать во время его визитов. Особенно хорошо помню одно из его посещений, которое запечатлелось во мне на всю жизнь. Как-то раз вечером приехал Лев Николаевич к дяде — по своему обыкновению верхом. Он вошел бодрой походкой в кабинет дяди. Одет он был в темный полушубок и, расстегнув его, почему-то долго не хотел его снимать, отговариваясь тем, что он не надолго, и только тогда, когда увидел, что визит затягивается, сбросил с себя полушубок и быстрой походкой, мелкими шажками, характерными для него, продолжал ходить взад и вперед по комнате.
- 301 -
Должен заметить, что, по моему мнению, ни один из портретов Льва Николаевича не передает его таким, каким он был в действительности. Лев Николаевич совсем не был такого высокого роста и не обладал такой массивной фигурой, как изображают его почти все портреты, не исключая знаменитого репинского портрета, на котором Толстой изображен босым. Он был среднего роста и черты лица имел не такие грубые, а плечи скорее узкие... У него была привычка держать одно плечо выше другого. Все в нем было как-то соразмерно, в какой-то гармонии и, несомненно, носило печать изящества, мягкости в движениях и врожденного благородства. Голос негромкий, чуть-чуть глуховатый, немного загнанный внутрь. Манера говорить — типично «интеллигентская», барская. В интонациях ощущался некоторый налет лекторского тона. Чувствовалась привычка много говорить об отвлеченном, излагать свои мысли.
В данный приезд Толстого речь шла о «непротивлении злу». Как раз в то время он был занят этой проблемой. Дядя доказывал утопичность его идеи, а Лев Николаевич отстаивал ее. Помню, дядя в конце концов привел ему такой довод:
— Что если б на вашу дочь, — говорил Сергей Андреевич, — напал какой-нибудь негодяй и пытался на ваших глазах изнасиловать ее? Что же, вы и тут не стали бы противиться злу?
Лев Николаевич приостановился на ходу, а потом, не ответив на прямой вопрос, довольно отвлеченно начал развивать мысль, что в каждом человеке, каким бы он ни был злодеем, всегда заложены добрые начала, надо только умело подойти к нему и пробудить в нем эти добрые чувства, дав ему понять, что на него не смотрят уж так безнадежно. Словом, отнестись к человеку с доверием, и тогда в нем проснется совесть и заговорит порядочность.
Сергей Андреевич по существу не отрицал этой теории..., но указывал, что бывают разные обстоятельства. В данном же, приведенном им сейчас примере он не видел возможности внезапного воздействия.
Спорили долго, горячо, но наконец, под влиянием доказательств, Лев Николаевич пошел на уступки и к первоначальной своей формуле «не противься злу» прибавил: «насилием». Так создалось толстовское «не противься злу насилием». Таким образом, могу считать, что я присутствовал при историческом споре»64.
20 апреля, как записал Толстой в дневнике, к нему пришли две классные дамы (Николаевского женского училища в
- 302 -
Москве) просить его работу «Соединение и перевод четырех Евангелий», распространявшуюся тогда в рукописи. Одна из этих классных дам, Мария Александровна Шмидт, впоследствии стала одним из ближайших друзей Толстого65.
XIII
Живя в Москве, Толстой не вел уединенный, замкнутый образ жизни.
В апреле он побывал на XII выставке Товарищества передвижников, после чего выразил в дневнике свои впечатления словами: Крамского «Неутешное горе» — «прекрасно», но Репина «Не ждали» «не вышло» (запись 7 апреля).
Вместе с профессором С. А. Усовым Толстой ходил в Благовещенский собор смотреть живопись, которую нашел «прекрасной». Особенно понравились ему изображения древних философов с их изречениями (17 апреля).
Несколько раз побывал Толстой в Школе живописи и ваяния, где училась Татьяна Львовна, и беседовал с художниками.
Очень интересуясь преподаванием ремесел, Толстой зашел в слесарную школу, которая, по его мнению, была бы лучшей школой в России, «если бы не вмешательство правительства и церкви» (31 марта).
30 марта Толстой ходил на чулочную фабрику, после чего записал в дневнике: «Свистки значат то, что в 5 мальчик становится за станок И стоит до 8. В 8 пьет чай и становится до 12, в 1 становится и до 4, в 4 ½ становится и до 8. И так каждый день. Вот что значат свистки, которые мы слышим в постели».
В пасхальную неделю Толстой отправляется на бульвар Девичьего поля, где наблюдает праздничное народное гулянье — балаганы, хороводы, горелки. «Жалкий фабричный народ — заморыши», — записывает он в дневнике 15 апреля.
В Москве у Толстого было много знакомых, которые бывали у него, бывал и он у некоторых из них.
Дневник Толстого с 6 марта по 11 мая 1884 года хранит многочисленные записи о его встречах с московскими знакомыми, большею частью с его оценками этих лиц.
Толстой изредка заходил к Фету, и Фет заходил к нему. В одну из встреч Толстого с Фетом они, как записано у Толстого в дневнике 9 апреля, «прекрасно поговорили». «Я высказал
- 303 -
ему, — писал Толстой, — все, что говорю про него, и дружно провели вечер».
Один раз Фет пришел к Толстому «заказывать сапоги». Толстой в то время сильно увлекался сапожным ремеслом, проводя за шитьем сапог большую часть свободного времени. Он любил всякое ремесло. Учитель детей Толстых В. И. Алексеев, появившийся в Ясной Поляне в 1877 году, рассказывает в своих воспоминаниях, что Толстой «завидовал» ему, что он знает сапожное дело. Кроме того, занятие шитьем сапог действовало на него успокаивающе после тех тревог, какие ему приходилось переживать в семье.
Конечно, Фет желал получить сапоги работы Толстого не для того, чтобы их носить, а чтобы иметь толстовскую реликвию. 15 января 1885 года он написал следующее «удостоверение»:
«Сие дано 1885-го года Января 15-го дня, в том, что настоящая пара ботинок на толстых подошвах, невысоких каблуках и с округлыми носками, сшита по заказу моему для меня же автором «Войны и мира» графом Львом Николаевичем Толстым, каковую он и принес ко мне вечером 8-го января сего года и получил за нее с меня 6 рублей. В доказательство полной целесообразности работы я начал носить эти ботинки со следующего дня. Действительность всего сказанного удостоверяю подписью моей с приложением герба моей печати А. Шеншин»66.
Вечером 30 апреля к Толстому пришел его старый знакомый поэт Я. П. Полонский. Его посещение вызвало следующую запись в дневнике Толстого: «Вот дитя бедное и старое, безнадежное. Ему надо верить, что подбирать рифмы — серьезное дело. Как много таких».
2 мая Полонский вторично был у Толстого, и Толстой вторично записал о нем в дневнике: «Полонский интересный тип младенца глупого, глупого, но с бородой и уверенного и не невинного».
Известный народнический писатель Н. Н. Златовратский, придя к Толстому, излагал ему «программу народничества», которая вызвала в дневнике Толстого 26 марта следующую оценку: «Надменность, путаница и плачевность мысли поразительна». Это единственный письменный отзыв Толстого о программе народничества. Несомненно, что «надменность» народнической программы Толстой видел в том, что народники с «путаным» мировоззрением брались учить и «спасать» народ — стомиллионное трудовое крестьянство.
- 304 -
Посетил Толстого философ В. С. Соловьев, но не произвел на Толстого впечатления близкого человека и серьезного мыслителя. «Мне он не нужен и тяжел, и жалок», — записал Толстой 11 апреля.
Приходил к Толстому спирит Николай Александрович Львов, который рассказывал об основательнице теософического учения Е. П. Блаватской, теософическом учении о переселении душ и т. д. Впоследствии Толстой присутствовал в квартире Львова на спиритическом сеансе, который дал ему материал для комедии «Плоды просвещения».
Приходил к Толстому старый знакомый, тульский губернский предводитель дворянства Петр Федорович Самарин, который когда-то так огорчил Толстого одобрением смертной казни революционеров.
«Самарин хорош, — записал Толстой в дневнике 6 мая, имея, вероятно, в виду данное лицо как тип для художественного произведения. — Вся его умственная машина на то только нужна, чтобы оправдывать ложь».
Бывал у Толстого книгоноша Библейского общества Степан Васильев с сектантом пашковцем-молоканином Яковом Сирянином. Произошла «тяжелая беседа». Толстой увидел в пришедших «самоуверенную и профессиональную невежественность». «Они называли меня «мальчишкой», — записал Толстой.
В другой раз Васильев посетил Толстого тогда, когда у него по какой-то надобности был священник В. Терновский, законоучитель Поливановской гимназии, где учились сыновья Льва Николаевича. Васильев, как записано в дневнике Толстого, «напал» на Терновского. Толстой называет Васильева «церковным революционером», «борцом против попов». «Тут [у него] искренние ноты. А о христианстве фальшиво», — пишет Толстой в дневнике.
Два раза был у Толстого основатель картинной галереи в Москве П. М. Третьяков. О первом разговоре с Третьяковым 7 апреля Толстой записал, что говорил с ним «порядочно». Во время второго разговора 10 апреля Третьяков спрашивал его «о значении искусства, о милостыне, о свободе женщин». «Ему [Третьякову] трудно понимать. Все у него узко, но честно».
Побывал у Толстого также И. Е. Репин, и Толстой с ним «очень хорошо говорил» (3 апреля).
Был у Толстого художник В. М. Васнецов, который сказал ему, что понимает его «больше, чем прежде». К этой записи (12 апреля) Толстой прибавляет: «Дай бог, чтобы хоть кто-нибудь, сколько-нибудь».
Зайдя раз к художнику И. М. Прянишникову, Толстой «хорошо беседовал» с ним, хотя «сказал ему неприятную правду» (15 апреля).
- 305 -
В состав знакомых, которые посещали Толстого в 1884 году и которых он посещал, входили московские профессора: Н. И. Стороженко (литература), Л. М. Лопатин (психология), И. И. Янжул, А. И. Чупров, И. И. Иванюков (политическая экономия), С. А. Усов (зоология), Н. В. Бугаев, В. Ковалев (математика).
Интересный рассказ о беседе между Толстым и женой профессора И. И. Янжула находим в воспоминаниях Е. Н. Янжул.
Беседа происходила 15 марта 1884 года на даче у Иванюковых. Зная, что И. И. Янжул занимал должность фабричного инспектора, Толстой сказал его жене: «Ваш муж печалится о чрезмерной работе физической, которая приходится на долю детей и женщин, и он борется, конечно, не без основания, против этой чрезмерной работы, но я вам скажу: есть другое зло, еще, пожалуй, хуже, это — недостаток физической работы».
Увидев недоуменный взгляд Е. Н. Янжул, Толстой пояснил свою мысль: «Есть женщины, которые считают за труд открыть для себя дверь и ждут, чтобы это сделал другой».
На возражение Е. Н. Янжул, что это возможно только в исключительном, богатом кругу, Толстой «с досадой» отвечал: «Да, но ведь они дают тон и всем другим. Вы посмотрите: какая-нибудь дочь кухарки, поступившая в гимназию, уже считает постыдной для себя какую-нибудь физическую работу»67.
В дневнике Толстого записано, что у него с Е. Н. Янжул происходила еще «хорошая беседа о необходимости труда для детей», но эта часть беседы в воспоминаниях Е. Н. Янжул осталась незаписанной.
Больше всех других московских профессоров Толстому был по душе профессор зоологии Московского университета Сергей Алексеевич Усов. Он нередко бывал у Толстого, и Толстой заходил к нему. В дневнике Толстого находим ряд упоминаний о С. А. Усове. 6 марта в дневнике дана следующая характеристика Усова: «Здоровый, простой и сильный человек. Пятна на нем есть, а не в нем». 12 марта еще запись об Усове: «Знания, ум огромные, но как ложно направлены. Точно злой дух отчертил от него всю плодотворную область мысли и запретил ее. Нужны силы и в их области, и это хорошо. Он бессознательно держится истины и верит, чтобы иметь досуг работать в своей области». 8 мая записано: «Ключ к Усову: тщеславие и большой здоровый ум. Он похож на Тургенева. Менее изящен, но гораздо умнее».
С. А. Усов был интересным собеседником, но вряд ли Толстой мог делиться с ним самыми дорогими ему мыслями о смысле жизни, о нравственном законе как незыблемом руководстве.
- 306 -
Такие беседы ему удалось вести с другим московским профессором, математиком Н. В. Бугаевым. 16 мая Толстой записывает в дневнике:
«Прелестная мысль Бугаева, что нравственный закон есть такой же, как физический, только он «im Werden» [в становлении]. Он больше, чем im Werden, он сознан. Скоро нельзя будет сажать в остроги, воевать, обжираться, отнимая у голодных, как нельзя теперь есть людей, торговать людьми. И какое счастье быть работником ясно определенного божьего дела!»
Более подробно та же мысль развита в письме Толстого к В. Г. Черткову от 19 мая:
«Недавно мне уяснилась одна укрепляющая меня мысль: закон, нравственный закон Христа, его пять заповедей — это закон вечный, который не прейдет, пока не будет исполнен. Это закон такой же необходимый, неизбежный, как закон тяготенья, химических соединений и другие физические законы. Можно предположить, что те законы, физические, точно так же когда-то колебались, были не общи всем явлениям — вырабатывались; но все законы эти не изменились, пока не исполнилось все, и наконец стали необходимостью. То же и с нравственным законом — он нами вырабатывается... Мы разумом знаем, что это так должно быть, и всем существом чувствуем это. И придет время, что это будет так и будет так же твердо, как и другие законы природы. Тогда будут вырабатываться новые законы. — Мне эта мысль очень нравится, она дает мне большую силу и твердость»68.
В дневнике Толстого 1884 года записано несколько случаев, когда незнакомые ему лица приходили к нему за разъяснением неясных для них положений его мировоззрения.
Так, 17 апреля Толстой записывает: «Приходила учительница. Очень трогательная — спрашивала: «А что же цивилизация — наука, искусство?» Затем 3 мая: «Была девушка из Вологды, очевидно революционерка. Я поговорил с ней хорошо, но мало. Я всегда боюсь сцены» (вероятно, сцены ревности со стороны С. А. Толстой).
XIV
Еще в сентябре 1882 года к Толстому пришла жившая в москве старушка Анастасия Васильевна Дмоховская, мать сосланного в Сибирь и там умершего революционера Льва Адольфовича Дмоховского. Знакомство продолжалось и позднее. 20 марта 1884 года Дмоховская доставила Толстому статью о центральной каторжной тюрьме (вероятно, на Каре), где содержались самые важные государственные преступники.
- 307 -
25 марта Толстой был у А. В. Дмоховской, причем ему бросилось в глаза, что дочь ее говорила с ним «как будто с своим». 7 апреля Толстой отправился к А. В. Дмоховской и «высказал, что надо», т. е. разъяснил отличие своих взглядов от взглядов революционеров. Однако 23 апреля вновь повторяется запись 25-го марта: «Дмоховские решительно хотят революционировать меня. Как жалко».
17 апреля А. В. Дмоховская принесла Толстому «кучу материала» — нелегальные рукописи народовольцев, в числе которых были и стихотворения С. И. Бардиной, которые, как тут же записал Толстой, тронули его «до слез».
Софья Илларионовна Бардина (1853—1883) вела пропаганду среди рабочих, была съемщицей общей конспиративной квартиры в Петербурге. В 1876 году была предана суду Особого присутствия сената (процесс 50-ти) «по обвинению в составлении и в участии в противозаконном обществе и в распространении книг, имевших целью возбуждение бунта». В 1877 году была приговорена к ссылке в каторжные работы на девять лет, замененной впоследствии ссылкой на поселение в Тобольскую губернию.
Стихотворения С. И. Бардиной еще при ее жизни были напечатаны за границей и получили большое распространение как в печатном виде, так и в рукописях. Все эти стихотворения относятся к 1876—1877 годам.
Самые сильные стихотворения — неозаглавленное («Суд нынче мог бы хотя с балетом...») и «Две соседки».
Первое стихотворение было вызвано присутствием на процессе 50-ти большого числа публики], в том числе и некоторых светских дам. Стихотворение это должно было понравиться Толстому и ироническим описанием мимолетного («до обеда») чувства сострадания светской публики к молодым революционерам, жертвовавшим своей свободой и жизнью, и чувством собственного достоинства, и мужественным отношением к правительственным репрессиям, которым оно было проникнуто.
Вот это стихотворение полностью:
Суд нынче мог бы хоть с балетом
Поспорить: сильные земли
Пришли смотреть нас по билетам,
На нас бинокли навели...
Нам было лестно состраданье
Прочесть у них на лицах к нам...
Мне даже слышалось рыданье
Из отделения для дам...
И продолжалась до обеда
И даже больше их печаль.
У них о нас велась беседа;
Все говорили: «Жаль их, жаль!»
- 308 -
А у меня в тюрьме угрюмой
Была меж тем своя печаль.
Полна им непонятной думой,
Я говорила: «Мне вас жаль!»Стихотворение «Две соседки» начинается с жалобы молодой девушки-революционерки на то, как ей «скучно, тяжко, душно» сидеть в тюрьме, «целый день лежать без звука и без мысли в голове». И она вспоминает:
Но ведь рядом тоже клетка!
Может веселее там?Она стуком спрашивает соседку: «Хорошо ль живется вам?» И соседка отвечает (тоже стуком):
Легкие все не в порядке,
Стало трудно мне дышать!
То чахотки злой зачатки!
Видно, надо помирать!
Кашель мучает вот тоже
Окаянный, грудь болит...
А сияющий мир божий
За окном так жить манит!Но узница помнит, что справа от нее — другая соседка, и она стучит в ее «клетку» и спрашивает: «Как живешь, касатка Маша?». Та отвечает — опять стуком: «Плохо, друг мой!»
Она жалуется на то, что ночью к ней в стену стучат «жулики», что арестанты все спириты, а из-за углов и окон глядят страшные рожи — это гномы, которые грозятся ее погубить.
И узница понимает, что соседка ее сошла с ума.
Смолкло все. Лишь часового
Раздается мерный шаг.
Безотрадно и сурово
Смотрят звезды в небесах.И это стихотворение, так ярко воссоздающее ужасную (особенно для молодых) картину одиночного заключения, должно было произвести сильное впечатление на Толстого — противника всякого насилия и гнета69.
- 309 -
XIV
В апреле 1884 года Толстой познакомился с вдовой профессора Московского университета А. О. Армфельдта, Анной Васильевной Армфельдт, дочь которой Наталья Александровна Армфельдт в 1879 году за революционную деятельность была приговорена к четырнадцати годам каторжных работ и отбывала срок наказания в известной жестокостью режима каторжной тюрьме на Каре.
А. В. Армфельдт дала Толстому прочесть письма дочери и газетное сообщение о процессе, по которому она была осуждена. Личность Н. А. Армфельдт заинтересовала Толстого и вызвала его сочувствие. «Высокого строя, — записал он в дневнике 11 апреля по прочтении писем Н. А. Армфельдт. — Тип легкомысленный, честный, веселый, даровитый и добрый».
В одном из писем Н. А. Армфельдт писала, что «просьбы за нее оскорбляют ее». — «Это так и должно быть», замечает Толстой в дневнике по этому поводу. Но мать Н. А. Армфельдт не могла разделять этого настроения дочери. У дочери открылся туберкулез, и мать решила начать хлопоты о том, чтобы ее перевели в более близкую тюрьму; если же это будет признано невозможным, то просить о том, чтобы матери было позволено поселиться невдалеке от места заключения дочери и видеться с ней. Было решено написать прошение императрице.
Узнав об этом, Толстой предложил содействовать успеху прошения — он имел в виду обратиться к Александре Андреевне Толстой. Его переписка с А. А. Толстой к тому времени была прервана, но он был рад, что представился повод ее возобновить.
Прошение на имя императрицы было составлено, но когда Толстой получил его для отсылки А. А. Толстой, оч ужаснулся тому униженному верноподданническому тону, в каком оно было написано. «Прошения с «высочайшими священными особами», отношения с «высочествами» уже невозможны для меня. Просить священную особу, чтобы она перестала мучить женщину!» — с негодованием восклицает Толстой в дневнике 17 апреля.
О том же в более сдержанных выражениях около того же времени писал Лев Николаевич и А. А. Толстой: «Она [А. В. Армфельдт] прислала мне черновую просьбу. Когда я увидел всю эту ложр, все эти священные особы и т. п., мне стало грустно, и я почувствовал, что не могу тут участвовать, но потом стало стыдно, и потом мне посоветовали обратиться к Евгении Максимилиановне»70. Евгения Максимилиановна — принцесса Ольденбургская, воспитательницей которой была сестра
- 310 -
А. А. Толстой. Толстой встречался с ней за границей в 1857 году и по впечатлению, которое она на него произвела, и по отзывам знавших ее лиц, он подумал, что она может сочувственно отнестись к просьбе А. В. Армфельдт, и у него явилась мысль, не может ли вопрос о судьбе Н. А. Армфельдт быть решен одним разговором Евгении Максимилиановны с императрицей. Но это оказалось невозможным — письменное прошение было необходимо, и Толстой, вероятно, сам написал прошение без тех унизительных выражений, которые так резали его слух в первой редакции прошения, и отправил его вместе с письмом А. А. Толстой.
Очень скоро А. А. Толстая ответила Льву Николаевичу, что «все, решительно все сделано», чтобы дать ход прошению А. В. Армфельдт. Но началась обычная канцелярская волокита, и только в январе 1885 года А. В. Армфельдт получила разрешение поселиться неподалеку от карийской каторжной тюрьмы, где содержалась ее дочь.
Весною 1885 года Н. А. Армфельдт как безнадежно больная была переведена в «вольную команду» (на поселение). Здесь она вышла замуж за ссыльнопоселенца, но в 1887 году умерла от туберкулеза.
Чтение писем Н. А. Армфельдт и газетного сообщения о процессе, по которому она судилась вместе с другими революционерами, вызвали у Толстого следующие суждения о деятельности революционеров-семидесятников:
«Понял я тоже, — писал Толстой в дневнике 10 апреля, — что деятельность революционеров воображаемая, внешняя — книжками, прокламациями, которые не могут поднять. И деятельность законная. Если бы ей не препятствовали, в ней не было бы вреда. Им задержали эту деятельность — явились бомбы». Та же мысль еще более определенно выражена в записи 11 апреля, подчеркнутой Толстым: «Нельзя запрещать людям высказывать свои мысли о том, как лучше устроиться. А это одно, до бомб, делали наши революционеры».
У А. В. Армфельдт Толстой познакомился с основателем земской статистики В. И. Орловым, автором вышедшей в 1879 году книги «Формы крестьянского землевладения в Московской губернии». — «Живые люди, хорошо говорили», — записал Толстой в дневнике 14 апреля о В. И. Орлове и бывшей с ним учительнице.
По-видимому, Толстой пригласил В. И. Орлова к себе, чтобы подробнее ознакомиться с его мировоззрением. После новой встречи с В. И. Орловым Толстой записал о нем в дневнике: «Он хороший, умный и трудовой человек, но у него нет еще своего пути. Он в общении [с народом] думает найти его. Он пошел ходить по деревням и составил статистику».
У А. В. Армфельдт Толстой познакомился также с вдовой
- 311 -
революционера Петра Григорьевича Успенского, сестрой В. И. Засулич, Александрой Ивановной Успенской. Ее муж был одним из основателей общества «Народная расправа» и вместе с Нечаевым принимал участие в убийстве студента Иванова, подозревавшегося в предательстве. Успенский был присужден к каторжным работам и отбывал наказание на Каре. В 1881 году он был заподозрен своими товарищами в предательстве и повешен. Впоследствии товарищеский суд признал его полностью невиновным.
В 1884 году А. И. Успенская жила в Москве в большой бедности, содержа на свой скудный заработок и себя и своего единственного сына, мальчика четырнадцати лет, обучавшегося в одной из петербургских гимназий. Узнав, что она все делает для себя сама: носит дрова, топит печь, стирает, моет полы и т. д., — Толстой, измученный «дармоедством» своих взрослых сыновей, сказал ей «растроганным голосом»: «Какая вы счастливая! У вас есть настоящая, невыдуманная работа»71.
XVI
Дневник Толстого за март — май 1884 года отмечает его разнообразное чтение за эти месяцы.
Толстой читает древних китайских философов — Конфуция, Лао Цзы, а также книги на иностранных языках об этих философах и о жизни китайского народа.
Читает «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского, рассуждение американского философа Р. Эмерсона «О доверии к себе» (отзыв в дневнике 10 мая: «прелесть»), повесть на сюжет «вечный жид» (автор не указан), которой остается недоволен (отзыв в дневнике: «На мысль хорошую, но не новую нанизан поэтический набор»).
В «Отечественных записках» Толстой читает «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина, которая не произвела на него благоприятного впечатления (запись в дневнике 31 марта: «Болтовня Щедрина»), «Научные письма» Н. К. Михайловского и драму М. Северной «Бабья доля», в которой находит «прекрасное знание народа, его языка и углубление в народную жизнь», но в то же время считает, что «психологически слабо».
Читает какую-то книгу о Дантоне и Робеспьере (название и автор не указаны), после чего делает в дневнике помету: «Чудо»; в «Историческом вестнике» повесть Д. Л. Мордовцева о русском вольнодумце XVIII века Е. М. Кравкове, посаженном
- 312 -
Екатериной II в ревельскую крепость; статью Е. П. Летковой с изложением содержания двух работ иностранных авторов (один из которых известный итальянский психиатр Ч. Ломброзо) на тему «о сумасшествии героев».
Читает книгу Х. Д. Алчевской «Что читать народу?» и лубочные издания московского книгопродавца Преснова.
Читает различные статьи в журнале «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», какой-то роман Дюма, который в дневнике называет «болтовней», роман американского писателя Кингслея «Гипатия», статью Н. Н. Страхова о дарвинизме (полемика с К. А. Тимирязевым), религиозное сочинение Иванцова-Платонова, в котором находит некоторые свои мысли и в то же время «много детски глупого о социализме», полемическую брошюру Д. Д. Голохвастова против «Писем из деревни» А. Н. Энгельгардта, книгу народника С. Н. Кривенко «Физический труд как необходимый элемент образования», которая вызвала в дневнике запись: «Как русским дороги основы нравственности без сделок» (28 марта).
Из писем Толстого, написанных в марте — начале мая 1884 года, следует остановиться на его переписке с английским писателем и переводчиком В. Ролстоном и с бывшим командующим войсками Харьковского военного округа князем Д. И. Святополком-Мирским.
Письмо Толстого к В. Ролстону чрезвычайно характерно для его отношения к русской народной поэзии.
Первое письмо Ролстону Толстой написал в 1878 году. 22 сентября 1878 года Ролстон обратился к Толстому с просьбой сообщить ему биографические данные о себе, нужные Ролстону для задуманной им статьи о «Войне и мире». Толстой ответил отказом. 27 октября он писал Ролстону, что он сомневается в том, чтобы он был «таким значительным писателем, чтобы события его жизни могли представлять какой-либо интерес не только для русской, но для европейской публики»72.
Совсем иного характера переписка возникла между Ролстоном и Толстым в 1884 году.
В феврале 1884 года Ролстон, автор книг на английском языке «Песни русского народа» и «Русские народные сказки», обратился к профессору русской литературы в Московском университете Н. И. Стороженко с письмом, в котором сообщал о своем намерении поселиться где-нибудь в русской деревне, с тем чтобы на месте изучить русские народные песни. Стороженко обратился к Толстому за указанием, что́ ответить Ролстону. Толстой просил Стороженко написать Ролстону, что он приглашает его поселиться на лето в его яснополянском доме. Получив письмо Стороженко, Ролстон 4 марта писал Толстому:
- 313 -
«Я просто потрясен Вашей добротой и тем, что Вы так сердечно предлагаете гостеприимство постороннему человеку, и я несколько обеспокоен мыслью, что, может быть, обременю Вас. Но возможность изучения жизни русской деревни при таких благоприятных обстоятельствах настолько соблазнительна, что я готов отбросить все сомнения и решаю воспользоваться Вашей добротой»73.
Толстой отвечал Ролстону в половине марта, повторяя свое приглашение. Беловой текст этого письма Толстого неизвестен, но сохранился его черновик74. Толстой писал, что ожидает много удовольствия от пребывания Ролстона в его доме, оговариваясь при этом, что если Ролстону будет не так удобно у него в доме («у меня большая семья», — писал Толстой), то можно будет устроить иначе.
Но Ролстон вскоре заболел, и его поездка в Россию не состоялась.
5 апреля Толстой получил письмо от бывшего командующего войсками Харьковского военного округа и временного харьковского генерал-губернатора князя Д. И. Святополка-Мирского. Начав свое письмо воспоминанием о том, как он встречался с Толстым под Севастополем и какие «горячие споры» происходили у них в ауле Фацала, Святополк-Мирский далее сообщал, что два года тому назад он оставил «деятельную государственную службу» и поселился в деревне. Ему попался отрывок из ненапечатанной работы Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий», он слышал про «Исповедь» и читал об отказе Толстого выступать присяжным на суде. И он испытывает сочувствие «к душевному настроению Толстого с его стремлениями, столь редкими в наше время и в особенности в нашей культурной среде». «В этом океане пошлости, — писал он Толстому, — вы мне представляетесь желанным островом, к которому можно причалить». Святополк-Мирский выражал полное сочувствие тем взглядам Толстого, с которыми ему удалось познакомиться.
Не встречая сочувствия своим взглядам со стороны своих семейных, Толстой хватался за всякое выражение сочувствия со стороны посторонних, иногда преувеличивая степень близости своих корреспондентов к его жизнепониманию. Так было с письмом М. А. Энгельгардта в декабре 1882 года75, так было и теперь с письмом Д. И. Святополка-Мирского.
Отвечая на письмо Святополка-Мирского, Толстой писал ему 6 апреля:
- 314 -
«Письмо ваше очень поразило и порадовало меня. Из наших давнишних встреч у меня осталось впечатление о человеке умном, простом и, должно быть, добром. Потом ваша деятельность, о которой я слышал, отчуждала меня от вас, и вдруг ваше письмо, показавшее мне, что мы близки с вами, — гораздо больше, чем с многими людьми, с которыми я прожил жизнь».
Высказав далее свое мнение о присланных Святополком-Мирским стихах, «невозможных по своей форме», в которых нет даже «чувства красоты языка», Толстой просит своего корреспондента не сердиться за отзыв о его стихах и заканчивает письмо словами: «Тоже не сердитесь, что не употребляю слов — князь и др. Это происходит не от неуважения, а от уважения к человеку»76.
Д. И. Святополк-Мирский ответил Толстому 10 апреля. Он писал, что только разумом признает справедливость мировоззрения Толстого, но что «присутствия веры» у него нет даже в зародыше. Это письмо огорчило Толстого. 13 апреля он записывает в дневнике: «Вчера другое письмо Мирского — хуже».
Долгое время Толстой не мог заставить себя ответить на это письмо. В письме от 3 мая он, стараясь ободрить заинтересовавшего его нового корреспондента, писал ему: «Не верю и не могу верить тому, чтобы то, что вы выразили в письме первом вашем, было плодом случайного настроения... Не могу верить вашему неверию»77.
Святополк-Мирский не ответил на это письмо, и переписка его с Толстым прекратилась.
Личность Д. И. Святополка-Мирского продолжала интересовать Толстого. В декабре 1884 года он приходил к Толстому в Москве, но не застал его, так как Толстой накануне уехал в Ясную Поляну. 9 декабря Толстой писал жене: «Очень жалею, что не застал Мирского»78.
Несмотря на то, что «Исповедь» и «В чем моя вера?» были запрещены, а другие работы Толстого начала 1880-х годов вовсе не печатались, взгляды его получали все большую и большую известность и во многих возбуждали живой интерес. Он стал получать письма с выражением сочувствия его мировоззрению. Большинство из этих писем не сохранилось в его архиве. Так, 9 марта он записывает в дневнике: «Трогательное письмо из Киева от жены прокурора. Если бы это правда?» Письмо остается неизвестным.
- 315 -
«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»
Начало повести. Первая редакция. Автограф
- 316 -
XVII
В творческом отношении месяцы март — май 1884 года не были для Толстого особенно плодотворны.
Выше уже была приведена запись из дневника от 30 марта о замысле «Записок несумасшедшего», который тогда очень захватил Толстого. 12 апреля он снова записывает: «Бродят мысли о записках несумасшедшего».
16 апреля записан другой замысел: «Все бродит мысль о программе жизни. Не для загадывания будущего, которого нет и не может быть, а для того, чтобы показать, что возможна и человеческая жизнь».
Очевидно, Толстой мечтал написать статью о том, какой он представляет себе жизнь людей в отдаленном будущем, — не в смысле определенных конкретных форм будущего общественного строя, предвидеть которые Толстой считал невозможным, а в смысле общего направления жизни.
Эти свои представления о том, по какому направлению пойдет общественная жизнь в отдаленном будущем, Толстой изложил только в 1908—1909 годах в статьях «Закон насилия и закон любви» и «Неизбежный переворот».
18 апреля Толстой перечитал начатую им еще в 1882 году статью о московской переписи, в которой он принимал участие, и у него явилась мысль напечатать ее в журнале и гонорар употребить на помощь политическим заключенным. 20 апреля он записывает: «Статья о переписи складывается — ясно. Напишу». И далее: «Начал писать — нездоров». В конце записи этого дня опять повторяется: «Затеял кончить статью о переписи. Не знаю, хорошо ли».
В тот же день Толстой переговорил с редактором журнала «Русская мысль» С. А. Юрьевым о печатании статьи в его журнале и получил согласие. На другой день нашел последнюю редакцию начала своей статьи и, немного поправив ее, отнес в типографию.
В этой редакции работа Толстого уже получила свое окончательное заглавие: «Так что же нам делать?» Задача, которую ставил перед собой Толстой, участвуя в московской переписи 1882 года, определяется им теперь следующим образом:
«Мне казалось, что интересно было бы узнать: сколько людей не имеют необходимых одежд и у скольких людей полы и лестницы обиты сукнами и коврами, сколько людей не имеют достаточной свежей пищи и сколько людей не переставая объедаются, сколько людей задавлены работой, несмотря на старость и слабость, и сколько людей никогда ничего не работают»79.
- 317 -
Но работа над статьей пока еще не захватила Толстого. 21 апреля он пишет в дневнике: «Я сам не верю в эту статью». На другой день в дневнике записано: «Взялся за статью. Поправил немного, но дальше описания [Ржанова] дома не идет. Надо перескочить к выводу. Все не верю в эту работу. А казалось бы хорошо».
Записи ближайших дней говорят о том, что работа «не пошла». 23 апреля: «Потом сел за работу — не идет»; 24 апреля: «Попробовал писать. Не могу»; 27 апреля: «Пытался продолжать статью. Не идет. Должно быть, фальшиво. Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи, либо записки несумасшедшего».
«Смерть судьи» — это начатая в 1881 или 1882 году повесть, получившая вскоре название «Смерть Ивана Ильича».
Последующие записи также говорят о неудачных попытках продолжения работы над статьей о переписи. 28 апреля: «Утром опять попытался. И решительно не могу продолжать свою статью. Тонкости, и потому будет ложь»; 29 апреля: «Не могу писать»; 30 апреля: «Попробовал писать — не идет. «Смерть Ивана Ильича» достал — хорошо — и скорее могу».
1 мая: «Стал поправлять Ивана Ильича и хорошо работал. Вероятно, мне нужен отдых от той работы, и эта, художественная, такая».
Под «той работой» разумеется, конечно, статья о переписи.
2 мая: «Стал заниматься — не пошло». 3 мая: «Попытки тщетные писать — то ту, то другую статью. О переписи важно, но не готово в душе». 4 мая: «Взялся за работу и опять с одной статьи перескакивал на другую. И бросил». 6 мая: «Неожиданно уяснилась статья о переписи, и работал утро».
7 мая: «Сел за работу. Медленно подвигалось».
Этим заканчиваются записи дневника Толстого за апрель — май 1884 года о работе над будущим трактатом «Так что же нам делать?».
В письме к В. Г. Черткову от 6 июня 1884 года Толстой, высказав свое убеждение, что «нельзя быть христианином, имея собственность», далее писал: «Статью свою о переписи я все продолжаю обдумывать, но еще не написал. Там я бы хотел это ясно выразить»80.
И «Смерть Ивана Ильича» и трактат «Так что же нам делать?» в этот приступ к работе мало подвинулись вперед. Сданное в «Русскую мысль» начало «Так что же нам делать?» дальнейшего движения не получило, и корректура была возвращена автору.
Что же касается «Записок несумасшедшего», то этот замысел упоминается в дневнике Толстого в последний раз 27 апреля.
- 318 -
Дальнейших упоминаний об этом замысле и об исполнении его в дневнике нет, но в архиве Толстого осталось начало неоконченного рассказа, озаглавленного «Записки сумасшедшего», представляющего, очевидно, дальнейшее развитие темы «Записок несумасшедшего».
Изменение заглавия было вызвано, очевидно, тем, что первое заглавие слишком явно указывало на основную идею произведения, состоящую в том, что человек, стоящий неизмеримо выше окружающей среды, толпою признается сумасшедшим, тогда как действительно сумасшедшими, по мнению автора, являются люди толпы, живущие неразумной жизнью. Неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего» проводит ту же мысль, хотя и не так прозрачно, как она была бы выражена в рассказе под первым заглавием.
В основу рассказа «Записки сумасшедшего» положены главным образом несколько измененные воспоминания Толстого об отдельных случаях его жизни и описание перелома, происшедшего в его мировоззрении.
По словам героя рассказа, еще в детстве на него «находило» что-то необычайное. В детстве он (как и сам Толстой) испытывал временами счастье любви ко всем людям, переполнявшее его душу, и ему бывало мучительно видеть и слышать проявление нелюбви (как буфетчик бил провинившегося дворового мальчика, няня поссорилась с экономкой из-за какой-то сахарницы).
Кратко упомянув о том, как он начал портиться нравственно в отроческие и юношеские годы, рассказчик далее говорит, что до тридцати пяти лет он жил так же, как живут все. Как Толстой в «Исповеди» писал, что он «без ужаса, омерзения и боли сердечной» не может вспомнить о годах своей молодости, так и герой «Записок сумасшедшего» говорит, что двадцать лет его молодой здоровой жизни он вспоминает теперь «с тоудом и омерзением».
Далее мы узнаем, как с героем рассказа на десятом году его женитьбы случился «первый припадок» после детства. Он поехал в Пензенскую губернию покупать имение, остановился в гостинице в городе Арзамасе и здесь ночью испытал «ужас за свою погибающую жизнь». «Жутко, страшно; кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно».
Утром это мучительное состояние прошло, но «я чувствовал, — говорит мнимый сумасшедший, — как что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь».
Весь этот рассказ воссоздает действительный факт из жизни Толстого. 31 августа 1869 года он выехал из Ясной Поляны в Пензенскую губернию для покупки имения. 2 сентября он ночевал в гостинице в Арзамасе и здесь, как писал он жене
- 319 -
4 сентября, с ним «было что-то необыкновенное». «Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал... Подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай бог испытать»81.
Надо думать, что, описывая в «Записках сумасшедшего» арзамасскую ночь, Толстой более глубоко понял причины и характер испытанного им душевного состояния. Несомненно и то, что в свои воспоминания о пережитом им в эту памятную ночь Толстой внес художественные образы. Так, в письме к С. А. Толстой он писал только о пережитом им ужасе; в рассказе к упоминанию об ужасе присоединяются еще эпитеты: «красный», «белый», «квадратный» — сообразно окраске стен и форме комнат гостиницы. Но автобиографическая основа рассказа об арзамасской ночи в «Записках сумасшедшего» несомненна.
После арзамасской ночи герой рассказа «жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам, прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это».
Далее рассказывается о второй ночи, подобной арзамасской, когда рассказчик, приехав в Москву на какое-то судебное заседание, остановился в гостинице, и здесь в нем «шевельнулся» «арзамасский ужас». В нем поднялись религиозные сомнения и страх смерти, и он «провел ужасную ночь, хуже арзамасской». Его мучил вопрос о существовании бога. Он молился: «Если ты есть, открой мне: зачем, что я такое... Так открой же». И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один сам с собой... Не могу верить в будущую жизнь... Я не верил в него, но просил, и он все-таки не открыл мне ничего. Я считаля с ним и осуждал его, просто не верил».
Нет никаких данных предполагать, что подобная «московская ночь» была пережита самим Толстым. По-видимому, эта вторая ночь — создание творческой фантазии автора. В пользу этого предположения говорит также и малая конкретность описания московской ночи по сравнению с арзамасской. Впрочем, посещение с приятелем московской оперы может быть соотнесено с тем, как 3 декабря 1870 года Толстой, находясь в Москве, ездил с С. С. Урусовым слушать оперу Флотова «Марта» (письмо к С. А. Толстой 4 декабря 1870 года). Религиозные
- 320 -
сомнения героя «Записок сумасшедшего» — это, конечно, сомнения самого Толстого, о которых он рассказал в «Исповеди».
«Эта московская ночь, — говорит герой рассказа, — изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться в Арзамасе, Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтобы я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне».
Но перемена в сознании героя наступила так же внезапно, без всяких внешних толчков, как внезапно находили на него арзамасский и московский ужасы.
Зимой он был в лесу на охоте, отбился от охотников и заблудился. Тут на него «нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше... Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть?»
Но внезапно богоборческое настроение исчезло и заменилось примирением с богом. И ему «радостно было». «С этого времени, — говорит герой рассказа, — еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне».
Ему представился случай очень выгодно купить имение. У местных крестьян земли было мало, и они должны оыли обрабатывать помещичью землю только за право пасти свой скот на его лугу. Но герою рассказа «мерзко было», и он не купил это имение, потому что понял, что его выгода «будет основана на нищете и горе людей». «Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно. Это было начало моего сумасшестствия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого».
Он отказывается от церковной веры и перестает ходить в церковь. Прежнее «раздирание» исчезло в нем, исчез и страх смерти. «Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть».
Время написания «Записок сумасшедшего» определяется, во-первых, записями дневника 1884 года о замысле «Записок несумасшедшего» и, во-вторых, самым содержанием рассказа. Герой рассказа порывает со своим прошедшим и решает жить по-новому, но встречает решительное противодействие со стороны жены («ругала», «пилила»). Точно так же Толстой в марте — первой половине июня 1884 года неоднократно пробовал убеждать жену изменить быт семьи, отказаться от роскоши, начать вести трудовую жизнь, но встречал лишь «упреки и злобу»82.
Таким образом, можно предположительно датировать «Записки
- 321 -
сумасшедшего» концом апреля — первой половиной июня 1884 года.
Не позднее августа 1886 года рукопись «Записок сумасшедшего» была передана В. Г. Черткову, что видно из его письма к Толстому от 8 августа того же года, в котором он писал: «Вам непременно следовало бы вести постоянные записки, вроде дневника ваших мыслей и чувств. Вы это не раз сами чувствовали: «Записки христианина», «Записки несумасшедшего»83. В ответ на это Толстой 18 января 1887 года писал Черткову: «Пришлите и Записки сумасшедшего,.. Я нахожусь в нерешительности, — прибавлял далее Толстой, — что писать, окончив начерно ту повесть»84.
Толстой и позднее не отказывался от мысли продолжать начатое произведение. 26 декабря 1896 года он записывает в дневнике:
«Думал нынче о «Записках сумасшедшего». Главное: понял свою сыновность богу, братство, — и отношение ко всему миру изменилось»85.
Затем под 5 января 1897 года находим в дневнике следующую запись:
«(К Запискам сумасшедшего или к драме). Отчаяние от безумия и бедственности жизни. Спасение от этого отчаяния в признании бога и сыновности своей ему. Признание сыновности есть признание братства. Признание братства людей и жестокий, зверский, оправдаемый людьми небратский склад жизни — неизбежно приводит к признанию сумасшедшим себя или всего мира»86.
В списке замыслов художественных произведений, написанном Толстым, вероятно, 4 июля 1903 года, в числе других помечены и «Записки сумасшедшего»87.
Но Толстой так и не приступил к новому осуществлению так долго занимавшего его сюжета.
XVIII
12 мая 1884 года Толстой выехал из Москвы в Ясную Поляну.
В Ясной Поляне семейные отношения Толстого не только не смягчились, но еще более обострились. Он постоянно видел перед глазами тяжело работающих крестьян, и это усиливало
- 322 -
его неприязненное чувство к жене, мешавшей ему освободиться от неправды земельной собственности.
Уже на второй день по приезде Толстой записывает в дневнике: «Пошел к девочкам. У них спасаюсь от холодности и злобы». (Под «девочками» Толстой разумел дочерей Татьяну и Марию).
Эта запись говорит об очень важной перемене в яснополянской жизни: о начавшемся сближении дочерей Толстого с отцом. В дальнейшем это сближение возрастало все больше и больше.
14 мая Толстой записывает: «Та же злость. Я как во сне, как [у] Хлудова, когда знаю, что ходит тигр, и вот, вот». « Московские старожилы в объяснение этой записи Толстого рассказывали, что богатый купец Хлудов для потехи держал у себя в доме тигра, которым пугал приходивших к нему гостей.
Но Толстой не отказывается от мысли «поворотить» жену в том направлении, которое он считал единственно истинным. 17 мая он записывает:
«Дома задремал, потом пытался говорить с женой. По крайней мере без злобы. Вчера я лежал и молился, чтобы бог ее обратил. И я подумал: что это за нелепость. Я лежу и молчу подле нее, а бог должен за меня с нею разговаривать. Если я не умею поворотить ее, куда мне нужно, то кто же сумеет?»
19 мая, подводя итоги своей жизни за месяц, Толстой пишет: «Одно, что дурного — знаю — не было. Если было в семье, то и то меньше».
20 мая Толстой записывает:
«Опять волнение души. Страдаю я ужасно. Тупость, мертвенность души — это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность. Надо и это уметь снести, если не с любовью, то с жалостью. Я раздражителен, мрачен с утра. Я плох». И на другой день: «Разговор за чаем с женой. Опять злоба».
Приезд Т. А. Кузминской с семьей теперь не порадовал Толстого, как радовал его прежде. «По приезде Тани, — записывает он, — «мрак» яснополянской жизни сгустился еще больше». (20 мая). Далее под тем же числом записано: «Кузминские говорят про моды и деньги, которые для этого нужны. Как тут жить, как прорывать этот засыпающийся песок? Буду рыть».
На другой день Толстой пробует поговорить с Татьяной Андреевной, чтобы показать ей ошибочность ее вглядов на жизнь, но успеха не имеет. Он пишет в дневнике: «Долго говорил с Таней. Говорить нельзя. Они не понимают. И молчать нельзя».
Толстой видел в своей жене и свояченице большую, но ложно направленную жизненную энергию. В тот же день он
- 323 -
записывает в дневнике: «Родись духом одна из наших женщин — Соня или Таня, что бы это была за сила. Вспыхнул бы огонь, который теплился».
Вновь и вновь думает Толстой о своих отношениях к жене. «Надо любить, а не сердиться, — записывает он 23 мая, — надо ее заставить любить себя. Так и сделаю».
Иногда это ему удается. «Я мягче, ближе к любви с женою», — записывает он 24 мая. Но на следующий день запись иного характера: «Не могу быть любовен, как хотел. Очень я плох».
О себе, о своем душевном и физическом состоянии Толстой пишет 26 мая: «Я ужасно плох. Две крайности: порывы духа и власть плоти». Он ищет причины «власти плоти»: «табак, невоздержание, отсутствие работы воображения», но находит, что «все пустяки». «Причина одна: отсутствие любимой и любящей жены». Он вспоминает, что разлад с женой начался у него еще четырнадцать лет тому назад, когда «лопнула струна», и он «сознал свое одиночество». Но тут же сурово обрывает свои воспоминания и твердо заявляет: «Это все не резон. Надо найти жену в ней же. И должно, и можно, и я найду. Господи, помоги мне».
Несмотря на тяжкие семейные условия, Толстой продолжал придерживаться того оптимистического мировоззрения, которое было выражено им в трактате. «В чем моя вера?». «Чудной ночью» 27 мая он пошел один на железнодорожную станцию Козлова Засека встречать приезжающих из Москвы сыновей и дорогой думал:
«Жизнь наша есть исполнение возложенного на нас долга. И все сделано для того, чтобы исполнение это было радостно. Все залито радостью. Страдания, потери, смерть — все это добро. Страданья производят счастье и радость, как труд — отдых, боль — сознание здоровья, смерть близких — сознание долга, потому что это одно утешение. Своя смерть — успокоение. — Но обратного нельзя сказать: отдых не производит усталости, здоровье — боли, сознание долга — смерти. Все радость, как только сознание долга. Жизнь человека, известная нам — волна, одетая вся блеском и радостью».
Но трудные отношения с женой не давали Толстому возможности всегда быть счастливым и радостным. 28 мая он записывает: «Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело... Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».
На другой день, 29 мая, в дневнике записано: «Не могу найти обращения с женой такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь. Приехал Сережа. Тоже нехорош я с ним. Точно так же, как с женой. Они не видят и не знают моих страданий».
- 324 -
31 мая: «Вечером она говорит: голова свежа. Я счел себя обязанным говорить. Сказал, и все тот же бессмысленный, тупой отпор. Не спал всю ночь».
3 июня: «Обед. Она нехорошо кричала. Больно, что не знаю что надо делать. Молчал».
Одновременно с увеличением отчужденности с женой усиливалась близость к Толстому его дочерей. 5 июня он записывает: «Девочки любят меня. Маша цепка». Еще раньше, 24 мая, Толстой записал: «Говорил с Таней дочерью хорошо». 6 июня, записав, что он «косил весело», Толстой прибавляет: «Маша со мной была».
«Дармоедство» сыновей продолжало огорчать Толстого. «Безнравственная праздность детей раздражает меня, — записывает он 8 июня. — Разумеется, нет другого средства, как свое совершенствование, а его-то мало. Одна Маша». На другой день, 9 июня: «Та же подавляющая общая праздность и безнравственность, как что-то законное».
Далее в тот же день Толстой записывает: «Ужасные люди — женщины, выскочившие из хомута». Наблюдение это было вызвано письмом В. Г. Черткова о его матери, но несомненно, что Толстой относил его также и к своей жене.
XIX
«Не знаю, долбит ли моя капля, а невольно капля все падает», — писал Толстой в дневнике 22 мая.
Толстой старался внушать своим детям и другим родственникам, что богатым людям, если они хотят служить другим, нужно «прежде всего перестать требовать службы от ближних» и начать самим «служить себе: топить печи, приносить воду, варить обед, мыть посуду, и т. п. Мы этим начнем служить другим». Так писал Толстой в дневнике 4 апреля.
Тринадцатилетняя Верочка Кузминская, выслушав эти наставления Льва Николаевича, возразила: «Ну, хорошо неделю, но ведь так нельзя жить». Записав в дневнике эти слова девочки, Толстой с горечью замечает: «И мы доводим до этого детей!».
18 июня, подводя итоги всему пережитому им за месяц, Толстой записал: «Невольно говорил и говорил всем окружающим».
Толстой старался раскрыть своим детям и всем окружающим безнравственность их праздной, роскошной жизни среди сверх сил работающих крестьян и рабочих.
Вот он идет по какому-то делу (быть может, на почту) в соседнюю деревню Ясенки и видит на шоссе троих рабочих: парня шестнадцати лет, взрослого и старика шестидесяти лет,
- 325 -
разбивающих камень для замощения шоссе. «Выбивают на харчи, — записывает Толстой в дневнике. — Камень крепок. Работа каторжная с раннего утра до позднего вечера» (13 июня).
На другой день за кофе сошлись англичанка гувернантка, пятнадцатилетний сын гувернантки француженки и вызванная по желанию Софьи Андреевны акушерка и Толстой начал им рассказывать «о работниках на шоссе». «Говорил хорошо, но слушали скверно», — записывает он в дневнике.
На следующий день Толстой на крокете «говорил» с Т. А. Кузминской и гувернанткой француженкой Сейрон, после чего записал в дневнике: «Убедить никого нельзя, но я долблю, — безнадежно, но долблю».
16 июня Толстой пошел на прогулку «с девочками» (вероятно, Кузминскими) и «говорил» с ними. «Весело гуляли, — записал он, — но мертвы. Слишком много пресного, дрожжи не поднимаются. Это я постоянно чувствую на моей Маше».
XX
11 июня Толстой записывает в дневнике: «Хочется писать, и много есть работы, но теперь перемена образа жизни лишает ясности мысли».
Вскоре по приезде в Ясную Поляну Толстой начал «переделывать свои привычки». Он стал раньше вставать и больше работать физически. Он упрощает свою жизнь: чай пьет в прикуску, мяса не ест, вина не пьет, старается отучить себя от курения. С 24 мая по 8 августа Толстой усиленно занимается косьбой лугов.
Часто Толстой косил вместе с мужиками, не отставая от них в работе. Один раз он так долго и напряженно работал, что, вернувшись домой, не мог спать — «руки ныли, но очень хорошо и телесно и духовно... Не ждал я, — прибавляет Толстой, записав в дневнике этот факт, — что на старости можно так учиться и исправляться» (23 июня). Когда вследствие нездоровья он не мог заниматься косьбой, он «тосковал по физической работе» (26 июня).
При дележке скошенного сена Толстому дали копну, то есть большой воз.
Однажды ему случилось косить вместе с мужиками ближней деревни Бабурино. Они оказались пьяны, но Толстому «хорошо было с ними» (17 июля)88.
Постоянное общение с народом в работе показало Толстому, какие благоприятные условия для нравственной жизни создает
- 326 -
крестьянский земледельческий труд. Он приводит примеры: «Тимофей, голубчик, загони мою корову: у меня ребенок». Он — пустой, недобрый малый — уморился, и все-таки бежит. Вот условия нравственные. — «Анютка, беги, милая, загони овец». И 7-летняя девчонка летит босиком по скошенной траве. Вот условия. — «Мальчик, принеси кружку напиться». Летит 5-летний и в минутку приносит. И понял, и сделал».
Приходили к Толстому соседние крестьяне посоветоваться относительно покупки земли у помещика; побеседовав с ними «о Турции и земле там», Толстой записывает в дневнике: «Как много они знают, и как поучительна беседа с ними, особенно в сравнении с бедностью наших интересов. [У нас] один желудок работает, для него одного живут» (26 июня).
«Мне всегда с мужиками стыдно и робко, и я люблю это чувство», — записал Толстой в дневнике 2 июля.
Несомненно, что причиной этого стыда и этой робости Толстого при встречах с крестьянами было ненавистное ему его положение помещика. 6 июня он писал В. Г. Черткову, у которого умер отец и которому должны были перейти по наследству обширные имения отца:
«Ваши опыты хозяйства интересны тем, что они показывают, какое страшно трудное и сложное дело предстояло бы вам разрешать, если бы вы остались независимым хозяином. Разрешить это дело невозможно никак иначе, как отказавшись от всего. Мне хотелось бы, чтобы вы не думали, что можно быть добрым владельцем большого имения. Нельзя быть христианином, имея собственность. Нельзя светить светом Христа, когда сам весь заражен ложью жизни... Как только мы начнем что-нибудь делать, пользуясь собственностью, как только мы начнем соблюдать ее, так мы изменяем себе. Все, что мы можем делать, это — отдавать то, что другие считают нашим, и готовить себя к тому, чтобы быть в силах довольствоваться наименьшим»89.
Встречая со стороны семьи ожесточенный отпор своему решению передать землю крестьянам, Толстой задумал постепенно частично осуществлять это решение.
Его самарская земля сдавалась в аренду местным крестьянам; за ними накопился долг в 12 тысяч рублей. Толстой решил эту сумму не брать себе, а употребить на нужды тех самых крестьян, которые арендовали землю, — на помощь нуждающимся, на школы, зимние заработки и пр. Но он и на этот раз встретил противодействие со стороны жены.
11 июня он записывает в дневнике: «Вечером жестокий разговор о самарских деньгах». Ожидался приезд управляющего самарским имением Толстых; С. А. Толстая, очевидно, настаивала
- 327 -
на принятии строгих мер по отношению к неплательщикам арендной платы. «Стараюсь сделать, — писал Толстой в дневнике в тот же день, — как бы я сделал перед богом, и не могу избежать злобы. Это должно кончиться» — прибавляет он многозначительно.
15 июня Толстой вновь записывает: «Попытки разговора с женой ужасно мучительны».
Он решил употребить на нужды самарских крестьян, арендующих его землю, не только 12 тысяч, которые они были должны, но всю ту арендную плату, которую они будут уплачивать в будущем. Целью Толстого при этом было не только оказание помощи крестьянам, но и своеобразная борьба с семьей. 16 июня он в письме к своим друзьям В. И. Алексееву и А. А. Бибикову, жившим и работавшим на его самарской земле, изложив свой план употребления арендной платы самарских крестьян на нужды плательщиков, в объяснение своего решения писал: «Это — единственное средство для меня теперь избавиться от этой собственности. Если бы я был один, то, разумеется, я ничего бы не затевал, а прямо предоставил бы пользоваться этой землей тем, кто владеет ею, но теперь назначение этой земли на пользу других есть единственное средство, которое я могу употребить против своей семьи. Всякий член моей семьи, пользуясь этими деньгами, пусть знает, что он пользуется деньгами, имеющими назначение. Хорошо ли, дурно, я лучше не умел придумать»90.
В другом письме к В. И. Алексееву, написанном в июле, Толстой давал такое объяснение своему проекту:
«Для моей семьи это — начало того, к чему я тяну постоянно — отдать то, что есть, — не для того, чтобы сделать добро, а чтобы быть меньше виноватым».
При этом Толстой оговаривался, что этот его план будет осуществлен только в том случае, если он перестанет «встречать в этом препятствие семьи», на что он надеялся. Тогда он приедет в Самару и примет участие в осуществлении своего плана. Теперь же он просит своих друзей «иметь наблюдение над тем, чтобы земли пахались по установленному порядку и деньги платились в срок»91.
XXI
Первая мысль об уходе из Ясной Поляны появилась у Толстого 4 июня после тяжелого разговора со старшим сыном.
Накануне он говорил с сыном о необходимости изменения жизни, на что тот ответил, что все попытки изменения жизни
- 328 -
«тщетны». Теперь Толстой возобновил вчерашний разговор. Он сказал сыну, как записано в его дневнике, «что всем надо везти тяжесть. И все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: «Повезу, когда другие». «Повезу, когда оно тронется». «Оно само пойдет». Только бы не везти. Тогда он сказал: «Я не вижу, чтоб кто-нибудь вез». И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и не чувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти.
Но все это слабость. Не для людей, а для бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего подобного этой боли сердца». Запись заканчивается словами: «Вокруг меня идет то же дармоедство».
На другой день, 5 июня, мысль об уходе не только не исчезает, но получает подкрепление с новой стороны. В этот день Толстой записывает:
«В 12 пошел завтракать и встретил все ту же злобу и несправедливость. — Вчера Сережа покачнул весы, нынче она. Только бы мне быть уверенным в себе, а я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза... Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце...»
С волнением ожидал Толстой родов жены. «Это — важное для меня событие», — записал он 9 июня.
18 июня Толстой записывает в дневнике события, происшедшие в Ясной Поляне 17 июня.
Днем он отправился к приехавшему к нему и проживавшему на даче у станции Козлова Засека устроителю артелей кустарей в селе Павлове Нижегородской губернии А. Г. Штанге. Когда Толстой вернулся домой, все уже пообедали. «Приехал брат Сережа, — пишет Толстой. — И две бабы — жены острожных и две вдовы солдатки. Ждали. Я устал, засуетился с ними и Штанге и Сережей. Тяжелое, суетливое состояние. Скверно наскоро пообедали. Пишу все это к тому, чтобы объяснить последующее. Вечером покосил у дома, пришел мужик об усадьбе. Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал?» — говорит Таня сестра. — «И не хочу видеть». И пошел к себе спать на диване; но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки
- 329 -
мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть умру». Пошли наверх. Начались роды, — то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить. — Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным. Заснул в 8. В 12 проснулся».
XXII
Что же произошло в Ясной Поляне вечером 17 июня 1884 года?
Накануне Толстой сообщил жене о своем решении употребить деньги, получаемые от самарских крестьян за аренду его земли, на нужды тех же крестьян. Это решение, которым С. А. Толстая и ее дети лишались крупных денежных сумм, несомненно, привело ее в крайне возбужденное состояние.
Находясь в таком состоянии, она начала упрекать Толстого «за лошадей». Смысл этого упрека раскрывается из записи Толстого («...упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться»).
С. А. Толстая в своей автобиографии так передает свой разговор со Львом Николаевичем перед его попыткой ухода из Ясной Поляны:
«Раз вечером, 17 июня, зашел разговор о самарских лошадях; я была не в духе, мне нездоровилось, и я в споре начала упрекать Льва Николаевича, что все его затеи в убыток, что самарских лошадей поморили; денег на них вышло много, а толку мало, так как во всех своих делах у Льва Николаевича нет выдержки. Лев Николаевич доказывал противное, спор принял характер злобный, а так как отношения наши и так стали гораздо хуже, мы ни на чем не примирились»92.
- 330 -
Очевидно, когда С. А. Толстая через много лет вспоминала это важное как в ее жизни, так и в жизни Льва Николаевича событие, некоторые подробности улетучились из ее памяти, причем дневник Толстого 1884 года был ей неизвестен, так как рукопись хранилась у В. Г. Черткова.
В дневнике Толстой пишет определенно, что на упреки жены он «ничего не сказал».
С. А. Толстая в своей автобиографии так описывает уход Льва Николаевича из Ясной Поляны.
«Лев Николаевич ушел вниз, в кабинет, набил чем-то холщевый мешок, который бывал с ним при его странствованиях пешком в Оптину Пустынь, и пошел по аллее. Я догнала его и спросила, куда он идет.
— Не знаю, куда-нибудь, может быть в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома, — со злобой и почти со слезами говорит он.
— Но мне ведь родить, я сейчас уже чувствую боли, — говорила я. — Опомнись, что случилось?
Но Лев Николаевич все прибавлял шагу и вскоре скрылся. У меня начались родовые схватки. Было уже около двенадцати часов вечера. Я села на лавочку на крокет-граунд и начала горько плакать.
Меня положили; схватки и боли обострялись; я все спрашивала, вернулся ли Лев Николаевич и всю ночь его не было. В пятом мне пришли сказать, что он вернулся и лег спать внизу. Я вскочила с постели и несмотря на уговоры акушерки, пошла вниз. Лев Николаевич лежал не раздетый на диване с злым лицом и ничего не сказал мне»93.
Какими же причинами был вызван уход Толстого из Ясной Поляны?
Разумеется, упреки за лошадей не были причиной, но только толчком, заставившим Толстого предпринять решительный шаг.
Толстой бежал от «безумия эгоистической жизни», от «безнравственной праздности», от «дармоедства», от «гадости» барской жизни, от нравственной порчи детей, от «тупости и мертвенности души».
Он пошел по направлению к Туле и дорогой мечтал о том, где он поселится (даже возвратившись в Ясную Поляну, он мечтал о том, как он мог бы уехать во Францию, так как «везде можно одинаково хорошо жить» — запись 24 июня), но
- 331 -
чувство долга и жалости к жене заставили его вернуться с полдороги.
Вернувшись, Толстой лег спать, но долго не мог заснуть «от горя».
Мучительное чувство горя, которое испытывал Толстой после своей неудачной попытки уйти из Ясной Поляны, имело несколько причин. Тяжело было сознавать полную безвыходность своего положения; тяжело было знать, что жена никогда не пойдет с ним по одной дороге (хотя у него и шевелилось предположение, что она «не совсем деревянная»); тяжел был разрыв с женой, с которой он прожил 22 года; мучительно было думать о том, что человеку, которого он искренно любил и жалел, предстоят «гибель» и ужасные душевные страдания.
XXIII
«18 июня в семь часов утра родилась, — как вспоминает С. А. Толстая в своей автобиографии, — прекрасная девочка с темными длинными волосами и большими синими глазами».
Девочку назвали Сашей. Это был двенадцатый ребенок в семье Толстых94.
«Отцу было крайне неприятно, что мать решила не кормить самой будущего своего ребенка», — писал С. Л. Толстой95. До того всех своих детей Софья Андреевна кормила сама.
24 июня Толстой писал В. Г. Черткову:
«Жена родила девочку. Но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Все это делается как-то не понимая, как во сне. Я борюсь с собой, но тяжело, жалко жену»96.
В объяснение отказа кормить новорожденную С. А. Толстая в своей автобиографии пишет: «Если бы в то время Лев Николаевич приласкал меня, помог бы мне в делах, попросил бы меня опять самой кормить ребенка, я, разумеется, с радостью склонилась бы на это. Но он неизменно был суров, строг, неприятен и так чужд, как никогда. Целые дни он проводил вне дома и тогда в июне косил траву наравне с мужиками... На заре он
- 332 -
опять уходил косить, — и так все лето мы его почти никогда не видали»97.
Впоследствии няня Саши Толстой, крестьянка деревни Судаково Анна Степановна Сухоленова, в откровенной беседе со своей питомицей рассказала: «Не захотела тебя кормить графиня... Уж очень ей все постыло было. С графом все нелады шли. Чудил он в ту пору. То работать уйдет в поле с мужиками с утра до ночи, то сапоги тачает, а то и вовсе все отдать хочет. Графине это, конечно, не нравилось. Опять же дети маленькие. Ну, графиня назло графу — знала, что он это не любит — и взяла тебе кормилицу»98.
XXIV
Попытка Толстого, хотя и неудавшаяся, совершенно порвать с ненавистной ему барской жизнью произвела сильное впечатление на его семейных. 24 июня Толстой записывает в дневнике:
«Многого я очень требую от моих близких. В них шевелится совесть — в лучших, и то хорошо».
О том же Толстой в тот же день писал В. Г. Черткову:
«С радостью вижу (или мне кажется так), что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают, и им как будто совестно... Они, мне так кажется, начинают чувствовать, что что-то не так. Бывают разговоры — хорошие».
Далее Толстой рассказывает, что на днях по случаю болезни дочери Маши он и девочки собрались в ее комнате, и Толстой предложил всем рассказать, как кто провел день. «Всем стало совестно рассказывать, — пишет он Черткову, — но рассказали, и рассказали, что сделали дурное». Это же было повторено на другой день вечером, и еще раз99.
Наибольшее впечатление уход Толстого произвел на его старшую дочь. В начале ноября 1884 года она писала Т. А. Кузминской: «С мама после этой драмы летом — помнишь? мы живем хорошо, но часто приходится удерживаться от злобы»100.
Меньшее действие уход Толстого произвел на его жену. 23 июня Толстой записывает в дневнике:
«Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва. Стараюсь сделать как надо. А как надо — не знаю. Надо сделать как надо всякую минуту, и выйдет как надо все».
- 333 -
Но и в жене Толстого произошел какой-то, хотя небольшой и неясный, сдвиг. 26 июня Толстой записывает:
«Жена рада случаю осуждать меня и ругать. Мне трудно; но как будто что-то сдвинулось. Оттого каша какая-то».
Следует несколько записей о неудачных попытках сближения с женой. 4 июля в дневнике записано:
«Жена стала говорить. И как будто хорошо. Хотя трудно сдерживалось раздражение. Говорит: надо жить в деревне, но как только разговор о жизни, так элюдируют101. Потом уже вечером, когда я хотел идти спать, начался разговор. Таня как будто поддерживала меня. Сережа брат сочувственно молчал. До двух часов говорили. Я измучился страшно и чувствовал, что праздно. (Так и вышло)».
5 июля: «Вечером разговор о жизни, но уже слабее. Стали сводить на нет».
6 июля: «Дома попытки отношений — как будто мы все разрешили, и вместе с тем ничего изменять не надо».
7 июля: «Имел несчастье сказать о неугасаемом чае. Сцена. Я ушел... Только что я написал это, она пришла ко мне и начала истерическую сцену — смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна, и ей надо куда-то убежать. Мне было жалко ее; но вместе с тем я сознавал, что безнадежно... Я успокоил, как больную».
Общий вывод и предвидение:
«Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей102. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее».
«Но дети?» — ставит Толстой тревожный вопрос. И отвечает на него в духе своего общего философского мировоззрения: «Это, видно, должно быть. И мне больно только потому, что я близорук».
11 июля Софья Андреевна писала А. А. Толстой:
«До сих пор не писала вам по многим причинам: здоровье мое поправляется медленно, а душа никогда не спокойна. Никогда еще Левочка не был в таком крайнем настроении, и никогда еще не было так трудно найти точку, на которой мы могли бы, делая взаимные уступки, сойтись. А разлад без всякой причины, кроме выдуманных и отвлеченных, особенно после 22-летнего согласия, очень тяжел. Видно, я в чем-нибудь очень грешна перед богом, что приходится это переживать. Простите меня, что я вам все это пишу; очень часто хочется у кого-нибудь совета спросить. Смешно то, что когда он кому-нибудь
- 334 -
пишет, то тоже жалуется. А где несчастье? Ведь оно только выдумано и совсем не осязаемо»103.
В конце письма С. А. Толстая пишет о том, что Лев Николаевич «жалуется» на нее в письмах. Она имела в виду письмо Толстого к М. А. Энгельгардту, написанное в конце 1882 — начале января 1883 года, где Толстой писал: «Вы не можете представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня»104.
12 июня 1884 года Толстой получил от В. Г. Черткова письмо с уведомлением о том, что он гектографировал письмо Толстого к Энгельгардту. Очевидно, Чертков тогда же послал Толстому гектографированный экземпляр, и Софья Андреевна тогда впервые познакомилась с этим письмом.
7 июля Т. А. Кузминская писала из Ясной Поляны своему мужу А. М. Кузминскому:
«Все бы хорошо, да не семейно. Соня слаба, а Левочка все проповедует: все раздать, прислугу отпустить, и все больше и сильнее, целое утро спорили. Соня все плакала, вообще не отрадно»105.
Как бы продолжением записи 7 июля является следующая запись Толстого 12 июля: «Ночью... объяснение. Не понимаю, как избавить себя от страданий, а ее от погибели, в которую она с стремительностью летит».
14 июля Толстой записывает, что у него с женой был разговор личного характера. Она отвечала «с холодной злостью и желанием сделать больно». Перед ним вновь встал вопрос об уходе. Ночью он собрался, уложился и хотел уехать, разбудил жену «и все ей высказал... Ужасно тяжело было, и я чувствовал, [что говорю] праздно и слабо».
Но отъезд и на этот раз не состоялся, и Толстой заканчивает запись этого дня словами:
«Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их».
15 июля, как записывает Толстой в дневнике, у него произошло примирение со старшим сыном. Началось с того, что сын, как записал Толстой, «без причины сделал грубость». «Я огорчился, — писал Толстой, — и выговорил ему все. И буржуазность, и тупость, и злость, и самодовольство. Он вдруг заговорил о том, что его не любят, и заплакал. Боже, как мне больно стало. Целый день ходил и после обеда поймал Сережу и сказал ему: «Мне совестно...» Он вдруг зарыдал, стал целовать
- 335 -
и говорить: «Прости, прости меня». Давно я не испытывал ничего подобного. Вот счастье».
Та же напряженность в отношениях с женой отмечается несколько раз в записях дневника Толстого ближайших дней. 17 июля записано: «Дома отношения с женой опять натягиваются, но натягиваются только с женою. Те все любят меня». 18 июля: «Как будто еще натянутее». 23 июля: «Вечером враждебное настроение жены. Какая тяжесть».
Но 25 июля в дневнике записано: «Соня раскаялась во вчерашнем не в духе». И на следующий день: «Соня хороша, и Сережа, и Таня, и Маша». 27 июля: «Дома дружно».
Однако изменившиеся к лучшему отношения с женой не кажутся Толстому прочными. 31 июля он записывает: «С женой держится. Я боюсь и напрягаю все силы».
XXV
В августе Толстой нашел новый способ внушения своим детям и домашним безнравственности праздной и роскошной жизни рядом с непрерывно и непосильно работающим трудовым народом. Это был так называемый почтовый ящик.
По словам И. Л. Толстого, почтовый ящик существовал в Ясной Поляне с начала 70-х годов, однако никаких материалов, написанных в эти годы для почтового ящика, не сохранилось. Инициатива возобновления почтового ящика в начале 80-х годов принадлежала, вероятно, Татьяне Львовне, большой мастерице выдумывать всякие домашние развлечения.
В яснополянском доме на площадке лестницы, рядом с большими часами, был помещен ящик наподобие почтовых ящиков для писем, с разрезом на верхней крышке, запертый на ключ. В этот ящик опускались всякого рода заметки, рассказы, стихи, вопросы, шарады, сообщения о новостях яснополянской жизни и т. п. Писали члены семей Толстых и Кузминских, гувернантки, гости, приезжие. Раз в неделю по воскресеньям за вечерним чаем ящик отпирался, и все в нем накопившееся прочитывалось вслух. Читали Лев Николаевич, или Софья Андреевна или Татьяна Андреевна.
Целью почтового ящика было только развлечение, но Толстой решил воспользоваться им для того, чтобы лишний раз напомнить — то в форме вопросов, то в форме шуточных, но глубоко правдивых по существу, характеристик обитателей яснополянского дома — о безнравственности праздной жизни, о необходимости труда и равного уважительного обращения со всеми. Разные случаи из яснополянской жизни Толстой в своих заметках освещал с точки зрения своего миропонимания.
5 августа Толстой записывает: «Почтовый ящик, не совсем пусто. Камень долбит».
- 336 -
Вполне возможно, что именно в этот вечер прочтена была следующая заметка, написанная Толстым:
«Почему, когда в комнату входит женщина или старик, всякий благовоспитанный человек не только просит их садиться, но уступает им место?
Почему приезжающего Ушакова или сербского офицера не отпускают без чая или обеда?
Почему считается неприличным позволить более старому человеку или женщине подать шубу и т. д.
И почему все эти прекрасные правила считаются обязательными к другим, тогда как всякий день приходят люди, и мы не только не велим садиться и не оставляем обедать или ночевать и не оказываем им услуг, но считаем это верхом неприличия».
«Где кончаются те люди, к которым мы обязаны?
По каким признакам отличаются одни от других?
И не скверны ли все эти правила учтивости, если они не относятся ко всем людям? Не есть ли то, что мы называем учтивостью, обман, — и скверный обман?»
По записи дневника Толстого, упоминаемый в этой заметке сербский офицер ему «понравился» (фамилия его не известна, приезжал в Ясную Поляну 29 июля), а тульский губернатор С. П. Ушаков, посещение которого было Толстому «неприятно», приехал 30 июля.
С целью «долбления камня каплей» были написаны Толстым и опущены в почтовый ящик и прочтены вслух еще следующие заметки:
«Просят ответить на следующие вопросы.
Почему Устюша, Маша. Алена, Петр и пр. должны печь, варить, мести, выносить, подавать... а господа есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать?»
«Какая бы была разница, если бы Илья не бегал за лисицами и волками, а лисицы и волки бегали бы сами по себе, а Илья бегал бы по дорожке от флигеля дома?
Никакой, кроме удобства и спокойствия лошадей».
Но Толстой все чаще и чаще убеждается в том, что в его семье, благодаря тем каплям добра, которыми он долбит камень нравственного застоя и самодовольства, происходит некоторое движение вперед. 6 августа он записывает: «Сознание своего ложного положения проникает в детей. Вячеслав [Берс] спорил с Сережей, и Сережа говорил моими словами».
8 августа в дневнике записано: «За обедом взрыв на мисс Лэк106. Сознание добра и мира мало, но вошло в семью. Все убиты».
- 337 -
Позднее в тот же день записывается: «Дома тяжелый разговор. Соня, чувствуя, что виновата, старалась оправдаться злом. Но мне было жалко ее».
На следующий день Толстой пишет: «Соня помирилась. Как я был рад. Именно если бы она взялась быть хорошей, она бы была очень хороша», — повторяет Толстой свою характеристику жены, уже данную им в одной из прежних записей.
22 августа, в день рождения жены, Толстой написал для яснополянского почтового ящика сатирическую заметку под заглавием «Скорбный лист душевнобольных яснополянского гошпиталя». Здесь изображены члены семей Толстых, Кузминских и другие обитатели Ясной Поляны как душевнобольные люди, страдающие разными маниями; в шутливой форме описаны действительные недостатки изображаемых лиц. Всего дано двадцать три портрета, в том числе самого Толстого, его жены, дочерей, сыновей Сергея, Ильи и Льва, супругов Кузминских и их детей, Л. Д. Урусова, гувернантки-француженки Анны Сейрон и некоторых знакомых. Ни один портрет не был подписан, и слушателям предоставлялось догадываться об оригиналах и об авторах.
Толстой начал описание с самого себя и дает себе следующую характеристику:
«Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Weltverbesserungswahn»107, Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищенье и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного».
Толстой сознательно преувеличил свои недостатки, чтобы обитатели яснополянского дома не обижались на него, найдя в нарисованных им портретах что-нибудь им неприятное. Рекомендованное им «лечение» себя самого — «равнодушие всех окружающих к его речам» — явно звучит горькой иронией.
Следует портрет С. А. Толстой, о которой сказано:
«Находится в отделении смирных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: Petulantia toropigis maxima108. Пункт помешательства в том, что больной
- 338 -
кажется, что все от нее всего требуют, и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; отвечание на вопросы прежде, чем они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Больная страдает манией Блохино-банковской. Лечение: напряженная работа. Диэта: разобщение с легкомысленными светскими людьми. Хорошо тоже действуют в этом случае в умеренном приеме воды Кузькиной матери».
Упоминаемый здесь Блохин — это прозвище сумасшедшего нищего, побиравшегося в окрестностях Ясной Поляны; настоящее его имя и фамилия — Григорий Болхин. Летом 1884 года Толстой косил с ним траву в яснополянском саду.
О Болхине есть упоминание в трактате «Так что же нам делать?», где курьезные взгляды Болхина излагаются в следующих словах:
«Он говорит про себя, что он окончил всех чинов и, по выслуге военного сословия, должен получить от государя императора открытый банк, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горох, прислугу и всякое продовольствие. На вопросы: не хочет ли он поработать? — он всегда гордо отвечает: «очень благодарен, это все управится крестьянами». Когда скажешь ему, что крестьяне тоже не захотят работать, он отвечает: «крестьянам это не затруднительно в управке»... «Теперь выдумка машин для облегчительности крестьян, — говорит он. — Для них нет затруднительности». Когда у него спросишь: для чего он живет? — он отвечает: «для разгулки времени».
«Человек этот смешон для многих, — писал Толстой далее, — но для меня значение сумасшествия его ужасно... Я вижу в нем себя и все наше сословие. Окончив чинов, чтобы жить для разгулки времени и получать открытый банк, между тем как крестьяне, для которых это не затруднительно по выдумке машин, управляют все дела, — это полная формулировка безумной веры людей нашего круга»109.
Даже грудная Саша попала в яснополянский гошпиталь душевнобольных, но только для того, чтобы с ее помощью уколоть мать.
«Находится у кормилицы. Вполне здорова и может быть безопасно выписана. В случае же пребывания в Ясной Поляне тоже подлежит несомненному заражению, так как скоро узнает, что молоко, употребляемое ею, куплено от ребенка, рожденного от ее кормилицы».
Из дневника Толстого узнаем, что «Скорбный лист» был прочитан вслух за вечерним чаем 22 августа в день рождения
- 339 -
Софьи Андреевны и не вызвал ничьих обид. «Хорошо было, — записал Толстой в дневнике. — Что-то трогает как-то их. Я не знаю, как»110.
Отношения Толстого с женой продолжали оставаться колеблющимися.
26 августа в дневнике он с горечью замечает: «Жена не пошла за мной и пошла, сама не зная куда, только не за мной — вся наша жизнь».
Но 28 августа, в день своего рождения, Толстой записывает: «Приятно, дружно с женой. Говорил ей истины неприятные, и она не сердилась».
Проходит только один день, и 29 августа в дневнике появляется запись: «Соня убрала мою комнату, а потом гадко кричала на Власа. Я приучаюсь, — прибавляет Толстой, — не негодовать и видеть в этом нравственный горб, который надо признать фактом и действовать при его существовании».
4 сентября С. А. Толстая вернулась из Москвы, куда она ездила на несколько дней. На другой день Толстой записывает: «Утром разговор и неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней. Измучен страшно».
12 сентября записано: «Гулял с Соней по лесу».
И это последняя запись в дневнике Толстого за 1884 год об отношениях с женой. 13 сентября дневник прекращается.
XXVI
В Ясной Поляне Толстого продолжали посещать друзья, знакомые и незнакомые посетители.
Два раза — в июле и августе — Толстого посетил художник Н. Н. Ге. В самый день приезда Ге, 24 июля, Толстой записывает в дневнике: «Ге очень хорош. Ощущение, что мы слишком уж хорошо понимаем друг друга». Затем на другой день Толстой записывает, что он «много хорошо говорил с Ге», и дает ему такую характеристику: «Прелестное, чистое существо». На другой день, 26 июля, Толстой опять «целый день» провел с Н. Н. Ге.
Неоднократно посещал Толстого Л. Д. Урусов, но Толстой начал замечать, что Урусов «стал отдаляться» от него. «Мало в нем жизненности», — записал Толстой в дневнике 5 августа.
Побывал у Толстого его друг Иван Иванович Раевский, владелец имения Бегичевка Рязанской губернии, в котором
- 340 -
Толстой позднее, в 1891 году, организует центр помощи голодающим крестьянам.
Приезжали в Ясную Поляну два брата Бестужевы-Рюмины: Константин Николаевич, профессор русской истории в Петербургском университете, через которого Толстой в 1881 году передал свое письмо Александру III, и Василий Николаевич, начальник Тульского оружейного завода.
Приезжал тульский помещик М. С. Сухотин. Не предвидя того, что впоследствии Сухотин станет его зятем, Толстой в дневнике дает ему такую характеристику: «Что за жалкое и ничтожное существо. Особенно поразительно потому, что внешне даровитое».
Приезжал П. И. Борисов, племянник Фета.
Бывали родственники С. А. Толстой — Иславины и Берсы.
Состав посетителей, впервые приезжавших к Толстому в мае — сентябре 1884 года, был численно не велик, но очень разнообразен. Из них в дневнике Толстого упоминаются: устроитель артелей павловских кустарей А. Г. Штанге, которого Толстой называет революционером; молодой студент Д. И. Шаховской, позднее изредка бывавший в Ясной Поляне, впоследствии один из основателей партии конституционалистов-демократов (Толстой говорил про него: «Милый человек, а маньяк либерализма»); Александр Александрович Армфельдт, брат Натальи Александровны Армфельдт, профессор Института сельского хозяйства в Новой Александрии (Толстой записал о нем: «И умен и знающ, но пуст»); старообрядец Пушкин, привезший Толстому свою книгу об обрядах и взявший у него «В чем моя вера?» («Они революционеры или сочувствующие революции», — записал Толстой в дневнике относительно старообрядцев по поводу приезда Пушкина); тесть Л. Д. Урусова С. И. Мальцев, владелец чугунолитейных и хрустальных заводов и крупный помещик (он носил придворный мундир, в котором явился и в Ясную Поляну, и ему, как записал Толстой в дневнике, «было совестно за то, что он в лакейском мундире»); С. С. Абамелик-Лазарев, владелец заводов на Урале и крупный помещик, которого Толстой характеризует как «дикого человека, научившегося всей внешности цивилизации».
Таким образом, Толстой и в эту полосу своей яснополянской жизни не был отрезан от внешнего мира.
Сравнительно мало времени Толстой в этот период своей жизни посвящал чтению.
В мае он продолжает читать американского писателя Р. Эмерсона, о котором в дневнике дает отзывы: «Эмерсон хорош»; «Эмерсон глубок, смел, но часто капризен и запутан»; «Эмерсон сильный человек, но с дурью людей 40-х годов». Статью Эмерсона о Наполеоне как представителе жадного буржуазного эгоизма Толстой нашел «прекрасной».
- 341 -
Читал знаменитого религиозного писателя IV—V веков Августина, автора книги «Исповедь», у которого нашел кое-что «хорошее». Из книги Августина Толстой выписывает поучение: «Искать жизнь в области смерти».
Но очень недоволен остался Толстой книгой профессора Лейденского университета Авраама Кюкена по исследованию Ветхого завета, о которой он писал в дневнике: «Что за болтовня казенно-профессорская».
Читал работу французского ученого Жюля Мишле о древних персах и книгу английского писателя Томаса Мидоуса о Китае, которую нашел «прекрасной».
Читал также книги по буддизму.
Читал сочинения Ги де Мопассана, о котором записал в дневнике: «Забирает мастерством красок, но нечего ему, бедному, сказать» (28 августа).
12 сентября Толстой со своими детьми начал читать рассказ Тургенева «Яков Пасынков», но рассказ детей не заинтересовал, и Толстой «вместо дрянного Пасынкова» начал им читать очерк Тургенева «Поездка в Полесье», который имел у детей успех.
На другой день Толстой перечитывал Некрасова, чтобы выбрать из него стихотворения, подходящие для чтения детям, и в тот же день читал детям Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Некрасова — все «прекрасные» вещи, но ни одна из них в дневнике не названа.
XXVII
В мае — сентябре 1884 года продолжалась оживленная переписка с Чертковым.
Выше уже было сказано о письме к Черткову от 6 июня того же года, в котором Толстой утверждал, что нельзя быть «добрым владельцем большого имения, нельзя быть христианином, имея собственность».
На это письмо Чертков ответил 18 июня. Он писал, что согласен с Толстым во взгляде на собственность, но что этот вопрос для него связан еще «с некоторыми затруднениями». «Я получаю теперь, — писал Чертков, — около 20 тысяч рублей ежегодно от своей матери. Деньги эти достаются мне без всякого насилия с моей стороны. Мать моя мне их передает, а каким образом она их получает — мне до этого дела нет... Мне кажется, что пока деньги лезут в карман сами собою или по крайней мере совершенно независимо от каких-либо моих усилий и пока никто еще не отнимает их от меня, покуда мне не приходится защищать их, я не имею права отказываться от возможности помогать тем, кто нуждается в материальной помощи. Другое дело, если бы я должен был производить над другими некоторое
- 342 -
насилие для получения этих денег, например заставлять рабочих работать и т. п.»111.
Это письмо Черткова очень огорчило Толстого. 25 июня он записал в дневнике: «Вечером из Тулы письмо от Черткова. Ему страшно отказаться от собственности. Он не знает, как достаются 20 тысяч. Напрасно. Я знаю. Насилием над замученными работой людьми. Надо написать ему».
Долго Толстой не мог заставить себя ответить на это письмо Черткова. Ответ без обращения и без подписи был написан только 11 июля.
«В вашем последнем письме вы опять говорите о собственности, — писал Толстой. — Я боюсь, что вы защищаете себя. Я думаю так: собственность с правом защищать ее и с обязанностью государства обеспечивать и признавать ее — есть не только не христианская, но антихристианская выдумка. Для христианина важно одно: не жить так, чтобы ему служили, а так, чтобы самому служить другим. И эти слова... надо относить к самым простым и очевидным вещам, т. е. чтобы не мне служили за столом, а я служил бы другим, не мне закладывали бы лошадь, а я бы закладывал ее другим, не мне бы шили платье и сапоги, не мне бы варили суп, кофе, кололи дрова... а я бы делал это для других. Из того, что всего нельзя самому делать и есть разделение труда, никак не вытекает то, что я ничего не должен делать, как только умственную, духовную работу, которая выражается моей физической праздностью, т. е. работаю одним языком или пером... Такого разделения труда не может быть и никогда не было, а есть рабство, угнетение одних другими, т. е. самое антихристианское дело. И потому для христианина самое умственное и духовное дело состоит в том, чтобы не содействовать этому, лишать себя возможности эксплуатировать труд других и самому сознательно становиться в положение тех, которые служат другим»112.
В одном из следующих писем — от 28 августа, прямо отвечая на вопрос, поставленный Чертковым относительно его материального положения, Толстой писал: «Я ставлю истинного христианина в ваше положение. Что он будет делать?.. Деятельность свою он будет строить никак не на отношениях собственности... У христианина на вашем месте ничего нет и ничего быть не может... Я считаю, что он ничего бы определенного не мог бы брать ни от кого — от отца ли, от матери, или просто от управляющего. Он не считает себя собственником и потому брать ничего не может»113.
- 343 -
В. Г. Чертков в своих письмах Толстому касался и религиозных вопросов. Так, в письме от 17 июля он ставил перед Толстым вопрос о личном боге и о молитве как средстве борьбы с соблазнами, встречающимися на жизненном пути. На это письмо Толстой ответил большим письмом от 24 июля. На вопрос Черткова о внешнем боге от ответил, что это «опасная и, боюсь, кощунственная метафизика».
«Молитва к богу, — писал Толстой далее, — есть суеверие, т. е. самообман. Все, о чем я молился и молюсь, все это может быть исполнено людьми и мною».
В подтверждение этого мнения Толстой рассказывает своему другу случай из своей жизни — как он несколько лет назад чуть было не подпал чувственному соблазну и как избавился от него. Он писал:
«Скажу вам то, что со мной было и что я никому еще не говорил. Я подпал чувственному соблазну. Я страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие. Я молился и все-таки чувствовал, что я без сил. Что при первом случае я паду. Наконец, я совершил уже самый мерзкий поступок, я назначил ей свиданье и пошел на него. В этот день у меня был урок со вторым сыном. Я шел мимо его окна в сад, и вдруг, чего никогда не бывало, он окликнул меня и напомнил, что нынче урок. Я очнулся и не пошел на свиданье. Ясно, что можно сказать, что бог спас меня. И действительно он спас меня. Но после этого разве искушение прошло? Оно осталось то же, И я опять чувствовал, что наверно паду. Тогда я покаялся учителю, который был у нас, и сказал ему не отходить от меня в известное время, помогать мне. Он был человек хороший. Он понял меня и, как за ребенком, следил за мной. Потом еще я принял меры к тому, чтоб удалить эту женщину, И я спасся от греха, хотя и не от мысленного, но от плотского, и знаю, что это хорошо»114.
Учитель, упоминаемый здесь Толстым, это В. И. Алексеев. Он жил в Ясной Поляне с лета 1877 до 2 июня 1881 года115.
- 344 -
О своем внутреннем состоянии Толстой писал Черткову в том же письме: «Тяжело, мучительно часто в мирском смысле, что дальше, то тяжелее и мучительнее, надежды на осуществление чего-нибудь в этом мире при себе — никакой, и никогда не только вопроса о том, не изменить ли мне мой путь, но никогда сомнения, колебания или раскаяния»116.
В одном из писем к Черткову (от 5—7 сентября) Толстой писал ему: «В ваших письмах мало простой любви ко мне как к человеку, который любит вас. Если это так в душе, то делать нечего, а если есть какая перегородка, сломайте ее, голубчик. Нам будет лучше обоим».
Толстой по натуре своей был очень склонен любить людей как людей «простой любовью», независимо от своих христианских убеждений, и такой же «простой любви» желал от других, прежде всего от своих друзей.
- 345 -
Отвечая Толстому, Чертков 25 сентября писал: «Я вас люблю, хотя вообще я мало люблю отдельных личностей... Но вас я положительно люблю, хотя немножко и побаиваюсь»117.
Кроме В. Г. Черткова, Толстой в мае — сентябре 1884 года переписывался еще со своими друзьями Н. Н. Ге, В. И. Алексеевым и А. А. Толстой.
В письме к А. А. Толстой, написанном в июне, находим яркое описание того положения, в котором находился в то время Толстой в семье и в обществе.
«Вы вникните немножко в мою жизнь, — писал он. — Все прежние радости моей жизни, я всех их лишился. Всякие утехи жизни — богатства, почестей, славы, всего этого у меня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачиваются от меня. Одни — либералы и эстетики — считают меня сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя; другие — революционеры, радикалы — считают меня мистиком, болтуном; правительственные люди считают меня зловредным революционером; православные считают меня диаволом. — Признаюсь, что это тяжело мне, не потому, что обидно, а тяжело то, что нарушается то, что составляет главную цель и счастье моей жизни — любовное общение с людьми: оно труднее, когда всякий налетает на тебя с злобой и упреком»118.
XXVIII
В творческом отношении май — сентябрь 1884 года были еще менее плодотворны, чем предыдущие месяцы, проведенные Толстым в Москве.
В мае — начале июня Толстой продолжает работать над трактатом «Так что же нам делать?». 13 мая, на второй день по его приезде в Ясную Поляну, в дневнике появляется запись: «Стал поправлять статью. Нейдет».
Затем в течение всего мая и первых чисел июня в дневнике находим разнообразные записи о работе над «Так что же нам делать?»: «Занимался хорошо. Здоровье лучше, и вдруг все ясно»; «Писал хорошо. Все уясняется»; «Писал плохо»; «Работа нейдет, но не могу отстать от нее»; «И не начинал писать — не хотелось»; «Попытался писать — нейдет»; «Пробовал писать — тщетно»; «Сажусь писать», и в тот же день позднее: «Ничего не вышло»; «Перечел свою статью — хорошо может быть»; «Все нездоровится. Даже не пытаюсь писать»; «Просмотрел написанное. Дальше не могу идти»; «Очень сильно и «к делу» дальнейшее».
- 346 -
С июня упоминания о работе над трактатом «Так что же нам делать?» все реже попадаются в дневнике.
4 июня Толстой «прочел и чуть поправил» копию первого варианта незаконченного романа из эпохи декабристов, написанного в 1860 году. 9 июня он перечел копию одного из позднейших вариантов того же романа. Оба эти варианта предназначались для сборника в память двадцатипятилетия Литературного фонда. Сборник вышел в том же году. Доход с этого издания поступал в распоряжение Литературного фонда119.
10 июня Толстой записывает в дневнике: «Обдумывал свою статью. Кажется, ложно начато. Надо бросить».
Статья однако не была брошена, и попытки писать продолжались, хотя и г большими промежутками.
4 июля яснополянский учитель Д. Ф. Виноградов принес Толстому переписанные им листы «Так что же нам делать?». Толстой перечел их и нашел, что «хорошо».
В июле Толстой три дня посвятил работе над немецким переводом «В чем моя вера?», выполненным Софией Бер, и, читая, удивлялся тому, «как не трогает это людей» (17 июля).
23 июля «перечитал статью о переписи и пересматривал другое».
24 июля отвечал на письмо В. Г. Черткова от 4 июля, писавшего о том, что ему «очень, очень как-то тяжело и грустно», что Толстой ничего не пишет для печати. Черткову хотелось, чтобы Толстой писал понятные для народа художественные произведения, в которых проводил бы евангельские истины, потому что такие книги, как «В чем моя вера?», по своему способу изложения недоступны для народа. Толстой отвечал, что он только тем и живет, что надеется «передать свою веру другим», и «ничего другого нынешнее лето не делал», как только жил «так, чтобы приготовить себя к этому». В чем заключалась эта подготовка — видно из следующих строк письма: «Я многое пережил в это лето. Много перестрадал и — дай бог, чтобы я не ошибался — многое, кажется мне, сделал в семье»120.
Очевидно, под влиянием письма Черткова Толстой 27 июля «думал о книге для народа, опять в форме признания — хорошо». Содержание этой задуманной в форме «исповеди» книги не раскрыто; замысел остался невыполненным.
- 347 -
6 августа Толстой записывает: «Перечел опять статью о переписи. Все не хочется бросить. Поправил кое-что».
13 августа он пишет Черткову: «Я... теперь нахожусь в периоде переходном от летней внешней жизни в природе к внутренней жизни и работе. И не без радости готовлюсь к работе внутренней и писательской, если бог велит»121.
21 августа — последняя в дневнике запись о трактате «Так что же нам делать?»: «Перечел статью, и вдруг все выясняется. Я лгал, выставляя себя. Только перестать лгать, и все выйдет».
29 августа в дневнике записано: «Пропасть мыслей, просящихся на бумагу». Но на другой день — 30 августа — Толстой записывает: «Писать не могу».
Подобные записи находим и в дневнике 9 сентября («Хотел писать и не мог») и 10 сентября («Писать не мог»).
С прекращением дневника 13 сентября 1884 года дальнейшие сведения о его работах находим только в его переписке.
- 348 -
Глава пятая
«ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?».
ОСНОВАНИЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА
«ПОСРЕДНИК».
ПЕРВЫЕ НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫI
Неудачная попытка ухода из Ясной Поляны летом 1884 года имела важные последствия для жизни Толстого и его семьи.
Толстой убедился в том, что радикальная ломка установившегося уклада жизни семьи, которую он так убежденно и настойчиво предлагал, совершенно не по силам — по крайней мере в то время — его жене.
13—14 ноября 1884 года Толстой писал В. Г. Черткову: «Я спокоен, и мне и вокруг меня хорошо. Жизнь моя не та, какую я одну считаю разумной и негрешной, но я знаю, что изменить ее сил у меня нет, я уже пытался и обломал руки и знаю, что я никогда или очень редко упускаю случай противодействовать этой жизни там, где противодействие это никого не огорчает»1.
Вспоминая движение своей жизни за последние семь лет, Толстой, приурочивая начало перелома в своем мировоззрении к 1877 году, 28 октября писал С. А. Толстой:
«Нынче я вспомнил, что мне 56 лет, и я слыхал и замечал, что семилетний период — перемена в человеке. Главный переворот во мне был: 7×7 = 49, именно, когда я стал на тот путь, на котором теперь стою. Семь лет эти были страшно полны внутренней жизни, уяснением, задором и ломкой. Теперь мне кажется, это прошло, это вошло в плоть и кровь, и я ищу деятельности на этом пути. И или я умру, или буду очень несчастлив, или найду деятельность, которая поглотит меня всего на моем пути. Разумеется, писательская, — самая мне родственная и тянущая к себе»2.
Тяжелыми душевными страданиями Толстой добился того, что мог написать В. Г. Черткову 3 октября: «За это лето
- 349 -
у меня много было тихих, но больших радостей. В семье моей большое приближение ко мне. А радость это чувствовать — не могу вам передать. Только таких радостей, как увидать смягчение сердца, отречение от прежнего и признание истины и чувствовать, что ты в этом был участником, — таких радостей я никогда не испытывал»3.
Большое удовлетворение испытал Толстой оттого, что жена решила больше не ездить в свет и не вывозить старшую дочь.
В последних числах сентября Илья и Лев Толстые, учившиеся в Москве в частной гимназии Поливанова, обратились к отцу с просьбой разрешить им приехать в Ясную Поляну на два праздника. К их просьбе присоединился также сын гувернантки Алсид Сейрон, также учившийся в Москве.
Лев Николаевич ответил им телеграммой: «Валите, ребята, все трое». Телеграмма эта, по словам Софьи Андреевны в письме к Т. А. Кузминской, «произвела шумную радость. В субботу явились все трое, веселые и довольные».
3 октября С. А. Толстая писала сестре: «Мы нынешний год, особенно осень, так дружно и хорошо жили, у всех осталось воспоминание отрадное и именно дружное, тесное». Софья Андреевна имела в виду главным образом детей.
О Льве Николаевиче Софья Андреевна писала в том же письме: «Левочка внизу, занимается, а потом в саду всякий день рубит сухие и лишние деревья и отдает их разным приезжающим за этим мужикам и бабам»4.
10 октября Толстой поехал к своему другу художнику Н. Н. Ге, жившему на хуторе близ станции Плиски, Черниговской губернии, где пробыл до 15 октября.
Н. Н. Ге после его отъезда писал жене своего сына Петра Николаевича, Екатерине Ивановне, что в первый же день приезда Льва Николаевича с котомкой за плечами у них началась «самая дорогая искренняя беседа. Говорили обо всем...» Толстой каждый день после утреннего кофе ходил пешком в Иван-город (поселок в восьми верстах от станции Плиски) и возвращался около четырех часов. «Мы ждали его с обедом, — писал Н. Н. Ге, — и тут опять хорошо говорили, а больше его слушали — все, все безусловно, что он говорил, все это у меня давно уже сидит в голове и душе, и ни самомалейшей розни я ни разу не почувствовал».
Между прочим Н. Н. Ге сказал Толстому: «Лев Николаевич, ведь вот жаль: умру, и все пойдет прахом. Мое-то». На это Толстой, «улыбаясь мило, добродушно», отвечал: «А я так жалею, что сейчас не идет все прахом. Это было бы лучше».
- 350 -
В Иван-городе Толстой, не называя себя, побывал в школе и в амбулатории.
Школьный учитель не знал, кто у него был, когда же после его ухода узнал от кого-то, что это был Толстой, то побежал за ним, но Лев Николаевич, верно, догадался, что его видят, и исчез. Тогда учитель бросился обратно в школу и начал целовать тот стул, на котором сидел Лев Николаевич. «Ведь вот как любят и чтут гения простые сердца под общим названием темный люд», — писал Н. Н. Ге.
В амбулатории Толстой просидел часа три, наблюдая прием больных. По окончании приема он подошел к врачу А. М. Ковальскому и сказал, что ему очень понравилось обращение врача с больными, что он раньше был врагом медицины, но теперь готов изменить свое мнение5.
Еще в первый день по приезде Толстой просил Н. Н. Ге дать ему что-нибудь «почитать». Н. Н. Ге дал ему книгу немецкого астронома Шенфера. Толстой взял ее неохотно, но, начав читать, был захвачен содержанием книги, которая напомнила ему его занятия астрономией с яснополянскими школьниками. Он сказал Н. Н. Ге: «Я прочел и даже негодую на вас, что мне дали, — у меня много уже материала для работы, а эта вещь вызвала желание приняться ва это дело опять, так как я давно с интересом этим занимался»6.
Оригинальные астрономические воззрения автора книги заинтересовали Толстого. 20 октября, провожая жену с детьми, уезжавшую из Ясной Поляны в Москву, Толстой просил ее при случае переговорить со знакомыми о новых астрономических теориях, о которых он прочитал в книге Шенфера.
Исполняя это поручение, С. А. Толстая 23 октября писала Льву Николаевичу: «Говорили с [Сергеем Семеновичем] Урусовым о твоем астрономическом вопросе. Но он только громко хохотал». 25 октября она же писала: «Об астрономии еще не у кого было спросить»7.
В чем состояли новые взгляды немецкого астронома, привлекшие внимание Толстого, мы узнаем из письма В. С. Соловьева к Н. Н. Страхову от 19 ноября 1884 года. В. С. Соловьев сообщал, что в этот день он у Фета встретился с Толстым, и Толстой, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, стоит неподвижно и есть единственное нам
- 351 -
известное «твердое» тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землей по той причине, что свет не имеет веса. «Я в принципе, — прибавлял В. С. Соловьев, — ничего против этого не имею, но относительно оснований сомневаюсь и советовал ему обратиться к Бредихину (астроному), а также написать Вам, но он возражал, что Вы слишком влюблены в науку и будете спорить»8.
На этом наши сведения об увлечении Толстого взглядами немецкого астронома кончаются.
II
20 октября вся семья Толстого переехала в Москву, и он один провел в Ясной Поляне 13 дней.
Письма Толстого к жене за это время, особенно самые первые, проникнуты плохо скрываемой радостью по поводу того, что, живя одиноко, он беспрепятственно может вести тот образ жизни, какой ему по душе.
Он отпустил повара и дворника, не пользовался лошадьми, упростил свой обед (в письмах к жене он описал два своих обеда: один состоял из овсяного супа и поджаренной каши, а другой из редьки с квасом, похлебки и печеной репы), сам ставил себе самовар, каждый день поздно вечером или ночью ходил пешком на ближайшую железнодорожную станцию Козлова Засека опустить письмо жене.
На этот раз все тринадцать дней Толстой провел в Ясной Поляне очень деятельно.
В. Г. Чертков просил Толстого прислать рукопись не изданного в то время «Исследования догматического богословия», Толстой согласился, но решил прежде просмотреть и исправить рукопись. Работа увлекла его, и он ни одного дня не провел праздно.
22 октября Толстой писал жене, что, встав в восемь, убравшись и напившись кофе, он «вышел в сад — погода восхитительная. Думаю: надо воспользоваться, только взгляну переписанное. Сел, стал читать, поправлять и до шести часов со свечей еще работал. И устал». На другой день он не хотел уставать и работал только с утра до трех часов. В эти дни он исправлял главу о божественности Христа и об искуплении им рода человеческого, и в объяснение своего увлечения этой работой писал жене в тот же день: «Как ни смотри на это, для
- 352 -
миллионов людей вопрос этот огромной важности» и потому нельзя «кое-как» писать о нем, а нужно «основательно» исследовать его9.
В свободные часы Толстой занимался чтением исторического журнала «Русская старина». Чтение это представляло для него как художника особый интерес. Об этом он писал Софье Андреевне 25 октября: «Читаю я «Русскую старину» с большим удовольствием — тем удовольствием разыгрывающегося воображения на разные темы жизни»10.
У Толстого установились простые дружелюбные отношения с яснополянскими крестьянами. Он хлопотал по просьбам женщин за их мужей, сидящих в остроге, мирил ссорившихся, его приглашали на семейные советы; раз, когда он проходил по соседней деревне Воробьевке, его упросили зайти на свадьбу. «Я вошел, — писал он жене 22 октября, — меня величали и поднесли полотенце. Все в том легком пьяном состоянии, в котором мужик так мил. Я выпил браги молодой; потребовали, чтобы я сказал: горько, и требовали это раз пять. И молодой и молодая свежие, здоровые, нарядные, сильные, счастливые»11.
«Здесь день кажется такой не блестящий, а вспомнишь — нет-нет, и оказался полезным добрым людям», — писал он жене 29 октября12.
Как и прежде, Толстой любил, проходя по Киевскому шоссе, заговаривать с прохожими и странниками. В письме к Софье Андреевне от 24 октября он описал свою встречу и разговор с двумя странниками, возвращавшимися из Афона и Старого Иерусалима. Все путешествие туда и обратно они проделали без копейки денег. «Очень величественные и умильные старики», — писал о них Толстой. В другой раз он пригласил к себе двух странников из Олонецкой губернии, поставил им самовар, который они «живо осушили». Странники остались «очень довольны и хорошо рассказывали», — писал Толстой жене 26 октября13.
Крестьянская бедность по-прежнему продолжала действовать на Толстого угнетающим образом. «Нужда, нужда мужицкая, нужда в первых потребностях — хлеба, молока, дров; и сверх того — подати», — писал он жене 30 октября14.
Происшедшее в Толстом изменение его взглядов на жизнь только теперь коснулось его отношения к охоте. 28 октября он писал Софье Андреевне, что когда он поехал верхом в лес
- 353 -
на прогулку, за ним «увязались» собаки, и ему захотелось попробовать свое «чувство охоты». «Ездить, искать, по 40-летней привычке, очень приятно. Но вскочил заяц, и я желал ему успеха. А главное — совестно»15.
После того как Толстой окончательно убедился в том, что его жена не в силах отказаться от установившегося помещичьего образа жизни, у него явилась мысль самому заняться хозяйством, начав с Ясной Поляны. 23 октября он писал жене:
«Много хорошо думал о том, что мне надо, пока мы живем, как мы живем, самому вести хозяйство. Начать в Ясной. У меня есть план, как его вести сообразно с моими убеждениями. Может быть, это трудно, но сделать это надо... Не говоря о том, что если мы пользуемся ведением хозяйства на основаниях (ложных) собственности, то надо вести его все-таки наилучшим образом в смысле справедливости, безобидности и, если можно, доброты... Я хочу... попытаться совершенно свободно, без насилия, а по доброте, вести сам дело с народом в Ясной. Ошибки, потери большой, даже никакой, я думаю, не будет. А может быть, будет хорошее дело. Хотелось бы в хорошую минуту, когда ты слушаешь, рассказать тебе, а описать все трудно»16.
Софья Андреевна осталась чрезвычайно довольна новым планом ведения хозяйства, изложенным Львом Николаевичем. В ответ она писала 25 октября: «С твоим уменьем и умом (когда ты только захочешь) ты всякое дело можешь отлично вести... Меня возьми себе в помощницы. Я с тобой так радостно буду делать всякую работу, только бы поздороветь, а духом я так весела и спокойна и на все готова»17.
Судя по письму, Софья Андреевна чувствовала себя тогда вполне счастливой. Лев Николаевич не думал больше об уходе из Ясной Поляны и был с ней особенно ласков и внимателен, отплачивая за ту резкость, которая проявлялась иногда летом, в его отношениях с ней.
В то время Софья Андреевна, как человек, несущий полный сосуд с драгоценной жидкостью и всецело поглощенный тем, чтобы не пролить ни одной капли этой жидкости, больше всего боялась не только каким-нибудь поступком, но словом нарушить то настроение Льва Николаевича, в котором он теперь находился. Все ее письма, написанные за эти тринадцать дней, проникнуты глубокой нежностью и любовью. Вот некоторые выдержки из этих писем.
«Прощай, милый друг, целую тебя; я вдруг себе ясно тебя представила, и во мне такой вдруг наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное,
- 354 -
и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям».
«Живи один, если тебе хорошо, я сочувствую тебе и совсем отрешилась от эгоизма; уже нет у меня, как бывало, той досады, что не помогаешь мне, что не любишь нас, и т. п. Слава богу, и это пережилось... Прощай, мой милый, я тебя очень люблю; если б и ты так меня любил — тихо, чисто и бескорыстно».
«О нас не сокрушайся и не беспокойся; только свои крылья расправляй и будь счастлив».
«А в каком ты чудесном, по-видимому, духе! Твое умиление за музыкой, впечатление природы, желание писать — все это ты самый настоящий, тот самый, которого ты хочешь убить, но который чудный, милый, добрый и поэтический, тот самый, которого в тебе все знающие тебя так сильно любят. И ты не убьешь его, как ни старайся...»
«Приезжал бы поскорей, как мы все тебя ждем и любим. Но твоя жизнь лучше нашей, несмотря на уныние. Ты сам живешь бедно и помогаешь и советами, и делом, и участием. А мы-то как?..
Прощай, голубчик, это мое последнее письмо, теперь буду ждать тебя с счастьем, но с волнением, что тебе в Москве будет дурно. Нет, я непременно поеду тебя встречать в пятницу на курьерский»18.
С чувством глубокого раскаяния вспоминала Софья Андреевна о своих истерических выходках в недавнем прошлом. «Я боюсь, больше болезни, моего истерического состояния, — писала она 31 октября, — это самое мое постыдное воспоминание, хотя я и не виновата в нем»19.
Памятуя свою любимую поговорку о капле, долбящей камень, Толстой не переставал наставлять жену, как следует разумно смотреть и разумно поступать в жизни.
В письме от 25 октября Софья Андреевна послала Льву Николаевичу счет на ежемесячно необходимые, по ее мнению, расходы в московской жизни. Счет этот составил 1457 рублей. Толстой отвечал ей 28 октября:
«Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Все это не событие, как, например: болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам близких и дорогих; а это — наше устройство, которое мы устроили так и можем переустроить иначе и на сто разных манер. Знаю я, что это тебе часто, а детям
- 355 -
всегда, невыносимо скучно (кажется, что все известно), а я не могу не повторять, что счастье и несчастье всех нас не может зависеть от того, проживем ли мы все, или наживем, а только от того, что мы сами будем...
Чтобы это не казалось пошлостью, надо пошире, подальше смотреть на жизнь. Какова наша с тобой жизнь с нашими радостями горестями, такова будет и жизнь настоящая и наших 9 детей. И потому важно помочь им приобрести то, что давало нам счастье, и помочь избавиться от того, что нам приносило несчастье; а ни языки, ни дипломы, ни свет, ни еще меньше деньги не принимали никакого участия в нашем счастье и несчастье. И потому вопрос о том, сколько мы проживем, не может занимать меня. Если приписывать ему важность, он заслонит то, что точно важно»20.
В предыдущем письме к жене от 24 октября Толстой писал: «Как я говорил тебе, всякое сознательное и добровольное уменьшение своих требований в нашей семье на пять рублей в месяц дороже приобретения в 50000»21.
III
3 ноября 1884 года Толстой вернулся в Москву.
8 ноября Т. Л. Толстая писала Т. А. Кузминской:
«Папа приехал на-днях очень добрый и семейный, но ужасно нервный и нездоровый. Мы живем очень тихо. Мы делаем планы продолжать жить так же тихо, но соблазнов много...
Вечером папа и мама повздорили из-за того, что папа с нами не сидит, а у папа́ с раннего утра сидят, дожидаются разные посетители: некоторые — просители, другие просто познакомиться приезжают, например, сегодня сын Сютаева сидит, вчера какой-то библиотекарь выпрашивать рукописи. Да их пропасть! А у папа недостает храбрости их не пускать. На-днях утром я сижу и пишу (т. е. рисую). Людей никого нет, я пошла отперла. Входит господин, говорит, графа хочет видеть, а я в фартуке. Думаю: пускай думает, что я горничная. Я говорю: «Они почивают». Господин попросил позволить подождать. Я предложила чаю — у нас стоял. Он говорит, что, дескать, князь Друцкий, и спросил, кто я. Я говорю: «Я дочь моего отца». Он по этому понял, кто я. Потом папа встал и разговорился с ним. Он по какому-то делу приезжал...»22
Иван Васильевич Сютаев, о котором писала Татьяна Львовна, разделяя религиозные воззрения отца, в 1877 году отказался
- 356 -
от военной службы. Его арестовали, и он два с половиной года просидел в Шлиссельбургской крепости, пять месяцев был на испытании в доме умалишенных, потом согласился служить, но присягу не принял.
У Толстого Сютаев провел три дня.
«Мы полюбили друг друга», — писал Толстой В. Г. Черткову о Сютаеве 13—14 ноября. — «Я шутя говорил, — писал далее Толстой, — что я бы его истолок с вами в ступе и сделал бы из вас двух людей прелестных»23.
Толстой, очевидно, полагал, что Сютаеву недоставало интеллигентности Черткова, а Черткову недоставало трудового образа жизни и последовательности в исполнении признаваемого им нравственного учения.
В первый же день пребывания у Толстого Сютаев засиделся у него до позднего вечера, и, когда он собирался уходить, Лев Николаевич предложил ему остаться ночевать. Сютаев отказался. Когда Лев Николаевич спросил его, почему он не хочет остаться переночевать, Сютаев ответил: «Да признаться, Лев Николаевич, в бане давно не был. Очень вошь замучила.
— Ну, вот пустяки какие, — возразил Толстой. — Я очень буду рад, если в моем доме рабочая вошь заведется»24.
И. В. Сютаев был единственным из сыновей В. К. Сютаева, оставшимся после смерти отца верным его взглядам. Он до самой смерти жил с женой не венчанным по православному обряду, не крестил детей, вел трезвую и воздержанную жизнь.
Еще в Ясной Поляне Толстой узнал из письма жены, что самарский крестьянин, привлекавшийся по процессу 193-х, Егор Егорович Лазарев, с которым он познакомился в 1883 году в самарских степях и который произвел на него очень благоприятное впечатление, приговорен к ссылке на три года в Восточную Сибирь и находится в московской Бутырской пересыльной тюрьме.
Софья Андреевна писала также, что с разрешения московского губернатора В. С. Перфильева, старого приятеля Толстого Лазарева посетил в тюрьме Сергей Львович Толстой. Выдавая ему разрешение на свидание с Лазаревым, Перфильев полушутя прибавил: «Смотрите, я мамаше скажу, что вы с
- 357 -
политическими видаетесь», на что Сергей Львович ответил: «Она знает, а отец сам пошел бы, если бы был тут».
И действительно, вскоре по возвращении в Москву Толстой посетил Лазарева в той же тюрьме. Партия ссыльных, с которой Лазарев был отправлен в Сибирь, выступила только весной следующего года, и до его отправки и Толстой и его сын еще несколько раз виделись с Лазаревым в тюрьме, принося с собой для него папиросы и съестные припасы.
Впоследствии Толстой вспоминал, что на последнем свидании с Лазаревым, прощаясь с ним, он расплакался, и когда Лазарев стал утешать его, говоря, что ему «не так тяжело», как думалось Льву Николаевичу, Толстой, как записал он в дневнике 15 июня 1904 года, «ясно сознал свое чувство» и сказал Лазареву, что ему «жалко не его, а тех, которые поставили их в это положение». И в объяснение этого испытанного им чувства Толстой далее замечает: «Это так: страдающему всегда лучше, чем тому, от кого он страдает»25.
IV
В середине ноября 1884 года вышел в свет сборник «XXV лет», изданный по случаю исполнившегося двадцатипятилетия со дня основания Литературного фонда. В этом сборнике были помещены два варианта начала незаконченного романа Толстого из эпохи декабристов: первый вариант, написанный в 1860 году, и второй, относящийся к 1878 году.
13 ноября В. В. Стасов писал Толстому по поводу напечатанных вариантов его незаконченного романа: «Лев Николаевич! Я сию секунду кончил Ваших «Декабристов» в Литературном Сборнике и не могу Вам сказать, в каком я восхищении... По-моему, эти немногие страницы — родные сестрицы всего самого совершенного, что есть в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», и мы все тут словно пьяны. Неужели этакие-то великие вещи должны оставаться недоконченными! Это мне напоминает греческие скульптуры в Британском музее — где рук нет, где ног, где туловища, где и головы самой, — и все-таки изумительное совершенство глядит из каждой черты»26.
«В восторге» был от «Декабристов» и художник И. Н. Крамской, как писал Толстому 1 декабря В. Г. Чертков27.
Около того же времени и Репин писал Толстому: «Простите, не могу удержаться, чтобы не выразить Вам (как умею)
- 358 -
своего восторга от тех счастливых минут жизни, которые доставило мне Ваше последнее произведение («Декабристы»). Минуты эти постоянно повторяются, как только я вспоминаю эти живые страницы живой действительности, поставленной перед мною с такой спокойной ясностью, с таким самообладанием маститым художником, глубоко изучившим людей и жизнь, страстно любящим эти божии создания, даже с их слабостями. Как поразительна эта глубокая любовь автора! Как она увлекает читателя! Заставляет и его любить этих людей, прощать им. Что может быть выше этого чувства? Вот где сила искусства...»28
Неодобрительно отнесся славянофил Н. П. Павлов к «тону» вступления Толстого в первом варианте «Декабристов», где в ярких сатирических красках рисовалось общественное возбуждение, царившее в либеральных кругах русского общества во второй половине 1850-х годов. 9 января 1885 года Павлов писал издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу, что начало «Декабристов» «написано каким-то (его же слогом выражаясь в отзыве о растопчинских афишках)29 ерническим тоном»30.
V
В половине ноября Толстой договорился с редактором «Русской мысли» С. А. Юрьевым относительно печатания в его журнале своей работы «Так что же нам делать?», или «статьи о переписи», как она тогда называлась.
Не было никакой надежды на то, что цензура пропустит эту работу Толстого, но расчет был такой: статья будет напечатана, и несколько оттисков ее будут получены из редакции и розданы по знакомым Толстого и редактора; с этих оттисков будут делаться рукописные и гектографированные копии, и статья, таким образом, станет известна читателям. В надежде на такой исход Толстой усиленно принялся исправлять и продолжать написанные ранее главы этой работы.
Еще в письме от 15 сентября В. Г. Чертков склонял Толстого к тому, чтобы писать для народа короткие рассказы в духе их общего жизнепонимания. «Может быть, — писал Чертков, — образовалось бы из этого постепенно хорошее периодическое издание для того полуграмотного народа, которому теперь нечего читать, кроме скверных лубочных изданий»31.
- 359 -
Толстой отвечал Черткову 1 октября: «Теперь о журнале вашем. Разумеется, что сочувствую этому и рад помогать вам и хочу писать для народа; но я знаю вперед, что дело будет само гораздо ниже, гораздо, гораздо ниже того, чем вы его воображаете. Много опасностей, соблазнов тоже в таком деле».
Через два дня, 3 октября, Толстой снова пишет Черткову о том же: «Мысль вашего журнала мне очень, очень сочувственна. Именно потому, что она слишком дорога мне, я боюсь возлагать на нее надежды. Что я буду желать только писать туда — это верно». И затем 31 октября: «Что ваше дело? Мне оно теперь кажется желательнее, чем прежде»32.
Между тем В. Г. Чертков уже начал понимать всю сложность и трудность задуманного им предприятия и потому начал охладевать к нему. В письме от 24—25 октября он сообщил Толстому, что в Москве он беседовал о предполагаемом журнале с А. С. Пругавиным, Н. Н. Златовратским и В. Н. Маракуевым. Все они выражали сочувствие проекту периодического издания для народа, но больше склонялись к изданию газетного типа в то время, как Чертков предполагал выпускать периодическое издание, не имеющее газетного характера, в котором каждый номер «представлял бы одно целое, годное для розничной продажи»33.
21 ноября В. Г. Чертков приехал в Москву вместе со своим другом и единомышленником П. И. Бирюковым, которому суждено было впоследствии сделаться ближайшим другом Толстого.
В своих воспоминаниях П. И. Бирюков (1860—1931) писал, что еще до знакомства с Толстым и Чертковым он пришел к тому же пониманию христианского учения, как и Толстой. В то время Бирюков, окончивший Николаевскую морскую академию, занимал должность физика при Главной физической обсерватории в Петербурге.
В первый же день приезда в Москву В. Г. Чертков и П. И. Бирюков побывали у Толстого. В своем дневнике П. И. Бирюков кратко описал первый вечер, проведенный им у Толстого. По его записи, Толстой стал излагать свои мысли о законах нравственных и законах физических, вызванные его разговором с профессором Н. В. Бугаевым34. «Я, — записал П. И. Бирюков в дневнике, — сделал слабое возражение, сказав, что многие выводят законы нравственные из законов физических, как их ближайшее следствие», на что Толстой, «немного повысив голос», заметил: «Да ведь нам нужны те нравственные законы, которые учат нас, как поступать с каждым отдельным
- 360 -
лицом — с вами, с женой, с извозчиком, с мужиком, а разве те господа касаются этих законов? Они выводят те общие законы, которые нам некогда и применять-то не придется в жизни, до которых нам и дела-то нет. А вот эти-то законы и освещаются светом христианства».
Далее — по записи П. И. Бирюкова — разговор зашел о несовместимости некоторых профессий с христианским учением. Лев Николаевич «очень мягко и широко говорил о том, как можно быть христианином во всевозможных профессиях, но тут же сделал оговорку: «Конечно, я должен исключить из этого числа по крайней мере две профессии: военную и судейскую». «Простите, — прибавил Лев Николаевич, обращаясь к П. И. Бирюкову, который по привычке еще носил военный мундир, — что я говорю это в вашем присутствии»35.
В ближайшие дни после 21 ноября В. Г. Чертков еще раз (а может быть и несколько раз) виделся с Толстым. Издание предполагаемого народного журнала было еще раз подвергнуто обсуждению и отвергнуто. Его заменил проект издания для народа по дешевым ценам воспроизведений с лучших картин художников с соответствующими пояснениями.
В. Г. Чертков стал отыскивать в Москве издателя, который взялся бы за осуществление этого проекта. Книгопродавец и издатель В. Н. Маракуев указал ему на издателя лубочных книжек и картин И. Д. Сытина, владевшего небольшим книжным магазином на Старой площади в Москве.
Не позднее 25 ноября к Сытину, — как рассказывал он впоследствии в своих воспоминаниях, — явился «очень красивый молодой человек в высокой бобровой шапке, в изящной дохе, сказал, что его направил В. Н. Маракуев, назвал свою фамилию и изложил свой проект издания для народа ряда хороших картин с соответствующим текстом». Это был В. Г. Чертков36.
На предложение Черткова Сытин не только ответил полным согласием, но заявил, что если объяснительный текст к какой-либо картине слишком разрастется, то его можно будет издать отдельной книжкой. Сытин остался очень доволен появлением в его лавке такого необычного заказчика и поблагодарил его «за внимание к читателю лубка». Так было положено начало будущему книгоиздательству «Посредник», впоследствии занявшему большое место в жизни Толстого.
- 361 -
VI
26 ноября В. Г. Чертков уехал из Москвы в Петербург, Толстой проводил его на вокзал. На извозчике у них продолжалась беседа об издании для народа хороших картин.
1 декабря Чертков прислал Толстому письмо, посвященное тому же вопросу об издании для народа картин и книг, который тогда всецело занимал его. Он прислал также воспроизведение картины французского художника В. Бугро «Истязание Христа».
В том же письме Чертков сообщал, что он успел уже побывать у своего друга художника И. Н. Крамского и старался привлечь его к делу издания хороших картин для народного зрителя.
Крамской отвечал полным согласием, но он в то время был уже безнадежно болен. В 1887 году он умер.
Толстой, как писал он Черткову 2 декабря, нашел картину Бугро «прекрасной». Еще накануне он начал писать текст для этой картины. В своем тексте Толстой не останавливался на физических подробностях истязания Христа, как они описаны в Евангелиях; ему хотелось провести мысль, что и теперь христиане истязают Христа тем, что не исполняют его заповедей.
Толстой остался не удовлетворен написанным. «Не вышло»? — писал он Черткову в том же письме; однако тут же прибавлял: «Но не отчаиваюсь, возьмусь еще». Далее Толстой сообщал, что поглощен статьей «о переписи». «Она томит меня, пока не разрожусь ею», — писал он.
Впоследствии Толстой написал новый текст к картине Бугро37.
Вспоминая приезд и разговоры Черткова, Толстой писал ему: «Вы очень раззадорили меня, так что я стал суетиться. А это вреднее всего. Важно жить, а не писать. Пожалуйста, пожалуйста, вы меньше хлопочите — ищите отдыха и спокойствия»38.
7 декабря Толстой уехал из Москвы в Ясную Поляну, так как почувствовал, что «ванна деревенской жизни» ему «необходима». Так писал он в открытом письме, отправленном жене со станции Козлова Засека тотчас же по приезде39.
По получении этой открытки Т. Л. Толстая писала Т. А. Кузминской:
- 362 -
«Папа теперь там [в Ясной Поляне] недели на полторы, — он говорит, что от времени до времени ему необходима эта «ванна деревенской жизни». Хоть мы теперь живем так тихо, что ни в нем огорчать его не можем. Да он и не жалуется, он очень ласков и мил нынешнюю зиму»40.
8 декабря Толстой пишет жене большое чудесное письмо, вызванное поэтическими впечатлениями яснополянской природы и жизни. Он начинает его описанием дороги со станции в Ясную Поляну и, как контраст, вспоминает неприятное впечатление вагона, в котором ехал. Он пишет:
«Вчера, когда вышел и сел в сани и поехал по глубокому, рыхлому в пол-аршина (выпал в ночь) снегу, в этой тишине, мягкости и с прелестным зимним звездным небом над головой, с симпатичным Мишей41, испытал чувство, похожее на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, жидком доктором, перироющим42 о том, что нужно казнить, с какой-то пьяной ужасной бабой в разорванном атласном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке и опустившейся тут же, и с господином с бутылкой в чемодане, и с студентом в pince-nez, и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я в полушубке. После всего этого Орион, Сириус над Засекой, пухлый, беззвучный снег, добрая лошадь и добрый Миша, и добрый воздух, и добрый бог».
Далее Толстой рассказывает, как в тот же день он по какому-то делу пошел к соседнему помещику А. Н. Бибикову, председателю Крапивенской уездной земской управы, в его имение Телятинки, но его подвезла женщина, ехавшая туда же. С ней вместе ради прогулки ехали две яснополянские девочки и два мальчика. Женщина осталась в Телятинках, и обратный путь Толстой совершил один с детьми и весело провел время.
Одна из девочек предложила рассказывать сказки «и прелестно рассказала очень хорошую сказку. Все со вниманием слушали и стали такие добрые, что остальные мальчики и девочка все предлагали друг другу один кафтан», «чтоб защититься от ветра». Мальчик стал упрашивать Льва Николаевича тоже рассказать какую-нибудь сказку, и Толстой начал рассказывать китайскую сказку, но успел досказать только до половины.
Поездка описана так живо, с такой любовью и любованием крестьянскими детьми, что напоминает знаменитое описание
- 363 -
зимней ночной прогулки Толстого с детьми в статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», написанной в 1862 году.
«Очень хорошо, — заканчивает Толстой описание своей поездки с детьми. — Очень все это меня трогает»43.
Софье Андреевне это письмо Льва Николаевича не понравилось. В ней вновь, как двадцать два года тому назад, заговорила ревность. «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему», — писала она в дневнике через два месяца после выхода замуж 23 ноября 1862 года44. Такой же она осталась и теперь, на двадцать третьем году своего замужества.
В этом отношении С. А. Толстая не испытала на себе никакого влияния своего мужа. Под свежим впечатлением его письма Софья Андреевна, не владея своим настроением, в ответе 9 декабря писала: «Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я — городская, и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только природу и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описание твое деревенских детей, жизни народа и проч., ваши сказки и разговоры — все это, как и прежде, при яснополянской школе, осталось неизменно. Но жаль, что своих детей ты мало полюбил; если б они были крестьянкины дети, тогда было бы другое»45.
Впоследствии в своей автобиографии «Моя жизнь» С. А. Толстая так вспоминала о своем ответе Льву Николаевичу на его письмо, в котором он выражал восхищение крестьянскими детьми:
«Из Ясной Поляны Лев Николаевич мне пишет о своем общении с крестьянскими детьми, какие у него с ними разговоры и рассказыванье сказок. Я всегда ревновала Льва Николаевича к народу, к его любви к детям крестьянским большей, чем к своим, барским.
И на этот раз я неприятно и резко ему это выразила в своем письме, как будто можно руководить своими симпатиями и своей любовью»46.
- 364 -
С. А. Толстая ошибалась, говоря, Что Лев Николаевич не любил своих детей. Он любил их, но воспитание, которое давалось матерью, отдаляло его от них.
Что же касается различия в отношении к народу Льва Николаевича и его жены, то в этом вопросе С. А. Толстая была совершенно права. Права она была также и в том, что различное отношение к народу между нею и ее мужем началось с самого детства каждого из них. Софья Андреевна с детства была воспитана в том высокомерно-презрительном отношении к народу, какое господствовало в той среде, к которой она принадлежала. И потому не правы те биографы Толстого (к которым принадлежал и С. Л. Толстой), которые утверждали, что Толстой «создал свою жену». Этого не могло быть. С. А. Берс, восемнадцатилетняя девушка, выходя замуж, принесла с собой вполне сложившееся миросозерцание, внушенное ей в семье и совершенно противоположное мировоззрению Толстого.
Наконец, права Софья Андреевна в рассматриваемом письме также и в том, что Лев Николаевич после женитьбы отошел на некоторое время от работы для народа. «С студентами и с народом распростился», — писал он в дневнике 1 октября 1862 года47. Но через некоторое время Толстой вновь вернулся к работе для народа.
Толстому, как писал он жене 11 декабря, было очень досадно, что письмо его, которое ему «так нравилось», «не понравилось» ей.
О себе Софья Андреевна писала 8 декабря, что испытывает «подьем нервов», принимает кали-бромати и страдает бессонницей. Толстой отвечал ей 10 декабря, что ее нервное состояние «нехорошо» и что проистекает оно от приема кали-бромати. 11 декабря С. А. Толстая, уже забыв свое прежнее письмо, писала Льву Николаевичу: «За что ты нападаешь на мое душевное состояние? Именно что нехорошо? Напиши, пожалуйста. Может быть, я и пуста, и глупа, и легкомысленна, но я теперь совсем не зла, и очень мне это легко и приятно»48.
В письме от 12 декабря Софья Андреевна писала, что она уговаривала старшую дочь написать отцу и что та, вообще не любившая писать письма, ответила: «Он пишет три строчки, за что же мы ему будем писать три человека по три листа?». Софья Андреевна на это возразила: «Он зато пишет триста страниц для всего мира»49.
Это второй известный нам за пять лет, начиная с 1880 по 1884 год, сочувственный отзыв Софьи Андреевны о работах Толстого.
- 365 -
Первый одобрительный отзыв, касающийся «В чем моя вера?», находим в письме Софьи Андреевны к Т. А. Кузминской от 30 января 1883 года.
Софья Андреевна — может быть, под влиянием серьезной болезни, которой она в то время страдала, — находилась в спокойном, умиротворенном настроении, не предъявляла к Льву Николаевичу никаких претензий, видела свои недостатки и осуждала себя за них. 13 декабря свой ответ на письмо Льва Николаевича от 12 декабря она начала словами: «Ты оговариваешься в конце письма, что оно грустно и нехорошо. Нет, оно очень хорошее, что-то в нем есть, что меня заставляет оглянуться на себя и пожалеть, что я к старости под гору пошла. Да, это странно; на меня все смотрят, что я столп семьи, что я твердая, что я «une femme vertueuse»50, а я сама себя чувствую слабой, легкомысленной, полусумасшедшей и готовой на всякие самые безумные крайности». И далее: «Делай все, как тебе лучше, и береги свою душу и свое здоровье. Ты нужен и дорог всем на свете, а на меня не обращай внимания, не стою я этого, ничтожное, глупое и слабоумное созданье»51.
Все девять дней, проведенные на этот раз в Ясной Поляне, Толстой усердно занимался трактатом «Так что же нам делать?». 9 декабря он писал жене: «Все утро работал хорошо». 10 декабря: «С 10 до 2-х писал не очень хорошо, но и не бесполезно, — подвигаюсь». 11 декабря: «Все утро очень хорошо работал. Перевалил самое трудное и теперь надеюсь кончить... Если бы я кончил здесь свою работу, я бы был очень рад. Но это слишком хорошо!». 12 декабря: «Много писал и, как всегда, что дальше в лес, то больше дров — все разрастается, становится (для меня) более интересно». 13 декабря: «Часов пять работал, бумаги намарал много, а есть ли толк или нет — не знаю. Но как будто делал дело и на душе покойно»: и, наконец, 14 декабря: «Утро все много писал, — кажется, порядочно. Думал кончить здесь, но вот поездка к князю [Л. Д. Урусову в Тулу] помешала»52.
В письмах Толстого к жене из Ясной Поляны в Москву от 7 по 14 декабря 1884 года нет ни одного слова об исполнении плана самому вести хозяйство, изложенного им в письме от 23 октября. Очевидно, как и следовало ожидать, Толстой, взявшись за осуществление своего плана, скоро убедился в его неосуществимости.
16 декабря Толстой вернулся в Москву.
- 366 -
VII
17 декабря Толстой писал В. Г. Черткову: «Я немного писал в деревне. Не знаю еще, хорошо ли»53.
18 декабря он передал в редакцию «Русской мысли» первые главы своей работы, теперь получившей заглавие «Как нам быть?»54.
После сдачи начала рукописи в редакцию журнала, работа над статьей продолжалась. 22 декабря Софья Андреевна писала сестре: «Левочка в очень хорошем духе; пишет свою статью о бедности города и деревни и спешит кончить к январской книге. Уже начали печатать» (т. е. набирать).
2—3 января 1885 года Толстой писал В. Г. Черткову: «Я очень радостно занят своим писаньем. Мне так стало ясно то, что прежде было неясно. Коли бы другим стало только в половину так же. Надеюсь, что выйдет в январе»55.
5 января Н. Н. Бахметев писал Глебу Успенскому, выражавшему желание познакомиться с новой статьей Толстого в корректурах:
«Корректуру сочинения Толстого пришлю Вам, как только она придет в читаемый и более или менее окончательный вид. Навряд ли нам удастся выпустить эту статью в январской книге, которую задерживать долее 15 января невозможно, а Толстой далеко еще не готов. Новое его сочинение — замечательное, наделает много шуму и вполне вторит Вам, Вашему «Трудами рук своих»56.
9 января С. А. Толстая писала сестре: «Левочка печатает свою статью в январе в «Русской мысли» и весь ушел в свою работу; но печи всё топит сам и комнату убирает и сам все делает»57.
Работа протекала с лихорадочной быстротой и сдавалась в журнал по частям. По-видимому, статья Толстого все-таки запоздала, и редакция «Русской мысли» сделала в январскую книгу журнала вклейку на узкой полоске бумаги, где было объявлено: «Помещение нового произведения графа Льва Николаевича Толстого «Так что же нам делать?» откладывается до февральской книги».
- 367 -
Рукопись статьи «Так что же нам делать?», переданная в декабре в редакцию «Русской мысли», составилась следующим образом.
Вся статья заключала в себе 24 главы.
Первые 12 глав были написаны раньше. В них Толстой рассказывал о своем первом знакомстве с московской нищетой после переезда в Москву в 1881 году, об участии в московской городской переписи 1882 года, о произнесенной им в городской Думе речи с призывом соединить с делом переписи дело помощи беднякам, о посещении Ляпинского ночлежного дома, о переписи дома купца Ржанова («Ржановская крепость») в Проточном переулке, где ютилась московская нищета, о раздаче им при этом денег наиболее нуждающимся беднякам, о тех чувствах, которые он испытывал при встрече с «босяками», как впоследствии, по примеру Горького, стал называть людей, впавших в крайнюю нищету.
Но Толстой не стал бы подробно описывать все эти эпизоды своей жизни, если бы он не поставил перед собой задачу — рассказывая про себя, вместе с тем беспощадно обличать преступный образ жизни богатых, эксплуатирующих труд рабочего народа.
С 13-й главы начинался новый текст, в котором Толстой жестоко осуждал себя, раскрывал причины неудачи своих попыток благотворительной деятельности. Этому посвящены XIII, XIV и XV главы. Здесь, когда Толстой, обличая себя, говорит «я», нужно подразумевать «мы», т. е. вообще люди, принадлежащие к богатым классам. В XV главе своей работы Толстой писал:
«Прежде чем делать добро, мне надо самому встать вне зла, в такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя — зло. Я дам 100 тысяч и все не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии сделать хоть маленькое добро... И я смел думать о добре! То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом, и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, — это одно была правда».
Этими словами Толстой не закончил обличения образа жизни богатых классов. Очевидно, исчерпав все то количество страниц, которые были, конечно, по его указанию, отведены для его статьи в январской книжке «Русской мысли» (вся книжка, кроме его статьи, была уже набрана), и имея в виду печатать продолжение своей статьи в февральской книжке журнала, он к тексту статьи, предназначенному для январской книжки, прибавляет следующие закючительные строки:
- 368 -
«Так что же делать? На этот вопрос, если кому-нибудь нужен еще ответ на него, я отвечу подробно, если бог позволит, в следующем нумере».
Но уже 17 января 1885 г. председателю Московского цензурного комитета было послано распоряжение начальника Главного управления по делам печати: «Если статья Толстого исключена, книжку «Русской мысли» можно выпустить»58. 19 января Толстой сообщал Л. Д. Урусову, что из Петербурга последовало распоряжение не печатать его статью. Редакция журнала, — писал Толстой, — рассчитывает добиться снятия запрещения, но он на это не надеется.
«Она, — писал Толстой Урусову про свою статью, — все-таки печатается и выйдет, вероятно, в таком же виде, как «Вера», т. е. растянется до десяти листов, представится отдельной книгой в цензуру и так же разойдется, Меня радует то, что она читается по корректурам и уже переписывается, далеко не столько по самолюбию (которое все-таки — мерзкое — есть), сколько потому, что я ясно вижу, что за эти лет пять уже много сделано такого, что не разделается никогда, и что мы подвигаемся и подвигаемся, и что если бы сейчас умерли мы все, исповедующие сознательно Христово учение, Христово учение осталось бы среди людей не такое, каким оно было, и движение продолжалось бы точно так же»59.
Допуская некоторую возможность того, что, благодаря хлопотам редакции журнала, январская книга с его статьей все-таки выйдет в свет, хотя и с опозданием, Толстой пишет продолжение статьи для февральской книжки «Русской мысли».
Текст, предназначенный для февральской книжки «Русской мысли», начинался главой XVI.
Здесь, так же как в предыдущих главах, Толстой, беспощадно осуждая свои попытки благотворительной деятельности, в то же время продолжает громить богатых людей, занимающихся благотворительностью. Он пишет:
«Я стоял по уши в грязи и других хотел вытаскивать из этой грязи...
Кто такой я, — тот, который хочет помогать людям? Я хочу помогать людям, и я, встав в 12 часов после винта с четырьмя свечами, расслабленный, изнеженный, требующий помощи и услуг сотен людей, прихожу помогать — кому же? Людям, которые встают в 5, спят на досках, питаются капустой с хлебом. умеют пахать, косить, насадить топор, тесать, запрягать, шить, — людям, которые и силой, и выдержкой, и искусством, и воздержностью в сто раз сильнее меня. И я им прихожу помогать! Что же, кроме стыда, я и мог испытывать, входя
- 369 -
в общение с этими людьми? Самый слабый из них — пьяница, житель Ржанова дома, тот, которого они называют лентяем, во сто раз трудолюбивее меня: его баланс, так сказать, т. е. отношение того, что он берет от людей, и того, что дает им, сто́ит в тысячу раз выгоднее, чем мой баланс, если я сочту, что я беру от людей и что даю им...
Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет ни одного. Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит, который может только существовать при самых исключительных условиях, только тогда, когда тысячи людей будут трудиться на поддержание этой никому не нужной жизни. И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его».
Глава заканчивается словами:
«И я почувствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими есть что-то гадкое, безнравственное, что самые деньги и то, что я имею их, есть одна из главных причин тех зол, которые я видел перед собой, и я спросил себя: что такое деньги?»
VIII
Следующая, XVII глава посвящена рассмотрению вопроса о значении и роли денег при существующем общественном строе. Основные воззрения Толстого по данному вопросу сводятся к следующему.
«Все любят верить в то, — говорит Толстой, — что деньги есть только средство обмена труда... Это совершенно верно, но верно только до тех пор, пока в обществе, где происходит этот обмен, не появилось насилие одного человека над другим... Но как только в обществе употребляется какое бы то ни было насилие, так тотчас значение денег для владельца их уже теряет значение представителя труда, а получает значение права, основанного не на труде, но на насилии».
«Но когда деньги, как произведение прямого труда, — продолжает Толстой, — составляют только малую часть денег, образовавшихся из всякого рода насилий, теперь говорить, что деньги представляют труд того, кто ими владеет, есть очевидное заблуждение или сознательная ложь... В нашем обществе деньги только в самых, самых редких случаях — представители труда владельца денег, но почти всегда — представители труда других людей — прошедшего или будущего... Они — представители установленного насилием обязательства на труд других людей».
«Деньги, — утверждает Толстой, — в самом точном и вместе с тем простом их определении суть условные знаки, дающие
- 370 -
право или — правильнее — возможность пользоваться трудом других людей...
Человек продает произведения своего труда прежнего, настоящего или будущего, иногда свою пищу, большею частью не потому, что деньги составляют для него удобство обмена, — он обменялся бы и без денег, но потому, что с него насилием требуются деньги как обязательства на его же труд...
Деньги при существовании насилия в обществе представляют только возможность новой формы рабства безличного, заменяющего личное рабство. Рабовладелец имеет право на работу Петра, Ивана, Сидора. Владелец же денег там, где деньги требуются со всех, имеет право на работу всех тех людей без имени, которые нуждаются в деньгах. Деньги устраняют всю ту тяжелую сторону рабства, при которой владелец знает свое право на Ивана, устраняют вместе с тем и всякие человеческие отношения между владельцем и рабом, которые смягчали тяжесть личного рабства...
Деньги в наше время утратили уже совершенно это желательное для них значение быть представителем своего труда; такое значение они имеют как исключение, как общее же правило они стали правом или возможностью пользоваться трудом других».
Толстой заканчивает эту главу словами:
«Деньги — то же, что рабство, та же его цель и те же последствия. Цель его — освобождение себя... от естественного закона жизни..., от закона труда личного для удовлетворения своих потребностей. И последствия рабства для владельца: зарождение, изобретение новых и новых до бесконечности потребностей, никогда не утолимых, изнеженное убожество, разврат, а для рабов — угнетение человека, низведение его на степень животного.
Деньги — это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений»60.
В черновых редакциях главы о деньгах Толстой упрекал современную ему политическую экономию в том, что, говоря о роли денег при существующем общественном строе, наука умалчивает о роли денег как средства эксплуатации труда неимущих классов правительством и богачами.
«Наука, — писал Толстой, — то есть то подобие знания, которое имеет целью оправдание существующих несправедливостей»,
- 371 -
следующим образом определяет роль денег при существующем общественном строе: «Деньги... необходимы в обществе 1) для удобства размена; 2) для установления мер ценностей; 3) для сбережения; 4) для платежей». Но наука, пишет Толстой, совершенно ничего не говорит об основном значении денег в нашем обществе, состоящем «в том, чтобы посредством их заставить одних людей работать на других».
Наука говорит, что если «один человек посредством денег может из другого вить веревки, это железный закон».
«Но почему же, — возражает Толстой, — не говорили во время рабства, что то, что негров и мужиков секут и сажают в колодки и заставляют этим средством работать сверх сил, есть тоже железный и чугунный закон? Все знали, что это был не какой-нибудь чугунный закон, а просто человеческий, правительственный безнравственный закон, написанный глупыми и злыми людьми, закон очень простой, по которому военная сила государства приходила на помощь одним людям — рабовладельцам — против других людей — рабов для того, чтобы первые могли пользоваться трудами последних и угнетать их. Разве не то же самое теперь? Один человек посредством денег может делать с другими все, что хочет, и государство военной силой защищает это его право.
Итак, прежде чем определять деньги по их отношению к труду и богатству..., надо определить их по отношению к людям и тем явлениям между людьми, которые, очевидно, постоянно повторяются и заставляют страдать миллионы и развращаться тысячи. В этом смысле определение денег будет такое: деньги есть условные знаки, дающие возможность одним людям, собравшим много таких знаков, пользоваться трудом других людей и принуждать других отдавать свой труд чужим людям».
«Стоит только, — говорит Толстой, — восстановить в своей памяти все известные нам формы экономических насилий одних людей над другими, чтобы совершенно очевидно стало, как насилие денежных взысканий неизбежно и естественно вытекало из первобытных насилий».
Как пример Толстой вспоминает историю племени древлян, на которых нападал русский князь Игорь и другие князья, они приходили с дружиной и грабили древлян, увозя все то, что можно было увезти. Потом, когда поживы у древлян стало меньше, князья накладывали дань, чаще всего золотом, и уходили, а через некоторое время вновь появлялись собирать эту дань.
«Вот, — пишет Толстой, — самое простое первобытное насилие, производимое посредством денег».
При крепостном праве помещику бывало выгоднее и удобнее взыскивать с крестьян оброк, а не посылать их на барщину.
- 372 -
После уничтожения крепостного права крестьяне должны были вместо оброка вносить выкупные платежи; а для того, чтобы внести их, мужик должен был поступать на работу к помещику.
Вспоминая время крестьянской реформы, Толстой далее говорит:
«Странно вспомнить, как помещики некоторые боялись выпустить из рук ту цепь, которой они держали рабов, не понимая того, что на рабов уже была наложена другая, более крепкая цепь денег, и что им нужно было только выпустить старую и перехватить новую.
Разве не то же самое в гораздо большей степени в нашем фабричном быту и во всей Европе? Деньги у богачей, у малого числа. Деньги нужны теперь не только на уплату, но для большинства обезземеленных у нас и у всех почти в Европе деньги нужны прямо на то, чтобы купить хлеб, заткнуть дыру во рту своих и свою. Как же не работать все то, что хотят богатые? И это самое простое, очевидное насилие называется рентой и процентами с капитала»61.
IX
Толстому было интересно знать мнение профессоров-экономистов о его взглядах на роль и значение денег в современном обществе. С этой целью он пригласил к себе знакомых профессоров, чтобы прочитать им то, что было написано им по данному вопросу.
Были приглашены профессора Московского университета финансист И. И. Янжул и экономист А. И. Чупров, а также профессор политической экономии в Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии И. И. Иванюков.
Встреча состоялась 23 февраля 1885 г. На встрече присутствовал также приятель Толстого, профессор зоологии в Московском университете С. А. Усов.
Как вспоминал впоследствии И. И. Янжул, «больших результатов встреча не принесла: и как водится, особенно у нас, русских, в подобных случаях, каждый остался при своем мнении».
«Как экономист, — рассказывает далее И. И. Янжул, — я понял выражение «деньги» лишь в узком смысле — как орудие или удобное средство для обмена или обращения ценностей. Так, по-видимому, понимали слово «деньги» и все присутствовавшие на вечере у Льва Николаевича».
- 373 -
Профессора возражали Толстому, что отмена или уничтожение денег не принесли бы никаких изменений к лучшему в существующем общественном строе и повлекли бы за собой большие неудобства без всякой пользы делу прогресса человечества.
«Как мне представляется в настоящее время, — писал К. И. Янжул о беседе Толстого с профессорами в своих воспоминаниях (написаны были в 1908 году), — мы просто не поняли основной мысли его этюда о деньгах»62.
Писатель А. В. Амфитеатров, раньше, будучи студентом, вместе с Толстым принимавший участие в московской городской переписи 1882 года, передает слышанный им от профессора А. И. Чупрова рассказ о встрече Толстого с профессорами. По этому рассказу, Чупров и Иванюков нашли во взглядах Толстого на значение денег в современном обществе сходство с взглядами представителей политико-экономической школы физиократов, распространенной в XVIII столетии. Толстой выразил желание познакомиться с учениями этой школы.
«Профессора, — передает А. В. Амфитеатров, — ушли в недоумении и в восторге».
Впоследствии А. И. Чупров говорил Амфитеатрову: «Пойми же ты, что за удивительная способность мысли, что за сила природная живет в мозгу этого человека! Своим умом, в одиночку, не имея понятия об экономической науке, проделать всю ее эволюцию до XVIII века и подвести ей именно тот итог, который был тогда исторически подведен! Это неслыханно! Это сверхъестественная голова! Это умственный чудовищный феномен!»63.
Толстой остался неудовлетворен беседой с профессорами.
В одной из черновых редакций главы о деньгах Толстой рассказывает, что в поисках ответа на вопрос, «почету экономическая жизнь человеческих обществ сложилась в формы противные и разуму, и совести, и выгодам людей», он обратился сначала «к науке, обладающей горою книг об этом предмете», а потом «и к живым представителям ее».
«Но, — пишет Толстой далее, — удивительное дело! — я не только не получил какого-нибудь ответа, но я убедился, что чем дальше я шел за положениями науки, тем больше я удалялся от возможности разрешения вопроса»64.
- 374 -
X
Глава о деньгах в трактате Толстого впоследствии была значительно переработана и в окончательном тексте разрослась до шести глав (XVII—XXII).
В двух главах (XVIII и XIX, по окончательному тексту XXII и XXIII) изложены те общие выводы, которые, по мнению Толстого, вытекают из всей его работы и отвечают на вопрос: «Так что же нам делать?». Толстой говорит:
«Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей; что если брать сравнения из мира животных, как это любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу борьбой за существование в мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и разумом, и самой природой своей призван к служению другим людям и общей человеческой цели.
Я понял, что это естественный закон человека, тот, при котором только он может исполнять свое назначение и потому быть счастлив.
Я понял, что закон этот нарушался и нарушается тем, что люди насилием, как грабительницы-пчелы, освобождают себя от труда, пользуются трудом других, направляя этот труд не к общей цели, а к личному удовлетворению разрастающихся похотей, и так же, как грабительницы-пчелы, погибают от этого.
Я понял, что несчастия людей происходят от рабства, в котором одни люди держат других людей.
Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением земли и взысканием денег.
И, поняв значение всех трех орудий нового рабства, я не мог не желать избавления себя от участия в нем».
Толстой решил текст статьи, предназначенной для напечатания в «Русской мысли», закончить художественным изображением двух эпизодов из своей московской жизни, относящихся к марту 1884 года, записанных им в дневнике и произведших на него потрясающее впечатление (гл. XX по тексту «Русской мысли» и гл. XXIV по окончательному тексту).
Первый эпизод — встреча поздним вечером на бульваре Девичьего поля с пятнадцатилетней проституткой, которую городовой и дворник вели в полицейский участок для освидетельствования врачом. Второй — смерть в доме Ржанова молодой прачки, больной туберкулезом.
Толстой много работал над заключением этой главы. В окончательном тексте оно получило такую редакцию:
- 375 -
«Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное.
И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются».
Эти строки, по справедливому замечанию В. Б. Шкловского, написаны Толстым «с силой, необычной даже для него»65.
Этой главой закончился текст, переданный Толстым для напечатанья в «Русской мысли».
XI
Толстым было написано еще несколько дальнейших глав-трактата «Так что же нам делать?», остававшихся пока в рукописях.
В продолжении главы XXIV (по окончательному тексту) Толстой рассказывает об изнурительном, сверхсильном труде рабочих на фабриках, расположенных вблизи Хамовнического переулка, где он жил.
Он говорит, что «по странной случайности» все три фабрики, расположенные невдалеке от его дома, производят только предметы, нужные для балов. На одной фабрике, находившейся в Оболенском переулке, делали чулки; на другой, принадлежавшей французскому капиталисту Жиро (существующей и теперь и носящей название «Красная роза»), делали шелковые материи, на третьей — духи и помаду.
«Каждое утро в пять часов, — пишет далее Толстой, — слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш...
Можно слышать эти свистки и не соединять с ними другого представления, как то, что они определяют время: «А вот уже свисток, значит, пора идти гулять»; но можно соединить с этими свистками то, что есть в действительности: то, что первый свисток — в 5 часов утра, значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают, и опять поднимаются,
- 376 -
и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой».
В черновой редакции «Так что же нам делать?» находим еще описание работы на чулочной фабрике, расположенной вблизи дома Толстых в Оболенском переулке. Здесь Толстой писал: «Оболенский переулок пустынный, особенно вечером, и я часто хожу по нем и смотрю в незавешенные окна на рабочих во время их работы. Я вижу эти однообразные сосредоточенные лица на одном и том же деле, эти однообразные, быстро двигающиеся, как машина, пальцы и эти однообразно унылые лица и вижу их такими всегда, всегда одинаковыми, точно как строения. Я иногда месяцы не хожу, иногда уезжаю в деревню, возвращаюсь, прихожу к окну — и опять те же лица и те же выражения, те же движения. Девочка в последнем окне выросла с тех пор, все стоя на том же месте и делая те же быстрые однообразные движения своими костлявыми пальцами. Один мастер во втором окне очень пожелтел и похудел все на том же месте и за теми же занятиями. То же самое ведь на всех других фабриках, где тысячи, 10 тысяч, 100 тысяч таких же людей»66.
И как контраст с этой изнурительной, однообразной и унылой работой тысяч рабочих описывается роскошный светский бал.
С отвращением описывает Толстой костюмы светских женщин, являющихся на бал «с выставленными голыми грудями и с накладными задами». Они противны ему потому, что «первая добродетель» женщин и девушек «всегда была стыдливость».
Толстой взывает к совести женщин и девушек, танцующих на балах. «Люди эти, — пишет он, — с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не делают, но что-то очень хорошее, веселятся на бале. Веселятся! Веселятся от 11 до 6 часов утра, в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают».
Эта глава была написана Толстым, вероятно, в первые месяцы 1884 года во время увлечения его жены и дочери светскими балами.
Чтение в первоначальной редакции описания бала и обличения всего образа жизни богатых классов привело С. А. Толстую в сильнейшее раздражение. Произошло это следующим образом.
В письме от 13 декабря 1884 года из Москвы в Ясную Поляну С. А. Толстая выражала желание переписывать «Так что же нам делать?». Исполняя ее желание, Толстой 28 января
- 377 -
1885 года, вновь уезжая из Москвы в Ясную Поляну, оставил ей для переписки несколько глав своей работы.
Начав переписку, С. А. Толстая вслед за описанием смерти прачки на улице от истощения, голода и сверхсильной работы, прочла описание бала в одном из аристократических домов Москвы, начинающееся словами: «В ту ночь, в которую я пишу это, мои домашние ехали на бал». Далее, назвав балы «одним из самых безнравственных явлений нашей жизни», «хуже увеселений непотребных домов», Толстой рассказывает, что когда его семейные собираются на бал, он уходит из дома, «чтобы не видеть их в их развратных одеждах»67. Софья Андреевна добросовестно переписала и эти строки, но на полях приписала карандашом: «К делу не идет. Видна злоба и самооправдание-хвальство».
Далее в той же рукописи Толстой рассказывает, как он однажды, проходя мимо комнаты сына, увидал за столом двух незнакомых женщин. «Я вошел, — рассказывает Толстой. — Худая, желтая, старообразная женщина лет тридцати в накинутом платке быстро, быстро растирала табак, захватывала в машинку, надевала патрон и просовывала и кидала девочке. Девочка свертывала бумажку всовывая. Все это делалось с быстротой необычайной. И это они делают всю жизнь, кормятся при этом вдыхании мелкого табаку этим одуряющим занятием. Это сын нанял их набивать папиросы за 2 рубля 50 копеек за тысячу. Он купил или нанял. У него есть деньги, он дает их за работу, что тут дурного? Он встает часто в 12. Вечер от шести до двух проводит за картами или фортепиано, питается вкусным и сладким; все работы на него делают другие. Он выдумывает себе новое удовольствие (дурман) — курить.
Есть женщина и девочка, которые еле-еле могут питаться тем, что превращают себя в машину, и всю жизнь проводят, вдыхая табак. У него есть деньги, которые он не заработал, и он предпочитает играть в винт, чем делать себе папиросы. Он дает этим женщинам деньги только под тем условием, чтобы они продолжали жить так же несчастно, как они живут, т. е. делая для него папироски»68.
Так Толстой, нередко укорявший старшего сына за его «буржуазность», и здесь не упустил случая упрекнуть его. Софья Андреевна переписала и этот кусок, затем пошла к сыну и прочитала ему то, что писал про него отец. Вернувшись, она к словам Льва Николаевича приписала на полях: «Сережа просит сейчас, нельзя ли его личность не выставлять».
- 378 -
Читая статью дальше, С. А. Толстая, размягченное состояние которой прошло вместе с ее болезнью, против того места, где описывалось, как «пять или шесть человек старых, почтенных, часто хворых лакеев и горничных не спали и хлопотали из-за своей госпожи», уехавшей на бал, на полях написала: «А чаще — мертвецки пьяных».
С. А. Толстая не одобрила не только строки, посвященные ей и детям, но вообще весь резко обличительный тон работы.
Враждебный, ожесточенный тон нападок Софьи Андреевны произвел на Толстого тяжелое впечатление. В первом по приезде письме, написанном на тульском вокзале, Толстой 28 января писал ей: «Как бы хорошо было, если бы это письмо нашло тебя в кротком духе». Через два дня, 30 января, Толстой пишет жене: «Получил сейчас твое коротенькое и грустно-холодное письмо. Боюсь объясняться, чтобы опять как-нибудь не раздражить тебя; но одно скажу еще раз и яснее, я думаю, чем в разговоре: я не отстаиваю форм, в которых я выражался о личностях, и каюсь в них и прошу тебя простить меня; но если я отстаиваю что, то отстаиваю самую мысль, выраженную во всей статье и наполняющую меня всего. Эту мысль и это сознание я не могу изменить, так же как не могу изменить своих глаз, и я знаю, что ты не любишь эту мысль, а хочешь бороться с ней, и это мне больно и оттого я отстаиваю свою мысль»69.
«Грустно-холодное письмо» С. А. Толстой, о котором пишет Лев Николаевич, так же как и три другие письма, написанные ею за эту поездку Толстого в Ясную Поляну, не сохранились в ее архиве.
1 февраля Толстой пишет жене: «Получил твои два унылые письма и не знаю, что писать и что отвечать. Всю дорогу ехал, думал о том, что написать, и передумал десятки писем и теперь сидел долго над письмом, — не знаю, что писать, — всего боюсь». «Как ужасно тяжело жить без любви, и еще тяжелее умирать, — пишет Толстой далее. — Я, когда один, всегда яснее, живее представляю себе смерть, о которой думаю всегда, и когда я представил себе, что умру не в любви, то стало страшно. А в любви только можно жить счастливо и не видать, как умрешь».
Уже закончив письмо и поставив свою подпись, Толстой приписывает: «Говорю я про отсутствие любви не с моей стороны. Я не переставая думаю о тебе, люблю и жалею — и чувствую непреодолимую враждебность, и оттого не могу ничего писать, кроме того, что мне больно»70.
- 379 -
«ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?»
Первая редакция. Рукописная копия с исправлениями Толстого
- 380 -
Подготовляя к печати данное письмо Льва Николаевича для сборника «Письма гр. Л. Н. Толстого к жене», вышедшего в 1913 году, С. А. Толстая выпустила конец письма, начиная со слов: «чувствую непреодолимую враждебность»71.
Толстой был так расстроен враждебным отношением к нему жены, проявлявшимся сначала в разговорах, а затем в письмах к нему, что не мог продолжать своей работы, хотя все время обдумывал ее.
Лишь утром 2 февраля Толстой получил от жены письмо «получше», а вечером того же дня другое письмо «доброе вполне»72.
4 февраля Толстой вернулся в Москву.
XII
После обличения образа жизни богатых людей и тех оргий, которым предаются богатые люди в городах, Толстой в своем трактате переходит к обличению жизни богатых людей в деревнях.
В июне, когда кончается ученье детей, семья помещика и семья крупного чиновника отправляются в свое имение или на дачу «отдыхать (от ничегонеделания)», ядовито замечает Толстой.
«Среди серых, питающихся хлебом да луком, работающих по 18-ти часов в день, недосыпающих ночи и одетых в рубище мужиков поселяются богатые люди. Начинаются те же оргии. Праздная жизнь проходит в еде, питье, купаньи, пикниках, музыке, пляске, домашних спектаклях». В каждой семье, говорит Толстой, явно намекая на свою семью и семью Кузминских, каждый год проводившую лето в Ясной Поляне, человек пятнадцать взрослых мужчин и женщин. На их семью работает «человек тридцать «здоровых работников и работниц». При детях гувернантки, англичанки и француженки. Вечером «одни сидят и курят за картами, другие сидят и курят за либеральными разговорами».
В то время как богатые люди летом в деревне живут праздной, беспечной жизнью, в народе начинается «та летняя крестьянская работа, о напряжении которой, сколько бы мы ни слышали, ни читали про нее, ни смотрели на нее, мы не можем себе составить никакого понятия, не испытав ее». Начинается покос, и в деревне «каждый знает, что с покоса и до уборки уже перерыва работы не будет и отдыхать некогда».
- 381 -
«Дело, которое делается на покосе, — утверждает Толстой, — одно из самых важных в мире».
Толстой сам работал с мужиками на покосе и знает всю напряженность этого труда. «Все — и старый, и малый, и большой — тянут из последних сил». Вот 80-летняя старуха. Она «только гребет, но и это ей не под силу; она медленно волочит свои обутые в лапти ноги и, насупившись, мрачно смотрит перед собой, как тяжко больной или умирающий человек». Вот «мальчишка, весь изогнувшись, коротко переступая босыми ножонками, таскает, перехватывая из руки в руку, кувшин с водой, который тяжелее его».
«Всякий раз косцы перед концом упряжки — слабые, подростки и старые — еле-еле, пошатываясь, проходят последние ряды и насилу поднимаются после отдыха».
«Все работают из последних сил и выедают в эту работу не только весь запас своей скудной пищи, но и прежние запасы; они все — не толстые — худеют после страды».
«Пропасть людей — детей, стариков, женщин с детьми — гибнут, надрываясь на непосильной работе».
Следующую — XXVI по окончательному тексту — главу своей работы Толстой имел намерение посвятить вопросу о том, как могут образованные, гуманные люди спокойно жить, не принимая участия в производительном труде и только эксплуатируя труд рабочего народа. Но вскоре — не позднее 10 февраля73 — стало известно, что статья Толстого окончательно запрещена и не появится ни в январской, ни в февральской книжках «Русской мысли».
Февральская книжка «Русской мысли» вышла с вклейкой узкой полоски бумаги, на которой было напечатано: «Произведение графа Льва Николаевича Толстого «Так что же нам делать?» не может быть помещено».
Софья Андреевна была огорчена запрещением «Так что же нам делать?» главным образом потому, что, как писала она 20 января Т. А. Кузминской, она надеялась, что «статья в этом роде будет последняя. Левочке надо было высказаться, а после этого он, вероятно, стал бы писать рассказы, к чему он очень стремится»74 .
Глеб Успенский, читавший статью Толстого в корректуре, имел намерение выступить о ней в печати, о чем он 29 января 1885 года писал Л. Ф. Ломовской: «Последняя статья Льва Толстого меня ужасно смутила, — мне кажется, что это
- 382 -
первое фальшивое произведение, и я хочу написать об этом в «Русские ведомости»75. «Смутили» Г. И. Успенского, очевидно, первые главы статьи, где Толстой описывает свои попытки благотворительной деятельности среди московской нищеты. Об этих попытках Толстого Г. И. Успенский 10—15 апреля писал А. И. Иванчину-Писареву, называя их «той чепухой, в которую попал Толстой с своей теорией благотворительности, которую практиковал на деле. Теперь он все это попрал», — прибавлял Г. И. Успенский76.
После запрещения «Так что же нам делать?» Г. И. Успенский отказался от своего намерения.
Толстой после запрещения статьи продолжал работу над ней до 20 февраля, когда работа была временно приостановлена.
XIII
Вскоре после запрещения «Так что же нам делать?» Толстой еще раз попробовал писать для печати о благотворительности.
Либеральный священник Г. П. Смирнов-Платонов, издатель филантропического журнала «Детская помощь», в конце 1884 или в январе 1885 года обратился к Толстому с просьбой участвовать в его издании. Толстой решил написать для его журнала статью и в ней кратко изложить те выводы, к которым его привели неудачные попытки благотворительной деятельности. Выводы эти были высказаны им с большой силой и с полной ясностью.
«Я убедился, — писал Толстой, — что нельзя быть благотворителем, не ведя вполне добрую жизнь, и тем более нельзя, ведя дурную жизнь, пользуясь условиями этой дурной жизни для украшения этой своей дурной жизни делать экскурсии в область благотворительности. Я убедился, что благотворительность только тогда может удовлетворить и себе и требованиям других, когда она будет неизбежным последствием доброй жизни; что требования этой доброй жизни очень далеки от тех условий, в которых я живу.
Я убедился, что возможность благотворить людям есть венец и высшая награда доброй жизни, и что для достижения этой цели есть длинная лестница, на первую ступень которой я даже и не думал вступать.
Благотворить людям можно только так, как сказано в Учении
- 383 -
двенадцати апостолов: чтобы милостыня твоя по́том выходила из твоих рук. Благотворить можно только тогда, когда вся жизнь твоя есть служение благу. Благотворительность не может быть целью, — благотворительность есть неизбежное последствие и плод доброй жизни. А какой же может быть плод на сухом дереве, у которого нет ни живых корней, ни живой коры, ни сучьев, ни почек, ни листьев, ни цвету?»
Продолжая сравнение с деревом, не приносящим плодов, Толстой далее пишет:
«Можно привесить плоды, как яблоки и апельсины на ленточках к рождественской елке, но елка не станет от этого живою и не будет родить апельсинов и яблок.
Прежде чем думать о плодах, нужно укоренить дерево, привить и возрастить его. А чтобы укоренить, привить и возрастить дерево добра, обо многом надо подумать и над многим потрудиться... Можно раздавать чужие плоды, навешенные на сухое дерево, но тут нет ничего похожего даже на добро. Надо многое и многое сделать прежде».
Статья осталась незаконченной. Вероятно, Толстой скоро увидал, что статью ожидает та же участь, которая только что постигла его работу, предоставленную журналу «Русская мысль»: статья будет запрещена.
Написанное начало статьи появилось в печати уже после смерти автора77.
Вскоре Толстой тому же журналу «Детская помощь» предоставил другую свою работу — перевод древнего памятника христианской литературы «Учение двенадцати апостолов».
Ссылки на этот древний памятник встречаются в сочинениях христианских писателей первых веков, но самый памятник был открыт в библиотеке иерусалимского монастыря только в 1875 и напечатан в 1883 году. Исследователи относят «Учение двенадцати апостолов» к концу первого — началу второго века.
«Учение двенадцати апостолов» состоит из шестнадцати глав. Первые шесть глав содержат изложение нравственного учения, в основном совпадающего с нравственным учением, изложенным в Евангелиях. Дальнейшие главы касаются устройства жизни христианской общины первых веков. Никаких рассказов о жизни Иисуса в «Учении двенадцати апостолов» нет.
Работа Толстого над переводом «Учения двенадцати апостолов» была начата в январе 1885 года.
28 января он поехал в Тулу навестить больного Л. Д. Урусова, переночевал у него и на другой день писал жене в Ясную Поляну: «Сел заниматься над переводом Учения двенадцати апостолов. Оно очень заняло меня. Оно очень глубоко,
- 384 -
и может выйти большой важности народная книга, что я и намерен из нее сделать»78.
15 февраля Толстой телеграфировал В. Г. Черткову в Петербург: «Учение апостолов исправляю пришлю»79.
Толстой не стал заново переводить с греческого «Учение двенадцати апостолов», но воспользовался переводом К. Д. Попова, напечатанным в 1884 году в «Трудах Киевской духовной академии». В переписанном для него Софьей Андреевной списке перевода К. Д. Попова Толстой произвел многочисленные исправления отдельных слов, замену слов неясных и неупотребительных более ясными и простыми. В сомнительных случаях Толстой справлялся в греческом оригинале; в руках у него был и немецкий перевод «Учения».
Кроме исправлений отдельных слов, Толстой в работе над переводом старался удалять церковный элемент «Учения». Так, «крещение» он заменяет «омовением», «евхаристию» — «благодарностью за пищу», «преломление хлеба» — «едой», «церковь» — «общиной».
Толстой много и усердно работал над исправлением перевода «Учения двенадцати апостолов». Сохранились двенадцать авторизованных копий этого перевода. Таким образом, перевод киевского профессора был совершенно переработан Толстым, так что следует считать его перевод самостоятельным произведением.
Толстой написал предисловие и послесловие к своему переводу «Учения». В предисловии он кратко характеризует древний памятник, излагает историю его открытия, а в послесловии говорит о значении христианского учения и призывает к исполнению его в жизни.
22 февраля перевод Толстого вместе с предисловием и послесловием был передан им издателю В. Н. Маракуеву, который надеялся провести его через цензуру, но попытка эта не удалась. После того редактор журнала «Детская помощь» предложил Толстому напечатать его работу в своем журнале, на что Толстой выразил согласие.
Перевод появился без подписи Толстого в № 8 «Детской помощи» за 1885 год. Ученые богословы напали на редактора журнала за то, что перевод «Учения Двенадцати апостолов», им напечатанный, не во всем совпадает с буквальным переводом К. Д. Попова.
Летом того же 1885 года Толстой вспомнил об «Учении двенадцати апостолов», читая написанную для издательства «Посредник» книжку «Фабиола», представлявшую собой переделку романа Евгении Тур «Катакомбы». У него явилась мысль
- 385 -
поместить в описание молитвенного собрания древних христиан чтение первых глав «Учения двенадцати апостолов» (была помещена одна первая глава).
В 1904 году, составляя «Круг чтения», Толстой включил в него и «Учение двенадцати апостолов» в своем переводе, к которому написал новое предисловие. Кроме того, в тексте «Круга чтения» было помещено следующее изречение из «Учения двенадцати апостолов» в переводе Толстого: «Любите врагов ваших — и не будет у вас врагов».
XIV
В первой и второй книгах журнала «Отечественные записки» за 1883 год появилась статья народника С. Н. Южакова «К вопросу о бедности». Статья излагала содержание книги американского экономиста Генри Джорджа «Progress and Poverty» («Прогресс и бедность»), вышедший в 1879 году в Нью-Йорке.
Генри Джордж был известен у себя на родине и в Европе как горячий пропагандист уничтожения частной земельной собственности и национализации земли. Его книга была переведена почти на все европейские языки.
Таким образом, журналу М. Е. Салтыкова-Щедрина принадлежит инициатива ознакомления русских читателей с книгой знаменитого американского писателя.
Вслед за «Отечественными записками» в том же 1883 году поместили на своих страницах статьи об учении Джорджа журналы «Дело» и «Русская мысль». Кроме того, в журнале «Русское богатство» был напечатан перевод лекции Г. Джорджа «Изучение политической экономии».
В следующем, 1884 году в журнале «Отечественные записки» была напечатана вторая статья того же автора о Г. Джордже и некий С. Цвет выпустил отдельной книжкой «экономический этюд» — «Прогресс и бедность по Г. Джорджу».
В феврале 1885 года Толстой приступил к чтению в подлиннике книги Джорджа.
Впервые Толстой упоминает о чтении Джорджа в письме к жене от 20 февраля из Москвы в Петербург: «Я утром больше читал George’а, чем писал».
22 февраля Толстой опять писал Софье Андреевне: «Читаю своего George’а... Это важная книга. Этот тот важный шаг на пути общей жизни, как освобождение крестьян — освобождение от частной собственности земли. Взгляд на этот предмет есть поверка людей. И надо прочесть George’а, который поставил этот вопрос ясно и определенно. Нельзя уж после него вилять, надо прямо стать на ту или другую сторону. Мои
- 386 -
требования гораздо дальше его; но это шаг на первую ступень той лестницы, по которой я иду».
В другом письме, написанном в тот же день, Толстой писал: «Все читаю George’а и много поумнел». И наконец 23 февраля: «Все читаю своего George’а и нынче кончил... George есть переворот важный»80.
В письме к В. Г. Черткову от 24 февраля Толстой в следующих словах подводил итоги своего чтения Джорджа:
«Я был нездоров с неделю и был поглощен George’м — и последней и первой его книгой — «Progress and Poverty», которая произвела на меня очень сильное и радостное впечатление... Книга эта замечена, но не оценена, потому что она разрушает всю эту паутину научную Спенсеро-Миллевскую, — все это толчение воды, и прямо призывает людей к нравственному сознанию и к делу и определяет даже дело. Есть в ней слабости, как во всем человеческом, но это настоящая человеческая мысль и сердце, а не научная дребедень. Я здесь поручил узнать его адрес и хочу написать ему письмо. Я вижу в нем брата, одного из тех, которых по учению апостолов любишь больше, чем свою душу»81.
Обратившись к книге Генри Джорджа «Прогресс и бедность», мы найдем, что уже «Введение» должно было произвести на Толстого сильное и самое благоприятное впечатление.
Мыслители прежних времен, говорит здесь Генри Джордж, ожидали, что с ростом производительных сил, с изобретением всевозможных машин, облегчающих труд человека, исчезнет и бедность и жизнь каждого рабочего превратится в сплошной праздник, исчезнут пороки, преступления, невежество, грубость, а всякие возвышенные качества и благородные душевные движения получат простор для своего развития. Но действительность не оправдала этих ожиданий.
В странах, где материальный прогресс достигает особенно высокой степени развития, где накоплены наибольшие богатства, где «в наивысшей степени развит механизм производства и обмена, там мы встречаем и самую ужасную бедность, и самую острую борьбу за существование, и самые тяжелые формы безработицы».
«Бродяга является вместе с локомотивом, а богадельни и тюрьмы такие же верные признаки материального прогресса, как роскошные дома, богатые магазины и великолепные храмы».
«Огромный рост производительных сил, который ознаменовал собой девятнадцатое столетие и который еще продолжается и теперь с возрастающей быстротой, не стремится к тому,
- 387 -
чтобы вырвать бедность и облегчить положение людей, обремененных работой. Он просто расширяет пропасть между пирующим богачом и бедным Лазарем и лишь усиливает борьбу за существование».
«Материальный прогресс никоим образом не стремится к тому, чтобы существенно улучшить положение низших классов в смысле более здоровой и счастливой жизни. Мало того: я думаю, что он стремится еще более стеснить их положение».
«В Соединенных Штатах хотя бы ясно видно, что грязь и нищета и те пороки, которые вытекают из них, всюду увеличиваются... Ведь именно в более древних и богатых частях страны нищета и нужда среди рабочих классов принимают наиболее мрачный вид».
Задачу своей книги Джордж видит в том, чтобы «отыскать закон, который связывает бедность с прогрессом и увеличивает нужду с ростом богатства».
На Толстого должны были произвести сильное впечатление заключительные строки введения к книге «Прогресс и бедность», где Джордж твердо и решительно заявляет:
«Я предполагаю ничего не принимать на веру, не отступать ни перед каким заключением, но следовать за истиной всюду, куда бы она ни повела. Искать этот закон — наш долг, ибо в самом сердце нашей цивилизации, у нас на глазах, изнемогают женщины и стонут маленькие дети... Если заключения, которых мы достигнем, встанут в противоречие с нашими предрассудками, — не будем колебаться, и если они будут враждебны учреждениям, которые с давнего времени считались мудрыми и естественными, — не будем отступать»82.
Толстого, несомненно, особенно заинтересовали главы книги Джорджа, названные «Несправедливость частной собственности на землю» и «Частная собственность на землю с исторической точки зрения».
В первой из названных глав Джордж исходит из следующего основного положения: «Как человек принадлежит самому себе, так ему принадлежит и его труд, проявленный в конкретной форме... Никто другой не имеет законного права на его произведения, и его исключительное право на них не заключает в себе никакой несправедливости ни для кого другого... Природа не признает за человеком иного права, как на результаты его труда...»
«Признавать законность собственности на землю, — говорит далее Джордж, — значит поддерживать право, которое не имеет опоры в природе, против права, которое основывается на организации человека и на законах материального мира... Действительно
- 388 -
и естественно различие между вещами, которые суть произведения труда, и вещами, которые природа предлагает даром...»
Равное право всех людей на пользование землей, — говорит Г. Джордж, — столь же ясно, как их равное право дышать воздухом, — это есть право, устанавливаемое самим фактом их существования. И мы не можем предположить, чтобы некоторые люди имели право находиться в этом мире и другие не имели такого права.
Для Джорджа частная земельная собственность есть причина всех общественных зол нашего времени. «Тяжелые общественные бедствия, — писал Джордж, — которые среди развивающейся цивилизации всюду угнетают людей, вытекают из великой начальной неправды, из присвоения, в виде исключительной собственности некоторых людей, земли, на которой и от которой должны кормиться все люди. В этой-то основной неправде и коренятся все те несправедливости, ...которые присуждают к жизни в бедности производителей богатства и содержат в роскоши того, кто ничего не производит, которые воздвигают ночлежные дома рядом с дворцами, притоны разврата позади церквей и вынуждают нас строить тюрьмы в то время, когда мы открываем новые школы».
«Что среди нашей высокой цивилизации люди чахнут и погибают от нужды, зависит не от скаредности природы, но от несправедливости человека».
Мнимое право частной земельной собственности, — говорит Джордж, — всегда возникало только на насилии. «А когда право покоится только на силе, — утверждает Джордж, — тогда и жаловаться нельзя, если сила уничтожает его»83.
Главу «Частная собственность на землю с исторической точки зрения» Генри Джордж начинает со следующего положения: «Что всего более препятствует признанию основной несправедливости частной собственности на землю и беспристрастному рассмотрению предложений, направленных к отмене ее, так это та умственная привычка, в силу которой все, существующее в течение долгого времени, кажется естественным и необходимым»84.
Но историки первобытной культуры согласно утверждают, что во всех первобытных обществах земля была общей собственностью племени и подвергалась переделам между всеми семействами, так что все могли жить своим трудом.
«С исторической, — говорит Джордж, — как и с этической точки зрения частная собственность на землю есть грабеж. Она нигде не возникала из договора, она нигде не может
- 389 -
быть связана с понятиями о справедливости и разумности, она повсюду брала свое начало в войне и завоевании и в том себялюбивом употреблении, которое люди ловкие делали из суеверия и закона».
«Согласно первоначальному и устойчивому представлению человечества все люди имеют равное право на землю... Частная собственность на землю никогда не возникала иначе, как в результате узурпации»85.
Средство уничтожения земельной собственности Джордж видел в установлении налога с ценности земли, посредством которого весь не заработанный владельцем доход (земельная рента), происходящий от качества почвы и более выгодного местоположения земельного участка, поступал бы в собственность государства. Этот налог должен идти на общественные нужды; все другие налоги на труд и капитал отменяются. Поступление всей земельной ренты в пользу государства должно, по теории Джорджа, привести к тому, что всем крупным собственникам станут невыгодны большие земельные владения и они добровольно откажутся от больших земельных участков, которые, таким образом, перейдут в пользование работающих на них своим трудом.
Кроме первой книги Генри Джорджа «Прогресс и бедность», Толстой в феврале 1885 года читал последнюю вышедшую к тому времени (в 1884 году) книгу того же автора «Social Problèms» («Общественные задачи»). Из помещаемого ниже письма А. И. Эртеля к А. Н. Пыпину мы узнаем, что у Толстого было даже намерение перевести эту книгу Джорджа на русский язык. Однако, по-видимому, он и не приступал к исполнению этого намерения.
Восхищаясь Генри Джорджем как мужественным борцом за уничтожение земельной неправды, считая Джорджа «удивительным писателем — писателем, который произведет эпоху»86, Толстой при первом чтении Джорджа остался холоден к предлагаемому им проекту единого налога с ценности земли. Отталкивало Толстого от проекта Джорджа то, что при осуществлении этого проекта предполагалось наличие отдельных государств, а также и то, что национализация земли по проекту Джорджа вводится государством, т. е. с применением насилия.
«Как скоро, — писал Толстой в «Так что же нам делать?», — оставалось бы насильственное взимание податей за ренту, осталось бы и рабство. Земледелец, после неурожая не будучи в силах заплатить ренту, которую взыскивают с него силою, чтобы не лишиться всего, должен будет для удержания
- 390 -
за собой земли закабалиться к тому человеку, у которого будут деньги»87.
В этом, по-видимому, и состояли те «слабости» учения Джорджа, на которые намекал Толстой в письме к В. Г. Черткову.
Позднее отношение Толстого к проекту Генри Джорджа изменилось. В 1894 году он пишет крестьянину Т. М. Бондареву, автору сочинения «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца», письмо, в котором излагает проект единого налога Генри Джорджа. В революционные 1905—1906 годы Толстой пишет ряд статей, в которых проводит мысль, что земельный вопрос есть основа социального вопроса и что введение единого налога по системе Генри Джорджа есть «единственно возможное решение земельного вопроса». В 1908 году, отвечая крестьянину Шильцову на его вопрос о том, как решить земельный вопрос, Толстой начал, было, излагать ему проект Генри Джорджа, но убедился, что на практике «этот вопрос более сложный, чем его разрешает Генри Джордж» и что предлагаемое Джорджем средство «было бы справедливо только при идеальном государственном устройстве»88.
Что же касается переписки Толстого с Генри Джорджем, то она началась не в 1885 году, а гораздо позднее. В письме от 3 (15) марта 1896 года Джордж благодарил Толстого за сказанные им «добрые слова» и выражал чувства «уважения и восхищения» деятельностью Толстого. Сообщая о своей предполагаемой поездке в Европу, Джордж просил У Толстого разрешения посетить его. В своем ответе Джорджу, написанном 27 марта, Толстой писал, что «давно любит и знает» его, что чтение каждой книги Джорджа открывало ему «новые горизонты» и что увидаться с Джорджем будет для него «большой радостью»89.
Но встреча Толстого с Джорджем не состоялась. Поездка Джорджа в Европу отсрочивалась, а 28 октября 1897 года он умер от апоплексического удара.
XV
Еще 18 января 1885 года Толстой узнал от знаменитого в то время московского врача терапевта Г. А. Захарьина, что положение его друга Л. Д. Урусова, страдавшего туберкулезом, безнадежно. В тот же день С. А. Толстая, извещая
- 391 -
Т. А. Кузминскую о мнении Захарьина и о своих делах, далее писала: «Но теперь так грустно, так все не мило, точно какое-то огромное несчастье случилось. Только теперь видишь, как он много значил в нашей жизни и как будет всегда недоставать. Левочка тоже ужасно огорчен. Но он в виде утешения говорит, что Урусов для него никогда не может умереть, потому что они были единомысленны, и это единство не может разрушиться смертью»90.
В феврале Г. А. Захарьин посоветовал Л. Д. Урусову поехать в Крым на несколько месяцев. У Л. Д. Урусова было три брата и три сестры, но все они заявили о том, что не могут сопровождать больного брата в его поездке (с женой Л. Д. Урусов был в разъезде). Толстой решил поехать с Урусовым в Крым и там пожить с ним некоторое время.
26 февраля Толстой сообщил Л. Д. Урусову о своем намерении. Урусов был в восторге. «Я ужасно обрадовался, — отвечал он Толстому 28 февраля, — и вижу, что мы опять встретились в мыслях».
В том же письме, где Толстой сообщал Урусову о своем намерении сопровождать его в поездке в Крым, он извещал его о том, что С. А. Юрьев отстранен от редактирования журнала «Русская мысль». Причиной послужило, вероятно, помещение Юрьевым в своем журнале первых глав «Так что же нам делать?». Но в Петербурге, — писал далее Толстой, — выходит журнал «Русское богатство» «с самым нам близким направлением». Идейную позицию этого журнала Толстой характеризовал следующими словами: «Он проповедует любовь людей на основании эволюции и прогресса, т. е. научным жаргоном, но в сущности это журнал с христианским направлением»91.
Чтобы его работа хотя бы частично увидела свет, а также для того, чтобы материально поддержать «Русское богатство», подписка на которое шла очень туго, Толстой решил послать редактору журнала Л. Е. Оболенскому несколько отрывков из «Так что же нам делать?».
В первых числах марта в «Русское богатство» была послана часть главы XXIV (по окончательному тексту) работы Толстого, начинающаяся описанием встречи на Девичьем поле с 14-летней проституткой и кончающаяся картиной светского бала. Этому отрывку Толстой первоначально дал заглавие «Сцены», а затем, зачеркнув это заглавие, заменил его другим — «Жизнь в христианском городе». Эпитет «христианский» в приложении к слову «город» придавал отрывку иронический смысл.
- 392 -
В письме от 9 марта В. Г. Чертков известил Толстого о получении Л. Е. Оболенским посланного ему отрывка и о том, что Оболенский нашел рискованным в цензурном отношении слово «христианском» в заглавии, и они с Чертковым решили это слово исключить.
На письмо Черткова Толстой ответил 17—18 марта коротким и сухим письмом без всякого обращения, в котором писал: «Жалею слово «христианском». Без него нет смысла в заглавии»92.
Неприятны были Толстому и другие цензурные урезки статьи. 25—26 марта он писал В. Г. Черткову: «Мне неприятно печатать кастрированное, но, если нужно, то мне очень радостно отдать его именно в этом уродливом виде»93.
Хотя В. Г. Чертков хорошо знал текст «Так что же нам делать?», который он не только читал, но и литографировал, тем не менее перечитывание отрывка о московской нищете в третей книге «Русского богатства» за 1885 год произвело на него сильное впечатление. 23 марта он писал Толстому: «Появление в печати вашего описания нескольких случаев нищеты меня ужасно обрадовало. Сначала я был в течение целого дня возмущен цензурными урезками. И теперь мне больно, что сократили некоторые места, как например сопоставление колокольного звона с звуками выстрелов и пуль94... Тем не менее и ослабленные ваши слова приносят громадную пользу... Вам, как автору, должно быть еще тысячу раз больнее подобное заглушение некоторых из ваших слов. Ваша личность должна очень страдать, но позвольте мне вам высказать свое глубокое убеждение, что если б из-за этого вы дали завладеть вами нежеланию к печатанию ваших мыслей с такими урезками, то дело пострадало бы еще больше, чем ваша личность. Прачка, умершая под воротами95, теперь не даром умерла. С нею вместе страдают многие, и ее страдания и смерть теперь облегчат участь многих, ей подобных, и побудят многих счастливых по обстановке людей обратить внимание на то, что прежде они просматривали»96.
XVI
Незадолго до поездки в Крым Толстой получил письмо от писателя А. И. Эртеля, с которым он встречался у Н. Н. Златовратского. А. И. Эртель писал, что он считает несомненным тот идеал, который изложен Толстым в книге
- 393 -
«В чем моя вера?», но у него является вопрос: «каким путем мне, русскому, живущему хотя бы в нынешнем — 1885 году, при наличии таких-то условий, — каким путем мне идти для того, чтобы человечество достигло того идеала? Некоторые говорят, — писал далее А. И. Эртель, — что Вы игнорируете практический путь, но я не верю этим некоторым». А. И. Эртель просил у Толстого разрешения прийти к нему побеседовать по волнующему его вопросу97.
Получив письмо А. И. Эртеля, Толстой сам пришел к нему, но не мог основательно побеседовать по беспокоившим Эртеля вопросам, так как спешил, готовясь к отъезду в Крым.
13 марта А. И. Эртель писал А. Н. Пыпину о своих встречах с Толстым:
«Злоба московского дня — Л. Н. Толстой уехал с приятелем своим Урусовым в Крым, впрочем только на три недели. Он пишет теперь продолжение «Что же нам делать?» и переводит книжку Г. Джорджа «Социальные проблемы». Я, кажется, писал уже Вам, что познакомился с ним у Златовратского, затем писал ему, узнавал, когда мне можно заехать... Старик был так любезен, что вместо ответа сам пришел ко мне на вышину моих 107 ступеней. Вы его знаете, конечно? Он делает большое впечатление — это несомненно. И что в нем струйки нет «мистической» — тоже несомненно. Это сам реализм — здоровый и бодрый и ясный, как июльский день, хотя во внешности действительно есть что-то строгое, свойственное сектантству — может быть, напоминающее не июльский, а сентябрьский погожий день»98.
7 марта Толстой выехал из Москвы на Орел, а оттуда в село Дядьково Брянского уезда, где в то время проживал Л. Д. Урусов у своего тестя С. И. Мальцева.
В лице С. И. Мальцева Толстой впервые встретился с типом крупного заводчика. Мальцеву принадлежали стекольный, хрустальный, железоделательный, чугунолитейный и другие заводы, на которых работало около ста тысяч рабочих. Заводы Мальцева находились в Калужской, Орловской и Смоленской губерниях. Мальцев впервые в России начал выделывать рельсы, вагоны, паровые машины и пароходы. В Дядькове, куда приехал Толстой, находился центр управления заводами Мальцева.
Уже в первый день по приезде в Дядьково Толстой писал жене, что здесь для него «много нового и интересного, но не скажу приятного». «Я нынче уж, — писал далее Толстой, — был на стеклянном заводе и видел ужасы, на мой взгляд. Девочки
- 394 -
десяти лет в 12 часов ночи становятся на работу и стоят до 12-ти дня, а потом в 4 идут в школу, где их по команде учат: ус, оса, оси и т. п. Здорового лица женского и мужского [увидеть] трудно, а изможденных и жалких — бездна».
9 марта Толстой писал Софье Андреевне про вчерашний день: «Я провел очень хороший день. Заняться не успеваю. Хожу, смотрю, совсем здоров».
В тот же день Толстой поехал в село Людиново, где находился чугунолитейный и железоделательный завод, принадлежавший Мальцеву. «Мы только что весь вечер ходили по заводу, — писал Толстой жене в тот же день, — где льют чугун и делают железо. Все это очень поразительно. Страшная работа и необходимейшая».
Последнее замечание Толстого очень существенно. Оно имеет большое значение для выяснения вопроса об отношении Толстого к материальной культуре и технике.
11 марта, описывая предыдущий день, Толстой писал жене: «Вчера я провел время на площади, в кабаках, на заводе, один, без чичерон99, и много видел и слышал интересного и видел настоящий трудовой народ»100.
Так Толстой, на время вырвавшись из яснополянской «тюрьмы без решеток», всюду искал общения с трудовым народом — не только на заводе, но и на площади и даже в кабаках.
В Харькове, куда прибыли 12 марта, Толстой прежде всего отправился в окружной суд для встречи с членом суда Г. А. Русановым, бывшим у него в Ясной Поляне 24—25 августа 1883 года. Знакомая Толстого А. В. Дмоховская, узнав, что он будет проезжать через Харьков, просила его навести справки в суде, в чем обвиняется ее зять А. А. Тихоцкий, сидевший в харьковской тюрьме, и, если можно, попытаться что-нибудь сделать для облегчения его положения.
Выйдя из суда и проходя мимо университета, Толстой вспомнил товарища покойного брата Митеньки, профессора гигиены Аркадия Ивановича Якобия, с которым он не встречался сорок лет, и зашел в университет повидаться с ним. «Он самый милый, умный, приятный человек... Он не узнал меня», — в тот же день писал Толстой Софье Андреевне101.
Вечер Толстой провел у Г. А. Русанова за дружеской и серьезной беседой с ним и его семьей102.
- 395 -
Русановы проводили Толстого на поезд. Перед отходом поезда на вокзал приехали для встречи с Толстым его знакомые учительницы харьковских воскресных школ Х. Д. Алчевская и А. М. Калмыкова. И Русановы и учительницы просили Толстого телеграфировать о времени его обратного проезда через Харьков.
13 марта прибыли в Севастополь. Здесь Толстой с интересом проходил по тем местам, где тридцать лет назад стояли казавшиеся неприступными неприятельские батареи. «И странно, — писал Толстой жене на другой день, — воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Что если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества — общего дела, ведь могут же такие быть»103.
Уже по возвращении в Москву Толстой рассказал Софье Андреевне необыкновенный случай, бывший с ним в Севастополе. Ему случилось проезжать то место, где он во время сражения стоял со своим горным орудием. Проезжая далее, Толстой увидел лежавшее вблизи старое ядро. Подойдя ближе, он увидел, что это было ядро горного орудия. В севастопольскую войну горное орудие было только одно, и выстрел из него был сделан Толстым только один. Значит, Толстой увидал то самое ядро, которым он тридцать лет тому назад выстрелил по неприятельским позициям104.
14 марта доехали до станции Байдар, и Толстой отправился пешком до «знаменитых», как он назвал их в письме к жене, Байдарских ворот. В тот же день Толстой писал Софье Андреевне: «Ехал и не то что думал, но набегали новые — нового строя хорошие мысли. Между прочим одно: каково! Я жив, еще могу жить, еще! Как бы хоть это последнее прожить по-божьи, т. е. хорошо. Еще думал... что как несчастны вы, люди богатые, которые не знают ни того, на чем едут, ни того, в чем живут (т. е. как строен дом), ни что носят, ни что едят. Мужик и бедный все это знает, ценит и получает больше радостей. Видишь, что я духом бодр и добр»105.
В Байдарах Толстой остановился в гостинице. «Ночь лунная, кипарисы черными столбами по полугоре, фонтаны журчат везде, и внизу сине море, «без умолку»».
На другое утро 15 марта, встав в пять часов, Толстой отправился пешком в Алупку за четыре версты. «Очень хорошо шоссе в камнях, — описывал Толстой жене свою прогулку, — оливки, виноградники, миндальные, и море синее, синее»106.
- 396 -
К вечеру приехали в Симеиз, где у Мальцева было имение в 16 тысяч десятин.
«Мы долго сидели с Урусовым на берегу под скалой, — писал Толстой жене 15 марта. — Уединенно, прекрасно, величественно и ничего нет сделанного людьми; и я вспомнил Москву, и твои хлопоты, и все занятия и увеселения Москвы. Не верится, чтоб могли люди так губить свою жизнь»107.
В Симеизе Толстой пробыл неделю.
«Работать не принимался, — писал Толстой Софье Андреевне 16—17 марта, — слишком жалко потерять возможность увидать. И до сих пор все новое... Хожу я очень много и здоров».
В том же письме Толстой описывает, как он ходил в татарскую деревню и дорогой встретился со старым татарином, который шел за две версты работать на своем винограднике. Толстой в шутку предложил нанять его в поденные рабочие. Хозяин согласился платить русскому старику по рублю в день. Но это была с его стороны шутка — он признал в Толстом барина. Лев Николаевич прошел вместе с хозяином в его виноградник, где лазил за ним по скалам и любовался его четырьмя сыновьями «молодцами», которые вскапывали землю под виноград — «сильные, здоровые, веселые», — и сам поработал с ними108.
Этот эпизод непродолжительной работы Толстого в чужом винограднике под пером жены Л. Д. Урусова М. С. Урусовой превратился в рассказ о работе Толстого по найму с оплатой по рублю в день109.
Общение с Л. Д. Урусовым было Толстому радостно, но ему не нравилось то, что, как писал он жене 16—17 марта, Урусов «не видит своего положения и как будто боится узнать о нем»110.
17 марта Толстой поехал верхом в Ялту за 20 верст. Там на улице он встретил Ивана Сергеевича Аксакова и его жену Анну Федоровну, рожденную Тютчеву. Толстой слез с лошади и прошел с ними сотню шагов.
19 марта он отправился пешком в Мшатку к другу Н. Н. Страхова, философу-идеалисту Н. Я. Данилевскому.
В конце марта Н. Я. Данилевский в письме к Н. Н. Страхову так описывал свое знакомство с Толстым: «Он сам — еще лучшее произведение, чем его художественные произведения...
- 397 -
В нем такая задушевная искренность, которой и вообразить себе нельзя. Он просидел у нас вечер, переночевал и до часу на другой день остался, потому что на следующий должен был ехать... Ходок он удивительный. Я слышал, что будто он дурен собой — ничего этого я не нашел — превосходное, дышащее простотой, искренностию и добродушием лицо. Одним словом, понравился он мне очень, так понравился, как с первого взгляда и менее чем однодневного знакомства едва ли кто нравился... Говорили мы о том, о сем, но ни договориться, ни даже разговориться ни о чем толком не успели...»111.
21 марта Толстой выехал из Симеиза на лошадях в Бахчисарай и из Бахчисарая по железной дороге в Москву, куда прибыл 23 марта.
XVII
В январе — феврале 1885 года В. Г. Чертков был усиленно занят подготовкой к изданию для народного зрителя хороших воспроизведений с лучших картин русских и иностранных художников. 26 февраля он писал Толстому, что на другой день должны были быть готовы все картинки первой серии и все рисунки к лубочным книжечкам. Таким образом, к тому времени был уже решен вопрос об издании для народа не только воспроизведений с картин художников, но и отдельных книжек с рисунками на первой и последней страницах обложек.
В конце февраля 1885 года Толстой написал текст для картины, озаглавленной им «Два брата и золото». В основу текста была положена старинная легенда, прочитанная Толстым в «Прологе». Содержание этой легенды вкратце сводится к следующему.
В древности в земле Эдесской в двух пещерах жили два родных брата. Они проводили время в безмолвии, посте и молитве и сходились друг с другом только в воскресные дни.
Однажды, когда братья вышли из своих пещер, чтобы собрать себе растений и кореньев для питания, один из них заметил, что брат его вдруг остановился на месте, как бы испугавшись чего-то, потом стремглав побежал и скрылся в своей пещере. Недоумевая, что бы это значило, другой брат подошел к тому месту, где внезапно остановился его брат, и увидал там кучу золота. Недолго думая, он снял с себя мантию, насыпал в нее сколько мог донести золота и принес его в свою пещеру. После этого, не сказав брату ни слова, он пошел в город, купил там большой дом, устроил в нем приют для странников и основал монастырь. Оставшиеся деньги он роздал бедным
- 398 -
и снова оставил мир и пошел к своему брату. Дорогой он начал «высокоумствовать» о себе и осуждать брата за то, что тот не хотел сделать добро на найденное им золото. Но когда он подходил к пещере брата, явился ему ангел и сказал: «Знай, что все, что ты сделал, не стоит прыжка, сделанного твоим братом через золото, и он несравненно выше и достойнее тебя перед богом. Ты даже не стоишь того, чтобы видеть своего брата, пока не покаешься». И только через пятьдесят лет, проведенных братом в покаянии, ангел обещал ему, что он увидится с братом своим «в обителях небесных»112.
Основная идея легенды — проклятие богатству. А так как Толстой сам в то время в книге «Так что же нам делать?» посылал проклятия богатству и благотворительности богачей, то он и решил написать для народного читателя текст к будущей (в то время еще не написанной) картине на сюжет ранее прочитанной им легенды из «Пролога». Толстой хотел, было, перенести действие легенды на русскую почву, в сибирское село, но скоро отказался от этого намерения.
В своей переработке Толстой старался удалить аскетический элемент легенды. Изображенные им братья Афанасий и Иоанн проводили время не в посте и молитве, а в помощи своим трудом больным, сиротам, вдовам. Художественно изображен Толстым ужас, овладевший Иоанном при виде кучи золота. «Афанасий увидел, как Иоанн вдруг прыгнул в сторону и, не оглядываясь, побежал под гору и на гору, прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним». Монастырь Афанасий не строит, он строит только больницу и приюты для вдов и сирот и для странников и нищих. Подчеркивается тщеславие, овладевшее Афанасием, когда стала известна его благотворительная деятельность: «И стали люди хвалить Афанасия за все, что он сделал, и радовался на это Афанасий». Но он все-таки ушел из города в свое жилище. Он продолжал думать, что очень хорошо поступил, устроив на золото три дома для бедных и больных. Но ему явился ангел и сказал: «Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим». И Афанасий понял, что «не золотом, а только трудом можно служить богу и людям».
Так Толстой понятным простому читателю языком изложил основную мысль занимавшей его в то время обширной работы «Так что же нам делать?»
В. Г. Чертков обратился к И. Е. Репину с просьбой нарисовать картинки к легенде «Два брата и золото», на что тот охотно согласился. «Репин — симпатичнейший человек, — писал В. Г. Чертков Толстому 23 марта. — Он очень сочувствует вашим
- 399 -
мыслям, ценит последнюю статью (всю), которую я дал ему в рукописи. Он не берет за рисунки никакой платы и охотно делает их для нашей цели... Ваш рассказ о братьях и золоте ему очень понравился, и, когда нужно, он охотно сделает к нему и вообще подобным рассказам большие крашеные картины»113. И действительно, легенда «Два брата и золото» была в 1886 году напечатана «Посредником» на открытом листе с рисунком И. Е. Репина.
В Крыму Толстой не забывал о работе для «Посредника», к чему настойчиво побуждал его Чертков и в письмах и при встречах. 14 марта Толстой писал жене из Байдар: «Еще на козлах сочинял английского милорда. И хорошо».
«Английским милордом» Толстой называл в то время будущие свои народные рассказы для издательства «Посредник». Он вспоминал имевшую огромное распространение лубочную повесть «О приключениях английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы», первое издание которой появилось в 1782 году.
На другой день — 15 марта — уже из Симеиза Толстой писал жене: «Очень я устал, загорел и разбросался мыслями, т. е. вышел из колеи работы. Английского милорда, однако, все обдумываю. Попробую завтра писать»114.
18 марта Толстой извещал Черткова, что он написал небольшой рассказ. Очевидно, этот рассказ, озаглавленный «Ильяс» и предназначенный быть текстом к ненаписанной еще картине, и обдумывал Толстой, сидя на козлах по дороге в Байдары и потом в Симеизе.
Идея рассказа в том, что богатство приносит с собой большие хлопоты и огорчения и не дает счастья человеку.
Живя в Крыму среди татарского населения, Толстой сначала хотел сделать героем рассказа татарина, но потом отказался от этого намерения и перенес действие рассказа в хорошо ему знакомые башкирские степи. Рассказывается, как башкирец Ильяс постепенно становится одним из самых богатых людей в округе, как затем вследствие разных случайностей он разоряется и в старости вынужден идти в работники к другому богатому башкирцу. Лишившись богатства, Ильяс избавился от многих беспокойств и огорчений и почувствовал себя счастливым.
17 марта Толстой получил от Черткова номер выходившего в Петербурге ежемесячного журнала евангелического направления «Русский рабочий» за 1884 год, в котором был помещен пересказ французского рассказа «Дядя Мартын». В письме от 9 марта Чертков писал Толстому, что мысль этого рассказа «до такой степени важна и дорога, что желательно передать ее возможно
- 400 -
трогательнее и убедительнее». При письме Чертков приложил несколько листов чистой бумаги «на случай, — писал он Толстому, — если вам придет в голову сделать какие-либо изменения или дополнения» в посланном рассказе115.
Установлено, что рассказ «Дядя Мартын» является пересказом рассказа «Le père Martin» французского писателя Р. Сайяна (R. Saillens) и входит в состав сборника его рассказов «Récits et allégories»116.
Толстому подлинник рассказа Р. Сайяна остался неизвестен, он знал только его пересказ в «Русском рабочем».
Герой рассказа — бедный сапожник Мартын Авдеич, живущий в подвале большого каменного дома в глухом переулке большого города. Тема рассказа — религиозная. Сапожник читает Евангелие и под влиянием этого чтения мечтает о том, с каким восторгом он принял бы Христа, если бы тот пришел к нему. После чтения он задремал и в дремоте услышал голос, говоривший, что Христос придет к нему на другой день. «Целый день смотри на улицу и постарайся узнать его, потому что он сам тебе не откроется», — говорил голос.
Исполняя сказанное ему таинственным голосом, дядя Мартын целый день смотрел в окно на улицу, но Христа не увидал. Он увидал старого Степаныча, помощника дворника, который сгребал перед домом снег, уморился и прозяб; дядя Мартын позвал его к себе в каморку и напоил чаем с хлебом. Увидал молодую женщину в лохмотьях с ребенком на руках, худую и бледную; Авдеич позвал ее к себе, дал ей хлеба и молока и башмачки для ребенка.
Поужинав, старик собирался лечь спать, грустя о том, что Христос к нему не пришел, как вдруг ему послышался шорох, в комнату вошли Степаныч и женщина с ребенком, и каждый из них спросил Авдеича: «Разве ты не видал меня?» И Мартын Авдеич прочел в евангельском тексте: «Если вы накормили голодного, напоили жаждущего, приняли странника, так как вы сделали это одному из братий моих меньших, то сделали мне».
Мысль рассказа, разумеется, очень близка Толстому, но в рассказе было много недостатков и, чтобы он годился для «Посредника», нужно было много над ним поработать. 18 марта Толстой писал Черткову: «Получил вчера ваше письмо и рассказ. Поправляю его. Может быть, будет лучше»117.
Толстой прошелся по всему тексту рассказа, но это не была окончательная правка. После этого он еще усердно правил одну
- 401 -
за другой четыре последовательно переписанные для него копии рассказа. Последняя рукопись, с которой производился набор рассказа, имеет типографскую помету: «10 мая 85 г.». Он освободил рассказ «Дядя Мартын» от общего сентиментального тона и ненужных эффектов, удалил церковный элемент, а главное — придал жизненность и яркость всем действующим лицам, начиная с центрального героя.
Автор рассказа «Дядя Мартын» в самом начале говорит, что герой рассказа — сапожник, но далее на всем протяжении рассказа нет ни одного упоминания о профессии дяди Мартына. У Толстого напротив: ожидая прихода Христа, сапожник весь день занят своей работой. Со знанием дела описывает Толстой приемы сапожной работы, пользуясь специальными терминами кустарного сапожнического ремесла: «подметки подкинуть», «латки положить», «головки сделать», «задник строчить», «щетинка», «концы», «струмент».
Толстой много работал над изображением душевного облика своего героя, наделяя его привлекательными чертами. Мартын Авдеич — человек деликатный, мягкий и скромный, однако там, где требуется, он обнаруживает черты живой, активной натуры.
Представители городской бедноты — дряхлый, но все еще через силу работающий Степаныч, солдатка, одетая в лохмотья, с еле прикрытым ребенком на руках, даны эпизодически, но это яркие типические образы.
Однако Толстой не ограничился более живым изображением тех двух представителей городской бедноты, которых он нашел в рассказе «Дядя Мартын», — он ввел от себя двух других представителей той же социальной категории. Это — старуха, торгующая яблоками с лотка, и уличный мальчуган в рваном картузе, пытающийся утащить у нее яблоко. Увидав из своего окна, как старуха треплет мальчугана за вихры, Авдеич быстро выбегает на улицу. Тихими, ласковыми речами ему удается примирить старуху с ее обидчиком.
Переработанному им рассказу Толстой дал новое заглавие — «Где любовь, там и бог».
В конце марта рассказ «Где любовь, там и бог» и текст к картине «Ильяс» были переданы Черткову для издания.
В письме к Черткову от 17 мая 1885 года Толстой писал, что рассказ «Где любовь, там и бог» он «окончательно поправил» в корректурах. «Мне это очень нравится», — писал Толстой о своем рассказе118.
Около 1 апреля 1885 года вышли в свет первые четыре книжки издательства «Посредник». Это были: «Чем люди живы» Льва Толстого, его же «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник», а также «Христос в гостях
- 402 -
у мужика» Н. С. Лескова (из сборника рассказов Н. С. Лескова «Русская рознь», вышедшего в 1881 году). Каждая книжка была снабжена двумя рисунками в красках на первой и последней страницах обложки; каждая имела свой порядковый номер; на первой странице обложки был напечатан девиз издательства: «Не в силе бог, а в правде». Цена каждой книжки была 1½ копейки.
XVIII
По возвращении из Крыма Толстой снова занялся работой над «Так что же нам делать?».
«Я занят все статьей Что делать? — все об деньгах, — писал он Черткову в начале апреля. — Очень странно бы было по той внутренней потребности, которая во мне есть — выяснить это дело, чтобы это было заблуждением с моей стороны. А может быть»119.
30 марта Толстой был на XIII передвижной выставке в Москве, где была выставлена картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1582 года». Картина очень понравилась Толстому. 1 апреля 1885 года он писал художнику: «Молодец Репин, именно молодец. Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель». Толстой отмечает, что образ Ивана Грозного, нарисованный Репиным, имеет сходство, во-первых, с литературным типом — Карамазовым-отцом и, во-вторых, с живым лицом — старухой приживалкой Натальей Петровной, проживавшей в Ясной Поляне. «Он, — говорит Толстой про образ Ивана Грозного, созданный Репиным, — самый плюгавый и жалкий, жалкий убийца, какими они и должны быть». Отмечает Толстой как достижение художника и правдивую смертную красоту сына.
Картина удостоилась высшей, с точки зрения Толстого, похвалы: «Хотел художник сказать значительное и сказал вполне и ясно».
И с художественной стороны Толстой признал картину Репина совершенством. Художник, — писал он, — сказал то, что хотел сказать, «так мастерски, что не видать мастерства», т. е. не видно усилий художника достигнуть в своей картине того мастерства, на которое он способен120.
Репин был очень тронут письмом Толстого. 5 апреля он отвечал: «Как я счастлив, дорогой Лев Николаевич, Вашим письмом... Вашим мнением я очень дорожу и все мысленно воображал, что Вы скажете, увидав мою картину... Я все же не могу не пожалеть, что мне не удалось лично, под свежим
- 403 -
впечатлением, выслушать от Вас те драгоценные замечания, которые, сами собой сорвались бы у Вас с языка, как это было, например, с моими Запорожцами. Те замечания маститого, опытного художника бойца на всю жизнь останутся во мне, так они пластичны и жизненны и, главное, сказаны они были так себе, между прочим, как будто вовсе вещь не важная»121.
Вскоре Репин очень тронул Толстого другим своим произведением.
Выше было сказано, что Толстой написал текст к воспроизведению в «Посреднике» картины французского художника Бугро «Страдания Христа». По требованию духовной цензуры фигура Христа была переделана русским художником, но эта переделка, сделанная в духе церковного представления о Христе, не удовлетворила Толстого. «Надо чтоб было страданье», — писал он Черткову в начале апреля122.
Чертков попросил Репина нарисовать фигуру Христа для воспроизведения картины Бугро, и Репин выразил согласие. Увидев нарисованную Репиным фигуру Христа уже на открытом листе, воспроизводившем картину Бугро, Толстой 2 мая писал Черткову: «Радость великую мне доставил Репин. Я не мог оторваться от его картинки и умилился. И сколько людей умилятся. Буду стараться, чтобы передано было как возможно лучше».
В конце письма Толстой опять возвращается к рисунку Репина. Он пишет: «Репину, если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа связало меня с ним теснее, чем прежде. Я вспомню только это лицо и руку, и слезы навертываются»123.
XIX
Работа над «Так что же нам делать?» после долгого перерыва наладилась не сразу. «Я плохо подвигаюсь в своей работе, — писал Толстой 11 апреля Л. Д. Урусову. — Но интерес не ослабевает, и, если буду жив, выскажу то, что имею сказать».
Далее в том же письме Толстой писал: «Нынче приезжает Чертков, и я испугался его как учителя и нынче утром написал рассказ начерно. Может быть, выйдет порядочно»124.
Эти строки Толстого требуют пояснения.
Толстой в принципе был согласен с Чертковым, что ему следует писать для трудового народа, который более восприимчив к христианскому учению, чем интеллигенция и богатые
- 404 -
классы, и писать именно в художественной форме, более доступной для простого читателя, чем рассуждения. Но в то же время он не мог всецело отдаться работе над народными художественными рассказами по той причине, что ему нужно было выяснить для себя ряд еще не решенных им вопросов, касающихся причин угнетенного положения рабочего народа. Этим Толстой и был занят, работая над «Так что же нам делать?». То, что открылось ему в результате напряженной работы мысли в этом направлении, было столь же нужно ему, как и его интеллигентным читателям. Работа же над народными рассказами, содержавшими в основном проповедь христианского учения о любви, ничего нового не открывала Толстому. Этим и объясняется то, что он 18 марта писал жене из Симеиза: «Здесь хорошо, но хорошо с людьми своими и с делом. Дело-то, положим, есть мне всегда, но какое-то слишком уж легкое. А я привык, особенно последние года, к очень напряженному»125.
В начале апреля Толстой написал тексты к двум задуманным им картинам для издания в «Посреднике»: «Вражье лепко, а божье крепко» и «Девчонки умнее стариков».
Первая картина изображала борьбу добра со злом и победу добра. Вторая приглашала старых людей брать пример с детей. Девочки, играя, поссорились и очень быстро помирились, а их старшие хотели драться между собой из-за них.
Вскоре Толстой начал рассказ из обыденной деревенской жизни того времени — о ссоре двух соседей, начавшейся из-за пустяков и кончившейся поджогом, которым снесло половину деревни.
Рассказ был задуман Толстым еще в 1884 году, о чем свидетельствует следующая, не датированная, запись в его дневнике этого года: «Мужик вышел вечером за двор и видит: вспыхнул огонек под застрехой. Он крикнул. Человек побежал прочь от застрехи. Мужик узнал своего соседа врага и побежал за ним. Пока он бегал, крыша занялась, и двор и деревня сгорели»126.
Изображенный в рассказе эпизод — о том, как в ссоре один мужик вырвал у другого клок бороды и, завернув его в «грамотку», принес в волостной суд, имеет основу в факте, записанном в яснополянском дневнике Толстого 21 мая 1884 года: «Резунова старуха приносила выдранную Тарасом косу в платочке»127.
Толстой был очень увлечен начатым рассказом. Сохранились четыре последовательные копии этого рассказа, правленные
- 405 -
Толстым. 10 мая рассказ, названный «Упустишь огонь, не потушишь», был сдан в набор.
В этом рассказе более чем в каком-либо другом произведении Толстого поражает знание автором мелких бытовых подробностей жизни старого русского крестьянства, приобретенное им годами не просто жизни в деревне бок о бок с крестьянской массой, но близким общением с крестьянами.
Рассказ «Упустишь огонь, не потушишь» мог бы служить своеобразной литературной параллелью к повести Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», но отношение авторов к изображенным ими двум поссорившимся лицам различно: Гоголь описывает своих Иванов с чувством жалости к ним самим и с чувством сожаления к тем мелким обидам, которые сделали их врагами; Толстой описывает ссору соседей как грубое нарушение нравственного закона, влекущее за собой самые пагубные последствия для всей деревни. Вместе с тем для Толстого это печальное происшествие не что иное, как нарушение спокойного трудового уклада крестьянской жизни. Это не правило, а исключение.
Толстой не упустил случая высказать свое отрицательное отношение к правительственному суду. Когда волостной суд присудил Гаврилу к 20-ти ударам розгами за то, что он ударил беременную сноху соседа Ивана, старый судья обращается к судящимся мужикам с увещанием о примирении. «Мы это решение перепишем», — говорит он. Против этого волостной писарь возражает: «Это нельзя, потому что на основании 117-й статьи миролюбивое соглашение не состоялось, а состоялось решение суда, и решение должно войти в силу». Старый судья отвечает писарю: «Будет язык чесать-то. Первая статья, брат, одна: бога помнить надо, а помириться бог велел».
Устами другого старика, отца судящегося Ивана, Толстой излагает учение о непротивлении злу насилием в самом элементарном его выражении: «Тебе слово, а ты смолчи, — его самого совесть обличит... Тебе плюху, а ты под другую подвернись: на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, и тебя послухает»128.
Рассказ заканчивается следующими словами: «Иван не сказал на Гаврилу... И сошло у Ивана сердце на Гаврилу, и дивился
- 406 -
Гаврила Ивану, что Иван на него никому не сказал». Н. Н. Страхов был недоволен этим окончанием рассказа с художественной точки зрения. 28 июля 1885 года он писал Толстому: «Если главная сила должна содержаться в изображении души человеческой, то тут у Вас можно указать пропуски и большие пятна. Сказать, что один мужик поджег у другого дом, а тот простил ему и так его этим удивил, что они стали друзьями — такой рассказ не будет иметь никакой силы. Но если я рассказываю про Ивана, как про знакомого, и описываю все, что в нем делалось, то могу очень увлечь. В Вашем рассказе есть много бесподобного; но пробелы большие; например, конец вовсе скомкан. Как они встречались, как затихала в том и другом злоба — это любопытно и трогательно, а этого нет»129.
XX
15 апреля 1885 года Толстой писал Л. Д. Урусову, что он только что видел И. Д. Сытина, от которого узнал, что у него есть близкие знакомые, молодые люди из торгового мира, которым Чертков давал читать письмо Толстого к М. А. Энгельгардту130, и они из этого письма поняли взгляды Толстого и все значение книгоиздательства «Посредник». Письмо это так подействовало на них, что они решили выпускать издание «Посредник» в убыток себе. Торговец бумагой тотчас же спустил 1½ копейки на пуд бумаги. Это в общей сумме составит тысячи рублей. «Вообще, — пишет Толстой, — сочувствие со всех сторон я вижу огромное»131.
Сам И. Д. Сытин впоследствии так вспоминал о первом времени своей работы в «Посреднике»: «Что это было за время! Это была не простая работа, а священнослужение. Я вел свое все развивающееся дело. Рядом шло дело «Посредника». Я был счастлив видеть интеллигентного человека, так преданного делу просвещения народа. Чертков строго следил, чтобы ничто не нарушило в его изданиях принятого направления. Выработанная программа была святая святых всей серии. Все сотрудники относились к этому начинанию с таким же вниманием и любовью. Л. Н. Толстой принимал самое близкое участие в печатании, редакции и продаже книг, много вносил ценных указании и поправок»132.
Подтверждением этих воспоминаний Сытина являются его письма к Толстому:
- 407 -
«Ваши новые книжки, — писал Сытин 4 июня 1885 года, — очень всем нравятся и раскупают большими количествами. У меня есть на ремесленной выставке стол с моими произведениями, где идет продажа по мелочи. Ваши книжки все продаются очень успешно. Каждый подошедший не уйдет, не купивши, они разложены в большом количестве и продаются на три копейки две, по дешевизне, и изящный вид привлекает покупателей. Купивши же и прочитав, приходят нарочно второй раз на выставку, требуя еще других таких рассказов, и приводят с собой знакомых. Кто купит одну или две книжки, после непременно придет, требуя еще таких, и купит все сколько есть... Очень много покупательниц — женщин с детьми»133.
В письме от 22 июня 1885 года Сытин сообщал Толстому, что он выезжает с изданиями «Посредника» на ярмарку в Нижний Новгород, «где мы надеемся ваши книжки познакомить со всею Россиею и Сибирью... Мне очень дорого и приятно дело, когда покупающие все с радостию разбирают и благодарят»134.
В половине апреля «Посредник» выпустил объявление об открытии им книжного склада. Объявление начиналось такими словами:
«С каждым годом увеличивается число грамотных людей в народе. Вместе с ним возрастает потребность к чтению. Она выражается в спросе на книги.
Много учреждений, обществ и частных лиц желают удовлетворять этому спросу и берут на себя труд издавать и распространять различные книги. В числе их есть хорошие, есть и дурные. Желающие приобрести хорошие книги встречают два затруднения: Одно — как выбрать именно хорошие книги, другое — как дешевле приобрестъ их? Мы желаем помочь в этом деле и устраиваем склад с целью доставлять книги хорошего содержания по возможно удешевленной цене.
Хорошим мы считаем содержание, возможно ближе выражающее учение Христа и, в крайнем случае, ни в чем не противоречащее этому учению, и при том — изложенное в форме, доступной массе и удовлетворяющей ее потребностям».
Далее в объявлении говорилось, что сотрудники склада «Посредника» ставят перед собой задачу пересматривать все существующие и вновь выходящие народные издания с целью отбора из них таких книг, которые они находят хорошими. Такие книги продаются в складе и рассылаются желающим их иметь. «Посредник» просил как читателей, так и лиц, взявших на себя
- 408 -
труд распространения книг, сообщать издательству, какие книги нравятся народному читателю и какие не нравятся. Соответственно этим сообщениям будет дополняться и исправляться список «хороших книг». «Цель наша, — говорилось далее в объявлении, — не получение барыша, а лишь содействие распространению хороших книг».
И, наконец, в объявлении было сказано, что сотрудники склада охотно берут на себя «наведение справок, доставление сведений и исполнение различных поручений, касающихся народной литературы».
Объявление книжного склада «Посредника» было целиком перепечатано в апрельской книжке «Русского богатства» за 1885 год со следующей рекомендацией редакции, напечатанной на отдельной странице перед объявлением: «Обращаем внимание наших читателей, особенно земцев и народных учителей, на нижеследующее объявление. За совершенную правдивость его мы ручаемся и просим его не считать за обычную рекламу, так как склад «Посредника» не имеет ничего общего со спекуляцией и барышом, а имеет цели исключительно принципиальные».
XXI
Почти весь май 1885 года Толстой провел в работе для «Посредника».
В письмах к Черткову за весь месяц только один раз — 15 мая — упоминается работа над «Так что же нам делать?». Толстой писал: «Еще я рад, что кончил нынче рассуждение политико-экономическое, освободился для продолжения и окончания статьи»135.
1 мая Толстой писал Л. Д. Урусову: «Чертково-Сытинское дело идет хорошо». Далее он делится со своим другом новой темой для картин, выпускаемых «Посредником». «Нынче мне пришла мысль издавать картинки героев — не Скобелевых, а доктора Дуброво, высосавшего дифтеритный яд, учителя в Туле, погибшего в пожаре, где он вытаскивал детей, и таких героев, которые положили душу за други своя. Не знаете ли таких? Напишите. Мысль эта мне ужасно нравится»136. На другой день Толстой писал и Черткову о докторе и учителе: «Я соберу сведения об этих и, если бог даст, напишу тексты и закажу картинки и портреты. Подумайте о таких картинках героев
- 409 -
и героинь. Их много, слава богу. И надо собирать и прославлять в пример нам. Эту мысль мне нынче бог дал, и она меня ужасно радует. Мне кажется, она может дать много»137.
Доктор, упоминаемый здесь Толстым, это ординатор московского военного госпиталя, Илья Иванович Дуброво. Приглашенный к дифтеритной больной, он через трубку высасывал дифтеритные пленки из горла пациентки, заразился дифтеритом и через несколько дней умер. О подвиге учителя, спасавшего детей на пожаре и погибшего в огне, ничего неизвестно.
Этот план Толстого остался невыполненным, вероятно, потому, что не удавалось собрать более подробные сведения об этих героях, пожертвовавших своей жизнью для спасения других. Только через несколько лет в «Посреднике» появилась книжка И. И. Горбунова-Посадова «Домиан де-Вестер, друг прокаженных», подходящая по содержанию к задуманной Толстым серии книжек.
7 мая Толстой пишет Черткову: «Радуюсь очень на вашу деятельность и жду от нее добра»138.
8 письме от 6 мая Чертков сообщал Толстому, что его троюродная сестра, знающая языки, хочет заняться (конечно, под влиянием разговоров с ним) переработкой для «Посредника» произведений иностранных классиков. Он просил Толстого указать ему, каких иностранных писателей он считает подходящими для такой цели. Толстой отнесся сочувственно к предложению Черткова. «Надо читать, искать, примеривая все к этой цели, и тогда найдется», — писал он Черткову 8 мая. На первый раз он указал ему следующие произведения: романы Диккенса «Оливер Твист» и «Тайна Эдвина Друда», роман английского писателя Ч. Кигслея «Гипатия» (из эпохи борьбы христианства с греческой философией в Александрии в V веке) и книгу В. Прескотта «Завоевание Мексики».
«Оливер Твист», — писал далее Толстой, — кажется, могла бы выйти хорошая книга, если совершенно свободно переделать. Тоже и история завоевания, если бы хорошенько, всей душой перейти на сторону мехиканцев139 и осветить невежественную ухарскую жестокость испанцев»140.
«Историю завоевания Мексики» В. Прескотта Толстой еще в молодости читал в русском переводе в «Современнике», и книга эта произвела на него «очень сильное» впечатление. В списке книг, перечисленных им в письме к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 года, книга Прескотта отмечена в числе тех, которые произвели «большое» впечатление в возрасте от 14 до
- 410 -
20 лет141. Очевидно, Толстой уже с того времени сделался непримиримым врагом колониализма, каким он и остался на всю свою жизнь.
В следующем письме к Черткову от 9 мая Толстой вновь касается того же вопроса: «Вчера я писал вам о работе для вашей кузины, — пишет Толстой. — Пусть она возьмет всего Диккенса. В нем найдется много прекрасного — его маленькие рассказы и романы». Туг же Толстой называет как подходящий для переработки в издании «Посредника» роман Джорджа Элиот (псевдоним английской писательницы Марии Эванс), о котором говорит: «Кажется, тоже хорошо»142.
В том же письме Толстой рекомендовал для переработки в «Посреднике» историческое сочинение французского писателя A. Тьерри о борьбе Иоанна Златоуста с византийской императрицей Евдоксией, а также биографии Франциска Ассизского и Иеронима Саванароллы.
Позднее Толстой получил от Черткова сделанную сотрудницей «Посредника» Е. П. Свешниковой переработку одного эпизода из романа В. Гюго «Девяносто третий год» (самоубийство Симурена). Толстой нашел присланную рукопись не совсем ясной по направлению, но остался доволен передачей языка B. Гюго. «Язык, — писал он П. И. Бирюкову 1 или 2 июня, — однохарактерный и в разговорах даже очень хорош и чувствуется Hugo, т. е. великий мастер»143.
В письме к Черткову, написанном в тот же день, Толстой дает менее благоприятный отзыв о языке присланной переделки («Язык не безупречный в описаниях», — пишет он), но зато признает глубину содержания эпизода из романа Гюго. «Я вчера, — тут же писал Толстой, — прочел эту статью вслух при наших и Кузминских детях и взрослых. Всех захватило»144.
XXII
Деятельность книжного склада «Посредника» все более и более расширялась. Были установлены сношения с земцами и сельскими
- 411 -
учителями. Обычный контингент покупателей изданий «Посредника» составляли мелкие ремесленники, фабричные рабочие и их дети.
16 мая Толстой со всей семьей, кроме старшего сына, переехал из Москвы в Ясную Поляну. Как писал он Черткову на другой день, в деревне ему было «спокойнее», но в то же время в деревне он чувствовал себя более одиноким, чем в Москве. В Москве его посещали друзья и знакомые, сочувствовавшие его взглядам, а в деревне он был окружен только не понимавшими его семейными. О своих семейных Толстой 17 мая писал Черткову: «В семье моей все то же. Есть кое-где крошечные отражения учения истины, но еще нет даже борьбы. Однако и то хорошо. Не безнадежно»145.
Но Толстой в одиночестве находил и хорошие стороны. «И в этом много есть хорошего, — писал он Черткову 20—22 мая. — В одиночестве поверяешь себя лучше. Издание и писание для народа в одиночестве только еще больше получило для меня значения». «Я в деревне, — писал Толстой в том же письме, — спасаюсь от недовольства формами нашей жизни только работой. В деревне эта неправильность нашей жизни чувствуется мне больнее — особенно нынешний год»146.
Но если в Москве Толстого отрывала от работы суета городской жизни, то в деревне явился новый соблазн. Соблазном стал любимый Толстым физический труд. «Только плохо пишется в деревне, — жаловался Толстой Черткову в письме от 1—2 июня. — Меня так и тянет косить, рубить, что я и делаю. И болят руки, а сердцу легче»147.
Однако в конце мая Толстой все-таки написал один рассказ для «Посредника», о чем он уведомил Черткова 1 и 2 июня: «Я между другими делами написал один рассказец хороший из записанных мною тем148. Жду Ге и попрошу его сделать рисунки»149.
О том же в тот же день Толстой писал и П. И. Бирюкову: «Я написал один рассказ, еще не поправил»150. По-видимому, это был рассказ, впоследствии озаглавленный «Два старика».
Основная мысль этого рассказа совпадает с библейским изречением: «Милости хочу, а не жертвы», или в переводе Толстого: «Любви к людям хочу, а не жертвы». Источником рассказа Толстого мог послужить небольшой рассказ «Странник и домосед», напечатанный в журнале «Домашняя беседа для народного чтения» за 1859 год, вып. 38, стр. 361—365. Рассказ
- 412 -
помещен под рубрикой «Черты из народной жизни», снабженной аннотацией «Быль» и примечанием, в котором сказано, что рассказ написан со слов «старца» Саровской пустыни Иллариона, который знал обоих действующих в рассказе лиц. Рассказ подписан инициалами Г. Ш., которые раскрыты в указателе ко всем томам журнала за 1859 год: Г. Ширяев.
Действие рассказа происходит в Орловской губернии. Говорится, что в одной деревне жили два друга Яков и Дмитрий, оба трудолюбивые зажиточные крестьяне. Задумали они отправиться на богомолье в Старый Иерусалим. Долго они собирались, наконец, все приготовления к путешествию были закончены, назначен день отхода, и было решено каждому взять с собой по двести рублей на расходы. Но в назначенный день Яков вдруг объявил своему другу, что по некоторым причинам он отказывается от богомолья. Дмитрий погоревал, упрекнул друга в скупости и отправился один. Путешествие Дмитрия не описано, но дальше рассказывается, что, проходя по разным «святым местам», он неожиданно для себя всюду видел Якова впереди себя. Хотел Дмитрий подойти к Якову, но как-то все получалось, что Яков уходил от него. Так и вернулся Дмитрий домой, не повстречавшись с Яковом. Когда он вернулся домой, то узнал, почему Яков не пошел вместе с ним на богомолье.
Оказалось, что накануне назначенного дня Яков зашел в соседнюю деревню к знакомому мужику и увидел, что мужик этот умирает. Изба не топлена, пятеро ребятишек и мать сидят без хлеба, к тому же двое старших детей лежали больными. Увидев бедственное положение этой семьи, Яков раздумал идти в Иерусалим и припасенные деньги употребил на то, чтобы всю семью поставить на ноги: он привез им воз дров, мешок муки, молока, крупы, хлеба печеного, мяса, он затопил печь, сварил похлебку и кашицу. На другой день поехал в город, купил беднякам разной одежи, сапог, башмаков, рубашек, холстов, потом купил им лошадь и корову. К весне все семейство поправилось.
Этим заканчивается рассказ «Странник и домосед». Сходство сюжета «Двух стариков» Толстого и рассказа, помещенного в «Домашней беседе», до такой степени очевидно, что невозможно сомневаться в том, что Толстой читал рассказ из «Домашней беседы».
В 1859 году Толстой начал школьные занятия с яснополянскими детьми и в поисках книг для чтения ребятам перечитал все доходившие до него книжки и журнал «Для народного чтения». В статье Толстого «Об общественной деятельности на поприще народного образования» перечислены на четырех страницах все прочитанные автором издания для народного чтения151.
- 413 -
Рассказ «Странник и домосед» в другом изложении опубликован Д. Ф. Ковалевским в журнале «Душеполезное чтение» за 1871 год под названием «Подвиг паломничества и подвиг человеколюбия»152.
В записях, сделанных Толстым со слов олонецкого сказителя былин В. П. Щеголенка, гостившего в Ясной Поляне в 1879 году, есть отрывок его рассказа о двух странниках153. Но Щеголенок в своем рассказе соединил несколько сюжетов, и основная мысль рассказа о страннике и домоседе была потеряна.
Под пером Толстого простодушный рассказ «Домашней беседы» сделался неузнаваемым. Толстой изменил сюжет: в «Домашней беседе» Яков совсем не пошел на богомолье, а истратил припасенные деньги на помощь бедной семье, почему и назван домоседом; у Толстого же этот крестьянин отправляется в путь, доходит до Украины и здесь находит голодающее семейство, на помощь которому и тратит свои деньги.
Толстой наделил каждого из своих героев особым характером. Ефим Тарасович — тот, который дошел до Иерусалима, мужик богатый, степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черными словами весь век не ругался и человек был тихий и твердый. Другой мужик по имени Елисей Бодров, тот, который до Иерусалима не дошел и употребил припасенные деньги на помощь голодающему семейству, — человек был добродушный и веселый, пивал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь, но человек был мирный, с домашними и соседями жил дружно.
Общие симпатии читателей с первой страницы до последней на стороне Елисея, а не Ефима. Рассказ дается на широком бытовом фоне, рисуется яркая картина умирания от голода и болезней украинской деревенской семьи. Разговор с Ефимом женщины из крестьянской семьи (той самой, которую поставил на ноги Елисей) первоначально написан на русском языке и только в корректурах переделан на украинский язык.
То, что в рассказе так подробно описываются странствия Ефима Тарасовича по святым местам, не способствует усилению у читателя благоговейного отношения к его паломничеству. Напротив, Ефим, вернувшись домой и найдя упущения в хозяйстве, сделанные старшим сыном, не только разбранил, но и побил его. Таким образом, странничество не принесло пользы его душе.
- 414 -
XXIII
В первых числах июня 1885 года Толстой испытал тяжелое душевное состояние. 6—7 июня он писал Черткову: «...Мне нехорошо. Письменная работа нейдет, физическая работа почти бесцельная, т. е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет... и на моих глазах в семье идет вокруг меня систематическое развращение детей... Я путаюсь, желаю умереть, приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь».
Здесь мы находим единственное в переписке, а также и в дневниках Толстого указание на то, что ему приходили в голову мысли о том, чтобы не только «убежать» из Ясной Поляны, но даже о том, чтобы «воспользоваться своим положением» главы семьи и владельца имения, чтобы «перевернуть всю жизнь».
Но Толстой не приходит в отчаяние, он чувствует, что это его состояние — временное. Однако он ощущает «недостаток близких живых людей», которым мог бы передать свои «затруднения».
Далее Толстой сообщает о полученном им письме от редактора «Русского богатства» Л. Е. Оболенского. Он писал о своем «безвыходном» материальном положении и просил Толстого помочь ему найти работу, так как он рискует остаться «с семьей без куска хлеба»154. Толстой по этому поводу замечает, что к тому положению, которое Оболенский называет «безвыходным», сам он «страстно» стремится «вот уже 10 лет».
«Неужели так и придется мне умереть, — пишет Толстой далее, — не прожив хоть один год вне того сумасшедшего безнравственного дома, в котором я теперь принужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по человечески разумно, т. е. в деревне не на барском дворе, а в избе, среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело, без стыда, говоря всем ту Христову истину, которую знаю»155.
Очевидно, к маю или июню 1885 года относится тяжелый разговор Толстого со старшим сыном, который в это время кончал естественный факультет Московского университета. Сергей Львович обратился к отцу с вопросом, каким делом он советовал бы ему заняться. «Это было в самый разгар его разлада с матерью... Он был в раздраженном настроении и ответил: «Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно.
- 415 -
Мести улицу — также полезное дело», Этот ответ, — пишет Сергей Львович, — меня сильно обидел и был одной из причин моей тогдашней отчужденности от мировоззрения отца»156.
В ответе Толстого отразилось его отрицательное отношение к университетскому образованию того времени. С. Л. Толстой пишет, что ему предстоял выбор из трех занятий: посвятить себя работе в химической лаборатории, поступить на государственную или земскую службу или заняться сельским хозяйством в Ясной Поляне и Самарском имении, к чему его склоняла мать. Совершенно очевидно, что все перечисленные занятия противоречили убеждениям Толстого. Занятия в городских лабораториях и других городских учреждениях Толстой считал далекими от потребностей народа; государственную службу, основанную на насилии, Толстой отрицал, земскую службу считал бесполезной для народа; помещичья собственность на землю в его глазах имела в своей основе только насилие власти.
XXIV
Уверенность Толстого, что тяжелое душевное состояние, о котором он писал Черткову, является временным, вскоре оправдалось. 17—18 июня он писал ему же: «Я написал еще рассказ для вас и, кажется, лучше прежних»157. Это, по-видимому, был рассказ «Свечка».
18 июня Н. Н. Страхов, гостивший тогда в Ясной Поляне, писал Н. Я. Данилевскому, что он «прочитал старый неконченный рассказ «Лошадь»158, потом новые рассказы «Где любовь, там и бог», «Упустишь огонь — не погасишь», «Свечка», «Два старика». Последние рассказы удивительны по своей художественности и по чудесному смыслу; взяты из народных рассказов. Он исключительно этим и занимается»159.
По записи И. М. Ивакина, Толстой говорил о рассказе «Свечка»: «Я слышал его от пьяных мужиков, с которыми мне пришлось ехать из Тулы. Он мне понравился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями!»160 Запись И. М. Ивакина подтверждает П. И. Бирюков. «За «Двумя стариками», — пишет он в своих неопубликованных воспоминаниях, — следовал рассказ «Свечка», более грубый, но столь же прекрасный. Лев Николаевич говорил мне, что сюжет его
- 416 -
рассказал ему пьяный мужик, и что он от себя почти ничего не добавил»161.
Рассказ первоначально был озаглавлен библейским изречением: «Мне отмщение, и Аз воздам». Затем он получил окончательное заглавие, а библейское изречение было помещено в виде эпиграфа. В дальнейшем эпиграф из Библии был заменен изречением из Евангелия о непротивлении злому.
Рассказ ведется от имени пожилого крестьянина, помнящего крепостное право. Он судит о крепостном праве как типичный крестьянин того времени. Он говорит, что «всякие бывали господа. Были такие, что смертный час и бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты». Но по мнению рассказчика, «хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было».
Рассказчик вспоминает, как в одном господском имении такой приказчик из дворовых «забрал власть и сел на шею мужикам». «И битьем и работой донимал народ, и много от него муки терпели мужики».
«Бывало, что и изводили таких злодеев», — говорит рассказчик, очевидно, считая такие действия крестьян вполне естественными и справедливыми. И про этого приказчика «стали поговаривать мужики», «в сторонке, кто посмелее, что такого убить не грех». Наконец составился план о том, как убить приказчика. Но против этого решения выступил старый Петр Михеев. Он говорил мужикам: «Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить — великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково?» Разгорается спор между приверженцами противления и сторонниками непротивления. Василий Михеев возражает Петру: «Заладил одно: грех человека убить Известно, грех, да какого человека? Грех человека доброго убить, а такого собаку и бог велел... Не убить его — грех больше будет. Что он людей перепортит! А мне хоть и пострадаем, так за людей. Нам люди спасибо скажут».
Опять заговорил Петр. Излагая воззрения автора, он говорит: «Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить — не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить — душу себе окровянить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится».
Мужики не договорились: одни склонялись на Васильевы речи, другие — на Петровы.
Приказчик велел мужикам пахать на второй день Пасхи. «Поплакали мужики, а ослушаться не смеют».
- 417 -
Перед обедом приказчик призвал старосту и велел ему идти в поле и послушать, что говорят про него мужики. Староста вернулся и сказал, что все мужики бранят приказчика, говорят: «Чтобы у него пузо лопнуло и утроба вытекла», а Василий Михеев говорит, что «не миновать ему беспокаянной смерти». Один Петр Михеев не ругается. Он пашет и поет духовные стихи, а к сохе прикрепил свечку, и свечка эта горит и не гаснет. Староста подошел к нему, и тот сказал ему только: «На земле мир, в человецех благоволение».
Приказчик задумался и говорит жене: «Победил он меня! Дошло теперь и до меня!»
Жена уговорила приказчика отпустить мужиков. Приказчик поехал. В дороге лошадь испугалась свиньи, «шарахнулась в частокол», и приказчик упал животом на заостренный кол. «И пропорол себе брюхо, свалился наземь». Мужики нашли его мертвым.
«Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк.
И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила бытия».
Этими словами заканчивался рассказ.
24 июля 1885 года В. Г. Чертков писал Толстому о том впечатлении, какое произвел на него рассказ «Свечка»: «Сейчас прочел ваш рассказ «Свечка» и не могу не поделиться с вами радостью, которую я испытал после этого чтения... Мы все получили в этом рассказе громадное приобретение, то самое, что нам нужно было. Ничего нового вы не дали, а только передали то, что давно дал Христос, только в новой форме, благоприятной многим»162.
Когда в ноябре 1885 года рассказ «Свечка» поступил в набор, в кругу сотрудников «Посредника» поднялись жаркие споры о том, соответствует ли окончание рассказа направлению «Посредника». 7—8 нобря Чертков писал Толстому: «Рассказ этот мне не только в высшей степени нравится... но я чувствую, что он положительно нужен. Но вместе с тем последние его строки меня совсем смущают. Эта ужасная смерть приказчика как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным, это буквальное исполнение дурных пожеланий крестьян о «беспокаянной смерти» и о том, чтобы у него «пузо лопнуло и утроба вытекла... И кто ни читает этот рассказ из лиц, вполне разделяющих наши взгляды, и из лиц, только симпатизирующих им, все в один голос находят, что рассказ и по форме и по содержанию прекрасен, только вот конец все портит»163.
- 418 -
Чертков приложил к своему письму два варианта окончания «Свечки» — один, составленный им самим, другой — сотрудницей «Посредника» А. М. Калмыковой.
Толстой отвечал Черткову 11 ноября: «Получил я ваше письмо, милый друг, и целый вечер думал о «Свечке» и начинал писать и написал другой конец. Но все это не годится и не может годиться. Вся историйка написана ввиду этого конца. Вся она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою». Но доводы Черткова были понятны Толстому. «Я согласен, — писал он, — что есть что-то дикое в этой смерти, и лучше, чтоб ее не было».
Толстой признается, что сначала ему «было неприятно» желание Черткова и Калмыковой изменить окончание рассказа, «но то было одну минуту, а после стало очень хорошо».
Не приняв варианты Черткова и Калмыковой, Толстой пишет сам новое окончание «Свечки», закончив его словами: «Так еще возможно». По этому окончанию, приказчик «стал тосковать и не стал ни до чего доходить», запил и меньше чем через год «от вина и помер»164.
С таким окончанием рассказ «Свечка» был напечатан в издании «Посредника» в 1886 году и в журнале «Книжки Недели» за январь того же года, но в двенадцатом томе собрания сочинений Толстого, вышедшем в том же 1886 году, и во всех последующих изданиях был восстановлен первоначальный текст. Позднее Толстой говорил Черткову, что изменение конца «Свечки», сделанное в первом издании, было ему неприятно165.
XXV
В то время как Толстой был увлечен работой над народными рассказами для «Посредника», Софья Андреевна была занята главным образом новым — пятым — изданием собрания его сочинений.
Инициатива этого издания принадлежала Толстому. 25 октября 1884 года Софья Андреевна писала Толстому из Москвы: «Как ты ни утешаешь, что деньги будут, я никак не соображу, откуда же? А расходы в Москве при самой усиленной экономии так велики, что просто беда, в ужас приводят всякий день». О том, что деньги в Москве «тают не по дням, а по часам», Софья Андреевна писала и в предыдущем письме от 23 октября166.
- 419 -
Толстой отвечал 24 октября: «А если нужны будут деньги, то поверь, что найдутся (к несчастью). Можно продать мои сочиненяя (они верно выйдут нынешний год); можно продать Азбуки, можно лес начать продавать. К несчастью, деньги есть и будут, и есть охотники проживать чужие труды»167.
До этого Толстой продавал издателям право выпуска его сочинений. Издание и распространение «Азбуки» и «Книг для чтения» Толстой поручил мужу своей племянницы — Н. М. Нагорнову. Софья Андреевна, имевшая доверенность Льва Николаевича на ведение всех его имущественных дел, решила не продавать более издателям права, а приступить самой к изданию сочинений Толстого. Одновременно у Нагорнова была отобрана доверенность на издание «Азбуки» и «Книг для чтения».
В феврале 1885 года Софья Андреевна ездила в Петербург по разным делам, в частности и для того, чтобы встретиться с вдовой Достоевского, Анной Григорьевной, и расспросить ее об издании ею сочинений мужа. Встреча состоялась 24 февраля. Вечером того же дня Софья Андреевна писала Толстому: «Достоевская очень мне обрадовалась почему-то, а я к ней поехала потому, что она печатает сама книги своего мужа, и в два года она выручила 67 тысяч чистых денег. Она мне дала самые полезные советы...»168.
Корректуры нового издания начали поступать в феврале 1885 года. Издание состояло из двенадцати частей. В издание вошли новые произведения Толстого: рассказ «Холстомер», повесть «Смерть Ивана Ильича», «Сказка об Иване-дураке», легенда «Касающийся грешник» и «Мысли, вызванные переписью» (выдержки из «Так что же нам делать?»),
Софья Андреевна взялась сама читать корректуры нового издания, в чем помогал ей Лев Николаевич, читая некоторые части издания. При этом он иногда высказывал свои мнения о прочитанных им произведениях. Так, он неодобрительно отозвался о рассказе «Люцерн», находя, что этот рассказ «попорчен» гегельянством (рассуждениями о «гармонии мира»), и очень одобрил основное содержание своих педагогических статей. В «Войне и мире» Толстой не одобрил главу о Наташе в опере, а в «Анне Карениной» одобрил сцену охоты169.
Несмотря на то, что Толстой в то время называл «дребеденью» не только свои прежние художественные
- 420 -
произведения170, но и произведения Тургенева и даже Пушкина171, он с интересом прочитывал корректуры «Войны и мира». Он старался угадать финал некоторых особенно интересных сцен, подробности которых с годами улетучились из его памяти.
Текст «Войны и мира» в пятом издании собрания сочинений Толстого дается не по третьему и четвертому изданиям сочинений, где французский язык почти повсюду заменен русским, а философско-исторические и военные рассуждения автора или перенесены в конец книги, или совсем изъяты, а по первому и второму изданиям, с французским языком и авторскими рассуждениями в тексте.
У нас нет данных относительно того, кому принадлежит выбор текста «Войны и мира» в пятом издании собрания сочинений. Вероятнее всего, инициатива этой перемены исходила от Н. Н. Страхова, который в письме к Н. Я. Данилевскому от 18 июня 1885 года сообщал, что он помогал С. А. Толстой в чтении корректур172. Для Софьи Андреевны Н. Н. Страхов был непререкаемым авторитетом в литературных делах. Сохранился написанный его рукой план всего нового издания173.
Правда, в своих статьях о Толстом 1869—1870 годов Страхов высказывался против внедрения философских рассуждений в текст «Войны и мира», но, с одной стороны, Страхов не мог быть удовлетворен текстом «Войны и мира» в третьем издании собрания сочинений Толстого, так как текст этот изобиловал погрешностями174. С другой стороны, Страхов в середине 1880-х годов иначе смотрел на «Войну и мир», чем прежде. 27 июля 1887 года он писал Толстому, что перечитывал «Войну и мир». «...Общая высота взгляда — несравненная, поразительная. Если бы я теперь писал свои статьи об Вас, то написал бы иначе. Я не видал тогда, что Вы уже тогда выступили мыслителем и нравоучителем, с полным мировоззрением — так точно, как выступаете теперь... Несравненная книга! До сих пор я не
- 421 -
умел ценить ее как следует, да и Вы не умеете — так мне кажется»175.
Несомненно, что и Софья Андреевна и Страхов, если он принимал участие в выборе текста «Войны и мира» для нового издания, не могли без согласия Толстого предпринять возвращение текста романа к первому-второму отдельным изданиям.
Толстой ни в 1880-е годы, ни гораздо позднее не был противником философских воззрений, выраженных в «Войне и мире». В беседе с Г. А. Русановым, происходившей в 1883 году. Толстой говорил о том, как он был порадован тем, что во Франции после появления перевода «Войны и мира» стали более ценить его философско-исторические взгляды176. Позднее, в разговоре с английским биографом Э. Моодом, происходившем не ранее 1896 года, Толстой сказал, что он продолжает разделять взгляд на роль личности в истории, изложенный в «Войне и мире»177.
Последняя — двенадцатая — часть собрания сочинений, содержавшая произведения Толстого, написанные с 1881 года, вышла в свет 10 апреля 1886 года. Получив от жены известие об окончании издания, Толстой писал ей 9 апреля178: «Очень радуюсь за тебя, за 12-ю часть, а для себя радуюсь преимущественно за Ивана дурака»179.
XXVI
Еще 9 января 1885 года Софья Андреевна писала сестре: «Была у нас очень странная дама, Александра Михайловна Калмыкова, харьковская, помнит тебя и детей и очень вас всех любит. Она была проездом из Петербурга и заезжала познакомиться с Левочкой и спросить у него совет какой-то тайный. Она такая живая, веселая и всю жизнь посвятила школьной деятельности».
А. М. Калмыкова, в то время жена председателя департамента харьковской судебной палаты, работала в харьковских воскресных школах, писала педагогические статьи, вместе с Х. Д. Алчевской составляла книгу «Что читать народу?»
Как писала А. М. Калмыкова Толстому 3 апреля, она в то время была близка к его учению, «чувствовала правду» в нем180. Она имела намерение работать для «Посредника».
- 422 -
22 марта, когда Толстой, возвращаясь из Крыма, проезжал через Харьков, Калмыкова вместе с ним проехала до Орла. Толстой тут же в вагоне познакомился с рукописью Калмыковой о Сократе, написанной ею для «Посредника»181.
По возвращении в Москву Толстой 23 марта писал Калмыковой: «Пожалуйста, пришлите мне поскорее вашего Сократа. Вы увидите, что я с любовью сделаю все, что сумею и смогу над этой работой».
В тот же день Калмыкова писала Толстому: «Сократа внимательно перечла и усердно дополню. Вы сняли с меня мешавшие путы — страх отступить от истории, заботу об объеме очерка. Через три недели, надеюсь, рукопись будет у вас»182.
28 марта Толстой вновь пишет Калмыковой: «Сократа пришлите поскорее. Я надеюсь отдать его в народное издание. Будет хорошая книга»183.
5 апреля Толстой писал Л. Д. Урусову о работе Калмыковой: «Ее жизнь Сократа вышла превосходная книжка, если она еще поправит ее»184. Ему же Толстой писал 1 мая: «Жизнь Сократа, составленная Калмыковой, будет превосходная народная и глубоко нравственная книга»185.
2 мая Толстой извещал Черткова, что Калмыкова была у него и читала свою работу о Сократе. «Эта книга, — писал Толстой, — будет лучше всех, т. е. значительнее всех»186. Очевидно, при чтении Толстой сделал замечания, и Калмыкова взяла рукопись для исправления. 8 мая исправленная рукопись была отослана Толстому. 10—11 мая Толстой писал Черткову: «Сейчас получил Сократа от Калмыковой. Это будет превосходно, но ужасно боюсь за цензуру»187.
Около 16 мая Толстой уведомлял Калмыкову, что он «целый день занимался» ее рукописью. «Хотелось бы, — писал он, — сделать все, что умею, для улучшения формы. Содержание очень хорошо. — Желаю бодрости и досуга для работы»188.
Калмыкова отвечала 18 мая: «Ужасно счастлива, что Вы приложили свою руку к «Сократу». Другого Сократа по богатству биографического материала в истории нет, и мне испортить эту тему было бы крайне больно»189.
20—22 мая Толстой писал Черткову: «Сократа я взял с собой в деревню, и вот уж несколько дней работаю над ним с
- 423 -
большим увлечением. Надеюсь, что Калмыкова простит меня за мои перемены. Основа та же, но переделываю много. Предмет необыкновенной важности. Столько самого главного можно сказать свободно в этой форме»190.
24 мая Толстой писал Калмыковой: «Сократа вашего я мараю отчаянно. Сохраните у себя черновую, а то я так измараю и запутаюсь, что бывало со мной, и то испорчу, и своего не сделаю. — Очень уж хорошо и значительно. Я более недели пристально занимаюсь им. — Так как ни вам не нужно авторское удовлетворение, ни мне, то дело только в том, чтобы было на пользу людям. — Сколько бы я ни переделывал, основа ваша. Не было бы вашей умной, доброй и смелой работы, не над чем и было бы работать»191.
1—2 июня Толстой сообщал Черткову: «С Сократом случилась беда. Я стал переделывать, стал читать Меморабилиа, Платона и увидал, что все это можно сделать лучше. Сделать я всего не сделал, но все измарал, и Калмыковское и свое, и запутал и остановился пока... Удивительное учение — все то же, как и Христос, только на низшей ступени. И потому особенно драгоценно»192.
Рукопись А. М. Калмыковой содержала тринадцать глав и была озаглавлена «Учитель греческого народа Сократ». Толстой переменил заглавие на «Греческий учитель Сократ».
Большинство включенных в книжку Калмыковой диалогов Сократа посвящено вопросам нравственности. Каждая из глав имеет свое название, данное Толстым. Вот эти названия: «Сократ хочет узнать, как людям жить надо, и слышит в своей душе голос»; «Как жить надо?»; «Как надо управлять народом?»; «Кто лучше — раб или господин?»; «Как жить в семье»; «Почему Сократу не нужно было ни дорогой пищи, ни дорогой одежды»; «О братском житье»; «Как людям жить вместе?»; «Что нужно знать каждому человеку?» (вся эта глава была написана Толстым).
По справедливому замечанию Н. К. Гудзия, «исправления, сделанные Толстым в первых девяти главах рукописи, таковы, что они, в сущности, сводят на нет всю первоначальную работу Калмыковой в пределах этих глав... В большинстве случаев Толстой зачеркивает все написанное Калмыковой и между строк и на полях пишет свое»193.
Совершенно изменен был Толстым язык книжки о Сократе. Книжка Калмыковой была написана обычным книжно-литературным языком, каким писались в то время подобные работы.
- 424 -
Толстой упрощает язык, приближая его к языку своих народных рассказов.
Излагая диалоги Сократа, Толстой нигде не отступает от метода, принятого Сократом в этих диалогах. Метод этот состоял в том, что Сократ очень редко излагал мнение по какому-либо вопросу от своего лица. Большею частью он старался путем наводящих вопросов заставить собеседника признать свое непонимание и его, Сократа, правоту в том или другом вопросе. Толстой везде сохраняет этот сократовский метод ведения диалогов. Это придает особенную живость и естественность диалогам Сократа в изложении Толстого.
Основное различие книжки о Сократе, написанной Калмыковой, и переработки этой книжки, произведенной Толстым, — в различном подходе авторов к изображению Сократа.
Для Калмыковой Сократ — историческая личность, философ, живший в Греции в известную эпоху и испытывавший на себе влияние окружающей социальной среды.
Для Толстого Сократ — мудрец, учитель нравственности, поучения которого, несмотря на более чем двухтысячелетнюю давность, не потеряли своего значения и для современности.
Толстой тем более охотно занялся переработкой книжки о Сократе, что мировоззрение Сократа, изложенное Платоном, во многих своих частях было близко с мировоззрением Толстого.
Сократ признавал «общую духовную основу и организацию всего человечества»194, Толстой также утверждал, что «одна душа во всех»195.
«Сократ придавал исключительное значение исследованиям человека как существа нравственного, считая философию природы не только излишнею, но даже опасною»196. Толстой считал изучение естественных наук ненужным для внутренней нравственной жизни человека.
Сократ говорил, что временами он слышит в своей душе голос, который указывал ему, что надо делать и чего делать не следует. Толстой, излагая учение Сократа, называет этот голос — «голосом совести, голосом бога».
Сократ признавал для каждого человека необходимым властвовать над своими страстями, подчиняя их разуму. Так же смотрел и Толстой.
В области воспитания и обучения Сократ отрицал всякое принуждение и насилие; единственным приемом воспитания и
- 425 -
обучения он признавал убеждение. Известно, какое важное значение придавал Толстой свободе в деле обучения и воспитания.
Как Сократ, так и Толстой любили физический труд и уважали тех, кто им занимался.
В последних числах июня 1885 года А. М. Калмыкова поехала в Петербург, увозя с собой для передачи в редакцию «Посредника» рукопись книжки «Греческий учитель Сократ».
27 июня П. И. Бирюков писал Черткову из Петербурга, что он виделся с Калмыковой, которая рассказала ему, что «с Сократом произошло нечто странное. Лев Николаевич исправил первую половину, а от второй отказался. Александра Михайловна не знает, что и делать. Теперь обе половины совсем не похожи одна на другую, и никак склеить их нельзя»197.
Мы не располагаем никакими данными относительно того, чем вызван был этот отказ Толстого. Быть может, снова перечитав «Федона» Платона (первое чтение «Федона» в молодости произвело на Толстого «большое впечатление»198), Толстой находился под сильным впечатлением от прочитанного и решил, что никакая переработка его недопустима; быть может, Толстой обратил внимание на то, что в последних главах книжки меньше поучений Сократа, а больше фактических сведений о последних днях его жизни, и потому переработка этих глав представлялась Толстому менее необходимой — об этом мы можем только гадать.
Последние четыре главы книжки Калмыковой озаглавлены: «Суд над Сократом», «Сократ в тюрьме», «Последняя беседа Сократа», «Смерть Сократа». В этих главах исправлений Толстого немного, за исключением главы «Последняя беседа Сократа». Эти страницы были так значительно переработаны Толстым, что потребовалось их целиком переписать.
Из письма Бирюкова видно, что и он, и Калмыкова считали, что рукопись Калмыковой и переработка Толстого — совершенно различные произведения и «склеить» их механически невозможно.
П. И. Бирюков не решался взять на себя ответственность за выпуск книжки, составленной из двух отличающихся одна от другой «склеенных» половинок. Чертков, прочитав книжку, высказал мнение, что следует произвести в ней некоторые сокращения, в том числе выпустить беседу Сократа о бессмертии, не совсем ясно изложенную. Пришли к заключению, что следует просить Льва Николаевича решить, что делать с книжкой о греческом учителе Сократе.
- 426 -
13 августа Чертков и Бирюков выехали из Петербурга в Ясную Поляну и пробыли там три дня — 16, 17 и 18 августа. Толстой принял сокращения, предложенные Чертковым, и, может быть, произвел некоторые исправления в тексте книжки.
Было решено: книжку «Греческий учитель Сократ» печатать в той редакции, какую она получила после сокращений и исправлений.
Вопреки опасениям Толстого, цензура 8 сентября пропустила «Сократа» без всяких урезок и изменений. Книжка вышла в начале 1886 года. Имена авторов указаны не были.
Калмыкова была довольна книжкой и исправлениями Толстого. 19 июля она писала Толстому: «Вчера перечла Сократа и только вчера почувствовала, сколько вы для него сделали, Лев Николаевич. Как чудесно просто, картинно вышел миф о Геркулесе. Как вы хорошо дополнили главу, более всего тревожившую меня «Какое знание больше всего нужно людям?». Она вышла очень серьезной; быть может, легкомысленные и не одолеют, а без нее бы Сократ и цены не имел. Будут же и такие, и не мало их, которые и прочтут, и поймут, и толковать о ней будут»199.
Благодаря доступности изложения и мастерству языка книжка о Сократе, переработанная Толстым, стала доступна всякому грамотному крестьянину. В начале января 1886 года Толстой говорил о «Сократе»: «Представьте, всем нравится — мужикам очень нравится греческий философ»200.
Х. Д. Алчевская устраивала опыт чтения книжки о Сократе в украинской крестьянской семье одной из деревень Екатеринославской губернии. Она сообщает, что «рассказ «Сократ» с первых страниц захватил внимание наших деревенских слушателей». Во время чтения слушатели смеялись, делали свои замечания и вставки.
Чтение главы «Кто лучше, раб или господин?» вызвало большое оживление и воспоминания о крепостном праве, рассуждения о различии раба и крепостного человека, лакея. Один из слушателей заметил: «А вы еще говорите, что крепостные были не рабы!». При чтении главы «Что нужно знать каждому человеку» (написанной Толстым) слушатели «одобрительно смеялись каждому разъяснению Сократа», «замечания сыпались со всех сторон». При чтении главы «Суд над Сократом и его защита» замечания прекратились, «в хате стало совсем тихо». Когда было прочтено о смертном приговоре Сократу, один из слушателей произнес: «Одолели!» и зарыдал так жалостно, так по-детски, что учительница сама с трудом могла продолжать чтение. Остальные слушатели тоже тихо плакали.
- 427 -
«Ох, тай книжка!», — воскликнул один из слушателей по окончании чтения201.
Ученая критика в лице Н. Н. Страхова резко напала на книжку «Греческий учитель Сократ». А. М. Калмыкова 15 августа писала Черткову: «Зачем Вы не сказали мне, что Вам говорил Страхов о Сократе? Он сначала стеснялся, а потом разошелся». Страхов «горячо» доказывал, что «это не настоящий Сократ». «Я к этому обвинению давно готова, — писала далее Калмыкова, — много об этом говорили с Львом Николаевичем. В первоначальной редакции Сократ был более похож на известную вам историческую фигуру, а потом более и более делался человеком, понятным и привлекательным для известного круга читателей. История от нашего изображения Сократа не пострадала, а не один десяток людей испытывает на себе нравственное влияние этого большого человека. Так мы и правы»202.
В 1904 году Толстой вернулся к теме о Сократе. В составленный им «Круг чтения» он включил статьи «Суд над Сократом и его защита» и «Смерть Сократа». Первая статья в основном представляет собой свободное изложение нескольких страниц из «Апологии Сократа», написанной Платоном. Вторая статья взята из диалога Платона «Федон», причем Толстым в тексте перевода были сделаны изменения, дополнения и сокращения203.
- 428 -
Глава шестая
ТОЛСТОЙ И КРЕСТЬЯНИН Т. М. БОНДАРЕВ
(1885—1898)
I
В одиннадцатой книжке «Русской мысли» за 1884 год появилась статья Г. И. Успенского «Трудами рук своих»1.
В самом начале статьи Г. И. Успенский сообщает читателю, «томящемуся решением вопроса, как жить свято?», что он намерен познакомить его с одной рукописью, написанной крестьянином, «в которой как бы «брезжит» нечто отвечающее на этот многосложный и многотрудный вопрос».
Рукопись озаглавлена «Трудолюбие, или торжество земледельца». Фамилия автора Успенским не указана, сообщается только, что крестьянин, ее написавший, принадлежал к секте молокан, добровольно переехал в Енисейскую губернию.
В основу своих взглядов крестьянин кладет «первородный закон божий», выраженный в Библии словами: «В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нее же взят». Автор, — говорит Успенский, — «последователен в развитии своих идей о святости и неизбежности для человека исполнять первородный закон божий, повелевающий трудиться, и трудиться непременно своими руками».
«Человек, — говорит автор-крестьянин, — работающий хлеб своими руками, исполнен всех добродетелей, а удаляющийся от него творит зло». «Муж должен для себя и для жены и для детей своими руками работать хлеб, какого бы он ни был великого достоинства». «Пускай обнародуется этот первородный закон, и все мы получим себе временное и вечное спасение, потому что он собственный наш, земледельческий. А без него мы лишены и того, и другого, без него мы бедны, глупы, злы, без него мы сироты, как маленькие дети без отца и без матери».
Успенский вполне сочувствует основной мысли сочинения «Трудолюбие, или торжество земледельца». Он говорит: «Конечно,
- 429 -
на Руси было бы много лучше жить, если бы соха поприбрала под свой целительный покров дурно направленные массы «нерабочего народа». Да и вообще положение независимое на лоскуте земли — положение, выражающееся словами «сам хозяин, сам и работник», — не оскорбительно ни для какого хорошего, образованного и честного человека. И ничего бы не было более желательного, если бы этот «тип» распространился на Руси, входил бы «в моду среди образованных людей подрастающего поколения».
По мнению Успенского, приведенные им отрывки могут иметь значение «только для людей, не боящихся просто и смело думать, и думать, конечно, во-первых, о том, «как жить свято?» вообще и, во-вторых, о будущем русских народных масс».
«У русского народа, — говорит далее Успенский, — есть полная возможность развиваться широко, самостоятельно, справедливо, нравственно, разумно».
Успенский называет «бледными» приведенные им отрывки из рукописи крестьянина. Это, конечно, потому, что по цензурным условиям ему совершенно не пришлось коснуться тех сильных, ярких страниц рукописи «Трудолюбие, или торжество земледельца», где содержатся резкие обличения праздной, роскошной жизни привилегированных классов рядом с изнемогающей от непосильного труда голодной крестьянской массой, действительно «в поте лица» добывающей свой хлеб. Намек на обличительное содержание рукописи крестьянина находим в следующих словах Успенского: «Как ни бледны те отрывки из рукописи, которые мною приведены, но и из них нельзя не убедиться, что в народе таятся вполне определенные и ясные стремления и что во имя веры в их справедливость он может совершенно ясно видеть и сознавать все, что этим стремлениям не соответствует, мешает, не подходит».
Еще до появления в «Русской мысли» статьи Успенского в «Сибирской газете», издававшейся в Томске, появилась статья, также посвященная рукописи сибирского крестьянина2. Статья имела подзаголовок «Корреспонденция из Минусинска»; корреспондент, по-видимому, получил рукопись от автора или от близких к нему лиц. В статье отмечена «оригинальность мысли, приемов и языка», но определенной оценки взглядов автора не дается.
Статья Г. И. Успенского прошла почти незамеченной в литературе. Единственный отклик на эту статью был дан в статье «Обо всем», напечатанной в № 12 «Русского богатства» за 1884 год и принадлежавшей редактору журнала
- 430 -
Л. Е. Оболенскому3. Совершенно обходя взгляды о нравственной необходимости земледельческого труда для каждого человека, «какого бы он ни был великого достоинства», Оболенский пишет о значении для народа деятельности интеллигенции: врачей, учителей, земцев и пр. «Конечно, — оговаривается Оболенский, — если кто из интеллигентных людей в силах заняться земледелием,... не теряя и способности при нынешних условиях этого труда мыслить и работать умственно, тому дай бог успеха: «Могущий вместити да вместит!», но таких немного».
В кругу читателей «Русской мысли» статья Успенского имела большой успех. В письме к А. И. Иванчину-Писареву от 10—15 апреля 1885 года Г. И. Успенский, упомянув о том, что в рукописи молоканина цензурой было вычеркнуто «множество» мест, далее писал: «Она произвела большое впечатление, и массу писем я получил»4.
На Толстого выдержки из сочинения крестьянина, приведенные в статье Успенского, произвели очень сильное впечатление. В письме к Л. Д. Урусову от 13 июля 1885 года Толстой вспоминал свой разговор с ним о статье Успенского с выдержками из рукописи «молоканина» о «первородном законе труда в поте лица, который забыт человечеством — одной частью»5. Воспоминание о чтении статьи Успенского находим также в письме Толстого к Черткову, написанном в тот же день6.
II
Автором рукописи «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство»7 был крестьянин Тимофей Михайлович Бондарев, родившийся в 1820 году в Области войска Донского. Он был крепостным крестьянином помещика Чернозубова-Янова, и когда ему минуло 37 лет, был определен на военную службу, которую отбывал на Кавказе.
Успенский, а за ним и Толстой называли Бондарева молоканином, но это была ошибка. Молоканином Бондарев не был, но в 1867 году вступил в секту субботников, за что был судим и сослан в Сибирь на 10 лет (а не переселился добровольно в Сибирь, как сказано в статье Успенского). Он поступил в распоряжение енисейского губернатора и поселен в
- 431 -
деревне Иудино Минусинского уезда, расположенной в 140 верстах от города и населенной сектантами.
Работать над своей рукописью Бондарев, по его словам, начал в 1878 году. О своей работе над рукописью Бондарев сообщает: «Писал я без привычки к тому, что видно по почерку моему. Одну и ту же статью много раз переписывал... Занимался я этим среди тяжких работ, — день работаю, а ночь пишу, когда глаза мои и с помощью очков плохо видят».
Свое сочинение Бондарев расположил в виде «вопросов» — так он называл небольшие разделы, в которых излагал свои размышления. Всего основное сочинение Бондарева содержало 250 «вопросов».
По словам И. П. Белоконского, бывшего в ссылке в Минусинске в 1882—1888 годах, Бондарев «не выходил из дому без клочка бумаги и кусочка карандаша для того, чтобы записывать каждую мысль, возникавшую в голове... Боронил ли он, пахал ли, ехал ли в лес или просто шел куда, он вечно думал, и раз приходила какая-либо достойная внимания мысль, Бондарев останавливался и записывал ее на бумажку, чтобы внести в «учение»8.
Не позднее лета 1884 года рукопись была закончена. Она содержала около 200 листов. Впоследствии рукопись несколько раз переписывалась, исправлялась и дополнялась. По подсчету Бондарева, сделанному им незадолго до смерти, всего во всех его работах им было исписано «среди забот и попечений житейских тихим почерком» около 3500 листов9.
12 июля 1885 года Толстой через редакцию «Русской мысли» получил от политического ссыльного В. С. Лебедева, жившего в Минусинске, сокращенную рукопись сочинения Бондарева.
III
Во «Вступлении» к своему сочинению Бондарев определяет положение в обществе труженика крестьянина по сравнению с людьми привилегированных классов. Он пишет: «Как у вас в великосветском классе высшая степень — генерал, в нашем же — заслуженный земледелец. Поэтому, если судить по всей строгости закона, я имею право с генералом на одних креслах сидеть. Да что я говорю, — тут же оговаривается Бондарев, — на одних креслах. Генерал должен предо мною стоять. Почему? — так спросит встревоженный читатель. — Потому, что не я его, а он трудов моих хлеб ест»10.
- 432 -
Бондарев считает свое сочинение единственной «коротенькой повестью», которую «за все веки и вечности в защиту себя» написал «низший класс». «А ты, — обращается Бондарев к «высшему классу», — за один только недостаток красноречия и за худость почерка опровергнешь ее — так уверяли меня многие. Это будет в высшей степени обида для нас, — также, мне кажется, и для бога».
Цель своего сочинения Бондарев, от имени «всех земледельцев» обращаясь «ко всем, сколько есть вас в свете, не работающих хлеб для себя», определяет в следующих словах: «Вся моя история состоит только в двух словах: во-первых, почему вы по первородной заповеди сами для себя своими руками хлеб не работаете, а чужие труды поедаете? Во-вторых, почему у вас ни в богословских, ни в гражданских и ни в каких писаниях хлебный труд и трудящиеся в нем не одобряются, а до нельзя унижаются?».
В начале основного текста своего сочинения Бондарев рисует следующую картину общественной жизни того времени: «На два круга разделяю я мир весь: один из них возвышенный и почтенный, а другой униженный и отверженный. Первый, богато одетый и за столом, сластями наполненным, в почтенном месте величественно сидящий, — это богатый; а второй — в рубище, изнуренный сухоядением и тягочайшими работами, с унижением и плачевным видом перед ним у порога стоящий — это бедные земледельцы». Сразу после этого Бондарев обращается «к товарищам земледельцам, у порога стоящим», с вопросом:
«Что мы стоим все века и вечность перед ними с молчанием, как четвероногие? Конечно, должно молчать перед человеком высшим нас достоинством, но нужно же знать, почему, когда и сколько молчать, а не унижаться перед ним до подлого ласкательства и не притворяться истуканами».
Бондарев ожидает благотворных последствий от исполнения первородной заповеди всеми не работающими своими руками свой хлеб. «Если бы эта заповедь, — пишет Бондарев, обращаясь к «высшему классу», — была тобою принята и уважаема, какое великое поощрение подали бы вы собою земледельцам к хлебному труду! Они до того приложили бы попечение, что одна десятина принесла бы за пять нынешних».
«И вы такое дорогое лекарство бросили под ноги свои... в гроб положили, чтобы никто из живущих на земле не мог найти; а вместо того поставили, что одною только верою в единого бога, без понесения трудов, можно спастись... Да хотя бы хлебный труд к маленьким добродетелям причли — и того
- 433 -
«ИЛЬЯС»
Первая редакция. Автограф
- 434 -
не удостоили; из головы хоть сделали бы вы его хвостом, и того не сподобили».
«Этот труд все добродетели в себя забрал. Невпример того, леность да праздность все пороки присвоили».
Бондарев не отрицает полезности других видов труда, кроме земледельческого, но при условии исполнения каждым человеком первородной заповеди. «Нужно, — пишет он, — не упускать из вида, что и прочие труды есть добродетель, но только при хлебе, то есть своих трудов хлеба наевшись».
«Хлеб нельзя продавать и покупать, — уверенно заявляет Бондарев, — и им торговать и из него богатства наживать, потому что стоимость его выходит за пределы человеческого разума. В крайних уважительных случаях его нужно даром давать, как то: на больницы, на сиротские дома, на сидящих в темницах, на истомленные неурожаем области, на разоренных пожаром, на вдов, сирот и калек, на дряхлых и бездомных».
«Хлебный труд, — говорит Бондарев, — есть священная обязанность для всякого и каждого, и не должно принимать в уважение никаких отговоров. Чем выше человек, тем более должен пример показывать собою другим в этом труде, а не прикрываться какими-нибудь изворотами да не хорониться от него за разные углы...»
«Представь себе, великосветский класс, следующее: если бы мы все, земледельцы, подобно вам, похоронились от хлебного труда за разные углы — «кто куда, а кто куды», тогда в короткое время вся вселенная должна голодной смертью погибнуть. Приняли бы вы в уважение от нас оправдание, подобное вашему?... Нет, вы бы по неограниченной своей власти свернули нас в бараний рог... Словом, весь свет лежит на руках наших».
«Почему мы бедны и глупы? — задает вопрос Бондарев. — Потому что сами в своих трудах хлеб едим и вас кормим. Есть ли нам время учиться да образоваться? Вы как хлеб наш, так вместе с ним и разум наш или тайно украли или нагло похитили или коварно присвоили».
Бондарев надеется, что его сочинение пробудит спящую совесть в людях «высшего класса». «Совесть, — пишет он, — от нее деньгами не защититься, она невольно заставит их смягчиться пред их кормильцем. Вот с этою-то целью я и принял на себя труд этот».
Признавая пользу машин, облегчающих человеческий труд, Бондарев упрекает «механиков» за то, что они ничего не делают для облегчения крестьянского труда. «Как много, — говорит он, — в свете есть непостижимых хитростей! На всякое незначительное изделие придуманы, например, машины: где бы нужно многим людям работать, там одна машина чище всяких рук человеческих работает. Хлебная же работа, как крестьяне сами придумали еще с незапамятных времен, так и доныне
- 435 -
остается в том же виде... Трудно ли бы ему, механику, сказать только несколько слов: сделай вот так и так, и этим вся эта страшная тягость свалилась бы с людей и животных. Нет, не хочет и близко подойти как к этой гнусной для него работе, так и к работающим ее».
Возмущает Бондарева и то, что крестьянин унижен в обществе, что никогда «за хлебное трудолюбие и искусство» никто не получил награду, что крестьяне «получили имя «мужик», что значит дурак». «Из этого видно, — говорит Бондарев, обращаясь к «высшему классу», — что хуже и ничтожнее работы хлеба по вашему расчету и в свете нет».
«Вот теперь и рассуди, читатель, — говорит Бондарев далее, — кто кем живет: ты мною или я тобою? Зачем же ты к нам в товарищи пристаешь? Кто должен первое место занимать за столом (выше упомянутым) — ты или я? Конечно, я. А ты зачем туда залез? Кто тебе это назначил и кто удостоил?..
Вас всех, евших наших трудов хлеб, найдется в России до 30 миллионов. В силах ли мы всех вас сладко накормить и напоить, красно одеть, на мягкую постель положить и теплым одеялом прикрыть? Потому-то мы неутомимо день и ночь работаем и ничего не имеем. Не обида ли это для нас, не порок ли это для вас?»
«Ведь мы бедны от вашего богатства, а вы богаты от нашей бедности».
«Много на свете ловят воров, но то не воры, а шалуны. Вот я поймал вора, так вора! Он... унес первородный закон, нам, земледельцам, принадлежащий. Нужно же указать лично на этого вора».
По мнению Бондарева, для того, чтобы был осуществлен «первородный закон», достаточно было бы каждому человеку в разное время года «работать хлеб» 30 дней в году — остальные 335 дней каждый человек волен «работать, что хочешь».
Бондарев взывает к «высшему классу»: «О, умилосердись великосветский класс сам над собою. Не предай ты этого дела к уничтожению. А если есть здесь что-либо сильно противозаконное, то уничтожь лучше меня одного, а дело это положи на вечное время в архив, где хранятся важнейшие государственные акты. Может статься, в последующих поколениях найдется настолько справедливый человек, что во всем настоящем составе обнародует его. Пусть же я один погибну, а миллионы земледельцев получат величайшую радость и облегчение в трудах своих».
И Бондарев вновь взывает к «великосветскому классу»:
«Умилосердись над нами, богатый класс! Сколько тысяч лет как на необузданном коне ездишь ты на хребте нашем, всю кожу до костей ты стер. Ведь это только по виду хлеб,
- 436 -
который ты ешь, а на самом деле — тело наше; по виду только вино, которое ты пьешь, а на самом деле — кровь наша».
«Первородный закон, — «в поте лица твоего сне́си хлеб твой», — заканчивает Бондарев свой труд — все вероучения собрал бы воедино, и, если бы только они узнали всю силу благости его, то прижали бы его к сердцу своему. И он в одно столетие, а то и ближе, всех людей, от востока до запада, от севера до юга, соединил бы в одну веру, в единую церковь и едину любовь»11.
IV
12 июля 1885 года Толстой прочел вслух рукопись Бондарева своим семейным, а также гостившей в Ясной Поляне семье Кузминских.
В июле Толстой писал в Минусинск приславшему ему рукопись Бондарева политическому ссыльному В. С. Лебедеву:
«Вчера я получил через редакцию «Русской мысли» рукописи Бондарева, присланные вами. Мое мнение, что вся русская мысль (конечно, не журнал), с тех пор, как она выражается, не произвела с своими университетами, академиями, книгами и журналами ничего подобного по значительности, силе и ясности тому, что высказывали два мужика — Сютаев и Бондарев. Это не шутка и не интересное проявление мужицкой литературы, а это событие в жизни не только русского народа, но и всего человечества. Вчера я прочел эту рукопись в своем семейном кругу, и все встали после чтения молча и пристыженные разошлись. Все это как будто знакомо, но никогда не было так просто и ясно выражено, без того лишнего, что невольно входит в наши интеллигентные рассуждения.
Очень, очень вам благодарен за сообщение мне этой рукописи; она произвела на меня большое впечатление и будет иметь на мои работы большое влияние».
Далее Толстой просит В. С. Лебедева сообщить подробности о Бондареве: его звание, семейное положение, религиозные убеждения, образ жизни. «Я хочу написать ему, но если не напишу, то скажите ему, что есть человек — я — совершенно, без всяких оговорок согласный с его учением и желающий посвятить остаток своей жизни на то, чтобы убедить в ней людей и словами и делом».
Письмо заканчивается словами: «Вы, должно быть, тот Лебедев-медик, которого года два тому назад выслали из Москвы; если вы тот, то я немного знаю про вас12. Во всяком
- 437 -
случае дружески жму вашу руку и от всей души благодарю вас за то, что вы вспомнили обо мне и сообщили мне рукопись»13.
В тот же день Толстой, извещая Л. Д. Урусова о получении рукописи Бондарева, писал о ней: «Удивительно сильно. Вся наука экономическая ничего подобного не сказала»14. Тогда же Толстой уведомил Черткова о получении сочинения Бондарева, которое он характеризовал словами: «Удивительно верно и сильно»15.
Когда Толстой писал В. С. Лебедеву, он не был еще уверен, что напишет Бондареву, но, по-видимому, он в тот же день написал и Бондареву, так как в вышеупомянутом письме к Черткову сказано: «Я написал ему письмо».
Толстой написал Бондареву:
«Доставили мне на днях вашу рукопись — сокращенное изложение вашего учения, я прежде читал из нее извлечения16 и меня они очень поразили тем, что все это правда и хорошо высказано; но прочтя рукопись, я еще больше обрадовался. То, что вы говорите, это святая истина и то, что высказали, не пропадет даром; оно обличит неправду людей. Я буду стараться разъяснять то же самое. Дело людей, познавших истину, говорить ее людям и исполнять, а придется ли им увидеть плоды своих трудов — то бог один знает...»
«Через министра внутренних дел и даже царя, — пишет далее Толстой, — ничего сделать нельзя, да и не следует». По-видимому, в письме В. С. Лебедева, присланном вместе с рукописью Бондарева и остающемся для нас неизвестным, было сказано, что Бондарев неоднократно обращался к разным высокопоставленным лицам и даже к царю с просьбой напечатать его сочинение и принять меры для осуществления «первородного закона» о «хлебном труде», и Толстой счел нужным разочаровать Бондарева в его надежде на правительство.
«Правительство, — писал Толстой, — силою заставляет людей делать то, что оно считает нужным; а первородный закон божий люди должны исполнять не по принуждению, а по своей воле. Нужно обличать людей и призывать их к покаянию, как делал Христос, и тогда они сами придут к истине. Дело это делается не скоро — веками, но не скоро деревья растут, а мы
- 438 -
сажаем их же и бережем, и не мы, так другие дожидаются плода».
Толстой заканчивает письмо словами: «Желаю вам успеха в вашем деле, оно же и мое дело, и благодарю вас за ваше писание; оно мне было в большую пользу и радость»17.
27 января 1886 года В. С. Лебедев по просьбе Бондарева послал Толстому «Добавление к прежде написанному мною, Бондаревым, «О трудолюбии и тунеядстве», почерпнутого из первородного источника: в поте лица твоего сне́еси хлеб твой». Это краткое «Добавление», состоящее из 32 «вопросов», заканчивается сообщением Бондарева о завещании, сделанном им сыну Даниилу:
«И похоронить меня прикажу я сыну своему не на кладбище, а на той земле, где мои руки хлеб работали, и четверти на две не досыпавши песком или глиною, досыпь ее плодородною землею, а оставшуюся землю свези домой так чисто, чтобы и знаку не было, где гроб покоится, и таким же порядком продолжай на ней всякий год хлеб сеять. А со временем перейдет эта земля в другие руки, и также будут люди на моем гробе сеять хлеб до скончания века...
Примечание. Этот мой памятник будет дороже ваших миллионных памятников, и такой от века неслыханной новости будут люди пересказывать род родам до скончания века; да и многие из земледельцев сделают то же самое. А может статься, и из вас, именитых людей, кто-либо пожелает и прикажет похоронить себя на той земле, где люди хлеб сеют»18.
Это завещание Бондарева — о том, чтобы похоронить его в поле — глубоко трогало Толстого.
Получение написанного Бондаревым «Добавления» к его сочинению вызвало у Толстого желание сделать попытку напечатать работу Бондарева. 8 февраля 1886 года он писал Черткову, чтобы тот «очень, очень» попросил Л. Е. Оболенского напечатать «статью» Бондарева в «Русском богатстве». «Он, наверное, — писал Толстой, — сделает хорошее объяснение и пропустит ее в цензуре. Бондарев просит, чтоб печатали ее без отнятия и приложения. И писали бы прежде и после что от себя»19.
Л. Е. Оболенский выразил согласие напечатать рукопись Бондарева в своем журнале. Толстой в письме от середины мая 1886 года писал Оболенскому: «Очень радуюсь тому, что вы надеетесь провести Бондарева. Это нужно»20. Чтобы сочинение
- 439 -
Бондарева легче прошло через цензуру, ему было дано измененное заглавие — «О нравственном значении земледельческого труда. Крестьянина Тимофея Бондарева».
V
Второе письмо Бондареву было написано Толстым в марте 1886 года.
Толстой извещал Бондарева, что его «проповедь» он «списал» для многих своих друзей и с ближайшей почтой пошлет ее в Петербург, в журнал «Русское богатство».
«Из вашей статьи, — писал Толстой, — я почерпнул много полезного для людей, и в той книге, которую я пишу об этом же предмете21, упомянул о том, что я почерпнул это не от ученых и мудрых мира сего, но от крестьянина Т. М. Бондарева»22.
Очевидно, Бондарев в том письме, на которое отвечал Толстой и которое нам неизвестно, просил Толстого прислать ему свои труды. Толстой на это отвечает: «Свое писание об этом я очень желал бы прислать вам, но вот уже лет пять все, что я пишу об этом предмете, о том, что мы все живем не по закону бога, все это правительством запрещается, и книжки мои запрещают и сжигают».
И Толстой вновь пытается разубедить Бондарева в его надежде на то, что министр внутренних дел и сам царь согласятся с его мыслями о «первородном законе» и будут проводить их в жизнь: «Поэтому-то самому я и писал вам, что напрасно вы трудитесь подавать прошения министру внутренних дел и государю. И государь, и министры все запрещают даже говорить про это. От этого самого я и боюсь, что и вашу проповедь не позволят напечатать всю вполне, а только с сокращениями... Скажу вам про себя: пока я писал книжки о пустяках — по шерсти гладил — все мои книжки хвалили и печатали, и царь читал и хвалил23; но как только я захотел служить богу и показывать людям, что они живут не по закону, так все на меня опрокинулись. Книжки мои не пропускают
- 440 -
и жгут, и правительно считает меня врагом своим. Но скажу вам, что это не только не огорчает меня, но радует, потому что знаю, что они ненавидят мое писание не за меня, а за то, что оно обличает их, за то, что я говорю о божьем законе, и они его ниспровергли. И я знаю, что закон божий скрыть нельзя, он в огне не сгорит и в море не потонет. А от гонения он только яснее виден людям тем, которые стремятся к богу.
Так-то и вы не тужите о том, что прошения ваши не принимают и ответа не дают. Вы сами говорите, что на кого жалуетесь, тому и прошение подаете. Не тужите и о том, что ваши ближние вас не понимают и не ценят. Что́ вам за дело?».
В конце своего письма Толстой разъясняет Бондареву, что насилие в деле осуществления «первородного закона» не может привести к благим последствиям. «Заставить всех силком трудиться никак нельзя, потому что сила-то вся в руках тех, которые не хотят трудиться. Надо, чтобы люди сами поняли, что жизнь трудовая, по закону бога, блаженнее, чем тунеядство... Заблудшие же люди еще не понимают этого и отстаивают всеми силами свое тунеядство и не скоро поймут свое заблуждение. А пока они сами не поймут, — с ними ничего не сделаешь. И вот, чтобы они поняли это, нужно им разъяснить закон бога. Вы это самое и делаете — служите этим богу и потому знаете, что вы победите, а не они; а скоро ли это будет? — это дело божие. Так я сужу».
Заканчивается письмо словами: «Прощайте, уважаемый друг и брат Тимофей Михайлович. Помогай вам бог»24.
В следующем письме к Бондареву, датированном 26 марта 1886 года, Толстой извещал Бондарева о получении его «большой рукописи» и «Добавления» к ней.
«И то, и другое очень хорошо и вполне верно», — пишет Толстой. Он обещает «и сохранить рукопись, и распространять ее в списках или в печати, сколько возможно». По мнению Толстого, «некоторые статьи» следует, «для того чтобы не ослабить силу всего», из основного текста перенести в примечания.
В третий раз и еще с большей силой старается Толстой разуверить Бондарева в его надежде на сочувствие высокопоставленных лиц к его взглядам. Он пишет: «Насчет того, получил ли министр вашу рукопись, я не могу узнать, но и узнавать это бесполезно, потому что, по всем вероятиям, он ее даже и не читал, а бросил куда-нибудь в канцелярии; а если бы и прочитал, то только бы посмеялся».
«Я часто, — рассказывает далее Толстой, — читаю вашу рукопись моим знакомым, и редко кто соглашается, а большею
- 441 -
частью встанут и уйдут. Когда ко мне соберутся скучные люди, я сейчас начну читать рукопись, — сейчас все разбегутся; но есть и такие которые радуются, читая ее».
Толстой пишет, что он во всем согласен с рукописью Бондарева, но смотрит на дело «с другой стороны». Он ставит вопрос: «Каким образом могли люди скрыть от себя и других первородный закон?». На этот вопрос Толстой отвечает так: «Одни люди взяли власть над другими... и вооружили одних людей и подчинили их себе. Вот эти-то люди, начальники, солдаты — и отступники первые от первородного закона». По мнению Толстого, следует соблюдать два закона: «первородный закон» о том, чтобы все люди своими руками добывали хлеб свой, и другой закон — о непротивлении злу.
Письмо заканчивается словами: «Ну, пока прощайте, дай вам бог всего хорошего. Я в вас нашел сильного помощника в своем деле. Надеюсь, что и вы найдете во мне помощника Дело наше — одно»25.
VI
Толстого очень радовали сочувственные отзывы о работе Бондарева. Около 20 мая 1886 года он писал Н. Н. Златовратскому: «Я душевно радуюсь тому сочувствию, (которое вы выражаете и испытываете к Бондареву. Я еще больше полюбил вас за это».
Далее Толстой сообщал, что написал «кое-что в виде предисловия» к сочинению Бондарева, но «очень недоволен написанным»26.
В самом начале своего предисловия Толстой дает следующую характеристику работы Бондарева: «Труд Тимофея Михайловича Бондарева кажется мне очень замечательным и по силе, ясности и по красоте языка, и по искренности убеждения, видного в каждой строчке, а главное, по важности, верности и глубине основной мысли».
Указывая на то, что основная мысль труда Бондарева взята из Библии, Толстой предвидит, что образованные люди «так привыкли к превратным и бессмысленным толкованиям богословами слов св. писания, что одно упоминание о том, что известное положение совпадает со св. писанием, уже служит поводом к тому, чтоб с презрением относиться к такому положению». Скажут: «Что для меня значит св. писание! Мы знаем, что на нем можно основать все, что хочешь, и что там всё — вранье».
На это Толстой возражает, что взятое Бондаревым изречение из Библии («В поте лица твоего сне́си хлеб твой...»)
- 442 -
«важно не потому, что оно будто бы сказано богом самому Адаму, а и потому, что оно истинно; оно утверждает один из несомненных законов человеческой жизни». И Бондарев, — говорит Толстой, — посвящает свое сочинение «разъяснению вечности, неизменяемости этого закона и неизбежности бедствий, вытекающих из отступления от него».
Толстой расширительно понимает слова «хлеб», «хлебный труд», употребляемые Бондаревым. По мнению Толстого, Бондарев «разумел под хлебом всю тяжелую, черную работу, нужную для спасения человека от голодной и холодной смерти, то есть и хлеб, и питье, и одежду, и жилье, и топливо».
Статья заканчивается обращением к читателю, принадлежащему к привилегированным классам общества:
«Кто бы ты ни был, как бы ни был одарен, как бы ты ни был добр к людям, окружающим тебя, в каких бы ты ни был условиях, можешь ли ты быть спокоен за своим чаем, обедом, за своим государственным, художественным, ученым, врачебным, учительским делом, когда ты слышишь или видишь у своего крыльца голодного, холодного, больного, измученного человека?..»
И Толстой призывает интеллигентного, образованного человека ближе подойти к народу и заняться земледельческим трудом:
«Спустись до низу (до того, что тебе кажется низом, но что есть верх), встань рядом с теми, которые кормят голодных, одевают холодных, — не бойся ничего: хуже не будет, а будет лучше во всех отношениях. Стань в ряд, возьмись неумелыми, слабыми руками за то первое дело, которое кормит голодных, одевает холодных — за хлебный труд, за борьбу с природой, и ты почувствуешь в первый раз ту твердую почву под ногами, почувствуешь то, что ты дома, что тебе свободно, прочно, идти больше некуда, и ты испытаешь те цельные, неотравленные радости, которых ты не найдешь нигде, ни за какими дверями, ни за какими гардинами»27.
VII
Надежда Толстого на появление в «Русском богатстве» сочинения Бондарева не оправдалась. Статья была набрана для журнала, но не была пропущена цензурой, о чем Л. Е. Оболенский известил Толстого 15 октября 1886 года.
- 443 -
Отметим также, что в 1886 году политический ссыльный Иван Петрович Белоконский, проживавший в Минусинске, отправил в журнал «Северный вестник» свою статью «Тимофей Михайлович Бондарев и его учение». Статья, подписанная псевдонимом «Петрович», была принята редакцией журнала и набрана, но запрещена цензурой. Петербургский цензурный комитет в заседании своем 25 июня 1886 года постановил: «Комитет, соглашаясь с мнением цензора и находя в учении Бондарева социалистические идеи, затемненные религиозными народными понятиями, отзывающимися кощунством, определил: статью под названием «Тимофей Михайлович Бондарев и его учение» к напечатанию не дозволять»28.
В декабре 1887 года Толстой делает новую попытку напечатать сочинение Бондарева со своим предисловием в журнале «Русская старина». 17 января он пишет редактору «Русской старины» М. И. Семевскому: «Рукопись Бондарева очень стоит того, чтобы быть напечатанной, и вы сделаете доброе дело, издав ее»29. 2 февраля Толстой извещал Черткова: «В «Русской старине» запретили мое предисловие и статью Бондарева. Я хочу ее перевести по-английски и напечатать в Америке»30. В тот же день Толстой писал П. И. Бирюкову, что он решил поручить перевод гувернантке его детей, с помощью М. Л. Толстой. «Очень уж меня пробрал Бондарев, — писал Толстой, — я не могу опомниться от полученного опять впечатления»31.
Английский перевод сочинения Бондарева в то время не осуществился.
В феврале — марте 1888 года Толстой вновь пробует напечатать сочинение Бондарева в московской еженедельной газете «Русское дело», издававшейся С. Ф. Шараповым. В № 12 «Русского дела» от 19 марта появилось сочинение Бондарева (в сокращенном виде), а в № 13 от 26 марта — предисловие Толстого. 24 марта Толстой писал Черткову: «Здесь в «Русском деле» напечатали Бондарева, хотя и с пропусками, но и то хорошо. Послезавтра должно выйти предисловие к нему в виде послесловия. Если не задержит цензура, я пришлю вам несколько экземпляров»32.
Публикации в «Русском деле» сочинения Бондарева предшествовало примечание редактора, в котором говорилось:
- 444 -
«Возражать на мысли Бондарева не будем. В своей трогательной наивности крестьянин-философ заходит в такое огульное отрицание, которое не допускает полемики и возбуждает только невольную улыбку. Но сочинение почтенного старика-земледельца имеет и свои несомненные достоинства. По мысли, оно интересно как протест против того неуважения, с каким наше образованное общество и государство относится к земледельческому труду. По форме, как удивительно простое и поэтичное произведение, полное чарующей искренности... нам эта рукопись живо напомнила древние произведения народного творчества, ставшие историческим достоянием нашей литературы. Стиль автора очень близок к Даниилу Заточнику, протопопу Аввакуму и т. п. Есть еще на Руси уголки, где в полной силе царят простота и искренность XIV и XVI веков; голос оттуда»33.
Публикацию статьи Толстого о Бондареве редактор «Русского дела» сопроводил обширной полемической статьей, в которой противопоставляются взгляды Бондарева и Толстого. По мнению автора, «Бондарев самой сути нашей цивилизации не трогает, граф Толстой уже ставит над нею крест». Критикуя взгляды Толстого, автор призывает его вернуться к художественному творчеству, утверждая, что Толстой «опустил» «тяжелое и огромного подвига требующее знамя художника и поднял знамя учителя в тысячу раз более легкое»34.
Министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой 26 марта 1888 года в докладе Александру III писал:
«В издаваемой в Москве (№ 12) газете «Русское дело» появилась статья под заглавием «Трудолюбие, или Торжество земледельца», будто бы сочиненная каким-то крестьянином, проживающим в Сибири. Из содержания статьи и вполне литературного ее изложения можно, однако, безошибочно заключить, что она вышла из-под пера если не самого графа Льва Толстого, то одного из его ревностных последователей. Всецело посвящена она развитию в высшей степени вредных теорий этого писателя».
Министр с негодованием докладывал царю, что «автор обращается к людям высших классов с увещанием, чтобы по занятиям своим они вполне примкнули к народу, вели бы одинаковый с ним образ жизни, чтобы каждый из них питался только тем, что выработает собственными руками. Эта проповедь грубого социализма... имеющая целью восстановить один класс общества против другого, находит немало адептов благодаря пропаганде графа Льва Толстого, которую цензурное ведомство настойчиво преследовало в издаваемых им книгах.
- 445 -
Тем более дерзкою является попытка перенести ее на страницы периодического издания».
Император Александр III одобрил мнение своего министра, согласился с ним, что статья, столь смело обличавшая царизм и остатки крепостничества в России, вряд ли могла принадлежать какому-то крестьянину Бондареву, сосланному в Сибирь, и на докладе министра собственноручно начертал:
«Это прямо теория Толстого, и очень может быть, что даже и статья его»35.
В № 14 «Русского дела», вышедшем 2 апреля 1888 года, было напечатано распоряжение министра внутренних дел о втором предостережении за напечатание статьи Бондарева.
В марте 1888 года Толстого посетил профессор философии Сорбонского университета в Париже Эмиль Пажес, которого Толстой в письме к Страхову от 26 марта характеризует как «умного, образованного и, что редкость, — свободного человека»36. «Он большой сторонник моих взглядов», — писал Лев Николаевич 26 марта 1888 года А. А. Толстой37. Э. Пажес перевел на французский язык первую часть трактата Толстого «Так что же нам делать?» По-видимому, Толстой, очень увлеченный в то время сочинением Бондарева и своим предисловием к нему, предложил Э. Пажесу заняться переводом Бондарева на французский язык. Книга вышла в Париже в июне 1890 года под заглавием «Léon Tolstoï et Timothee Bondareff. Le travail. Traduit du russe par B. Tseytline et A. Pagès» (Лев Толстой и Тимофей Бондарев. Труд. Перевод с русского Б. Цейтлина и А. Пажеса).
Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит статью Толстого «Труд и теория Бондарева». Вторая часть, озаглавленная «Труд» «мужика (par le morjik) Бондарева», состоит из двух глав: I. Введение. Жизнь Бондарева. — Цель его работы; II. Труд по Библии. В приложении даны статьи: Труд и любовь. — Завещание Бондарева.
В предисловии к книге один из переводчиков Амедей Пажес сообщал, что его брат Эмиль в 1888 году посетил Толстого в Москве и «принял из его рук рукопись «Труд», но, будучи весьма занят», поручил работу своему брату.
Получив перевод, Толстой записал в дневнике 28 июня 1890 года: «Прекрасная книга»38. 30 июня Толстой писал Г. А. Русанову об этой книге: «Очень хорошая вышла книга и, думается, может быть на пользу людям»39.
В том же 1890 году в Чикаго был издан английский перевод
- 446 -
сочинения Бондарева, сделанный Мэри Крюгер с французского издания.
22 февраля 1891 года Толстой писал Н. Н. Ге-сыну, что он получил из Америки от члена организации «рыцарей труда», ставившей своей задачей борьбу против земельной собственности, письмо «с вопросами и выражениями сочувствия книге Бондарева». Спрашивает, правда ли, что он мужик или только сын мужика? И не миф ли он?40
VIII
Нам известны десять писем Толстого к Бондареву; не менее четырех писем пропали или затерялись. Письма посвящены социальным и религиозным вопросам. В письме от 23 июня 1894 года Толстой излагает проект «освобождения земли от ее похитителей», предложенный Генри Джорджем41. Но главным образом письма Толстого посвящены выяснению и оценке взглядов самого Бондарева. 27 марта 1895 года Толстой писал Эугену Шмиту, что от Бондарева он «почерпнул еще гораздо больше поучения, чем от Сютаева»42.
Кроме того, в письмах Толстой старался укреплять веру Бондарева в осуществимость его проекта и не давать ему впадать в отчаяние из-за невозможности напечатания его сочинения в России. Так, 26 мая 1896 года Толстой писал Бондареву: «Не надо отчаиваться, а надо по мере сил, высказывать то, что знаешь. Не при нашей жизни, так после нее, узнают и поверят в то, что́ в наших речах справедливого. Правда не горит, не тонет. Твое сочинение и делало, и делает, и будет делать свое дело, обличая людей и открывая им глаза»43.
Все письма Толстого написаны в дружеском тоне. В письме от августа 1895 года Толстой предложил Бондареву в их переписке обращаться друг к другу на «ты» («проще и приличнее нам, старикам, писать друг другу ты, а не вы»)44.
Письма Толстого играли важную роль в жизни Бондарева. Археолог Н. Горощенко, посетивший Бондарева в Иудине в 1896 году, называя в своих воспоминаниях Бондарева «многострадальным старцем», говорит: «Единственным, кажется, утешением для Бондарева были два или три45 письма к нему
- 447 -
Л. Н. Толстого, которые он с детскою радостью хотел показать мне...»46.
Однако при всем сочувствии Толстого взглядам Бондарева, у него довольно рано появились и расхождения с ним.
Уже 12 февраля 1887 года Толстой, извещая Бондарева о получении его рукописи, писал: «Я согласен с вами, что любовь без труда есть один обман и мертва, но нельзя сказать, чтобы труд включал в себе любовь. Животные трудятся, добывая себе пищу, но не имеют любви — дерутся и истребляют друг друга. Так же и человек»47.
Более подробно Толстой излагает свой взгляд на тот же вопрос в письме от 2 и 3 августа 1889 года к близкому ему по взглядам Е. И. Попову. Здесь он пишет: «Но Бондарев не прав, говоря, что хлебный труд включает в себя любовь, а любовь не включила... Хлебный труд есть только частный случай любви к ближнему, не говоря о любви к богу, Любовь к ближнему ведь требует, кроме накормления и одежды, еще посещение заключенного и больного, — слова, под которыми нельзя не понимать всех тех духовных утешений, которые могут быть поданы страдающим. Любовь же к ближнему требует того, чтобы свет ваш светил перед людьми, т. е. сообщения им той истины, которую вы знаете. Все эти требования любви к ближнему, и думаю, что еще многие другие не включены в хлебный труд. Требования же любви к богу еще менее включаются в него... И любовь эта обязывает или влечет ко многому, никак не включающемуся в хлебном труде. Она влечет к чистоте, к соблюдению и возвращению в себе божественной сущности. Это и, думаю, еще многое другое не включено в хлебный труд. Человек, поставивший себе целью хлебный труд, очень легко может нарушить во многих отношениях и любовь к ближнему (может не утешить страдающего, не просветить темного и мн. др.), и любовь к богу (может быть распутником, может не двигаться и не расти духовно и мн. др.)»48.
Далее Толстой, который был убежден, что «в книгах, которые называют священными, много лжи»49, огорчился, узнав из письма Бондарева от 1 ноября 1893 года, что он принадлежит к «иудействующей вере». 5 февраля 1894 года в беседе с крестьянином М. П. Тарабариным Толстой говорил, что значение образования состоит в том, что неученого человека легче сбить с толку, чем ученого, и как пример указал на Бондарева.
- 448 -
«Я знаю, — говорил Толстой, — одного крестьянина, — очень умный, прекрасно написал о хлебном труде. Так верно укорял высший класс за нарушение заповеди «в поте лица снеси хлеб твой», а между тем верит всякому слову Библии и много о текстах говорит пустого»50.
Толстой стремился в своих письмах разъяснять Бондареву значение тех явлений жизни, которых тот не понимал. Так, 12 ноября 1896 года Толстой писал ему:
«Дело, которым ты занят, дело большой важности, но есть другое дело еще большей важности — тот корень, на котором выросло то зло похищения земли и праздности, с которым ты борешься. Зло это — солдатство, — то, что те самые люди, которых обобрали, поступают в солдаты и, под предлогом защиты отечества от врагов, защищают самих тех правителей, которые отобрали у них землю и отбирают их труд. Вот это дело занимает меня и мучает».
Далее Толстой рассказывает о русских сектантах — духоборах, отказавшихся от употребления оружия, гонимых правительством, и об отдельных случаях отказа от военной службы в России и Австрии51.
Но все эти недостатки и пробелы в мировоззрении Бондарева нисколько не уменьшали в глазах Толстого великого значения его проповеди о нравственной необходимости каждому человеку исполнять «своими руками первородный закон хлебного труда». Это и высказал Толстой во второй своей статье о Бондареве, написанной в 1895 году.
27 марта 1895 года С. А. Венгеров обратился к Толстому с просьбой написать небольшую статью о Бондареве для составляемого им «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых». Статья была написана и послана Венгерову в первых числах апреля.
В этой статье Бондарев назван «гениальным человеком». Значение сочинения Бондарева Толстой видит в признании «хлебного труда основным религиозным законом жизни», в его убеждении, что «всякий человек должен считать обязанность физического труда, прямого участия в тех трудах, плодами которых он пользуется, своей первой, главной, несомненной священной обязанностью». Толстой сближает взгляды Бондарева с высказываниями о физическом труде «одного из величайших писателей Англии и нашего времени», «образованнейшего и утонченнейшего человека своего времени» Джона Рёскина: «Физически невозможно, чтобы существовало истинное религиозное познание или чистая нравственность между сословием народа,
- 449 -
который не зарабатывает себе хлеба своими руками». Толстой выражает уверенность в том, что сочинение Бондарева «переживет все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе52, и произведет большее влияние на людей, чем все они, взятые вместе».
IX
Потеряв надежду на напечатание своего сочинения в России на русском языке, Бондарев нашел иной, как ему казалось, верный способ передать свои мысли потомству. Отказавшись от мысли быть похороненным в поле, он решил высечь краткое изложение своих взглядов, озаглавленное «Памятник», на трех каменных плитах, которые завещал положить на свою могилу.
В «Памятнике» Бондарев обращается не к ближайшим потомкам, а, как он пишет, к тем, «которые после смерти моей через 200 годов родятся». О себе Бондарев говорит, что писал свое сочинение «без корыстной цели, ради благополучия всего мира». «Памятник» заканчивается обращением к будущим читателям: «Прощайте, читатель, я к вам не приду, а вы все ко мне придете»53.
9 ноября 1898 года сын Бондарева Даниил Тимофеевич отправил Толстому следующее письмо:
«Многоуважаемый Лев Николаевич!
Родитель мой Тимофей Михайлович Бондарев посланное вами письмо от 11 сентября сего года получил 27 сентября, но после того, писал вам или нет, я не знаю; но в настоящее время его в живых нет, он после трехдневной болезни умер 3 ноября. Перед кончиною приказал первым долгом уведомить вас и пожелать вам пожить для пользы человечества... Прошу сообщить от себя о смерти знающим покойного»54.
- 450 -
Толстой отвечал Д. Т. Бондареву 30 декабря:
«Очень благодарю вас, Даниил Тимофеевич, за сообщение очень для меня печальное о смерти родителя вашего, человека очень замечательного и оставившего после себя значительное сочинение. Вы бы очень обязали меня, сообщив мне о нем и о последнем времени и часах его жизни как можно больше подробностей.
Кроме того, что я высоко ценил его, как писателя, я любил его, как человека. И потому рад буду всем самым мелким подробностям о нем.
Исполнили ли вы его желание похоронить его в поле?»55.
В 1904 году, составляя «Круг чтения», Толстой поместил в нем в качестве одного из «Месячных чтений» выдержки из сочинения Бондарева вместе с своей статьей о нем, написанной в 1895 году56.
2 апреля 1906 года Толстой в последний раз помянул Бондарева в своем дневнике. Он писал:
«Совершенно ясно стало в последнее время, что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь (как книга — Библия), сама жизнь, жизнь человеческая, при которой только возможно проявление всех высших человеческих свойств. Главная ошибка при устройстве человеческих обществ, и такая, которая устраняет возможность какого-нибудь разумного устройства жизни, — та, что люди хотят устроить общество без земледельческой жизни или при таком устройстве, при котором земледельческая жизнь — только одна и самая ничтожная форма жизни. Как прав Бондарев!»57.
- 451 -
Глава седьмая
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1885 ГОДА
I
Июль — август 1885 года были временем сравнительно меньшей творческой продуктивности Толстого.
Причин этому было несколько. Более двух недель Толстой болел; некоторое время он находился в таком необычном для него состоянии, о котором писал Л. Д. Урусову 20 августа: «Я не писал вам долго, потому что был долгое время в состоянии — не знаю, как сказать, — в хорошем состоянии, но в таком, в каком я не могу ничего писать, даже писем»1. Много времени тратил Толстой на свое любимое занятие — косьбу, сначала травы, а потом и ржи. И. М. Ивакин 15 июля отмечает в своих записках: «Косит он каждый почти день... В субботу (13 июля) не приходил даже обедать — велел девочкам принести чего-нибудь на место»2. 13 июля Толстой писал Черткову: «По вечерам кошу так, что руки болят; но мне кажется, что я ничего дурного этим не делаю»3.
Кроме косьбы, Толстой занимался пахотой и рубкой леса. 29—30 августа он писал Черткову: «Нынче пошел рубить лес и так устал, что насилу двигаюсь. Но очень хорошо»4.
В середине июля Толстой вновь взялся за продолжение трактата «Так что же нам делать?» В июле он писал Черткову, настойчиво убеждавшему его оставить писание статей для интеллигенции и всецело отдаться работе над народными рассказами: «Вы мною будете совсем недовольны. По утрам пишу все статью «Что нам делать?» о деньгах, податях и значении правительства и государства... В писании моем много мне открывается нового и важного для меня самого. И я не могу быть спокоен, не разъяснив этого, тем более, что все это только служит разъяснением учения Христа»5.
- 452 -
В тот же день Толстой писал Л. Д. Урусову: «Я все занят своей статьей — главой или главами о деньгах. Все это разрастается и приводит к таким удивительным для самого меня выводам — к старым и знакомым нам выводам, но с другой стороны с большей ясностью выраженным»6.
Разъяснению вопроса о роли и значении денег при существующем общественном строе в окончательной редакции трактата «Так что же нам делать?» посвящены шесть глав — с XVII по XXII7.
Семнадцатая глава трактата начинается вопросом: «Что ж такое деньги?» «Чтобы узнать это, — пишет Толстой, — я обратился к науке».
«Отчего происходит порабощение одних людей другими? Отчего происходит то денежное царство, которое поражает нас всех своею несправедливостью и жестокостью? Отчего одни люди посредством денег властвуют над другими? — ставит Толстой ряд вопросов. — Наука говорит: от деления факторов производства и происходящих от того комбинаций, угнетающих рабочего. Ответ этот мне всегда казался странным не только тем, что оставляет в стороне одну часть вопроса — именно о значении при этом денег, но и тем делением факторов производства, которое свежему человеку всегда представляется искусственным и не отвечающим действительности».
Толстой подвергает критике утверждение экономической науки о том, что в каждом производстве участвуют три фактора: земля, капитал и труд. «Почему лучи солнца, вода, пища, знания не признаются отдельными факторами производства, а признаются таковыми только земля, орудия труда и труд?»
По мнению Толстого, это происходит потому, что «на право одних людей пользоваться лучами солнца, водою, пищею, на право говорить и слушать в редких только случаях заявляются притязания людей; на право же пользования землею и орудиями труда эти притязания постоянно заявляются в нашем обществе... Эти-то незаконные притязания одних людей на свободу других людей наука называет естественными свойствами производства».
«Простым людям кажется несомненным, что ближайшая причина порабощения одних людей другими — это деньги. Но наука, отрицая это, говорит, что деньги есть только орудие обмена, не имеющее ничего общего с порабощением людей. Посмотрим, так ли это», — говорит Толстой.
Он ставит вопросы: «Откуда берутся деньги? При каких условиях у народа всегда бывают деньги и при каких условиях мы знаем народы, не употребляющие деньги?».
- 453 -
На примере «народца», живущего в Африке или в Австралии, подвергшегося завоеванию и связанному с ним грабежу, Толстой объясняет происхождение денег. Сперва завоеватели отбирают все, что есть у народца, затем, когда брать уже нечего, вводится личное рабство, отнятие земли и объявление ее своею, чтобы пользоваться плодами земледельческого труда, и, наконец, как более удобная форма ограбления — «требование с подвластных известной срочной дани». Для уплаты этой дани покоренные «должны продавать друг другу и завоевателю и дружине за золото все то, что они имеют: и имущество, и труд». Так возникла денежная подать, ставшая «главным орудием порабощения людей».
В качестве конкретного примера Толстой подробно излагает историю островов Фиджи. Эта «правдивая история, основанная на документах и происходившая на днях», стала известна Толстому по статье профессора И. И. Янжула «Влияние финансовых учреждений на экономическое положение первобытных народов. (Страница из истории островов Фиджи.)»8
Жители Фиджи благоденствовали, пока там существовало натуральное хозяйство; «деньги между туземцами не обращались, и вся торговля имела исключительно меновой характер; товар менялся на товар, а немногие общественные и государственные сборы взимались прямо сельскими продуктами».
В 1859 году американское правительство потребовало от Фиджи уплаты 45 тысяч долларов «за насилия, будто бы нанесенные фиджианцами некоторым гражданам Американской республики».
С тех пор на Фиджи были введены денежные подушные подати, для уплаты которых туземцы должны были за бесценок продавать белым колонистам продукты своего труда или свою рабочую силу. В результате «в несколько лет половина населения Фиджи превратилась в рабов белых колонизаторов».
В 1874 году острова Фиджи, «к большому неудовольствию американских плантаторов», стали колонией Англии, которая уничтожила подушный налог, но взамен ввела барщину (labour tax), на которую должны были ходить фиджианцы. Это делалось для покрытия «расходов по управлению». Барщина не оправдала себя, и было решено «до тех пор, пока деньги в нужном количестве не распространятся на островах», не требовать их, а отбирать у туземцев продукты их труда, и администрации самой продавать их.
Толстой замечает, что последняя мера должна «привести фиджианцев в то положение денежного рабства, в котором находятся
- 454 -
европейские и цивилизованные народы и от которого не предвидится освобождения»9.
Подводя итоги истории островов Фиджи, Толстой пишет: «Деньги — безобидное средство обмена, но только не тогда, когда они насильно изымаются... Как только деньги изымаются насильно, из-под пушек, так неизбежно повторится то, что было на островах Фиджи и повторялось и повторяется всегда и везде: у князей с древлянами и у всех правительств с их народами. Люди, имеющие власть насиловать других, будут это делать посредством насильственного требования такого количества денег, которое заставит людей насилуемых сделаться рабами насильников». Попутно Толстой замечает, что «для правительства не существует нравственного чувства».
Толстой опровергает утверждение экономистов о том, что «деньги есть такой же товар, как и всякий другой, имеющий стоимость своего производства, только с той разницей, что этот товар избран как самое удобное для установления цен, для сбережения и для платежей средство обмена». Он утверждает, что «там, где в обществе существует насилие одного человека над другим, значение денег как мерила ценностей тотчас же подчиняется произволу насильника, и значение их как средства обмена произведений труда заменяется другим значением — самого удобного средства пользования чужим трудом». Работник продает «произведения своего труда и самый труд свой по тем ценам, которые устанавливаются не правильным обменом, а тою властью, которая требует с него деньги».
Закончив в главе девятнадцатой рассмотрение вопроса о деньгах, Толстой переходит к вопросу о формах порабощения. Он устанавливает, что «всякое порабощение одного человека другим основано только на том, что один человек может лишить другого жизни и, не оставляя этого угрожающего положения, заставить другого исполнять свою волю... И потому в нашем образованном мире, где большинство людей при страшных лишениях исполняют ненавистные и ненужные им работы, большинство людей находится в порабощении, основанном на угрозе лишения жизни. В чем это порабощение? И в чем угроза лишения жизни?»
- 455 -
Первоначально эта угроза носила прямой характер. «Безоружный работал, вооруженный угрожал». Затем был изобретен «более удобный и широкий способ порабощения людей... Способ этот — голод». «...Сильный, отобрав запасы и охраняя их мечом, заставляет слабого отдаваться в работу за корм».
«Выгода этого способа перед первым состоит для насильника в том: 1) главное, что он уже более не обязан усилиями принуждать рабочих исполнять его волю, а рабочие сами приходят и продаются ему; 2) в том, что меньшее количество людей ускользает от его насилия. Невыгоды же для насильника только в том, что он делится при этом способе с большим числом людей».
«Но и этот способ порабощения не удовлетворяет вполне желаниям сильного — как можно больше отобрать произведений труда от наибольшего числа работников и поработить как можно большее число людей — и не соответствует более усложняющимся условиям жизни, и вырабатывается еще новый способ порабощения. Новый и третий способ этот есть способ дани. Способ этот основывается, так же как и второй, на голоде, но к средству порабощения людей лишением хлеба присоединяется еще и лишение их и других необходимых потребностей».
Для осуществления этого способа нужна «сложная администрация людей, следящих за тем, чтобы люди или их поступки, обложенные податью, не ускользали от дани...» «При этом третьем способе количество людей, пользующихся трудами других людей, становится еще больше, и потому тяжесть содержания их ложится на меньшее число».
Толстой утверждает, что «все три способа порабощения людей никогда не переставали существовать... И в нашем обществе всегда употребляются все три способа порабощения».
Способ порабощения людей личным насилием и угрозой убийства существует как военная служба. «А что же эти миллионы солдат, как не личные рабы тех, кто ими управляет?.. Разница только в том, что подчинение этих рабов называют не рабством, а дисциплиной, и что те были рабами от рождения до смерти, а эти более или менее короткое время так называемой их службы». Это «личное рабство» «угрозой мечом поддерживает земельное и податное порабощение».
Освобождение крестьян в России Толстой объясняет следующим образом: «Винт личного рабства в России ослаблен был только тогда, когда подтянуты был винты поземельного и податного порабощения. Приписали всех к обществам, затруднили переселение и всякое перемещение, присвоили себе или роздали земли частным людям и потом отпустили на «волю». ...У мужика не хватало хлеба, чтобы кормиться, а у помещика была земля и запасы хлеба, и потому мужик остался тем же рабом».
- 456 -
Толстой отмечает, что люди «склонны не замечать» существующих способов порабощения, «как скоро этим способам дают новые оправдания».
Это не удивительно, ибо «рабы, с древнейших времен подвергаемые рабству, не сознают своего положения и считают то свое положение рабства, в котором они жили всегда, естественным условием человеческой жизни и видят облегчение в перемене формы рабства». Рабовладельцы также привыкли к своему положению и, желая «скрыть свою неправду, стараются приписывать особенное значение тем новым формам рабства, которые они взамен старых налагают на людей».
Толстого удивляет то, каким образом наука, так называемая свободная наука, может, исследуя экономические условия жизни народа, не видеть того, что составляет основу всех экономических условий.
«Хочется думать, что это так по глупости делает наука; но стоит только вникнуть и разобрать положение науки, для того чтобы убедиться, что это происходит не от глупости, а от большого ума. Наука эта имеет очень определенную цель и достигает ее. Цель эта — поддерживать суеверие и обман в людях и тем препятствовать человечеству в его движении к истине и благу».
«Суеверие политическое состоит в том, что, кроме обязанностей человека к человеку, существуют более важные обязанности к воображаемому существу, и жертвы (весьма часто человеческих жизней), приносимые воображаемому существу — государству, тоже необходимы, и люди могут и должны быть приводимы к ним всевозможными средствами, не исключая и насилия».
Подводя итоги своему рассуждению о деньгах, Толстой пишет: «Рассуждение это, сделанное мною не как рассуждение для рассуждения, а для того, чтобы разрешить вопрос моей жизни, моего страдания, было для меня ответом на вопрос: что делать?» «Как скоро мне удалось разрушить в своем сознании софизмы мирского учения, так теория слилась с практикой, и действительность моей жизни и жизни всех людей стала ее неизбежным последствием».
«Я понял, что несчастия людей происходят от рабства, в котором одни люди держат других людей. Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением земли и взысканием денег. И, поняв значение всех трех орудий нового рабства, я не мог не желать избавления себя от участия в нем».
«И потому, если человек точно не любит рабство и не хочет быть участником в нем, то первое, что он сделает, будет то что не будет пользоваться чужим трудом ни посредством владения землею, ни посредством службы правительству, ни посредством
- 457 -
денег. Отказ же от всех употребительных средств пользоваться чужим трудом неизбежно приведет такого человека к необходимости, с одной стороны, умерить свои потребности, с другой стороны, делать для себя самому то, что прежде делали для него другие».
II
11 августа И. М. Ивакин задал Толстому вопрос, как идет его литературная работа. Толстой ответил: «Писать не пишу, но много обдумываю. Напал я на предмет-то такой — на вопрос о государстве. У меня бывают настроения периодами: бывает настроение осеннее, летнее, зимнее, весеннее».
В тот же день Толстой поделился с И. М. Ивакиным одним из своих замыслов, который он в то время обдумывал: «Я иногда думаю: хорошее сочинение можно бы написать — сделать анализ номера какой-нибудь газеты, хоть «Русских ведомостей», например, — разобрать его весь: распоряжения правительства, известия о новоизобретенном составе — всю эту чепуху»10.
16—19 августа в Ясной Поляне гостили В. Г. Чертков и П. И. Бирюков. По словам Толстого, они оказали некоторое благотворное влияние на его дочерей. 20 августа он писал жене, уехавшей в Москву по делам издания нового собрания сочинений: «Гости уехали. Чертков имел успех и влияние на девочек. — Турнюры11 опять сняты, и разные хорошие планы»12.
Самому Черткову Толстой писал 29—30 августа: «Спасибо и за то, что вы, будучи у меня, хорошо поговорили с моей семьей. Мне кажется, что вы помогли мне. Вы и милый Бирюков. Вообще от вашего пребывания у нас осталась самая хорошая «отрыжка»13.
- 458 -
Около 20 августа Толстой писал Л. Д. Урусову: «Чертков... мне очень помог в семье. Он имел влияние на наш женский персонал»14.
Возвращаясь из Ясной Поляны, Чертков и Бирюков заезжали в Москву к Софье Андреевне. 20 августа она писала Льву Николаевичу: «Они все рассказали, как у вас; очень, видно, довольны своим пребыванием в Ясной, говорили, что все очень веселы, и что никогда не видели Льва Николаевича таким веселым. Вот я и права, что без меня лучше!»15
Около 18 октября Толстой из Ясной Поляны пишет старшей дочери в Москву первое письмо, в котором чувствуется некоторая душевная близость между ними. Он начинает письмо словами: «Ай да Таня! Спасибо, милая, за письмо. Пишите чаще». И далее: «Ты в первый раз высказалась ясно, что твой взгляд на вещи переменился. Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться — та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор, — отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение — не ко мне, а к истине, не то страх пред чем-то. А это очень жаль». Считая самым
- 459 -
важным для своих детей то, чтобы они приучились работать, Толстой пишет дочери, что, по его мнению, ей «важнее убрать свою комнату и сварить свой суп (хорошо бы, коли бы ты это устроила, протискалась бы сквозь все, что мешает этому, особенно мнение), чем хорошо или дурно выйти замуж».
«Одно спасенье во всякой жизни, а особенно в городской, — прибавляет далее Толстой, — работа и работа». Толстой предлагает дочери определенную работу: переложение для «Посредника» романов Диккенса «Холодный дом» и «Оливер Твист». «Только представить себе, — пишет Толстой, — как бы ты читала это в школе»16.
III
В письме к Л. Д. Урусову, написанном около 20 августа, Толстой писал, что Чертков, будучи в Ясной Поляне, и его «раззадорил писать для народа». «Тем бездна, не знаю, что выбирать», — прибавлял Толстой17.
Прошло, однако, около месяца, прежде чем Толстой принялся за одну из тем, предназначавшихся для народного читателя.
В том же письме Толстой сообщал, что он «начал нынче кончать и продолжать Смерть Ивана Ильича». Далее Толстой рассказывает план начатой повести: «описание простой смерти простого человека, описывая из него».
В этом письме упоминается окончательное название той повести, которая была начата Толстым, вероятно, в 1881 году и в дневнике 27 апреля 1884 года была названа «Смерть судьи». (Окончательное название повести впервые появилось в письме Толстого к Черткову от 1—2 июня 1885 года18.)
Но работа над повестью «Смерть Ивана Ильича» была на этот раз непродолжительна, и повесть была закончена лишь в 1886 году.
В сентябре 1885 года Толстой вел оживленную переписку с П. И. Бирюковым о содержании и языке предполагавшегося народного журнала.
Еще в апреле Толстой получил от сына богатого сибирского золотопромышленника К. М. Сибирякова письмо, в котором тот писал о своем желании предпринять издание дешевого журнала, «доступного пониманию простолюдина», «не желая никаких выгод» и стремясь «только прийти на помощь развитию народного образования».
- 460 -
Толстой 16 апреля отвечал Сибирякову, что он с близким ему Чертковым «толковали о таком журнале». Он направил Сибирякова к Черткову для переговоров о задуманном издании19.
5 мая Чертков послал Толстому программу народного журнала-газеты, составленную им и Л. Е. Оболенским при участии других лиц. Толстой 8 мая писал К. М. Сибирякову: «Программу журнала я прочел и нахожу, что она составлена хорошо. В ней есть что-то новое, свежее... Если народный журнал создастся, я буду стараться как можно больше работать в нем, хорошо бы было увидаться с вами и переговорить»20.
В письме к П. И. Бирюкову около 1 июня Толстой касается вопроса о будущем редакторе народной газеты: «...Вы будете прекрасный редактор, но Чертков еще лучше. Вы во многих отношениях будете лучше его, но в одном, в пуризме христианского учения, никого не знаю лучше его. А это самое дорогое»21.
Сибиряков в начале июля писал Толстому: «Идеальным редактором проектируемого журнала я считаю Вас, Лев Николаевич», на что Толстой отвечал ему около 10—12 июля, что он «в практических делах всегда был неспособен». «Трудом же своим, — прибавлял Толстой, — когда дело установится, буду, если жив буду, помогать всеми силами»22.
11 сентября Чертков сообщал Толстому: «Сибирякова мы с Бирюковым видели здесь [в Петербурге]. 13-го вечером Павел Иванович и я, мы хотим поехать в Москву, чтобы 14-го сговориться с Сытиным относительно издания журнала. Оттуда Павел Иванович вернется в Петербург для окончательного соглашения с Сибиряковым и представления программы на утверждение правительства»23. Однако ни окончательное соглашение с Сибиряковым относительно издания народного журнала не было заключено, ни прошение о разрешении этого журнала не было подано.
17—18 сентября Толстой писал Бирюкову: «Журнал очень вызывает меня к деятельности... Меня смущает научный отдел. Это самое трудное. Как раз выйдет пошлость. А этого надо бояться больше всего».
Очень озабочивает Толстого язык будущего народного журнала: «Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте — не то, чтобы он был однообразен, а напротив — чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа
- 461 -
Аввакума, но только не наш газетный. Если газетный язык будет в нашем журнале, то все пропало»24.
Получив извещение Сибирякова о том, что редактором народной газеты им приглашен Бирюков, Толстой писал: «...Радуюсь полному согласию, установившемуся между вами, Чертковым и Бирюковым. И они и я — мы одинаково смотрим на дело; видим его большую важность и робеем за свои силы. — Я надеюсь, если и пока буду жив, вести — один, а то и два отдела»25.
В письме к Бирюкову от 19—20 октября Толстой уже называет задуманный журнал — «фантастическим пока». Вместе с тем он сообщает, что его новый знакомый Вильям Фрей (В. К. Гейнс) мог бы быть полезным для народного журнала. По мнению Толстого, Фрей «мог вести три отдела: 1) гигиена — народная, для бедняков, практическая гигиена — как с малыми средствами и в деревнях и особенно в городах людям здорово жить... 2) техника первых орудий работ: топора, пилы, кочерги, стиральных приемов26 и снарядов, мешения хлебов и т. п.». И, в-третьих, Фрей мог бы для народного журнала описать свою жизнь в Америке — «о труде, приучении себя к нему, жизни фермерской, о жизни в общинах». В конце письма Толстой спрашивает: «Что журнал? Вы ждете, чтоб я вас подбадривал, а я — чтоб вы»27.
19 октября Чертков писал Бирюкову: «Мне кажется, что ты совершенно прав в том, чтобы не торопиться с журналом. Дело журнала тождественно с делом склада [«Посредника»], и потому было бы неразумно браться за одно в ущерб другому». Следующее и последнее упоминание о задуманном журнале находим в письме Черткова к Толстому от 29 марта 1886 года: «П. И. Бирюков отказывается от мысли начать теперь журнал. И я этому очень рад, так как издание наших книжечек далеко еще не установилось, как следует, и дело это требует всего нашего внимания»28.
На вопрос редактора 85-го тома Полного собрания сочинений Толстого, Л. Я. Гуревич, какими причинами был вызван отказ редакции «Посредника» от мысли об издании народного журнала, П. И. Бирюков в 1931 году ответил, что «одной из причин его отказа от журнала была неуверенность в своих силах и в возможности вести это дело, сохраняя необходимую искренность»29. Без сомнения, редакторы «Посредника» опасались
- 462 -
Цензурных Преследований, которые привели бы к закрытию журнала.
Так закончилась попытка создания народного периодического органа, которой были так увлечены редакторы «Посредника» и сам Толстой.
IV
22—23 сентября Толстого в Ясной Поляне посетил известный в то время автор исторических романов Г. П. Данилевский. Судя по его воспоминаниям, разговор с ним Толстого касался главным образом литературных вопросов (в частности, литературы для народа) и физического труда.
Толстой тепло вспомнил недавно скончавшегося Тургенева («Это был независимый, до конца жизни пытливый ум, и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник... Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренни»).
О книгоиздательстве «Посредник» Толстой говорил:
«Более тридцати лет назад, когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата, с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; пишите для нас, жаждущих живого литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился по мере сил попытаться на этом поприще».
О своем физическом труде Толстой рассказал Г. П. Данилевскому: «Какое наслаждение отдыхать от умственных занятий за простым физическим трудом! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косой, рубанком или иным инструментом... А работа с сохой! Вы не поверите, что за удовольствие пахать! Не тяжкий искус, как многим кажется — чистое наслаждение! Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в жилах, голова светла, ног под собой не чуешь; а аппетит потом, а сон?»30
- 463 -
Толстой не сказал своему гостю (он не любил рассказывать о своих произведениях до их окончания или, по крайней мере, до окончания их отдельных частей), что им только что была написана сказка для издательства «Посредник». 19—20 сентября Толстой глухо уведомлял Черткова: «Я кое-что начал писать — не статью»31. Сказка имела длинное название, как обычно назывались лубочные повести: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе, и о трех чертенятах». О начале сказки С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской 23 сентября: «Левочка без вас написал чудесную сказку, прочел нам, и мы все пришли в восторг. Теперь он ее старательно переделывает и дает в мое издание».
На это письмо Т. А. Кузминская отвечала 25—27 сентября: «Когда же Левочка успел сказку написать? Как же мы не слышали? Как мне жаль, хоть бы ты написала про это»32.
С. А. Толстая отвечала 29 сентября: «Сказку Левочка написал сразу, вечером раз, устал страшно. Это было после вас33. Он с ней теперь возится и переделывает для печати, надеюсь, что для моего издания»34.
Если верно сообщение С. А. Толстой, что Лев Николаевич прочел сказку своим домашним в тот же день, как она была написана, то написание сказки следует приурочить только к одному из двух дней — 20 или 21 сентября.
19—20 октября Толстой писал Бирюкову, что ему «захотелось поправить, почистить» написанную им сказку, что он «уже сделал прежде многие поправки»35.
23 октября Толстой писал Черткову: «Я написал сказку. Хорошо бы было ее издать у Сытина, но цензура не пропустит, и потому хочу попытаться напечатать ее или в «Неделе» или в полном собрании. Мне эта сказка нравится. Желал бы знать ваше впечатление»36.
Этим исчерпываются все имеющиеся в нашем распоряжении данные о времени работы Толстого над «Сказкой об Иване-дураке».
- 464 -
Сказка Толстого построена по образцу многих русских народных сказок, где изображены три брата, из которых старший и второй брат — умные, а младший всеми считается за дурака. В действительности же этот третий брат является самым умным, а братья его — делают ряд безрассудных поступков и попадают в беду. Так и в сказке Толстого старшие братья Семен-воин и Тарас-брюхан становятся жертвами нечистой силы, а младший брат Иван, благодаря своему неутомимому трудолюбию и привязанности к земледельческому труду, выходит победителем из всех трудных положений, в которые он попадает вследствие хитросплетений той же нечистой силы.
Сказка Толстого написана под воздействием, с одной стороны, сочинения Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» с его апофеозом «хлебного труда», с другой стороны — трактата Толстого «Так что же нам делать?»
По словам П. И. Бирюкова, Толстой говорил, что в образе Семена-воина и его царства он изобразил рост милитаризма в европейских государствах37, а в образе Тараса-брюхана и его царства дал изображение развивавшегося капитализма.
Описывая приготовления к войнам и самые войны Семена-царя, Толстой предвидит более широкое, чем было в то время, применение закона о всеобщей воинской повинности (старый дьявол, преобразившийся в воеводу, советует Семену-царю «всех молодых без разбора забрить») и введение общей воинской повинности для женщин (индийский царь начал «не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал»). Предвидит Толстой и изобретение нового оружия — пулеметов, тогда еще не бывших на вооружении ни в одной армии (старый дьявол обещает Семену-царю: «Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать»), а главное — изобретение аэропланов, кидающих разрывные бомбы (индейский царь «послал своих баб по воздуху разрывные бомбы кидать»). Наконец, предвидит Толстой и «заразительность» гонки вооружений (индийский царь «услыхал про Семена-царя и перенял от него все его выдумки, да еще свои выдумал»).
Рассказывая про Тараса-царя, Толстой дает остроумную карикатуру на систему косвенных налогов, составляющих, как известно, главную часть государственного бюджета как при монархическом образе правления, так и при капиталистическом общественном строе («взыскивал он деньги и с души, и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон, и с проходу, и с проезду, и с лаптей, и с онуч, и с оборок»).
- 465 -
Перейдя к описанию царства Ивана-дурака, Толстой очень завуалированно ради цензуры проводит свою излюбленную мысль, что угнетение трудового народа происходит от того, что люди из народа поступают на службу к своим угнетателям и помогают им держать народ в рабстве. Старый дьявол внушает жителям Иванова царства, что если они не пойдут в солдаты, то Иван-царь их «наверно смерти предаст». Дураки отправились к своему царю Ивану-дураку спрашивать, правда ли то, что им говорит старый дьявол, обратившийся в воеводу. Царь-Иван «засмеялся» и говорит: «Как же я один вас всех смерти предам? Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму». И дураки не пошли на войну по призыву воеводы.
В Ивановом царстве не было ни войска, ни денег; жители меняли вещь на вещь или отплачивали — своей работой. С жителей не взыскивались никакие подати и налоги.
Пошел однажды войной против Иванова царства тараканский царь. Жители не оборонялись, когда солдаты стали отбирать у них хлеб и скотину. Они приглашали тараканских солдат к себе жить, если им на своей стороне житье плохое. Солдаты пошли к своему царю и просили отвести их в другое место. Царь рассердился, велел солдатам по всему царству пройти, деревни разорять, дома и хлеб сжигать, скот перебить. Солдаты испугались и начали поступать по царскому указу: жечь дома и хлеб, бить скотину. «Все не обороняются дураки, только плачут... — За что, — говорят, — вы нас обижаете? Зачем, — говорят, — вы добро дурно губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите. — Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось».
В конце дается вставной эпизод, не имеющий прямой связи с основным содержанием сказки. Старый дьявол, обратившись в «господина чистого», обещает дуракам научить их работать головой. «Вы узнаете, — говорит он, — что головой работать спорее, чем руками». Работая головой, «чистый господин» простоял на каланче три дня, но никто за его работу не принес ему есть, и он с голоду «споткнулся, упал и загремел под лестницу торчмя головой».
Сказка заканчивается прославлением Иванова царства и его порядков. «Народ весь валит в его царство... Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки». В последней фразе в первой редакции значилось: «...объедки со свиньями». Чертков в письме к Толстому от 11 ноября предложил выпустить слова «со свиньями» на том основании, что «они здесь не нужны и вредят»38.
- 466 -
«Сказка об Иване-дураке» из всех народных рассказов Толстого выделяется необыкновенным обилием народных слов и выражений, каковы: «наземь», «намедни», «запрег», «подсоблять», «друг дружке глаза повыдрали», «жрать нечего», «дерево грохнулось», «видимо-невидимо», «дело на лад пошло», «валит от него пар, как туман по лесу прошел», «Иван взял топор, размахнулся, да как тяпнет с другой стороны», «неспопанался», «не успел ног выпростать», «в жизнь не видали», «так и уперся Иван» и многие другие. Чувствуется, что автор попал в родную ему стихию крестьянского быта, крестьянских понятий, крестьянского языка. Без сомнения, сказка так нравилась самому Толстому отчасти и потому, что она вся написана всегда восхищавшим его разговорным русским народным языком.
И. М. Ивакин, посетивший Толстого в конце ноября 1885 года, в своих записках передает следующие его слова:
«— Я рад, что разрешили сказку, она будет напечатана в двенадцатом томе, оттуда проникнет в народ»39.
П. И. Бирюков свидетельствует, что по его личному опыту сказка имела большой успех «в простом народе»40.
Х. Д. Алчевская в книге «Что читать народу?» рассказывает про опыт чтения «Сказки об Иване-дураке» крестьянским слушателям (в Екатеринославской губернии). Сказку слушали «с большим интересом и вставляли вполне уместные замечания. Симпатии автора к Ивану-дураку сказались в них с первых страниц. «Этот, должно быть, умнее всех. Все отдает, только не браните. Сам черт ничего с ним не поделает. Он хочет, чтобы все по-божьему жили... Все слова у него правдивые. Ишь, как хорошо Иваново царство идет! Работай — и еда будет!»41
V
Около 15—18 октября 1885 года Толстой писал Т. А. Кузминской, что он желал бы знать, что сказал бы о его сказке Н. Н. Страхов42.
Страхов в Петербурге получил для прочтения от В. Г. Черткова рукопись «Сказки об Иване-дураке». 26 октября он написал Толстому письмо, в котором изложил свое впечатление от нового произведения Толстого. Сказка «опечалила» Страхова, и он «дня два ходил раненый».
По мнению Страхова, сказка Толстого не имеет «сказочного содержания». Это — «что-то деланое, ненатуральное, умышленно-сколоченное
- 467 -
и принимающее на себя маску жизни». «Длинный рассказ должен быть художественною работою». «Голое нравоучение в рассказе потому нехорошо, что оно уничтожает интерес рассказа... вторая половина Вашей сказки не имеет ни главной нити, ни живых лиц, ни живых сцен. А содержания, то есть поучительных тем, Вы вложили столько, что оно торчит большими глыбами, и его хватило бы на двадцать таких сказок».
Страхов излагает свой взгляд на значение искусства. Он пишет: «Если Вы не покажете, что свято пострадать и умереть счастливее, чем жить долго и богато..., Вы ничего не докажете. Спасти душу — вот единое счастье»43.
Главная ошибка Страхова состояла в том, что в своей оценке нового произведения Толстого он забывал, что имеет дело со сказкой, а не с ученым трактатом на социальные темы. В своей работе над сказкой Толстой дал полную волю своей фантазии и нарисовал идеальный, с его точки зрения, общественный строй — без войска, без денег, без купли и продажи, где власть царя является только номинальной и где все жители, включая и царя, заняты земледельческим трудом. Это была, конечно, фантазия Толстого, излагавшая его идеалы, а вовсе не собрание практических советов по устройству общественной жизни. Обратившись к теоретическим статьям Толстого, мы нигде не найдем, чтобы он рекомендовал возвращение к меновому хозяйству или советовал бы жителям какого-либо государства требовать от своего царя, чтобы он, как и все граждане, пахал землю, так как «и царю жрать надобно». Страхов должен бы высказаться по вопросу о том, удовлетворяет ли его нарисованное Толстым идеальное общественное устройство. Об этом Страхов не говорит ни слова, а предпочитает критиковать Толстого на основании исторических данных. «Вы доказываете, что государством, войной, торговлею жить нельзя, а Франция, Англия, Германия живут; Вы пишете, что враг ушел бы из мирной страны, а англичане и не думают уходить из Индии».
Но эти исторические антитезы не обладают убедительностью, как потому, что критикуется не научный трактат, а фантазия автора, так и потому, что исторические данные указываются Страховым не вполне правильно. Всем известно, что покорение англичанами Индии является сложным историческим явлением, в котором переплетаются различные факторы. Известно, какое значение в покорении Индии англичанами играла Ост-Индская кампания, привлекавшая на свою сторону и индийских
- 468 -
феодалов и формировавшая наемные отряды из индийцев (отряды сипаев).
Как человек консервативного образа мыслей, Страхов представлял себе вечным существование буржуазных государств, как Англия, Франция и Германия. Не так мыслил Толстой, жадно ловивший всякое сообщение об ударах, наносимых самодержавным и капиталистическим государствам. 17 октября 1886 года он писал Т. А. Кузминской: «У нас все благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас также, и во всей России, и в Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против анковского пирога44 не только не прекращается, но растет и слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верою в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий»45.
Письмо Страхова произвело на Толстого грустное впечатление; он не отвечал на это письмо. В конце ноября 1885 года И. М. Ивакин слышал от Толстого следующее мнение о Страхове, вызванное его письмом: «Странный это человек Страхов! Деревья есть такие: дерево стоит, но середины в нем нет — она вся выедена. Также и Страхов: в нем вся середина выедена наукой, философией»46.
VI
«Сказка об Иване-дураке» была напечатана в двенадцатой части пятого издания Сочинений гр. Л. Н. Толстого, вышедшей в 1886 году. Вскоре она появилась в отдельном издании «Посредника» с многочисленными цензурными выкидками.
В марте 1887 года «Сказка об Иване-дураке» была представлена «для перепечатки вновь» в Московский цензурный комитет, который запретил новое издание сказки, так как в ней «тенденциозно осуждается вообще весь существующий общественный строй»47.
- 469 -
19 июня 1887 года духовный цензор архимандрит Тихон представил в Петербургский духовный комитет отзыв о сборнике «Народные рассказы», изданном «Посредником», где «Сказке об Иване-дураке» была дана следующая, не лишенная проницательности характеристика:
«Сказка об Иване-дураке» проводит, можно сказать принципиально, мысль о возможности быть царству без войска, без денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя, который по крайней мере ничем не должен отличаться от мужика — мысль о единственно полезном и законном труде — мозольном. Здесь, в этой сказке, прямо осмеиваются современные условия жизни: политические (необходимость содержать войско), экономические (значение денег) и социальные (значение умственного труда)»48.
Своеобразным откликом на сказку Толстого явилась рукопись некоего П. Г. Белотелова «Царство дураков. Сказка. Продолжение сказки «Иван-дурак» Льва Толстого», представленная в московскую цензуру в июле 1892 года. Сказка является, по существу, антиправительственным памфлетом на события «голодного года»; персонажи сказки носят те же имена, что в сказке Толстого, но трактовка образов и вся проблематика сказки — иные.
О жителях Иванова царства в сказке говорится, что «земля хотя и была у них плодородная, но они так глупо и неумело с ней обходились, что и она стала отказываться родить. Дураки видели это и ничего не могли поделать — ведь ничего-то они не знали: ни как обходиться с землей, ни как правильно удобрять ее. Приходилось дуракам все только на своих горбах вывозить. И ломили же они, на руках мозолищи страшные, а сядут обедать — есть нечего». Царь Иван, к которому дураки пришли за помощью, ничем не помог, сказав им: «Да что ж вы ко мне пристали-то? Что ж, что царь, я сам в пять раз дурнее вас». И дураки умирали. «Помирают и ни на что не жалуются».
Дураков завоевали соседи — «гаммы». «Мы, — сказали дуракам гаммы, — вам будем помаленьку есть давать, а вы на нас из всех сил работайте! Согласны, что ли? — Что ж, родимые, — отвечают дураки, — мы на все согласны». Затем «христианский царь Про» и его сын выгнали «гаммов», прогнали Ивана и стали царствовать сами. «И до сих пор процветает это царство».
Цензор В. Назаревский по поводу этой рукописи представил следующий отзыв: «Сказка «Царство дураков. Продолжение
- 470 -
сказки Л. Толстого «Иван-дурак» представляет тенденциозный рассказ о народе, голодающем от своей лености и тупости своего правителя и сперва эксплоатируемом иностранцами — гаммами, а затем порабощенном своими соседями. Признавая такого рода тенденции неуместными в издании, которое будет читаться детьми или простым народом, и вообще предосудительными, я полагал бы означенную сказку не дозволять к печати». Цензурный комитет согласился с мнением цензора и 8 августа 1892 года запретил рукопись к печати49.
VII
Лето 1885 года Т. А. Кузминская, как и в предшествующие годы, проводила с семьей в Ясной Поляне. В это время ею была записана история жизни крестьянки сельца Кочаки, расположенного в трех верстах от Ясной Поляны, Аксиньи Тюриной.
Нам ничего не известно о том, как возникла мысль о записи Т. А. Кузминской истории многострадальной жизни этой крестьянки; мы знаем только, что Татьяна Андреевна, слово в слово, записала весь ее рассказ. Толстого заинтересовал рассказ Тюриной; он не раз присутствовал при записи Т. А. Кузминской рассказа крестьянки, а некоторые страницы сам записал с ее слов. По словам дочери Толстого — Татьяны Львовны, которая нередко присутствовала при записи рассказа Аксиньи, Лев Николаевич относился к рассказу Аксиньи «с восторгом». «Крестьянка, — писала 14 декабря 1922 года Т. Л. Сухотина-Толстая переводчику рассказа на французский язык Шарлю Саломону, — говорила на прекрасном народном языке, на тульском наречии, которое можно считать крестьянским языком центральной России»50.
Когда запись рассказа Аксиньи была доведена до конца. Толстой взялся проредактировать рукопись. Работа была начата в первых числах сентября 1885 года. 7 сентября Толстой сообщал Бирюкову: «Я теперь поправляю рассказ бабы, поехавшей в Сибирь за мужем»51. Но Толстой вскоре занялся другими, более неотложными работами, и редактирование «Бабьей доли» (так назвал Толстой рассказ крестьянки) затянулось. В письме к Т. А. Кузминской около 15—18 октября Толстой писал: «Рассказ Аксиньи лежит на столе, и я ни разу не брался за него; но желаю это сделать... Постараюсь сделать для тебя»52.
- 471 -
28 октября Толстой, как писал он на другой день Софье Андреевне, прочел вслух запись Т. А. Кузминской, чтобы «освежить и проверить свое впечатление». Слушателями были: сама Аксинья, чей рассказ был записан Т. А. Кузминской, новый знакомый И. Б. Файнерман, в то время последователь Толстого, его жена и яснополянский крестьянин Константин Зябрев, у которого жил Файнерман53.
Когда было закончено Толстым редактирование «Бабьей доли» и исправленная рукопись была отправлена Т. А. Кузминской, нам неизвестно.
В то время как Толстой работал над редактированием рассказа крестьянки, в редакции «Посредника» возник принципиальный вопрос, требовавший немедленного разрешения: в рассказах из народной жизни следует ли изображать не только светлые, но и темные стороны жизни народа? Чертков в письме к Толстому от 5 сентября высказывал мысль о нежелательности изображения темных сторон народной жизни; Толстой не согласился с этим взглядом. 7 сентября он писал Бирюкову: «Нельзя и не должно скрывать лжи, неверности и дурное. Надо только осветить все так, что то — страдания, а это — радость и счастье». Как на пример такого изображения дурного и светлого в народной жизни Толстой указывает на работу, которой он был занят. «Я теперь поправляю рассказ бабы, поехавшей в Сибирь за мужем. Это вся развратная жизнь и лживая, и в ней высокие черты»54.
Рукопись рассказа Аксиньи Тюриной, записанного Т. А. Кузминской и исправленного Толстым, сохранилась. Почти все исправления, сделанные в ней Толстым, указаны в публикации текста рассказа в сборнике «Толстой-редактор»55.
Рассказ Аксиньи в записи Т. А. Кузминской начинался словами: «Довольной оставалось два года. Я тогда девкой была на 17-м году, у батюшки с матушкой жила. Село наше было в 17-ти верстах от Тулы». Верный своему обыкновению начинать художественное произведение с действия, а не с описания, Толстой следующим образом изменяет начальные строки рассказа: «Шла я замуж не своею охотой. Мне еще 17 годов не вышло, а уж стали меня сватать. Было это дело за два года до воли». Подробность, что село, в котором жила рассказчица, было расположено в семнадцати верстах от Тулы, совершенно исключается Толстым, как не имеющая значения для хода рассказа.
В дальнейшем исправления Толстого сводились главным образом к добавлению новых подробностей в описания хорошо
- 472 -
знакомого ему крестьянского быта, к замене отдельных слов и выражений более удачными, к более живому изображению некоторых сцен, к более глубокому раскрытию характеров действующих лиц. Последнее замечание относится прежде всего к характеру главной героини — Аксиньи, носящей в рассказе имя Анисьи.
Аксинья рассказывает всю историю своей жизни от выхода замуж до времени рассказа. Муж ее Данила был ей не мил («конопатый, малорослый, малосильный»).
Много горя принесла Аксинье ее свекровь, по прозвищу Козлиха (в рассказе — Маслиха). Уже на первом году замужества Аксиньи Козлиха упорно старается свести ее с своим братом, чтобы поссорить ее с мужем; уговаривает брата даже применить силу против Аксиньи. Но Аксинья устояла против всех приставаний и козней Козлихи. «А Данила, — рассказывала Аксинья, — как и прежде, со мною желанный, — и хоть я его не любила, а все же грешить против него не хотела».
Через несколько лет Аксинья все-таки поддалась влиянию окружающих и вступила в краткую временную связь с соседом Матвеем. Виновата была опять та же Козлиха. Она распускала про Аксинью слухи, что она живет с Матвеем, и муж Аксиньи верил матери. Толстой в сделанных им вставках так описывает душевное состояние, овладевшее в то время Аксиньей: «Худого за мной не было. А обижали меня и наговаривали, как про самую гулящую бабу. Пуще всего запало Макару (так иногда в рукописи называется муж Аксиньи. — Н. Г.) в сердце, что я с Матвеем живу. И сделалось тут надо мной мудреное дело. Дразнят меня Митюхой и свекровь и муж. И стала и я сама на Матвея приглядываться. А он с этих ли слов или так сам собой стал тоже ко мне приставать. Но боялась я закон нарушить и держала саму себя крепко. Да видно, силен враг и горами качает...» «Не мил был мне Макар, а и грешить против него тошно было. И к Матвею сердце не лежало. Согрешила сама не знаю зачем — так, по глупости. Люди делают, дай и я тоже. Радости мало, а страха и стыда много».
«Прошел год, — рассказывала далее Аксинья. — Забыла я свои глупости, стала ладно жить с Макаром, и очень уж желанный до меня стал».
На одиннадцатом году их женатой жизни с ними случилось несчастье. Жили они в нужде, и Данила решил поправить свои дела воровством. Его судили и приговорили к высылке на житье в Сибирь. Аксинья последовала за мужем вместе с детьми. Тогда-то и проявились высокие черты этой крестьянской женщины. Дорогой ей пришлось перенести много страданий и лишений, но все эти трудности пути и тюремной жизни не сломили ее энергии и не поколебали ее душевной бодрости.
- 473 -
Всю дорогу она заботилась о том, как бы облегчить мужу и детям тяготы этапной и тюремной жизни. Но Данила все же не вынес трудностей тюремной жизни и переходов по этапу и умер дорогой. Умерла и ее девочка. Аксинья с двумя мальчиками вернулась в родное село и поселилась у матери. Оглядываясь на прожитую жизнь, она говорила (в переработке Толстого): «...вся та жизнь как в тумане представляется, только и памятно мне, как в остроге с Макаром жила, и все те муки, как радость, поминаю, а остального хоть бы не было».
Через восемь лет одинокой жизни Аксинья вторично вышла замуж; о своей замужней жизни она рассказывала: «...Доживаю век с стариком. Не обижает он детей и до меня хорош... Только нет никого для меня против Данилы. Как вспомню я то времячко, как с ним по Сибирям муку принимала, взыграет во мне сердце. Любила я его за то, что прост сердцем был».
Этими словами, вписанными Толстым, заканчивалась рукопись рассказа Аксиньи.
Рассказ «Бабья доля» был напечатан в № 4 журнала «Вестник Европы» за 1886 год; затем появился в виде отдельной книжки, с некоторыми сокращениями, в издательстве «Посредник» (цензурное разрешение 18 мая 1886 года).
17 октября 1886 года Толстой писал Т. А. Кузминской, что накануне от прочел «в первый раз» «Бабью долю» в печатном виде «и не мог удержаться, чтобы не поправлять ее. И поправил до московского острога. Завтра надеюсь кончить».
Далее Толстой выражал неудовольствие тем, что Татьяна Андреевна «не поработала больше» над историей Аксиньи56.
Печатный экземпляр рассказа «Бабья доля» с исправлениями Толстого сохранился. Исправления Толстого коснулись, главным образом, ареста Данилы и отправления его в Сибирь.
После чтения вслух рассказа «Бабья доля» Толстой писал Софье Андреевне: «Для народа это не годится, — слишком фотографично и почти безъидеально, но для нашего брата очень хорошо. Я так и решил, и на этом основании буду поправлять»57.
Перечитав рассказ, Толстой, очевидно, убедился, что «высокие черты» крестьянской женщины изображены в нем недостаточно сильно, но картина исполненной трудов и лишений жизни русской крестьянки получилась очень ярка и потому поучительна «для нашего брата» — интеллигента.
И Толстой не ошибся в оценке рассказа Аксиньи интеллигентными читателями. 9 марта58 1886 года И. А. Гончаров
- 474 -
писал А. Ф. Кони: «Посылаю, т. е. заношу сам, вместе с этой запиской «Вестник Европы». Там прочтите прекрасный рассказ госпожи Кузминской «Бабья доля». Автор заставляет саму героиню, простую деревенскую женщину, рассказывать свою участь. Это так искусно написано, т. е. так просто и натурально, что не оторвешься до конца»59.
В 1923 году рассказ «Бабья доля» появился во французском переводе Шарля Соломона с введением и примечаниями переводчика. В предисловии переводчик сообщает, что мысль о переводе «Бабьей доли» подал ему еще в 1893 году в личной беседе в Москве сам Толстой.
С французского издания рассказ был переведен на голландский, немецкий, английский и итальянский языки.
В 1945 году появилось новое издание того же французского перевода «Бабьей доли» — с параллельным русским текстом — под названием «Destin de paysanne».
Книга вышла в серии «Чтения на двух языках Института славяноведения Парижского университета». Русский текст дан с ударениями, что указывает на учебную цель издания. В 1946 году в журнале «Revue des études slaves»60 появилась статья А. Мазона «Léon Tolstoj et Destin de paysanne», с текстом «Бабьей доли».
VIII
Основание нового издательства для народного читателя с совершенно определенным направлением, руководимого знаменитым писателем, не могло пройти не замеченным в периодической печати того времени. Во многих газетах и журналах появился ряд рецензий на первые издания «Посредника».
В петербургской либеральной газете «Новости» 16 июля 1885 года появилась большая статья «Книжки для народа», подписанная инициалами «Е. Н.», принадлежавшая сотруднице «Посредника» Е. С. Некрасовой. Статья горячо приветствовала появление первых четырех книжек «Посредника», вышедших с девизом «Не в силе бог, а в правде»: «Кавказский пленник», «Чем люди живы» и «Бог правду видит, да не скоро скажет» Толстого и Христос в гостях у мужика» Лескова.
О книжках Толстого автор пишет, что они «чудно хороши по своей художественной простоте», но возражает против переделки одного места в рассказе «Бог правду видит, да не скоро скажет», появившемся впервые в «Азбуке» Толстого в 1872 году.
- 475 -
Здесь старик Аксенов, пользующийся репутацией правдивого человека, на вопрос начальника, кто из арестантов устраивал подкоп, отвечает: «Я не видал и не знаю». Но в действительности Аксенов знал, что подкоп устраивал его враг, по наговору которого он попал на каторгу, и не хотел его выдавать. Аксенов, следовательно, сказал неправду. В тексте рассказа в издании «Посредника» ответ Аксенова начальнику дан в следующей редакции: «Не могу сказать, ваше благородие. Мне бог не велит сказать. И не скажу. Что хотите со мной делайте — власть ваша». По этому поводу автор статьи пишет: «В этом, несомненно, проглядывает заботливое охранение народной нравственности. На наш взгляд заботливость излишняя. Народ — не ребенок, он достаточно опытен в жизни, прекрасно сумеет отличить ложь безнравственную от лжи, служащей во спасение ближнему»61.
Изменение ответа Аксенова начальнику было сделано Толстым после письма Черткова от 31 января 1885 года, где тот писал: «Скажу вам... о том, что меня давно мучает в вашем рассказе «Бог правду видит»... Аксенов... прибегает к сознательной лжи ради спасения своего товарища, между тем самый этот его поступок производит впечатление высшего подвига его жизни. И таким этот поступок мог бы остаться и при освобождении его от обмана... Если вы не находите, что ошибаюсь, то, Лев Николаевич, вы доставили бы мне настоящее счастье, если б немножко изменили это место сами для лубочного издания»62.
Журнал «Женское образование» в октябрьском номере 1885 года, рецензируя первые семь книжек «Посредника», выделил как «вполне пригодные для народного чтения» — «Кавказский пленник», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Упустишь огонь, не потушишь». «Будучи идейны и высокопоучительны по содержанию, они в самом основании своем чрезвычайно жизненны. Изложение же их, в смысле простоты и ясности стиля, безукоризненно».
Что же касается легенды «Чем люди живы», то рецензент находит, что «пока гр. Толстой рассказывает о том, как жили Семен и Матрена и как они приняли к себе Михаилу, — вы как бы живете около этих людей, до того рассказ правдоподобен. Но как только Семену и Матрене является видение, говорящее каким-то труднопонятным яыком, читателю становится ясно, что все это выдумано, и повествование теряет для него свою прелесть»63.
- 476 -
О рассказе «Два старика» журнал писал, что и в нем «проглядывает мистический элемент. Но зато весь он написан так просто, ярко, прекрасно, что этот недостаток как-то невольно скрадывается в нем». Рецензент догадался, что рассказ, изданный анонимно, написан Толстым. «Если это действительно так, то жаль, что он не подписан графом, потому что за его именем книжка пошла бы несомненно быстрее, а для таких книжек, как «Два старика», желательно самое широкое распространение»64.
Оригинальный отзыв о первых книжках «Посредника» находим в газете «Русское дело», издававшейся С. Ф. Шараповым: «По гр. Л. Толстому выходит, будто нравственное совершенство достигается не через постепенное тяжкое воспитание и упорную душевную борьбу, а является плодом единичного, чуть ли не мгновенного уразумения истины... Где колебания, борьба, падение? Ничего этого нет ни в Елисее, оставившем свое задушевное намерение ради самоотвержения («Два старика»), ни в сапожнике, посвящающем целые дни на услуги чужим несимпатичным людям («Где любовь, там и бог»), ни в рассказе «Свечка», где удивительный, если угодно, даже великий поступок одного мужика совершенно подавляет собою и побеждает закоснелого злодея... Нравственное возрождение и совершенство представлены автором вещами настолько легкими, что они могут многих воспламенить и привлечь, но потом, оказавшись на деле вовсе не такими, повергнуть человека или в отчаяние, или в нравственное безразличие»65.
Журнал «Книжный вестник», орган Русского общества книгопродавцев и издателей, поместил об изданиях «Посредника» грубую, издевательскую статью, в которой писал:
«Графу Л. Н. Толстому почему-то показалось, что мужик наш безнравственный человек, и, конечно, при этом и не религиозный. Ведь это ужасно! Надо помочь этому горю: и вот Л. Н. Толстой начинает поучать его легендами вроде трех «Беломорских старцев», бегающих по воде под молитву «трое вас, трое нас, помилуй нас»; или негаснущей свечой на сохе хлебопашца, или сказочками об Иване дураке и винокуре и прочей, даже не мелочью, а дребеденью, вовсе не удовлетворяющей мужика, для которого они написаны, и фантазия которого своими доморощенными легендами и вымыслами гораздо богаче этих побасенок... Сказками мужик наш богат и сам... дайте ему чтение здоровое, историческое или бытовое, а не сказки... Научите его тому, что он может извлекать из окружающей его природы, что он может сделать своими богатырскими руками... и за
- 477 -
это он скажет великое спасибо и расскажет вам сказку лучше вашей»66.
Журнал «Русский начальный учитель» в передовой статье не одобрял книжки «Посредника» за «слишком поучительный характер, который легко может надоедать; правда, поучение предлагается обыкновенно в форме рассказа, но рассказа с предвзятыми идеями. Такие таланты, как гр. Л. Толстого, нередко выносят эти путы предвзятых идей и дают все же прекрасные образы, но уже в тех, которые, по слухам, проникшим в печать, только исправлялись гр. Л. Толстым, часто сквозят белые нитки — впечатление портится. Рассказы из столь чуждой нашему народу жизни, как рассказ о жизни Сократа, по нашему мнению, только в редких случаях могут производить сильное впечатление на читателя-крестьянина»67.
В другой рецензии на издания «Посредника» «Русский начальный учитель» выделил как «истинно художественные», действующие «прямо на сердце человека» рассказы Толстого «Бог правду видит...», «Где любовь, там и бог» и «Два старика», но резко напал на «Сказку об Иване-дураке». Не соглашаясь с Толстым в том, что сила и счастье жителей Иванова царства заключались в непротивлении злу, рецензент писал: «В сказке все это легко устроить, но так ли бывает в действительности! За примером ходить не далеко. Год тому назад англичане без выстрела заняли целое азиатское государство Бирму; жители не сопротивлялись злу, но им так хорошо стало, что теперь идет там ожесточенная война, в которой англичане даже не оказались победителями — значит, и год тому назад сопротивление было возможно, а именно было непротивление злу»68.
«Сказку об Иване-дураке» и журнал «Народная школа» называет «сумбуром», «апологией глупости», «грубым пасквилем на умственный труд». Комментируя непротивление дураков, журнал пишет: «Как бы хорошо, если бы и русские так оборонялись и от татар, и от поляков, и от французов. Всем врагам нашим так же бы гнусно стало, и они все также бы разбежались!..» Высоко оценивая рассказы «Чем люди живы», «Упустишь огонь — не потушишь», «Бог правду видит» и особенно «Два старика», который «прекрасен во всех отношениях», журнал называет «жалкими», «приносящими большой вред народу» сказки Толстого и выражает надежду, что «высокодаровитый писатель сам увидит, что он пошел по ложному пути и обратится
- 478 -
снова на прежнюю дорогу, по которой он шел столько времени, сопровождаемый почетом и уважением своих сограждан»69.
Журнал «Воспитание и обучение» назвал склад «Посредника» «образцом книгопродавческой фирмы». О рассказе «Упустишь огонь — не потушишь» рецензент писал: «Тут нет навязываемой морали, тут страница из жизни...» Недостатком других рассказов Толстого журнал считает наличие «видений», опасность которых в том, что «этим дается право на существование многим другим суевериям». Рассказ «Свечка» рецензент считает неудачным. «По прочтении его у читателя является недоумение, чем же однако добрый мужик «победил» злого приказчика? Тем ли, что готов был терпеть, не ругаясь? Но ведь эта черта у него и раньше была и не побеждала. Значит, дело не в ней, а в этой свечке, которую, по поверью народному, человек зажег на погибель врага. Своего рода заговор и следовательно своего рода месть, вполне удавшаяся. Для простого читателя этот рассказ является как поддержкой грубому суеверию, так и поводом к жестокому заключению о приказчике: так ему и надо!»70
Х. Д. Алчевская в книге «Что читать народу?» в своем отзыве о «Сказке об Иване-дураке», совершенно не касаясь едкой сатиры Толстого на самодержавие и капитализм, имея в виду только памфлет на интеллигенцию в образе старого дьявола, заканчивает рецензию словами: «Не сочувствуя этому издевательству над умственным трудом, считаем совершенно излишним вводить народную сказку в народную библиотеку»71.
IX
Подготовляя новое издание собрания сочинений Льва Николаевича, Софья Андреевна решила включить в него начатые ранее, но не законченные Толстым рассказы: «История лошади» (как в то время Софья Андреевна называла будущего «Холстомера») и «Смерть Ивана Ильича».
18 июня 1885 года Н. Н. Страхов писал Н. Я. Данилевскому, что, гостя в Ясной Поляне, он читал последние народные рассказы Толстого и незаконченный рассказ «Лошадь»72. По всей вероятности, Страхов читал этот рассказ в копии С. А. Толстой.
Предыдущая история «Холстомера» рассказана в одной из
- 479 -
моих книг73. В главе, посвященной истории «Холстомера», мною ошибочно указана предположительная дата первой редакции «Холстомера» — 1863 год. В действительности первая редакция повести относится к 1861 году, как это убедительно показано в статье Л. Д. Опульской «Творческая история повести «Холстомер»74. Ею же произведена реконструкция ранней редакции «Холстомера»75.
Работа над повестью «Холстомер» продолжалась и в 1863 году, как об этом свидетельствуют дневниковые записи Толстого от 23 февраля и 3 марта, а также письмо к Фету от начала мая 1863 года, в котором Толстой писал, что он занят «историей пегого мерина», которую «к осени» думает напечатать76. Но с осени 1863 года Толстой был всецело поглощен работой над «Войной и миром», и к работе над начатой повестью он более не возвращался.
Повесть была названа по имени «пегого мерина» — «Хлыстомер».
Сначала Толстой мечтал назвать свое новое произведение не повестью, а «песней» (в ранней редакции «Холстомера» вторая глава первоначально имела название «Песнь II». Но слово «Песнь» было тут же зачеркнуто и заменено словом «Глава»).
Повествование ведется в нескольких планах. Прежде всего перед читателем развертывается широкая картина веселой и разнообразной жизни большого табуна заводских лошадей, в центре которого и величественная, и жалкая фигура бывшего рысака Хлыстомера. Автор выказывает себя большим знатоком и любителем мира животных. Лошади размышляют, наблюдают, разговаривают так же, как люди, причем в иных случаях психология животных обрисована такими чертами, которые могут относиться и к психологии людей. Так, «двухлетняя лысая кобылка», «всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой... как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица».
Хлыстомер, рассказывая лошадям про свою прошлую жизнь, высказывает отрицательное отношение к людскому понятию о праве собственности во всех его видах: к собственности на вещи, на животных, на людей.
Говоря о бессмысленности крепостного права, Хлыстомер высказывает следующее замечательное суждение: «Есть люди, которые называют других людей своими, а эти люди сильнее, здоровее и даже досужнее хозяев».
- 480 -
Хлыстомер отрицает также право собственности царей на власть над своими подданными. Это последнее отрицательное суждение Хлыстомера по цензурным соображениям не могло быть напечатано в первом и во всех последующих переизданиях «Холстомера»; оно появилось только в 26-м томе Полного собрания сочинений в 1936 году. Вот его текст: «Государь говорит: государство мое; но государство это не соответствует нисколько его личному благосостоянию. Он не имеет вследствие этой собственности ни больше силы, ни больше ума, ни больше образования, ни главного, что дороже всего каждому животному, — ни больше досуга»77.
Как всегда, Толстой строго судил свое начатое произведение. 3 марта 1863 года он записал в дневнике: «В мерине все неидет, кроме сцены с кучером сеченым и бега»78.
В ранней редакции «Холстомера» находим две сцены телесного наказания дворовых, приставленных к лошадям графа. В первой сцене конюх (а не кучер) был наказан конюшим за то, что в праздник напился пьян и оставил без корма Хлыстомера, которого подарил или продал ему владелец. Хлыстомер рассказывает лошадям, что на другой день конюх «особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной, дворовской спины его было что-то грустное и наказанное». Хлыстомер слышит, как приставленный к нему конюх рассказывал другим конюхам про конюшего: «...Вчерась зашел сюда, да и говорит: «Корму нет». И ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека! Кабы не свой жеребенок, ничего бы. Креста, видно, на нем нет. Сам считал, варвар. И сам генерал так не парывал. Видно, христианской души нет».
Другой случай — наказание кучера — только кратко упоминается в рассказе. Хлыстомер рассказал, как он попал к новой владелице — старушке, которая «ездила все» к Николе-Явленному и секла кучера. Кучер плакал в стойле, на храпу у Хлыстомера. «Я тут убедился, что слезы имеют соленый вкус», — говорил Хлыстомер.
Таким образом, в повести, начатой в год отмены крепостного права, Толстой дважды пишет о порке дворовых.
Последние страницы повести были написаны тогда конспективно. Рассказ Хлыстомера во второй вечер о своей прошлой жизни излагается то от первого, то от третьего лица. Софья Андреевна, переписывая рукопись, заметила эту нестройность изложения, и везде последовательно изменила в рассказе Хлыстомера третье лицо на первое, сделав соответствующую оговорку.
- 481 -
В конце повести появляются два новых лица — князь Серпуховской, бывший владелец Хлыстомера, промотавший состояние в два миллиона, а теперь обедневший и опустившийся, и его приятель, позднейший владелец Хлыстомера, молодой красивый богач. В окончательной редакции повести Серпуховскому отведена важная роль.
Окончательно одряхлевший Хлыстомер в первой редакции повести умирает под ножом «страшного человека» — драча.
Толстой сначала не соглашался на просьбу Софьи Андреевны — исправить и закончить «историю лошади»; ему не хотелось прерывать работу над трактатом «Так что же нам делать?» «Пусть выйдет в посмертном издании» — говорил он79. Но с течением времени Толстой все больше склонялся к тому, чтобы закончить и напечатать повесть.
31 июля 1885 года И. М. Ивакин пишет в своих «Записках»: «Читал (в рукописи) повесть Льва Николаевича «История одной лошади». Перед обедом ходил ко Льву Николаевичу в кабинет благодарить — в такой восторг привела меня повесть! Он шил сапоги, сказал, что и ему жалко, что не кончена. — Только я, точно мертвый писатель — поправить дело нельзя. Но у меня для интеллигентной публики есть в этом роде — я жене обещал кончить начатый года три тому назад рассказ «Смерть Ивана Ильича». Это в таком же роде. А в рассказе этом, намедни, когда я перечитывал, показалось мне ужасно смешно, как мерин говорит, что он в первый раз узнал, что у людей слезы соленые. Я сам-то забыл — писал уж давно, лет двадцать пять назад — и показалось ужасно смешно. Рассказ написан был очень быстро, но так и остался и останется не отделан — нечего делать! В голове у меня, сколько помню, была ужасно ясная, живая картина смерти мерина, очень она меня трогала! Но параллель мне кажется немного искусственной»80.
23 сентября Софья Андреевна писала сестре: «У Левочки набралось... столько дела, как давно не было... Он взял все те отрывки пересмотреть и поправить, которые поступят в новое издание: «История лошади», «Смерть Ивана Ильича» и другие. Через неделю их надо печатать, так как все подвигается к концу». 29 сентября Софья Андреевна писала ей же: «Он взял поправлять по вечерам историю лошади, на той неделе ее надо отдать в печать, стало быть дело очень к спеху».
Взявшись за исправление и окончание «Хлыстомера», Толстой обратился к М. А. Стаховичу с просьбой получить от
- 482 -
его отца А. А. Стаховича некоторые сведения относительно Хлыстомера и других известных заводских лошадей. Ему нужны были сведения о родословной Хлыстомера, о Хреновском конном заводе, о секундах нормальной и предельной резвости, о названиях выдающихся производителей рысаков и кровных лошадей. — «Напишите вашему отцу, что я мечтаю съездить к нему в Пальну — затеряться в его табунах».
А. А. Стахович (вероятно, через сына) передал Толстому нужные ему сведения, и Толстой с его слов сделал некоторые исправления в рассказе: правильно указан цвет лошади — вороно-пегий вместо гнедо-пегого, родители называются их действительными прозвищами. Кроме того, А. А. Стахович указал, что прозвище лошади, о которой Толстой писал в рассказе, было не Хлыстомер, а Холстомер (шагает, будто холсты меряет)81.
Начался внимательный — с самого начала — просмотр ранней редакции «Хлыстомера».
«Мой сын, — писал А. А. Стахович, — рассказывал мне, как при нем, заканчивая и отделывая повесть, Лев Николаевич говорил, что после тяжелого труда многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазии»82.
На первых страницах было сравнительно немного авторских исправлений, преимущественно стилистического характера.
Далее рассказ получает обличительное направление, и число авторских исправлений увеличивается. В рассуждения Холстомера о вреде крепостного права вносится существенное изменение. Теперь это рассуждение дается в следующей редакции: «Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло».
С появлением в рассказе новых лиц — князя Серпуховского и последнего хозяина Холстомера — обличительный элемент в рассказе значительно усиливается.
Характеристика гусарского офицера Серпуховского дается гораздо подробнее, чем в ранней редакции. Это — прогоревший аристократ, опустившийся «физически и морально и денежно». Несмотря на свой еще не старый возраст, он производит
- 483 -
впечатление обрюзгшего старика. Весь интерес его жизни состоит в том, что он вспоминает и рассказывает другим про свою прежнюю роскошную, беспечную жизнь.
Он приезжает в гости к дальнему родственнику и приятелю, новому хозяину Холстомера, владельцу конного завода.
Это был один из тех московских богачей, «которые... ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое и самой новой марки в самых дорогих гостиницах».
Он ведет гостя осматривать кровных лошадей. Холстомер, мимо которого они проходили, узнал своего бывшего хозяина, но Серпуховской не узнал его. После осмотра лошадей хозяин ведет гостя в свой дом, где «был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной», подан был серебряный самовар. На хозяйке было «много брильянтов и колец, и все дорогие». На голове у нее были «золотые, какие-то особенные шпильки». На собачке был надет серебряный ошейник. «От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью». «Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка богатства и отсутствия умственных интересов». Книг не было.
Сильное впечатление производит написанная заново заключительная глава рассказа, содержащая картины смерти Холстомера и князя Серпуховского.
У Холстомера появилась короста; хозяин велел в тот же день удалить его с варка. Пришел драч.
Описание смерти Холстомера, хотя эта смерть была насильственной, по мысли автора, не должно производить тягостного впечатления, а скорее вызывает умиротворенное настроение. После того, как драч ножом перерезал ему горло, Холстомер «вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни»83.
Далее рассказывается: «Он закрыл глаза и стал склонять голову... Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало».
После смерти Холстомера тело его продолжало служить животным и людям. Мясо его ели собаки, клевали вороны и коршуны; на заре волчица, жившая в овраге старого леса, кормила его мясом своих пятерых волчат. Шкура Холстомера пошла на поделки; кости его мужик сложил в мешок и пустил в дело.
Полной противоположностью трудовой жизни Холстомера, который даже после своей смерти продолжал быть полезным
- 484 -
людям и животным, является эгоистическая, праздная, распущенная жизнь князя Серпуховского. Толстой не описывает ни последние годы его жизни, ни его смерть, и говорит только: «Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после». И далее автор саркастически замечает: «Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились». О похоронах Серпуховского сказано: «А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей».
С чувством глубокого презрения описывает Толстой церемонию пышных похорон Серпуховского: «...Мертвые, хоронящие мертвых84, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир и хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями, тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею».
Повесть «Холстомер» имела большое значение в истории художественного творчества Толстого. Эта повесть является первым художественным произведением Толстого «для интеллигентных читателей», написанным с точки зрения миросозерцания Толстого после происшедшего в нем переворота. Последние страницы рассказа проникнуты резко отрицательным отношением к образу жизни привилегированных классов и к их лицемерной морали.
Повесть «Холстомер» служит как бы этюдом к тем главам романа «Воскресение», где обличение роскошной, паразитической жизни высших классов дано с огромной, свойственной Толстому силой.
12 октября С. А. Толстая уехала из Ясной Поляны в Москву, взяв с собой для сдачи в печать тексты «Холстомера» и «Смерти Ивана Ильича».
«Холстомер» был включен в состав третьего тома пятого издания сочинений Толстого, который вышел из печати в 1886 году85.
- 485 -
X
С сентября до конца 1885 года Толстой в основном был занят продолжением трактата «Так что же нам делать?»
15—16 октября он писал Черткову: «Работается так много, как давно не было. Только горе — пишу все рассуждения в статью Что нам делать. И знаю, и согласен с вами, что другое нужнее может быть людям, да не могу — нужно выперхнуть то, что засело в горле. И кажется, скоро освобожусь»86.
Тогда же (15—18 октября) в письме к Т. А. Кузминской Толстой писал, что «желал бы очень знать мнение» ее мужа А. М. Кузминского о том, что им было написано «об органической и эволюционной теории в науке», «которую, — прибавлял Толстой, — я считаю суеверным вероучением царствующей науки»87. Следовательно, тогда уже были написаны главы XXVI—XXXVI трактата «Так что же нам делать?», где Толстой критикует позитивную философию Огюста Конта.
В главе XXVI Толстой пишет: «Где бы мы ни жили, если мы проведем вокруг себя круг в сто тысяч, в тысячу, в десять верст, в одну версту, и посмотрим на жизнь тех людей, которых захватит наш круг, мы увидим в этом кругу заморышей детей, стариков, старух, родильниц, больных и слабых, работающих сверх сил и не имеющих достаточно для жизни пищи и отдыха, и оттого преждевременно умирающих; увидим людей в силе возраста, прямо убиваемых опасной и вредной работой».
И Толстой ставит вопрос:
«Каким образом может человек, считающий себя — не говорю уже христианином, не говорю образованным или гуманным человеком, но просто человек, не лишенный совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая участия в борьбе за жизнь всего человечества, только поглощать труды борющихся за жизнь людей и своими требованиями увеличивать труд борющихся и часто гибнущих в этой борьбе?».
На этот вопрос Толстой отвечает следующим образом:
«Для того, чтобы освободить себя от свойственного и естественного всем труда, перенести его на других и не считать себя при этом изменниками и ворами, возможно только два предположения: первое — что мы, люди, не принимающие участия в общем труде, мы — особенные существа от рабочих людей и имеем особенное назначение в обществе...; и второе — что то дело, которое мы... делаем за остальных людей, так полезно для всех людей, что, наверное, выкупает тот вред, который мы делаем другим людям, отягчая их положение».
- 486 -
«Самое древнее вероучение в нашем мире, оправдывающее измену людей их основной обязанности, было вероучение церковно-христианское». По этому вероучению, «люди различествуют по воле бога друг от друга, как солнце от луны и звезд, а звезды между собой: одним людям повелено от бога иметь власть над всеми, другим над многими, третьим над некоторыми, четвертым повелено от бога повиноваться». «Власть царей, духовенства и дворян священна»; «устройство общества должно быть такое, какое есть, и иное быть не может».
Но церковно-христианское вероучение уже «расшатано в своих основах». На смену ему пришло «государственно-философское учение Гегеля». По этому учению выходит, что «все разумно, все хорошо, ни в чем никто не виноват», что нет ни зла, ни добра, что «бороться со злом человеку не нужно, а нужно проявлять только дух», и что «учрежденный и поддерживаемый людьми порядок жизни учрежден и поддерживается не людьми, а есть единственно возможная форма проявления духа или вообще жизни человечества».
Это учение Гегеля также отжило. Его сменило новое «и теперь царствующее вероучение» — «вероучение научное, не в простом смысле этого слова, означающее знание вообще, но в смысле одного особенного по форме и по содержанию рода знаний, называемого наукой. На этом-то новом вероучении преимущественно и держится в наше время оправдание, скрывающее от праздных людей их измену своему призванию». По мнению Толстого, это оправдание «слагается по существу из тех же двух основных положений», как и церковно-христианское: «1) мы, люди особенные, мы, люди образованные, служим прогрессу и цивилизации и тем делаем для черни великую пользу; 2) чернь необразованная не понимает той пользы, которую мы приносим, а потому не может быть в ней судьею».
Толстой утверждает, что «деятельность людей науки и искусства не признается полезною никем из рабочих людей. Польза этой деятельности признается только теми, которые ее производят или желают производить. Рабочий народ — тот самый народ, который несет на своих плечах весь труд жизни и кормит, и одевает людей наук и искусств, не может признавать деятельность этих людей полезною для себя, потому что не может иметь даже никакого представления об этой, столь полезной для него деятельности. Деятельность эта представляется всегда рабочему народу бесполезной и даже развращающей. Так, без исключения, относится рабочий народ к университетам, библиотекам, консерваториям, картинным, скульптурным галереям и театрам, строимым на его счет...»
«Человек науки или искусства... чтобы производить свой нежелательный для рабочего народа товар, отбирает от народа насильно, через государственных людей, большую долю его труда
- 487 -
на постройки, содержание академии, университетов, гимназий, школ, музеев, библиотек, консерваторий и на жалованье людям наук и искусств...»
«Люди наук и искусств и не считают нужным прикрываться стремлением к пользе; они даже отрицают цель полезности — так они уверены не то что в полезности, но даже в святости своего занятия».
«Толпа верит в то, что «наука» есть что-то такое самобытное, как церковь, не подлежащее ошибкам, а не просто измышления слабых и заблуждающихся людей, которые только для важности подставляют внушительное слово «наука» вместо мыслей и слов людей».
Как пример такого «измышления» Толстой указывает на «весьма плохого» английского публициста Мальтуса, «сочинения которого все забыты и признаны ничтожными из ничтожных». Мальтус написал книгу «Опыт о законе народонаселения», где утверждает, что народонаселение увеличивается в геометрической прогрессии, а средства пропитания — в арифметической. Несмотря на полную «бездоказательность, неправильность и совершенную произвольность выводов» Мальтуса, ученые признали открытый им мнимый закон, а «в толпе праздных людей было благоговейное доверие к открытым великим законам Мальтуса». Произошло это потому, что «выводы, прямо вытекающие из этой теории, были следующие: бедственное положение рабочих людей не происходит от жестокости, эгоизма и неразумия людей богатых и властных, а оно таково по неизменному, не зависящему от людей закону, и если кто виноват в этом, так это сами голодные рабочие: зачем они, дураки, родятся, когда знают, что нечего им будет есть; и потому богатые и властные классы нисколько не виноваты и могут спокойно продолжать жить, как жили... Толпа образованных, т. е. праздных, людей, чутьем зная, к чему ведут эти выводы, приветствовала теорию с восторгом, наложила на нее печать истинности, т. е. научности, и носилась с ней полстолетия»88.
XI
В тридцатой главе своего трактата Толстой резко критикует позитивную философию Огюста Конта.
Основным пунктом философии Конта Толстой считает его утверждение о том, что «все человечество есть неумирающий организм, люди — частицы органов, имеющие каждый свое специальное призвание для служения целому. Точно так же, как клеточки, слагаясь в организм, разделяют между собою труд для
- 488 -
борьбы за существование целого организма, усиливают одну способность и ослабляют другую, и слагаются в один организм, чтобы лучше удовлетворить потребности целого организма... точно то же происходит и в человечестве и человеческих обществах. И потому, чтобы найти закон жизни человека, нужно изучать законы жизни и развития организмов».
Толстой выражает несогласие с этим положением О. Конта. Он считает «произвольным и неправильным» утверждение о том, что человечество есть организм. Произвольным Толстой считает утверждение Конта потому, что оно основано на признании существования «не подлежащего наблюдению организма человечества», неправильным признает Толстой это утверждение «потому, что к понятию человечества, т. е. людей, неправильно было присоединено определение организма, тогда как в человечестве отсутствует существенный признак организма — центр ощущения или сознания».
«Все это кажется очень невинно, — говорит Толстой о позитивной философии Конта, — но стоит только сделать выводы» из основных положений позитивизма, чтобы увидеть, что выводы эти «клонят к одному, а именно к тому, чтобы то разделение деятельности, которое существует в человеческих обществах, признать органическим, т. е. необходимым, а потому рассматривать то несправедливое положение, в котором находимся мы, уволившие себя от труда люди, не с точки зрения разумности и справедливости, а только как несомненный факт, подтверждающий общий закон... Стоит только рассматривать человеческое общество как предмет наблюдения, и можно спокойно пожирать труды других гибнущих людей, утешая себя мыслью, что моя деятельность, какая бы она ни была, есть функциональная деятельность организма человечества... и не может быть речи о том, справедливо ли разделение труда между мозговой клеточкой и мускульной... И вот на этом-то новом вероучении строится теперь оправдание праздности и жестокости людей».
Толстой указывает на то, что из сочинений Конта была признана ученым миром только та часть, которая «оправдывала на новых опытных началах существующее зло людских обществ; вторая часть, трактующая о вытекающих из признания человечества организмом нравственных обязанностях альтруизма, была признана не только неважной, но ничтожной и ненаучной».
Далее Толстой переходит к изложению своего отношения к учению Дарвина о происхождении видов, которое он относит к числу «праздных играний мысли людей так называемой науки». Основное положение Дарвина о том, что «живые существа, т. е. организмы, происходили одни из других — не только один организм из другого, но один организм из многих, т. е. что в
- 489 -
очень долгий промежуток времени, в миллионы лет, например, не только от одного предка может произойти рыба и утка, но из роя пчел может сделаться одно животное», — Толстой называет «произвольным и неправильным». «Произвольным» Толстой считает основное положение теории Дарвина потому, что «никто никогда не видел, как являются одни организмы из других», и потому предположение о происхождении видов останется всегда «предположением, а не опытным фактом». «Неправильным» считает Толстой утверждение Дарвина потому, что «решение вопроса о происхождении видов тем, что они произошли вследствие закона наследственности и приспособления в бесконечно долгое время, вовсе не было решением, а только повторением вопроса в новой форме... Теория эволюции, говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в долгое время из чего хотите может выйти все, что хотите. Ответа на вопрос нет...».
По наивному признанию самого основателя теории — Дарвина, его мысль вызвана была законом Мальтуса, и потому выставляла теорию борьбы живых существ и людей за существование как основной закон всего живого. А в нем это ведь только и «нужно было толпе праздных людей для их оправдания».
Позитивисты приняли теорию Дарвина. «Две шаткие, — пишет Толстой, — не стоящие на своих ногах теории подперли друг друга и получили подобие устойчивости... И вот на этих двух произвольных и неправильных положениях, принятых как догматы веры, утвердилось новое научное вероучение».
Толстой заканчивает главу о позитивной философии Конта следующими словами:
«Как только те, которые занимали место святых, почувствовали, что в них ничего не осталось святого, что они все проклятые, как папа и наш Синод, так они сейчас же назвали себя не святыми только, а святейшими.
Как только наука почувствовала, что в ней не осталось ничего здравомыслящего, так она назвала себя здравомыслящей, т. е. научной наукой»89.
XII
В то самое время, когда Толстой в своем трактате «Так что же нам делать?» писал главы, содержащие резкую критику позитивной философии Огюста Конта, ему довелось вступить в переписку и лично познакомиться с очень убежденным и искренним последователем этой философии, признававшим не только
- 490 -
философские основы позитивизма, но и его «религию человечества». Это был Владимир Константинович Гейнс, более известный под именем Вильям Фрей.
В. К. Гейнс родился в 1839 году. Так как и дед и отец его были военными, то он был отдан в кадетский корпус, по окончании которого был зачислен в Дворянский полк, затем поступил в Артиллерийскую академию и Академию Генерального штаба по геодезическому отделению; потом работал в Пулковской обсерватории.
Перед ним открывалось блестящее как военное, так и научное поприще, но, по его собственным словом, «внутренняя неудовлетворенность жизнью росла вместе с внешними признаками скорой и блестящей карьеры»90.
Вопрос, требовавший разрешения, заключался для него в том: «каким путем возможно осуществление наилучшей жизни для массы страждущих и угнетенных?»91.
В это время Гейнс прочитал книгу Диксона «Новая Америка», в которой сообщалось о существовавших в Америке опытах устройства земледельческих коммун. Гейнс пришел к выводу, что «силы, способные помочь делу общественного переустройства, надо вырастить в трудовых коммунах»92. Гейнс решил совершенно порвать со старым буржуазным миром и примкнуть к одной из американских коммун, созидающих новый общественный строй. В 1868 году Гейнс отправился в Америку, где принял американское подданство и стал называться Вильям Фрей.
В Америке он провел семнадцать лет, переходя из одной коммуны в другую93. Но все коммуны, в которых поселялся Фрей со своими единомышленниками, оказывались недолговечными и быстро распадались вследствие несогласий среди участников, с одной стороны, и их непрактичности и непривычки к тяжелой земледельческой работе, с другой. Небольшие средства,
- 491 -
которыми располагал Фрей, он употреблял на приобретение земельных участков для разных общин, а сам нередко терпел большую нужду, заставлявшую его браться за разного рода работы. Одно время он занимался перевозкой грузов, потом работал расклейщиком афиш, наборщиком в типографии; жена его занималась шитьем и стиркой белья.
Неудача всех попыток устройства земледельческих коммун привела Фрея к убеждению, что для новой жизни недостаточно одной перестройки экономических отношений, что нужно нравственное возрождение.
В Америке Фрей впервые познакомился с позитивной философией Огюста Конта и его «религией человечества» и с тех пор на всю жизнь сделался ревностым приверженцем и неутомимым пропагандистом философии и религии позитивизма.
В 1885 году Фрей уехал в Лондон — летом того же года приехал в Россию, где оставался до февраля 1886 года. Целью его поездки в Россию было распространение философии и религии позитивизма. «Чем более, — писал Фрей впоследствии, — выяснялась в моих глазах готовность русских принять новую религию и нравственность в руководство своей жизни, тем мучительнее становилось при мысли, что так много энергии и жизни тратигся порою почти бесплодно в борьбе с правительством, в то время когда самоотвержение и альтруизм борющихся так необходимы для другой борьбы (более действительной, по-моему), где надо бороться против зла не его орудиями, но где надо противопоставлять этим орудиям смелую и непоколебимую решимость посильно служить человечеству, несмотря ни на какие последствия, ни на чьи предписания»94.
В России Фрей впервые узнал о Толстом и его запрещенных здесь сочинениях. 24 августа 1885 года Фрей пишет Толстому большое письмо с целью привлечь его к философскому и нравственному учению Конта. Письмо начиналось словами:
«С замиранием сердца, доходящим до головокружения, я вчитывался в вашу «Исповедь», первую книгу, которую я читал в России после семнадцатилетней разлуки с родиной. Я видел в ваших словах наиболее рельефное проявление той могучей потребности в духовной пище, которая должна была, наконец, проявиться в нашем обществе».
После «Исповеди» Фрей прочитал «В чем моя вера?». В мировоззрении Толстого Фрей нашел много общего с своим мировоззрением. «Мы оба, — писал Фрей, — пришли к тому убеждению, что религия есть единственный ключ для решения вопросов жизни как отдельного человека, так и общества; мы оба
- 492 -
пришли к учению альтруизма и нашли решение наших сомнений в жизни других, не нуждаясь ни в легендарных погремушках, ни в приманке вечной жизни».
Но религии прошлого, по мнению Фрея, уже отжили. В конце тридцатых годов Огюст Конт выступил с новой религией. И Фрей приступает к изложению основ философии и этики Конта. «Огюст Конт доказал существование высшего органического существа, в котором мы, отдельные индивидуумы, не более как преходящие атомы. Это высшее из всех известных нам существ было названо им Человечеством». Это — «существо, стоящее неизмеримо выше самых гениальных индивидуумов, потому что оно обладает коллективным пониманием всех людей и сохраняет в себе весь гигантский опыт, накопленный жизнью миллиардов и миллиардов людей... В Человечестве сохраняется и растет все прекрасное, великое, доброе и истинное, когда-либо выработанное в прошлом. В нем органически соединяется Прошлое и Будущее... Человечество есть наш учитель, покровитель и спаситель... Все мы спаяны в одно живое целое, и зло, нанесенное одному из атомов, вредно для всей организации Человечества и, следовательно, вредно тому лицу, которое наносит зло».
Все учение позитивизма Конт «сконцентрировал» в формуле, которая «благоговейно произносится всяким позитивистом в начале всякого торжественного дела». Формула эта следующая: «Во имя Человечества — любовь наш принцип. Порядок — основание, а Прогресс — цель нашей деятельности. Жить для других. Жить открыто».
Фрей раскрывает значение каждого члена приведенной им формулы позитивизма.
«Любовь, — пишет Фрей, — наш основной принцип». «Насилие против отдельного человека становится так же ужасно, как над той или другой частью любимого существа». «Братство, полное безусловное братство всех людей», равенство — основные требования этики позитивизма. «Сильный должен покровительствовать слабому». «Если сильный человек способен своим вмешательством приостановить свершение подобного насилия над слабым или беззащитным, то он обязан сделать это. Мы признаем необходимость пассивного насилия, когда сильный человек становится между лицом, наносящим вред, и слабым существом, чтобы защитить последнего».
До сих пор этические требования Фрея не расходятся с этическими требованиями Толстого, но далее уже начинается расхождение.
«Даже если человек убежден, что всякое физическое противодействие злому действию человека есть зло, даже тогда он должен всеми зависящими от него средствами защищать слабого относительно злого, потому что безучастное отношение к насилию, совершаемому над слабым, есть еще большее зло. Поставленный
- 493 -
в необходимость или допустить насилие над слабым или самому совершить насилие над злым, он должен из двух зол выбрать меньшее, так как насилие над злым, даже погибель его, будет менее вредно для человечества, чем страдания или погибель слабого существа, нуждающегося в защите».
«Порядок — основание нашей деятельности», — пишет Фрей, характеризуя следующий член позитивистской формулы.
«Прогресс — цель нашей деятельности... Прогресс есть синоним органического роста, в котором нет хаоса или неопределенности, а есть строгая последовательность и законность явлений... Содействовать прогрессу значит придать жизни атома характер, наиболее удовлетворяющий требованиям всего организма, т. е. подчинить личную жизнь общим целям и стремлениям... Мы рассматриваем его (прогресс. — Н. Г.) как постепенное подчинение низших, чисто животных инстинктов инстинктам высшего порядка... Самое главное правило жизни каждого состоит в постоянном стремлении к нравственному самоусовершенствованию».
Два последних требования религии человечества — «жить для других» и «жить открыто».
«Жить для других». «В этих трех словах, — обращается Фрей к Толстому, — вы одинаково со мною видите неисчерпаемый источник для руководства в жизни, выражение высочайшей мудрости». Заповедь эта «постепенно вырабатывалась коллективным умом всего человечества, проходила через различные степени приближения и только недавно достигла научной точности».
«Жить открыто, — пишет далее Фрей, — наша последняя заповедь, и в этих словах заключается целый ряд плодотворных идей. Это значит, что каждый, исповедующий религию человечества, должен прежде всего стараться о соответствии своих слов с поступками, с тем, чтобы никогда не унижаться до уровня современных «деятелей», которые, подобно ворам и мошенникам, стыдятся и прячут свою частную жизнь от других... Жизнь каждого искреннего слуги человечества должна быть переведена из темных тайников индивидуализма в светлый, прозрачный дом позитивной нравственности и стать открытою для взора каждого». «Простые, неученые люди из народа, — пишет Фрей, — как известно, никогда не придают особенного значения догме. Им не нужны хитросплетенные аргументы; они слушают только людей, у которых слово совпадает с делом».
На этом Фрей заканчивает изложение основ «религии человечества» и переходит к критике мировоззрения Толстого.
В основном возражения Фрея против взглядов Толстого сводятся к тому, что, по его мнению, «идеальное христианство так же неприменимо к жизни теперь, как было неприменимо 18 веков тому назад».
- 494 -
Социальные воззрения Толстого значительно отличались от общественных взглядов Фрея.
Толстой считал, что всякая общественная деятельность, чтобы быть истинно плодотворной, должна иметь нравственную основу. Некоторые должности Толстой считал в основе своей противоречащими нравственным требованиям и потому полагал, что нравственный человек не должен занимать эти должности. Фрей, напротив, считал, что сообразно с религией человечества разделять занятия на полезные и вредные невозможно, так как «добро и зло, польза и вред существуют во всех формах жизни, проявляются при всех общественных отправлениях». Поэтому хорошие люди, по мнению Фрея, не должны уклоняться от самых высоких должностей, и чем больше лучших людей принялись бы за выполнение общественных обязанностей, тем скорее общественные формы изменились бы к лучшему без всяких общественных переворотов, как это было с уничтожением рабства в Европе.
И поэтому, несмотря на то что из чтения запрещенных в России трактатов Толстого Фрею (как он писал) стало очевидно «одушевляющее» Толстого «чувство любви к ближнему и желание принести посильную пользу», Фрей, этот фанатик позитивизма и «религии человечества», писал Толстому далее, что считает его проповедь вредною и просил Толстого прекратить ее, сосредоточиться на художественном творчестве и принять «религию человечества».
Письмо Фрея заканчивалось словами: «Окажемся ли мы идущими по одной дороге или сочтем за лучшее идти к нашей общей цели различными путями, вы всегда рассчитывайте на меня, как на глубоко преданного и почитающего вас брата в человечестве».
Получив огромное письмо Фрея, Толстой сначала только бегло просмотрел его. Из этого беглого просмотра он увидел, что его новый корреспондент принадлежит к числу людей, серьезно размышляющих над основными вопросами жизни. Он написал Фрею ответ (он неизвестен), в котором приглашал его приехать в Ясную Поляну, чтобы обстоятельно побеседовать относительно затронутых им в письме вопросов.
19—20 сентября Толстой писал Черткову: «Прочел письмо Фрея — очень хорошее»95. «Хорошим» в письме Фрея Толстой нашел прежде всего признание двух заповедей, вполне сходящихся с учением Толстого: «жить для других» и «жить открыто».
7 октября Фрей приехал в Ясную Поляну, где пробыл пять дней. Как человек Фрей произвел на Толстого самое благоприятное впечатление. 11 октября Толстой писал Черткову: «Вот
- 495 -
четвертый день, что у меня гостит Фрей, он очень интересный, очень умный, искренний, и, главное, добрый человек. Он много-много говорил о позитивизме, и я говорил было, но потом стал воздерживаться. Слишком больно ему слышать то, что разрушает его веру, а он живет ею, и вера хорошая»96.
12 октября Толстой писал Софье Андреевне: «Проводил вчера Фрея с сожалением, потому что знаю, что многое еще мог бы узнать у него и многому научиться, и потому что мне по сердцу его жалко»97.
15—18 октября Толстой писал Т. А. Кузминской: «Без тебя был Фрей — ты слышала — он интересен и хорош не одним вегетарианством98. У меня от него осталась самая хорошая отрыжка. Я много узнал, научился от него, и многое — мне кажется — не успел узнать»99.
Около того же времени Толстой писал П. И. Бирюкову о Фрее: «Он пробыл четыре дни, и мне жалко было и тогда, и теперь, всякий день жалко, что его нет. Во-первых, чистая, искренняя, серьезная натура. Потом — знаний не книжных, а жизненных, самых важных, о том, как людям жить с природой и между собой, бездна»100.
В конце ноября Толстой рассказывал И. М. Ивакину про Фрея: «Он был у меня в Ясной Поляне — что это за интересный человек! О чем ни заговорит, на все у него совсем новая точка зрения... И какой это сильный человек! Жена у него — та едва ли не крепче его. В Америке они жили бог знает как — в сарае из дырявых досок, где не бывало выше 6 градусов, да с двумя детьми. И она — ничего»101.
О своей первой встрече с Толстым Фрей рассказал в «Дополнении» к своему первому письму к Толстому, датированном 3 ноября 1885 года102. «Дополнение» это обращено не только
- 496 -
к Толстому, но и к друзьям Фрея, которые знакомились с этим «Дополнением» по рукописным и гектографическим спискам. Фрей и сам рассылал друзьям списки своего первого письма к Толстому. Из лиц, близких к Толстому, мировоззрением Фрея интересовались А. М. Калмыкова, сотрудница «Посредника» Е. П. Свешникова, студент Петербургского университета — будущий академик — С. Ф. Ольденбург и другие.
На первой же странице своего «Дополнения» Фрей вспоминает свою первую встречу с Толстым: «Вскоре после получения моего письма Лев Толстой написал мне братское приглашение приехать к нему, чтоб словесно разобраться в недоразумениях, всегда сопровождающих сжатое изложение нового мнения. Я поспешил воспользоваться его приглашением и провел с ним пять незабвенных для меня дней... Пять дней было достаточно, чтобы разъяснить наши сходства и различия по религиозно-нравственным вопросам. Мы не только поняли друг друга, но расстались скрепленные духовным родством, взаимным уважением и глубокою симпатией». Как сказано выше, в своем письме к Толстому Фрей просил его прекратить свою проповедь христианства, считая ее вредною. Теперь он в этой просьбе видит свой «промах», от которого он «с удовольствием и радостью» отказывается.
Заслугу Толстого Фрей видит в том, что он с «чуткостью художника» отделял нравственное учение позитивизма «от тех так называемых научных теорий Мальтуса, Дарвина, Спенсера, которые идут на защиту и оправдание существующей нищеты, конкуренции, индивидуализма». «В практике жизни, — писал далее Фрей, — мы оба будем поступать одинаково почти во всех случаях жизни». Еще осталось разногласие по вопросу о безусловном нравственном запрещении всякого насилия, которое признавал Толстой, и допущении насилия в случае обиды слабого сильным, которое допускал Фрей. «Предоставим же времени, — писал далее Фрей, — этому великому разрешителю всех недоразумений, сделать, свое дело. Может быть, впоследствии окажется, что мы говорим об одном и том же и стремимся к одной цели, хотя и облекаем свои мысли и стремления в различные формы».
Фрей рассказывает, что Толстой «почти с первых слов» в разговоре с ним заявил свою признательность Конту за его правило «жить открыто», так как им (далее, — пишет Фрей, — я почти буквально приведу слова Толстого) превосходно пополняется пробел в нравственном учении Христа, и потому последняя заповедь позитивизма должна стоять рядом с пятью заповедями Христа»103.
- 497 -
Письмо заканчивается выражением надежды на то, что Толстой, этот «великий учитель нравственности», возьмет на себя задачу «соединить всех людей, желающих служить человечеству, под знаменем позитивной философии и религии человечества».
XIII
Работа над трактатом «Так что же нам делать?» пошла у Толстого еще быстрее, после того как 12 октября 1885 года вся его семья переехала из Ясной Поляны в Москву.
Толстой не спешил возвращаться в Москву. 17 октября он писал жене: «Все те дела или, по крайней мере, большинство их, которые тебя тревожат, как-то: учение детей, их успехи, денежные дела, книжные даже, все эти дела мне представляются ненужными и излишними... Искорени свою досаду на меня за то, что я остался здесь и не приезжаю еще в Москву. Присутствие мое в Москве, в семье почти что бесполезно; условность тамошней жизни парализует меня, а жизнь тамошняя очень мне противна опять по тем же общим причинам моего взгляда на жизнь, которого я изменить не могу, и менее там я могу работать»104.
В Ясной Поляне Толстой прожил более двух недель вместе со своим переписчиком А. П. Ивановым. Он вставал еще до рассвета, убирал свою комнату, отправлялся за водой, что доставляло ему, как писал он Софье Андреевне 23 октября, «большое удовольствие», топил печь, готовил себе обед, даже пробовал печь хлебы. Работе отдавал время от 9 до 2 часов дня. Рано ложился спать.
Почти ежедневно Толстой извещал Софью Андреевну о ходе своей работы над трактатом. 15 октября он писал: «Я все эти дни много работаю, хотя и не то, что хотел, но и то хорошо — опрастывает место». Затем 16 октября: «Внутренняя жизнь очень полна работой. Много подвинулся в статье. Я поперхнулся ею, и покуда не выперхну, не освобожусь»105.
17 октября Толстой пишет Софье Андреевне: «Я совершенно здоров и бодр. Никуда не хожу, никого не вижу, много работаю и руками и «головой», как черт106, встаю рано — темно еще и ложусь рано».
18 октября Толстой пишет Софье Андреевне: «Внутренняя моя жизнь та, что пишу о науке».
- 498 -
«Целую неделю я был в напряженно-рабочем состоянии и нынче чувствую, что ослабел. Хочется нынче вечером, после продолжительной работы утром, не думать и не писать»107, — писал Толстой жене 20 октября.
«Я живу все хорошо, — писал Толстой 22 октября. — Очень много работаю — пишу, но подвигаюсь медленно, не достаточно скоро по желанию... Нынче я писал много, но не хорошо. Очень хочется кончить и нужно эту статью, чтобы уж никогда не возвращаться к этим вопросам... Я начинаю чувствовать желание вас всех видеть... но жалко и одиночества, и успешности (как кажется) работы»108.
23 октября Толстой пишет жене: «Я очень бодр и здоров и работаю опять много. Нынче почти увидал конец статьи и решил, что если не возьмет беспокойство о вас, то окончу ее здесь, что может взять три дня».
В том же письме Толстой рассказал, что, поехав на речку за водой, он «задумался о разделении труда, и очень хорошо». Толстой заканчивает письмо следующими словами:
«...Не могу тебе выразить, до какой степени я весь поглощен теперь этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу. Нужно самому себе выяснить то, что было неясно, и отложить в сторону целый ряд вопросов, как это случилось со мной с вопросами богословскими»109. В тот же день, отвечая Черткову на его письмо от 18 октября «с выражением неодобрения» за то, что он все свое время посвящает статье «Так что же нам делать?», Толстой писал: «Я согласен с вами, что другое я бы мог писать, и оно как будто действительнее, но не могу оторваться, не уяснив прежде всего себе (и другим, может быть) такую странную, непривычную мысль, что считающееся таким благородным — занятие нашими науками и искусствами — дурное, безнравственное занятие. И мне кажется, что я достигаю этого и что это очень важно...
Люди разумные существа и не могут жить с сознанием, что они живут против разума. И вот, когда они делают это, им на помощь приходит ум, строящий соблазны. Стоит разрушить соблазн, и они покорятся. Они построят новые, но обязанность каждого, если он ясно видит обман соблазна, указать его людям. Я это-то и пытаюсь делать...
Я все живу один и очень хорошо, очень много работаю... Статья моя приходит к концу»110.
25 октября Толстой пишет Софье Андреевне: «Вчера работал много всячески... Нынче очень много писал и написал заключение.
- 499 -
«ХОЛСТОМЕР» («ХЛЫСТОМЕР»)
Первая сохранившаяся редакция. Автограф
- 500 -
Все это очень начерно, и еще много придется переделывать. Но все-таки я рад. Я воспользуюсь еще своим расположением, чтобы кончить хоть так, чтобы можно было, от нужды, оставить так и не трогать больше»111.
27—28 октября Толстой писал ей же: «...все так же много работаю... Я привожу в порядок то, что переписано. И все еще тянет и не опротивело. — Скоро должно кончиться — т. е. ход мыслей в этом направлении; а теперь жалко бросать... Хочется докончить, запечатать работу»112.
XIV
Выяснению роли разделения труда при капиталистическом строе и критике буржуазной науки и искусства посвящены XXXI—XXXV главы трактата «Так что же нам делать?».
Основное содержание этих глав состоит в следующем.
«Разделение труда в человеческом обществе всегда было и, вероятно, будет; но вопрос для нас... в том, чем мы можем руководствоваться, чтобы разделение это было правильно».
Представители науки и искусства утверждают, что люди физического труда предоставляют им все необходимое для их физической жизни, взамен чего люди науки и искусства доставляют людям физического труда всю необходимую им духовную пищу.
Какой же духовной пищей снабжают людей физического труда представители науки и искусства? — спрашивает Толстой и дает на этот вопрос следующий общий ответ: «Катехизисом Филарета, священными историями Соколовых и листками разных лавр и Исакиевского собора — для удовлетворения его религиозных требований; сводом законов и кассационными решениями разных департаментов и разными уставами комитетов и комиссий — для удовлетворения требований порядка; спектральным анализом, измерениями млечных путей, воображаемой геометрией, микроскопическими исследованиями, спорами спиритизма и медиумизма, деятельностью академий наук — для удовлетворения требований знания; чем удовлетворим его художественным требованиям? Пушкиным, Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым, картинами французского салона и наших художников, изображающих голых баб, атлас, бархат, пейзажи и жанры, музыкой Вагнера или новейших музыкантов? Ничто это не годится и не может годиться...».
«Мы даже не знаем, что нужно рабочему народу, мы даже забыли его образ жизни, его взгляд на вещи, язык, даже самый
- 501 -
народ рабочий забыли и изучаем его как какую-то этнографическую редкость или новооткрытую Америку... Мы изучаем и изображаем его для своей забавы и развлечения, мы совершенно забыли то, что нам надо не изучать и изображать его, а служить ему».
Толстой считал необязательным отделение умственного труда от физического. «Мы так привыкли, — писал он, — к тем выхоленным, жирным или расслабленным нашим представителям умственного труда, что нам представляется диким то, чтобы ученый или художник пахал или возил навоз. Нам кажется, что все погибнет, и вытрясется на телеге вся его мудрость, и опачкаются в навозе те великие художественные образы, которые он носит в своей груди...»
Толстой негодует на то, что немалое число представителей науки и деятелей искусства ведет пустой, недостойный образ жизни или стоит на невысоком нравственном уровне. Он пишет: «Нам не кажется странным то, что наш служитель науки, т. е. служитель и учитель истины, заставляет других людей делать для себя то, что он сам может сделать, половину своего времени проводит в сладкой еде, курении, болтовне, либеральных сплетнях, чтении газет, романов и посещении театров; нам не странно видеть нашего философа в трактире, в театре, на бале, не странно узнавать, что те художники, которые услаждают и облагораживают наши души, проводили свою жизнь в пьянстве, картах и у девок, если еще не хуже».
На обычное утверждение представителей науки и искусства о том, что достижения науки и техники облегчают жизнь и труд рабочих, Толстой отвечает, что «постройка железных дорог и фабрик никогда не делалась для пользы народа... Ведь мы все знаем, что о рабочем человеке если и думали те техники и капиталисты, которые строили дорогу и фабрику, то только в том смысле, как бы вытянуть из него последние жилы... Если мужик едет по железной дороге и покупает лампу, ситец и спички, то только потому, что нельзя этого запретить мужику... Так зачем же случайные удобства, которыми нечаянно пользуется рабочий человек, приводить в доказательство полезности этих учреждений для народа?... Техник строит дорогу для правительства, для военных целей или для капиталистов, для финансовых целей. Он делает машины для фабриканта, для наживы своей и капиталиста. Все, что он делает и выдумывает, он делает и выдумывает для целей правительства, для целей капиталиста и богатых людей».
Толстой объясняет, почему при капиталистическом строе представители технической науки не могут служить народу:
«Технику, механику надо работать с капиталом. Без капиталов он никуда не годится. Все его знания таковы, что для проявления их ему нужны капиталы и в больших размерах эксплоатация
- 502 -
рабочего, и, не говоря уже о том, что он сам приучен к тому, чтобы проживать по меньшей мере 2000—1500 рублей в год, а потому не может идти в деревню, где никто не может дать ему такого вознаграждения, он по самым занятим своим не годится для служения народу... Дайте ему мастерские, народу всякого вволю, выписку машин из-за границы, — тогда он распорядится».
В еще худшем положении находится врач, — пишет Толстой далее. «Его воображаемая наука вся так поставлена, что он умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других. Ему нужно бесчисленное количество дорогих приспособлений, инструментов, лекарств и гигиенических приспособлений — квартиры, пищи, нужников, чтобы ему научно действовать».
«И вот наука, под знаменем разделения труда, призывает своих борцов на помощь народу. Наука вся пристроилась к богатым классам и своей задачей ставит, как лечить тех людей, которые все могут достать себе, и посылает лечить тех, у которых ничего нет лишнего, теми же средствами».
Где же выход? Что предлагает Толстой взамен той деятельности представителей науки, которую он считает непригодной для народа?
«Научное содействие народу, — отвечает Толстой на этот вопрос, — про которое говорят защитники науки, должно быть совсем другое. И то содействие, которое должно быть, еще не началось. Оно начнется тогда, когда человек науки — техник или врач — не будет считать законным то разделение, т. е. захват чужого труда, который существует, не будет считать себя вправе брать от людей — не говорю уже сотни тысяч, а даже скромные 1000 или 500 рублей за свое содействие им, а будет жить среди трудящихся людей в тех же условиях и так же, как они, и тогда будет прикладывать свои знания к вопросам механики, техники, гигиены и лечения рабочего народа».
Тот же образ жизни предлагает Толстой и учителям народных школ для того, чтобы занятия их с крестьянскими детьми были плодотворны. «Точно так же, — говорит Толстой о деятельности народных учителей, — наука поставила это дело так, что учить по науке можно только богатых людей, и учителя, как техники и врачи, невольно льнут к деньгам, у нас особенно к правительству... Опять одно спасение — то, чтобы учитель жил в условиях рабочего человека и учил за то вознаграждение, которое свободно и охотно дадут ему»113.
В заключение своей критики современного состояния науки
- 503 -
и искусства Толстой напоминает, что наука и искусство сами определяют свою деятельность как служение благу всего человечества или общества и прибавляет: «Определение наукою науки и искусства совершенно правильное, но, к несчастию, деятельность теперешних наук и искусств не подходит под него. Одни прямо делают вредное, другие — бесполезное, третьи — ничтожное, годное только для богачей».
«И понятно, — говорит далее Толстой, — почему деятели нынешней науки и искусств не исполнили и не могут исполнить своего призвания. Они не исполняют его потому, что они из обязанностей своих сделали права».
«То, что называется у нас наукой и искусством, есть произведения праздного ума и чувства».
«Главный, обличающий наши заблуждения признак: вся премудрость наша остается при нас, а массы народа не понимают, и не принимают, и не нуждаются в ней»114.
В статье «Толстой и пролетарская борьба» В. И. Ленин писал: «Толстой... с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку»115.
Возможно, материалом для суждения о том, что буржуазная наука являлась одним из тех учреждений, при помощи которых держалось общество того времени, послужили В. И. Ленину прежде всего сильные, яркие, производящие неизгладимое впечатление обличительные главы трактата «Так что же нам делать?».
XV
1 ноября 1885 года Толстой выехал из Ясной Поляны в Москву. Уезжать ему было «тяжело», как он писал Черткову 31 октября.
Проживши свыше двух недель в уединении и в простых условиях, Толстой решил и в Москве устроить некоторое подобие своей жизни в Ясной Поляне. 6 ноября он писал Черткову: «Я скоро неделю в Москве. Никуда не выхожу. Целый день занят. И мне хорошо»116.
12 ноября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка вернулся 1 ноября. Мы все повеселели от его приезда, и сам он очень мил, спокоен, весел и добр.
- 504 -
Только он переменил еще привычки. Все новенькое — что ни день. Встает в 7 часов — темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова и колет и складывает в сажени. Белый хлеб не ест; никуда положительно не ходит»117.
Толстой погрузился в работу над последними главами трактата «Так что же нам делать?».
Наиболее воодушевленными главами трактата являются главы XXXVI—XXXVII, посвященные критике ложного и выяснению понятия истинного искусства.
В противоположность ложному искусству, превратившемуся в ремесло, сделавшемуся «пустой и вредной забавой», занятому «только тем, чтобы забавлять и спасать от удручающей скуки свой маленький кружок дармоедов», целью истинного искусства является раскрытие всем людям того, в чем состоит назначение и благо искусства.
«С тех пор как есть люди, были те особенно чуткие и отзывчивые на учение о благе и назначении человека, которые на гуслях и тимпанах, в изображениях и словами выражали свою и людскую борьбу с обманами, отвлекавшими их от их назначения, свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о торжестве зла и свои восторги в сознании этого наступающего блага».
«Мыслитель и художник, — говорит далее Толстой, — никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника118.
Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитается в заведении, где будто бы делают ученого и художника, ... и получит диплом и обеспечение, а тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей.
- 505 -
Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает. Духовная деятельность и выражение ее, действительно нужные для других, есть самое тяжелое призвание человека — крест, как выражено в Евангелии. И единственный несомненный признак присутствия призвания есть самоотвержение, есть жертва собой для проявления вложенной в человека на пользу другим людям силы. Без мук не рождается и духовный плод.
Учить тому, сколько козявок на свете, и рассматривать пятна на солнце, писать романы и оперу — можно, не страдая; но учить людей их благу, которое все только в отвержении от себя и служении другим, и выражать сильно это учение нельзя без отречения... Не даром умер Христос на кресте, не даром жертва страдания побеждает все»119.
XVI
19 ноября 1885 года Толстой получил очень взволновавшее его письмо от офицера Артиллерийской академии Анатолия Петровича Залюбовского, брат которого Алексей Петрович в 1884 году отказался от воинской присяги на основании Евангелия. Его отсылали к жандармским властям и к военному прокурору по подозрению в принадлежности к партии социалистов, но власти не возбудили судебного дела; после неоднократных увещаний принять присягу Залюбовский был посажен на гауптвахту, пересылался из части в часть вместе с уголовными арестантами и, наконец, был отправлен в Закаспийскую область, находившуюся в то время «в исключительном положении», и брат Залюбовского опасался за его жизнь.
На другой день — 20 ноября — Толстой написал письма Софье Андреевне, бывшей тогда в Петербурге, Черткову, его тетке, влиятельной графине Шуваловой, Бирюкову и В. В. Стасову с просьбами сделать, что можно, для облегчения участи Залюбовского120.
В. В. Стасову Толстой писал: «Дело, о котором прошу, огромной важности, никогда ничто так не было мне близко к сердцу и важно... Надеюсь, что как ни различно мы можем смотреть на причины, вызвавшие всю эту историю, вы так же, как и я, возмущены этими жестокими инквизиторскими приемами, казнящими человека за его убеждения»121.
- 506 -
Обращаясь к разным лицам с просьбой помочь Залюбовскому, Толстой хотел, как писал он Бирюкову, «чтобы начальствующие знали, что дело это не тайно и есть люди, следящие за судьбой Залюбовского. Неужели мученичество первых времен христианства опять возможно и нужно?»122.
«Если бы возможно было, — писал Толстой Стасову, — где-нибудь напечатать, я бы с наслаждением напечатал описание дела и мое суждение о нем»123.
Залюбовский был предан суду за «умышленное неповиновение», лишен «особых прав и преимуществ» и сослан в дисциплинарный батальон на два года. Однако удалось добиться перевода его на нестроевую должность, а в марте 1887 года он был освобожден от военной службы.
Вероятно, хлопоты Толстого оказали свое влияние на судьбу Залюбовского.
Отказ А. П. Залюбовского от присяги был первым случаем применения к жизни одной из заповедей, изложенных в трактате «В чем моя вера?» («не клянись»).
XVII
25 ноября 1885 года Толстой писал Софье Андреевне: «Я нынче не много, но хорошо писал — все... Что ж нам делать — добавочную главу»124
Под «добавочной главой» Толстой разумел последнюю, сороковую главу «Так что же нам делать?». По отношению ко всему трактату глава эта, действительно, является добавочной — в ней идет речь о призвании женщины.
Последнее упоминание в письмах Толстого о работе над трактатом находим в его письме к Черткову от 6—7 декабря, в котором Толстой сообщал: «Почти ничего не пишу»125.
Последние главы трактата — тридцать восьмая, тридцать девятая и сороковая — являются заключительными главами ко всей работе.
«Так что же делать? Что же нам делать?», — спрашивает Толстой, начиная заключительную часть своего трактата. Он говорит, что слышал и слышит этот вопрос со всех сторон и потому «выбрал этот вопрос заглавием всего этого писания».
«Я описывал свои страдания, свои искания и свои разрешения этого вопроса. Я такой же человек, как все, и если отличаюсь чем-нибудь от среднего человека нашего круга, то главное тем, что я больше среднего человека служил и потворствовал
- 507 -
ложному учению нашего мира, больше получал одобрения от людей царствующего учения и потому больше других развратился и сбился с пути. И потому думаю, что решение вопроса, которое я нашел для себя, будет годиться и для всех искренних людей, которые поставят себе тот же вопрос.
Прежде всего на вопрос, что делать, я ответил себе: не лгать ни пред людьми, ни пред собою, не бояться истины, куда бы она ни привела меня».
Толстой особенно подчеркивает губительность «лжи перед самим собой». «Самая худшая, прямая, обманная ложь перед людьми ничто по своим последствиям в сравнении с той ложью перед самим собой, на которой мы строим свою жизнь». «Не лгать в этом смысле значит не бояться правды, не придумывать и не принимать придуманных людьми изворотов для того, чтобы скрыть от себя вывод разума и совести; не бояться разойтись со всеми окружающими и остаться одному с разумом и совестью...»
«Тот, кто искренно задаст себе вопрос, что делать, и, отвечая на этот вопрос, не будет лгать перед собой, а пойдет туда, куда поведет его разум, тот уже решил вопрос... Одно только, что может помешать ему в отыскании исхода, — это ложно высокое о себе и о своем положении мнение».
Толстой пишет, что для него «другой, вытекающий из первого ответ на вопрос, что делать... состоял в том, чтобы покаяться во всем значении этого слова, т. е. изменить совершенно оценку своего положения и своей деятельности... Только когда я покаялся, т. е. перестал смотреть на себя как на особенного человека, а стал смотреть как на человека такого же, как все люди, только тогда путь мой стал ясен для меня. Прежде же я не мог отвечать на вопрос, что делать, потому что самый вопрос я ставил неправильно».
«Я собственно спрашивал себя, как мне, такому прекрасному писателю, приобретшему столько знаний и талантов, употребить их на пользу людям. Вопрос же... должен был стоять так: что́ мне, проведшему, по несчастью моих условий, лучшие учебные годы, вместо приучения к труду, в изучении грамматики, географии, юридических наук, стихов, повестей и романов, французского языка и фортепианной игры, философских теорий и военных упражнений, — что́ мне, проведшему лучшие годы моей жизни в праздных и развращающих душу занятиях, — что́ мне делать, несмотря на эти несчастные условия прошедшего, чтобы отплатить тем людям, которые во все это время кормили и одевали меня, да и теперь продолжают кормить и одевать меня? Если бы вопрос стоял так, как он стоит передо мной теперь, после того, как я покаялся, — что мне делать, такому испорченному человеку? — то ответ был бы легок: стараться прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шее
- 508 -
других, а, учась этому и выучившись, при всяком случае приносить пользу людям и руками, и ногами, и мозгами, и сердцем, и всем тем, на что заявляются требования людей».
«Что делать? Что именно делать? — спрашивают все и спрашивал я до тех пор, пока под влиянием высокого мнения о своем призвании не видел того, что первое и несомненное дело мое было то, чтобы кормиться, одеваться, отопляться, обстраиваться и в этом же самом служить другим, потому что, с тех пор как существует мир, в этом самом состояла и состоит первая и несомненная обязанность всякого человека».
«Придя к этому практическому выводу, я был поражен легкостью и простотою разрешения всех этих вопросов, которые мне прежде казались столь трудными и сложными. На вопрос, что нужно делать, явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно: мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда — все, что я могу сам сделать... На вопрос о том, не поглотит ли этот труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуту самомнения считаю не бесполезною другим, ответ получился самый неожиданный... оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее... Энергия умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от всего излишнего по мере напряжения телесного...
На вопрос о том, не лишит ли этот физический труд меня многих безвредных радостей, свойственных человеку, как наслаждение искусствами, приобретение знания, общения с людьми и вообще счастья жизни, оказалось совершенно обратное: чем напряженнее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым земледельческому труду, тем больше я приобретал наслаждений, знаний и приходил тем более в тесное и любовное общение с людьми и тем более получал счастья жизни».
«На вопрос о том, не расстроил ли бы этот непривычный труд здоровья... оказалось, что чем напряженнее был труд, тем я сильнее, бодрее, веселее и добрее себя чувствовал».
«Дело не в том, чтобы выдумать работу, — работы для себя и для других не переделаешь, — а дело в том, чтобы отвыкнуть от того преступного взгляда на жизнь, что я ем и сплю для своего удовольствия, и усвоить себе тот простой и правдивый взгляд, с которым вырастает и живет рабочий человек, что человек прежде всего есть машина, которая заряжается едой, для того чтобы трудиться, и что потому стыдно, тяжело, нельзя есть и не работать; что есть и не работать — это самое безбожное, противоестественное и потому опасное положение вроде
- 509 -
содомского греха. Только бы было это сознание, и работа будет, и работа будет всегда радостная и удовлетворяющая душевные и телесные требования.
Мне представилось дело так: день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он по самому существу своему чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми.
Блага, которыми пользуется человек, также разделяются на 4 рода. Всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда — хлебом, скотиной, постройками, колодцами, прудами, и т. п.; во-вторых, деятельностью ремесленного труда: одеждой, сапогами, утварью и т. п.; в-третьих, произведениями умственной деятельности — наук, искусства и, в-четвертых, установленным общением между людьми.
И мне представилось, что лучше всего было бы чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре рода блага, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня — первая упряжка — была посвящена тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая — общению с людьми.
Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастья человека».
«Птица так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица. Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он человек».
XVIII
В предпоследней главе трактата Толстой писал, что хочет «общими соображениями поверить те выводы», к которым он пришел. «Мне хочется сказать о том, почему мне кажется, что очень многие из нашего круга должны прийти к тому же, к чему я пришел, и еще о том, что выйдет из того, если хоть некоторые люди придут к этому».
- 510 -
«Три причины указывают людям богатых классов необходимость перемены их жизни: потребность личного блага своего и своих близких, неудовлетворимая на том пути, на котором они стоят, потребность удовлетворения голоса совести, невозможность которой очевидна на настоящем пути, и угрожающая и все растущая опасность жизни, не устранимая никакими внешними средствами».
Говоря об опасности, Толстой имеет в виду «рабочую революцию». «Ненависть и презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют; обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем... опасность все растет, и ужасная развязка приближается. Устранить угрожающую опасность богатые классы могут только переменою жизни».
«Но что же будет из того, что я буду 10, 8, 5 часов работать физическую работу, которую охотно сделают тысячи мужиков за те деньги, которые у меня есть? — говорят на это.
Будет первое, самое простое и несомненное то, что ты будешь веселее, здоровее, бодрее, добрее и узнаешь настоящую жизнь, от которой ты прятался сам или которая была спрятана от тебя. Будет второе то, что если у тебя есть совесть, то не только она не будет страдать, как она страдает теперь, глядя на труд людей, ...но ты будешь постоянно испытывать радостное сознание того, что с каждым днем ты все больше и больше удовлетворяешь требованиям своей совести...; ты почувствуешь радость жить свободно с возможностью добра; ты пробьешь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт от тебя. Будет третье то, что вместо вечного страха возмездия за твое зло ты будешь чувствовать, что ты спасаешь и других от этого возмездия и, главное, спасаешь угнетенных от жестокого чувства злобы и мести».
«Так что же выйдет из того, что десяток людей будут пахать, колоть дрова, шить сапоги, не по нужде, а по сознанию того, что человеку нужно работать и что чем он больше будет работать, тем ему будет лучше?...»
«Один-два человека потянут; на них глядя, присоединится третий, и так будут присоединяться лучшие люди до тех пор, пока не двинется дело и не пойдет, как будто само подталкивая и вызывая к тому же и тех, которые не понимают, что и зачем делается. Сперва к числу людей, сознательно работающих для исполнения закона бога, присоединятся люди, полусознательно, полу-на-веру признающие то же; потом к ним присоединится еще большее число людей, только на веру передовым людям признающие то же; и наконец большинство людей признают это, и тогда совершится то, что люди перестанут губить себя и найдут счастье».
- 511 -
«Великие истинные дела всегда просты и скромны. И таково величайшее дело, предстоящее нам: разрешение тех страшных противоречий, в которых мы живем. И дела, разрешающие эти противоречия, суть те скромные, незаметные, кажущиеся смешными дела: служения себе и физической работой для себя и, если можно, для других, которые предстоят нам, богатым людям, если мы понимает несчастие, бессовестность и опасность того положения, в которое мы попали». Толстой считает, что тем самым, «без насилия правительственного или революционного» казавшиеся «неразрешимые противоречия совести и устройства мира разрешаются самым легким и радостным способом».
«Люди, которые станут трудиться для того, чтобы исполнять радостный закон их жизни, т. е. работающие для исполнения закона труда, освободятся от ужасного суеверия собственности для себя».
Толстой утверждает, что «собственность есть корень всего зла». «Распределением, обеспечением собственности занят почти весь мир». Во имя собственности «происходит все страшное зло мира: и войны, и казни, и суды, и остроги, и роскошь, и разврат, и убийство, и погибель людей».
«Для человека, считающего труд не проклятием, а радостью, собственность вне своего тела, т. е. право или возможность пользоваться трудом других, будет не только бесполезна, но стеснительна».
«На моей памяти совершилось то, что было стыдно богатым людям выехать не на четверке с двумя лакеями, что было стыдно не иметь лакея или горничной для того, чтобы одевать, умывать, обувать, держать горшок и т. п.; и теперь вдруг стало стыдно не одеваться, не обуваться самому и ездить с лакеями. Все эти перемены сделало общественное мнение».
«Придет время очень скоро, и оно приходит уже, когда стыдно и гадко будет обедать не только обед в пять блюд, подаваемый лакеями, но обедать обед, который сварили не сами хозяева; стыдно будет ехать не только на рысаках, но на извозчике, когда ноги есть; надевать в будни платья, обувь, перчатки, в которых нельзя работать; стыдно будет не только кормить собак молоком и белым хлебом, когда есть люди, у которых нет молока и хлеба, и жечь лампы и свечи, при которых не работают, топить печи, в которых не варят пищи, когда есть люди, у которых нет освещения и отопления. И к такому взгляду на жизнь мы неизбежно и быстро идем».
«Женщины делают общественное мнение и женщины особенно сильны в наше время»126.
Последняя глава трактата посвящена назначению женщины.
- 512 -
«Как сказано в Библии, мужчине и женщине дан закон: мужчине — закон труда, женщине — закон рождения детей... Женщины круга людей богатых исполняли свой закон, тогда как мужчины не исполняют своего закона, и потому женщины стали сильнее и продолжают властвовать и должны властвовать над людьми, отступившими от закона и потому потерявшими разум».
Еще в «Анне Карениной» Толстой почти с благоговением описывает важнейшее событие в жизни женщины — роды. То же самое находим в трактате «Так что же нам делать?».
Яркими художественными красками Толстой рисует картину «настоящего» женского труда — рождения и выращивания детей. Этот «истинный» труд женщины Толстой противопоставляет «обманному» «шуточному парадному труду в мундирах и освещенных залах», который мужчины богатого круга называют трудом и который «имеет только целью пользование трудом других».
Сурово порицает Толстой тех женщин, которые умерщвляют плод и тем нарушают «вечный, неизменный закон».
Обращаясь к женщинам, исполняющим свое назначение, Толстой говорит:
«Если вы такая и знаете по себе, что только самоотверженный, невидимый, безнаградный труд, с опасностью жизни и до последних пределов напряжения для жизни других есть то призвание человека, которое дает ему удовлетворение, то эти же требования вы будете заявлять и к другим, к этому же труду поощрять мужа, по этому труду мерить и оценивать достоинство людей и к этому же труду будете готовить своих детей».
«Вот такие-то, исполнявшие свое призвание женщины властвуют властвующими мужчинами; такие-то женщины готовят новые поколения людей и установляют общественное мнение, и потому в руках этих женщин высшая власть спасения людей от существующих и угрожающих зол нашего времени».
«Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение мира!»127
Этим призывом заканчивается трактат «Так что же нам делать?».
XIX
Напряженно занятый работой над трактатом «Так что же нам делать?», Толстой не забывал о «Посреднике». В течение октября, ноября и декабря 1885 года он не написал ни одного народного рассказа, но следил за работой редакции «Посредника», давал советы, критиковал вышедшие и готовые к печати чужие работы.
- 513 -
В письме к Черткову от 6 ноября Толстой назвал «очень хорошей»128 переделку М. К. Цебриковой эпизода из романа Золя «L’assommoir». Книжка была издана «Посредником» в 1886 году под названием «Жервеза. Рассказ из жизни рабочего люда».
Сохранился написанный рукой Толстого листок с его замечаниями и советами для издательства «Посредник». По поводу переделки Е. П. Свешниковой романа Бальзака «Евгения Гранде» Толстой пишет: «Переделывать повести иностранные на русские нравы значит лишать эти повести интереса знания быта не русского и, главное, реальности. А лучше в выносках или в тексте делать разъяснения чуждых обычаев и условий».
Усиленно рекомендует Толстой переделку романов Диккенса «Холодный дом», «Крошка Доррит». По мнению Толстого, следует «попробовать перевести весь с комментариями непонятного и с исключениями того, на что укажет опыт чтения рукописи в школах взрослых. Стоит того попытать это, и именно на Диккенсе, передать всю тонкость иронии и чувства — выучить понимать оттенки. Для этого нет лучше Диккенса»129. И. М. Ивакин в своих записях, относящихся к осени 1885 года, сообщает, что Толстой «в последнее время перечитывал романы Диккенса — «Крошка Доррит», «Холодный дом».
«По-моему, Диккенс еще вполне не оценен, — говорил Толстой. — Мы Диккенса не знаем, но какая это сила! Прежде эти романы мне казались тяжелы и скучны, но теперь — нет. Что это за сила! У него на сцене десять лиц, и вы, читая, ни про одного не забываете. Каждое так и бьет вам в глаза! Все эти английские учреждения являются у него в ироническом свете, все одето такой иронией!.. Герои у него, по-моему, не лорды и т. п., а ободранные, с лицом, попорченным оспой, люди — вот его настоящие герои. Его роман «Оливер Твист» — прекрасный; я помню, я несколько раз рассказывал его детям и всегда имел успех»130.
30 ноября у Толстого в Москве сошлись Чертков, Бирюков и В. Ф. Орлов; они беседовали с Толстым о работе «Посредника». Было решено обратиться к М. Е. Салтыкову-Щедрину с предложением принять участие в «Посреднике».
Между 30 ноября и 2 декабря Толстой пишет М. Е. Салтыкову-Щедрину письмо, в котором говорит:
«С тех пор, как мы с вами пишем, читающая публика страшно изменилась, изменились и взгляды на читающую публику. Прежде самая большая и ценная публика была у журналов — тысяч 20, и из них большая часть искренних, серьезных читателей;
- 514 -
теперь сделалось то, что качество интеллигентных читателей очень понизилось — читают больше для содействия пищеварению, и зародился новый круг читателей, огромный, — надо считать сотнями тысяч, чуть не миллионами. Те книжки «Посредника», которые вам покажет Чертков, разошлись в полгода в ста тысячах экземплярах каждая, и требования на них все увеличиваются.
Про себя скажу, что когда я держу корректуру писаний для нашего круга, я чувствую себя в халате, спокойным и развязным; но когда пишешь то, что будут через год читать миллионы и читать так, как они читают, ставя всякое лыко в строку, на меня находит робость и сомнение. — Это, впрочем, не к делу.
К делу то, что мне кажется, вспоминая многое и многое из ваших старых и теперешних вещей, что́ если бы вы представили себе этого мнимого читателя и обратились бы к нему и захотели бы этого, вы бы написали превосходную вещь или вещи и нашли бы в этом наслаждение то, которое находит мастер, проявляя свое мастерство перед настоящими знатоками...
У вас есть все, что нужно: сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, не юмор, а то, что производит веселый смех, и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа. В изданиях этих есть не направление, а есть исключение некоторых направлений... Мы издаем все, что не противоречит христианскому учению; но вы, называя это, может быть, иначе, всегда действовали в этом самом духе, и потому-то вы мне и дороги и дорога бы была ваша деятельность, и потому вы сами всегда будете действовать так. Вы можете доставить миллионам читателей драгоценную, нужную им и такую пищу, которую не может дать никто, кроме вас»131.
3 декабря вернувшийся в Петербург Чертков отправился к Салтыкову с письмом Толстого, но видеть Салтыкова в этот день Чертков не мог — он был болен. В тот же день Чертков что-то писал Толстому о Салтыкове, но письмо это до нас не дошло. 6—7 декабря Толстой отвечал Черткову: «Сейчас получил ваше второе письмо, милый друг. Оба очень были мне радостны; вчерашнее — тем, что вы пишете о Салтыкове. Как бы хорошо было помочь ему, вызвав на ту дорогу, на которой он найдет успокоение»132.
9 декабря Чертков писал Толстому: «Салтыков написал мне. спрашивая, годятся ли для нас такие вещи, которые уже были в печати, и предлагал свой «Сон в летнюю ночь» ... Нельзя
- 515 -
было, мне кажется, найти менее подходящую вещь для нашей цели»133.
29 декабря Чертков сообщает Толстому о Салтыкове: «С разных сторон мне говорят, что он очень занят мыслью писать для наших изданий и что ваше письмо произвело на него сильное впечатление. [А. М.] Кузминский говорил мне, что Щедрин, несмотря на свою болезнь, проработал на-днях целый день над рассказом для нас и что на следующий день он вследствие этого встал совсем больной, и язык его не слушался». Далее Чертков выражал свое мнение, что следовало бы дать Салтыкову «несколько более определенное понятие» о задачах «Посредника». «Судя по тому, — писал далее Чертков, — как он даже меня спрашивал о том, в каком роде писать, и по тому, как он сочувственно отнесся к вашему письму, он охотно выслушает от вас ваш взгляд на это и наверное примет его в соображение. Если можете — напишите. Если же вам не хочется, то сообщите мне, и я лично все выскажу ему, хотя, разумеется, это будет несравненно хуже»134.
Толстым письмо Салтыкову написано не было, Чертков же после этого неоднократно виделся с Салтыковым и говорил с ним о задачах «Посредника».
19 марта 1886 года Чертков извещал Толстого, что Салтыков прислал ему несколько своих сказок135: «Бедный волк». «Самоотверженный заяц», «Пропала совесть», «Рождественная сказка». «Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места и никак не соглашается на пропуск»136.
Сотрудничество Салтыкова в «Посреднике» не осуществилось.
Совершенно особняком в переписке Толстого того времени стоит его письмо к Н. Н. Страхову, написанное в самые последние дни ноября или в первые дни декабря 1885 года. Письмо было вызвано статьей Н. Н. Страхова «Закономерность стихий и понятий», напечатанной в «Новом времени» 11 и 26 ноября того же года и являющейся ответом на статью А. М. Бутлерова «Физическая теория спиритизма».
Толстой писал, что статьи Страхова «очень понравились» ему «по строгости и ясности мысли, по простоте распутывания умышленно запутываемого». Далее Толстой переходит к изложению своего философского взгляда на жизнь. Он пишет Страхову:
- 516 -
«Мне кажется, что индейцы, Шопенгауэр, мистики и вы делаете ту ошибку, ничем неоправдываемую, что вы признаете мир внешний, природу бесцельной фантасмагорией. Задача духа есть освобождение от подчинения этой внешней игры материи, но не для того, чтобы освободиться... Материальный мир не есть ни призрак, ни пустяки, ни зло, а это тот материал и те орудия, над которыми и которыми мы призваны работать»137.
XX
С Толстым бывало несколько раз, что по окончании продолжительной творческой работы он испытывал состояние упадка душевных сил, продолжавшееся некоторое время. Так было с ним в 1869—1870 годах, по окончании «Войны и мира». То же повторилось и в конце ноября — декабря 1885 года по окончании трактата «Так что же нам делать?»
В данном случае были еще другие серьезные причины, вызывавшие мрачное настроение Толстого. Главной из этих причин было неправильное, по его мнению, воспитание детей его женой, не приучавшей их к труду и прививавшей им все вредные, по мнению Толстого, предрассудки, господствовавшие в светском обществе.
Уже 25 ноября Толстой писал жене из Москвы в Петербург, куда она уехала добиваться пропуска цензурой 12-го тома его сочинений: «У нас все по-старому, не могу сказать хорошо, потому что не могу одобрять и называть хорошим то праздное прожигание жизни, которое вижу в старших. И вижу, что помочь не могу. Они, видя мое неодобрение, от меня удаляются; я, видя их удаление, молчу, хотя и стараюсь при всяком случае говорить... Илья занят своей красотой и привлекательностью для барышень. Сережа, бог его знает чем, но только и тот и другой в полной силе ничего не делают и приучаются к этому. Таня с Верочкой138 — чем бы вытянуть Верочку — по своей слабости тонет с ней вместе, т. е. ничего не делает»139.
6—7 декабря Толстой пишет Черткову: «Я еще с вашего приезда140 ослабел, — почти ничего не пишу и грустен. Все так грустно, мертво вокруг меня, и так хочется осуждать и досадовать». В заключение письма Толстой пишет: «Я в унылом и низком настроении»141.
- 517 -
9 декабря в Москву приехал Вильям Фрей. Тотчас же по приезде он написал Толстому небольшую записку. На другой день Фрей писал А. М. Калмыковой, что в ответ Толстой прислал ему «самое настоятельное и дружеское приглашение непременно бывать у него каждый день, пока я в Москве (и даже, как он просил меня лично, ночевать у него)». В тот же день вечером он приехал к Толстому и «несмотря на короткость прелиминарной беседы с болью в сердце увидал, что он не совсем верно понимает позитивизм, смешивает его с тем псевдопозитивизмом, который ограничивается выводами социологии для оправдания существующего притеснения одним сословием другого и отвергает выводы позитивной нравственности и религии, которые все направлены на уничтожение существующих форм частной, семейной, экономической и государственной жизни... Мне надо напрячь все свои усилия, чтобы Л. Толстой посмотрел на религию человечества не так, как смотрели враги позитивизма».
Не зная причины тяжелого душевного состояния Толстого, Фрей писал Калмыковой: «Бедный Лев Николаевич, как кажется, очень скучает здесь». И далее Фрей приводит сказанные ему Толстым слова: «С вашим отъездом в Петербург я останусь совершенно одиноким в Москве; все самые дорогие для меня личности теперь в Петербурге, так что и меня тянет туда»142.
Несомненно, что, говоря о самых близких для него людях. Толстой разумел Бирюкова и особенно Черткова.
12 декабря Толстой прочел Фрею тридцатую и тридцать первую главы трактата «Так что же нам делать?», содержащие резкую критику современной науки вообще и особенно позитивной философии О. Конта. На другое утро Фрей, ночевавший в кабинете Толстого, тут же написал ему письмо, в котором возражал против его взглядов на позитивизм и настойчиво советовал Толстому переделать эти главы143. Толстой, однако, отказался внести какие-либо изменения в написанные главы и впоследствии отдал их в печать в том виде, в каком они вышли из-под его пера144.
Но идейные разногласия не поколебали дружеского отношения Толстого к В. Фрею. 17 декабря Толстой, описав в письме
- 518 -
к Черткову удручающую мертвенность окружающей среды, заканчивает письмо словами: «Здесь Фрей поддерживает и утешает меня. Чем больше его знаю, тем больше люблю»145.
XXI
Около того же времени (вероятно, не позднее 13 декабря) Толстой пишет большое письмо жене, в котором пробует объяснить ей, почему он чувствует себя чужим в своей семье. Письмо написано совершенно спокойно, хотя и без обращения, и начинается словами:
«За последние семь, восемь лет все наши разговоры с тобой кончались после многих мучительных терзаний — одним, с моей стороны по крайней мере: я говорил: согласия и любовной жизни между нами быть не может до тех пор, пока — я говорил — ты не придешь к тому, к чему я пришел, или по любви ко мне, или по чутью, которое дано всем, или по убеждению и не пойдешь со мной вместе. Я говорил: пока ты не придешь ко мне, а не говорил: пока я не приду к тебе, потому что это невозможно для меня. Невозможно потому, что то, чем живешь ты, это то самое, из чего я только что спасся, как от страшного ужаса, едва не приведшего меня к самоубийству».
Толстой предупреждает жену: «Я не обвиняю и не могу [обвинять] — не за что и не хочу, хочу, напротив, твоего соединения со мной в любви и потому не могу желать делать тебе больно, но, чтобы объяснить свое положение, должен сказать о тех несчастных недоразумениях, которые привели нас к теперешнему разъединению в соединении, к этому мучительному для нас обоих состоянию».
«Мое положение в семье составляет мое постоянное несчастие, есть факт несомненный, я его знаю, как знают зубную боль. Может быть, я сам виноват, но факт есть, и если тебе мучительно знать, что я несчастлив (я знаю, что тебе мучительно), то надо не отрицать боль, не говорить, что ты сам виноват, а подумать, как от нее избавиться — от боли, которая болит во мне и заставляет страдать тебя и всю семью».
«Боль оттого, что я почти десять лет тому назад пришел к тому, что единственное спасение мое и всякого человека в жизни в том, чтобы жить не для себя, а для других, и что наша жизнь нашего сословия вся устроена для жизни для себя, вся построена на гордости, жестокости, насилии, зле и что потому человеку в нашем быту, желающему жить хорошо, жить с спокойной совестью и жить радостно, надо не искать каких-нибудь мудреных далеких подвигов, а надо сейчас же, сию минуту
- 519 -
действовать, работать, час за часом и день за днем, на то, чтобы изменять ее и идти от дурного к хорошему; и в этом одном счастье и достоинство людей нашего круга, а между тем ты и вся семья идут не к изменению этой жизни, а с возрастанием семьи, с разрастанием эгоизма ее членов — к усилению ее дурных сторон. От этого боль. Как ее вылечить? Отказаться мне от своей веры? Ты знаешь, что это нельзя. Если бы я сказал на словах, что отказываюсь, никто, даже ты, мне бы не поверил, как если бы я сказал, что 2×2 не 4. Что же делать? Исповедовать эту веру на словах, в книжках, а на деле делать другое? Опять и ты не можешь посоветовать этого. Забыть? Нельзя».
«Если совесть и разум требуют, и мне ясно стало то, чего требуют совесть и разум, я не могу не делать того, что требуют совесть и разум, и быть покоен — не могу видеть людей, связанных со мной любовью, знающих то, чего требуют разум и совесть, и не делающих этого, и не страдать».
«Случалось так, что, когда совершался во мне душевный переворот, и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значения и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее, что это есть что-то в роде дури или душевной болезни; поддаваясь этому настроению, ты сразу стала в враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни146.
Случилось так, что вся моя деятельность на этом новом пути, все, что поддерживало меня на нем, тебе стало представляться вредным, опасным для меня и для детей».
«Все, что мне было дорого и важно, все стало тебе противно: и наша прелестная, тихая, скромная деревенская жизнь, и люди, которые в ней участвовали, как Василий Иванович147, которого, я знаю, что ты ценишь, но которого ты тогда сочла врагом, поддерживавшим во мне и детях ложное, болезненное, не естественное, по-твоему, настроение. И тогда началось то отношение ко мне, как к душевнобольному, которое я очень хорошо чувствовал. И прежде ты была смела и решительна, но теперь эта решительность еще более усилилась, как усиливается решительность людей, ходящих за больными, когда признано, что он душевно больной. Душа моя! вспомни эти последние года жизни в деревне, когда, с одной стороны, я работал так, как никогда не работал и не буду работать в жизни — над
- 520 -
Евангелием (какой бы ни был результат этой работы, я знаю, что я вложил в нее все, что мне дано было от бога духовной силы), а с другой стороны, стал в жизни прилагать то, что мне открылось из учения Евангелия: отрекся от собственности, стал давать, что у меня просили, отрекся от честолюбия для себя и для детей, зная..., что то, что ты готовила для них в виде утонченного образования с франц[узскими], англ[ийскими] гувернерами и гувернантками, с музыкой и т, п., были соблазны славолюбия, возвышения себя над людьми, жернова, которые мы им надевали на шею. Вспомни это время и как ты относилась к моей работе и к моей новой жизни. Все это казалось тебе увлечением односторонним, жалким, а результаты этого увлечения казались тебе даже опасными для детей. И ты с большей решительностью и энергией и совершенным закрытием глаз на то, что происходило во мне, на то, во имя чего я стал тем, чем стал, потянула в обратную, противоположную сторону: детей в гимназию, девочку — вывозить, составить знакомства в обществе, устроить приличную обстановку. Эта новая московская жизнь была для меня страданием, которое я не испытывал всю мою жизнь».
«В деревне было не лучше. То же игнорирование меня — не одной тобой, но и подраставшими детьми, естественно склонными усвоить потакающий их слабостям, вкусам, и тот взгляд на меня, как на доброго, не слишком вредного душевнобольного, с которым надо только не говорить про его пункт помешательства. Жизнь шла помимо меня. И иногда, — ты неправа была в этом, — ты призывала меня к участию в этой жизни, предъявляла ко мне требования, упрекала меня за то, что я не занимаюсь денежными делами и воспитанием детей, — как будто я мог заниматься денежными делами, увеличивать или удерживать состояние для того, чтобы увеличивать и удерживать то самое зло, от которого гибли, по моим понятиям, мои дети. И мог заниматься воспитанием, цель которого гордость — отделение себя от людей, светское образование и дипломы, были то самое, что я знал за пагубу людей. Ты с детьми выраставшими шла дальше и дальше в одну сторону — я в другую. Так шло года́, год, два — пять лет. Дети росли, мы расходились дальше и дальше, и мое положение становилось ложнее и тяжелее... Иногда, как в эти дни, я прихожу в отчаяние и спрашиваю свою совесть и разум, как мне поступить, и не нахожу ответа».
«Выборов есть три: употребить свою власть: отдать состояние тем, кому оно принадлежит — рабочим, отдать кому-нибудь, только избавить малых и молодых от соблазна и погибели; но я сделаю насилие, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желания, но не удовлетворенные, что еще хуже; 2) уйти от семьи? — но я брошу их совсем одних — уничтожить мое
- 521 -
кажущееся мне недействительным, а может быть, действующее, имеющее подействовать влияние — оставлю жену и себя одиноким и нарушу заповедь, 3) продолжать жить, как жил; вырабатывая в себе силы бороться со злом любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кротости и вдвойне страдаю и от жизни и от раскаяния».
«Неужели так надо? Так в этих мучительных условиях надо дожить до смерти? Она не далека уж. И мне тяжело будет умирать с упреком за всю ту бесполезную тяжесть последних годов жизни, которую едва ли я подавлю и перед смертью, и тебе провожать меня с сомнением о том, что ты могла бы не причинять мне тех единственных тяжелых страданий, которые я испытал в жизни».
«Вам кажется, что я сам по себе, а писание мое само по себе. — Писанье же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности.
Ведь разлад наш сделала та роковая ошибка, по которой ты 8 лет тому назад признала переворот, который произошел во мне, переворот, который из области мечтаний и призраков привел меня к действительной жизни, признала чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним, который не надо исследовать, разобрать, а с которым надо бороться всеми силами. — И ты боролась 8 лет, и результат этой борьбы тот, что я страдаю больше, чем прежде, но не только не оставляю принятого взгляда, но все дальше иду по тому же направлению и задыхаюсь в борьбе и своим страданием заставляю страдать вас».
«Вы приписываете всему, только не одному: тому, что вы причиной, невольной, нечаянной причиной моих страданий».
Окончание письма было набросано Толстым только конспективно:
«Вы ищете причину, ищете лекарство. Дети перестанут объедаться (вегетарианство). Я счастлив, весел (несмотря на отпор, злобные нападки). Дети станут убирать комнату, не поедут в театр, пожалеют мужика, бабу, возьмут серьезную книгу читать — я счастлив, весел, и все мои болезни проходят мгновенно. Но ведь этого нет, упорно нет, нарочно нет.
Между нами идет борьба на смерть — божье или не божье. И так как в вас есть бог, вы...»148
Письмо обрывается на полуфразе.
- 522 -
XXII
Тяжелое настроение Толстого, вызванное полной отчужденностью жены и старших сыновей, становилось все тяжелее и мрачнее и скоро перешло в полное отчаяние, выразившееся в письме к Черткову, написанном, вероятно, 14 декабря. В первых же строках Толстой пишет Черткову:
«Мне мучительно тяжело и ни с кем так мне не хочется поделиться этой тяжестью, как с вами, милый друг, потому что, мне кажется, никто так не любит во мне то хорошее, что есть во мне, как вы. Разумеется, все это моя слабость, моя отдаленность от бога — даже известное физическое состояние, но я живу — может быть, последние часы моей жизни, и живу дурно, с унынием и раздражением против окружающих меня. Что-нибудь я делаю не так, как хочет бог, но я ищу и не попадаю, и все та же тоска, уныние и хуже всего раздражение и желание умереть. Последние дни я не писал и не пишу еще и потому оглядываюсь вокруг себя, себя сужу и ужасаюсь.
Вся эта животная [жизнь] — да не просто животная, а животная с отделением себя от всех людей, с гордостью — идет все усиливаясь, и я вижу, как божьи души детские — одна за другою попадают в эту фабрику, и одна за другой надевают и укрепляют жернова на шее и гибнут. Вижу, что я с своей верой, с своим выражением ее и словом и делом, устраняюсь, получаю значение для них неприятного, неправильного явления — как бывают черви в ульях, которых пчелы, не в силах убить, замазывают, чтоб они им не мешали, — и жизнь дикая с торжеством идет своим ухудшающимся порядком. Дети учатся в гимназиях — меньшие даже дома учатся тому же и закону божию такому, который будет нужен в гимназиях. Обжираются, потешаются, покупая на деньги труды людей для своего удовольствия, и все увереннее и увереннее, чем больше их становится, что это так. То, что я пишу об этом, не читают, что говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь, что делаю, не видят или стараются не видеть. На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцев условиях и выгодных для продажи. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня как на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены выжимающего сколько можно больше денег от людей за свое писанье. Ах, кабы кто-нибудь хорошенько в газетах указал ярко и верно и ядовито (жалко за него, а нам как бы здорово было) всю подлость этого149.
- 523 -
Вчера меня просят подписать бумагу, что я по владеемым мною землям передаю право на дворянские выборы сыну. Отчего я допускаю, отчего я делаю это? Вот это-то я не знаю, как мне делать. В семье я живу и никого не вижу иначе, как всякий всегда куда-то спешит и отчасти раздражен этим спехом и, кроме того, так уверен в том, что этот спех не только нужен, но так же естественен, как дыхание. И если начнешь говорить, то он, если и не раздражится..., то смотрит на часы и на дверь, думая, скоро ли кончится это ворчанье брюзгливого и не понимающего молодости, односторонне увлеченного старика. С женой и с старшим сыном начнешь говорить, — является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня. — Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью — сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьян и преследования за покражи моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать все — отдаться раздраженью. Разорвать же все, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу еще. Молю бога — т. е. ищу у бога пути разрешения и не нахожу. Иногда именно спрашиваю у бога, как мне поступать. Спрашиваю всегда так, когда мне предстоит выбор сделать так или иначе. Говорю себе: если бы я сейчас умирал, как бы я поступил? И всегда, когда я живо представлю себе то, что я ухожу из жизни, я чувствую, что важнее всего уйти из жизни, не оставив по себе злобы, а в любви, и тогда склоняюсь к тому, чтобы на все соглашаться, только бы не раздражать. И главное — тогда становишься совершенно равнодушен к мнению людей. Но потом, когда оглянешься на результаты этого, на ту ложь, в которой живешь, и когда слаб духом, то делается отвращение к себе и недоброжелательство к людям, ставящим меня в это положение. — Крошечное утешение у меня в семье это девочки150. Они любят меня за
- 524 -
то, за что следует любить, и любят это. Немного еще в Левочке, но чем больше он растет, тем меньше... Зачем я вам пишу это. Так — хочется, потому что знаю, что вы меня любите, и я вас люблю. Не показывайте этого письма другим».
Далее Толстой просит своего друга: «Если вам совсем ясно будет, что мне лучше делать, то напишите мне».
Но Толстой тут же выражает сомнение, удастся ли В. Г. Черткову найти «совершенно ясный» образ действий для Толстого в его положении: «Но это — мне по крайней мере кажется — ужасно трудно разрешить. Разрешение одно — жить всякую минуту своей жизни с богом, делая его, но не свою волю — тогда вопросов этих не будет. Но теряешь эту опору, эту жизнь истинную на время, как я ее сейчас потерял, — и тогда тяжело бьешься, как рыба на берегу».
В конце письма следовала приписка: «Писал это два дня тому назад. Вчера не выдержал, стал говорить, сделалось раздражение, приведшее только к тому, чтобы ничего не слыхать, не видать и все относить к раздражению. Я целый день плачу один сам с собой и не могу удержаться»151.
Письмо не было отправлено и осталось в архиве Толстого.
Резкий разговор, происходивший у Толстого, вероятно, 15 декабря, приведен Софьей Андреевной в письме к сестре от 20 декабря.
«Случилось то, — писала С. А. Толстая, — что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку». Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Спрашиваю удивленно: «Что случилось?» — «Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет». — Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу — человек сумасшедший и, когда он сказал: «Где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев... Стал умолять: «останься». Я осталась, но вдруг начались истерические рыданья, ужас просто, подумай, Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети 4 — Таня, Илья, Лева, Маша ревут на крик; нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей — говорить не могу. Так и кончилось. Но
- 525 -
тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось152. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?..
Подписка на издание идет такая сильная, что я весь день, как в канцелярии, сижу и орудую всеми делами... Денег выручила 2000 в 20 дней.
Ну вот, после этой истории, вчера почти дружелюбно расстались. Поехал Левочка с Таней вдвоем на неопределенное время в деревню к Олсуфьевым за 60 верст на Султане вдвоем в крошечных санках. Взяли шуб пропасть, провизии, и я сегодня уже получила письмо, что очень весело и хорошо доехали, только шесть раз вывалились. Я рада, что Левочка отправился в деревню, да еще в хорошую семью и на хорошее содержание. Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось, он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до худобы и до нервного состояния»153.
17 декабря 1885 года Толстой написал В. Г. Черткову новое письмо взамен не отосланного. Здесь он опять писал: «Я очень плох, слаб, встревожен и в унынии... Коротко сказать, я не умею, не могу относиться к окружающей меня жизни, к той, в которой я должен жить, кротко, любовно и потому спокойно. А я страдаю и заставляю страдать других, не помогаю им, раскаиваюсь и потому страдаю еще больше. И ничего не работаю, кроме физической работы, и страдаю еще тем, что не делаю того, что должен. — Мне надо уединения, чтобы поправить свои расшатанные силы и физически и нравственно».
На другой день — 18 декабря — Толстой вновь пишет Черткову по поводу письма близкого ему по взглядам Н. Л. Озмидова, обратившегося к Толстому с письмом, в котором он просил предоставить ему работу в «Посреднике». Толстой писал, что о свидании с Чертковым он ничего не может сказать, потому что он «слишком измучен и растрепан»154.
О «растрепанности» и «измученности» Толстого в то время свидетельствует его письмо к Н. Л. Озмидову, написанное 19 декабря. Уведомляя адресата о том, что он не успел у него побывать,
- 526 -
потому что на некоторое время уезжает из Москвы, Толстой прибавляет:
«Я уезжаю измученный — избитый нравственно.
Завидую вашей жизни и вашему положению — именно потому, что вы в нужде, т. е. на свободе, а я в хомуте, который изодрал мне все плечи — всю душу»155.
Толстой уехал 19 декабря в подмосковное имение Никольское-Обольяново, принадлежавшее друзьям семьи Толстых — Адаму Васильевичу и Анне Михайловне Олсуфьевым.
Уезжая, Толстой передал жене то свое большое письмо к ней, которое он написал за несколько дней до отъезда.
21 декабря М. Л. Толстая писала Т. Л. Толстой в Никольское: «У нас за обедом был сегодня довольно неприятный разговор. Мама́ все на вегетарианство нападала. Она прочла письмо, которое папа́ ей оставил, и оно ее, по-видимому, расстроило. До сих пор она была довольно весела. Ну, да это обойдется»156 .
22 декабря Толстой писал жене из Никольского: «Нынче получил от тебя письмо... Меня... заняло... то настроение озабоченности, торопливости, в котором ты продолжаешь находиться и в котором тебе очень тяжело... Ах, душа моя, как жалко, что ты так себя мучаешь, или дела, которые ты затеяла, мучают тебя. Утешаюсь тем, что физические причины помогут твоему успокоению, и радуюсь тому, что я теперь пришел в такое нормальное положение, что не буду тревожить и мучать тебя, как мучал все это последнее время».
На этом письмо Толстого было прервано приездом сына Льва, привезшего новое письмо Софьи Андреевны, написанное 22 декабря, в котором она писала: «Я очень бы хотела знать, что ты, но боюсь трогать те больные места, которые не только не зажили, но как будто еще больнее раскрылись. Больнее от того, что дурное чувство за причиненную боль, и боль, какой еще никогда в жизни больнее не было, не прошло. Я рада, что твои больные нервы отдохнут без меня; может быть, ты и работать будешь в состоянии... Вот хотела уехать я, а уехал ты. И всегда остаюсь я с своими заботами, да еще с разбитой тобой душой»157.
Прочитав письмо жены, Толстой продолжил свое письмо к ней:
«Сейчас прочел твое письмо. И сейчас в сердце зажало, и чувствую то же отчаяние и тоску, которые чувствовал в Москве
- 527 -
и которые совершенно пропали здесь. Опять то же: задача не по силам, он никогда не помогает, я все делаю, жизнь не ждет. Все слова мне знакомые и, главное, не имеющие никакого отношения к тому, о чем я пишу и говорю. Я говорил и говорю одно, что нужно разобраться и решить, что хорошо, что дурно, и в какую сторону идти; а если не разбираться, то не удивляться, что будешь страдать сама и другие будут страдать... Но впрочем, ради бога, никогда больше не будем говорить про это. Я не буду. Надеюсь окрепнуть нервами и молчать. — То, что все, что я испытывал в Москве, происходило не от физических причин — [доказывает] то, что я после трех дней точно такой же жизни, как в Москве, — без мяса, с работой физически тяжелой — я здесь колю и пилю дрова — я чувствую себя совсем бодрым и сплю прекрасно. — Но что делать. Мне, по крайней мере, ничего нельзя изменить, ты сама знаешь. Одно можно — выработать спокойствие и доброту, которой у меня мало, что я и постараюсь сделать. Прощай, душа моя. Целую тебя и люблю и жалею. Целую детей»158.
В тот самый день, когда Толстой написал жене это письмо, Татьяна Львовна писала матери:
«Милая мама.
Все мне хочется вас (т. е. папа́, и вас) учить, и с вами мне это будто бы легче, чем с папа́.
Я все ищу случая с ним поговорить, но здесь найти его трудно, и я вероятно напишу ему из Москвы то, что мне так часто хотелось ему высказать. А именно, что он желает, чтобы мы жили по-его, но мы не убеждены в том, чтобы это было нужно, — напротив, я убеждена, что если для того, чтобы достичь идеальной жизни, надо, чтобы все были несчастливы, — то бог с ней совсем. Что мы всегда можем делать и будем с радостью делать, это исполнять многие его желания, когда они определенны, а опоминаться я не вижу, в чем нам надо?
Если бы мы начали, не веря в это, что-то из себя корчить в угоду папа́, то ему много было бы тяжелее, и мы столько бы делали бестактностей и столько зла бы сделали, потому, что не любили бы и не верили бы в свою жизнь. Ах, как это ужасно жаль, что столько хороших и святых мыслей, которые у папа так испорчены тем, что он хочет волей или неволей и без доброты часто их внушить другим. Вам покажется, что я его не люблю последнее время, но это неправда, — напротив, мне ею очень жаль, и я к нему нежность чувствую, и, может быть, еще большую, чем когда-либо, потому что я чувствую, что он стал ближе к нам, грешным, т. е. что и он бывает неправ и слаб. Прощайте.
- 528 -
Если бы папа́, любя нас и с добротой к нам относился (к вам особенно), и жил бы, как он хочет, то мы многое по его примеру делали бы, да и теперь часто думаешь: «Зачем же у меня будет то или другое, когда у папа́ ничего нет, или зачем я буду ничего не делать и других заставлять, когда папа́ сам работает». А всякая вспышка гнева сразу все портит. Думаешь, что, верно, он сам чувствует, что он неясно сознает то, что он говорит, если он так сердится. Прощайте опять... Вас я поучу на словах — учение мое не строгое. Résumé из него: не говорите того, чего вы не думаете и что других огорчает; меньше — не занимайтесь, а меньше увлекайтесь изданиями, и вообще поспокойнее и полегче. Ничего, что я вам лекцию читаю? Но ведь я любя. Прощайте»159.
Письмо дочери вызвало резкий отпор Софьи Андреевны. Письмо Софьи Андреевны, написанное 23 декабря сейчас же по получении письма дочери, начинается обращением: «Таня, я очень искренне рада, что вам хорошо с папа́ и что он отдыхает». Далее Софья Андреевна пишет:
«Я знаю, Таня, что в жизни нашей все хорошо, и что плакать не о чем; но ты это папа́ говори, а не мне. Он плачет и стонет и нас этим губит. Отчего он в Никольском не плачет над Олсуфьевыми и собой и тобой? Разве не та же, но еще более богатая жизнь и там, и по всему миру? За что я souffre-douleur160 всех его фантазий? Я, которая всегда и желала жить для других, и мне это ничего не стоило, в этом только и радость моя была! — Спасибо, что дети ко мне [относятся] с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне и осталось. — Но быть веселой! Возможно ли это, когда слышишь стоны больного возле себя? И больного, которого привыкла любить. Вот об этом подумай. А пока я могу одно сказать: да, я хочу, чтоб он вернулся ко мне, так же как он хочет, чтоб я пошла за ним. Мое — это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. Его — это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние не только семью, но и его родных, близких, друзей. Это мрак — в который я не пойду, это наболелое, которое убьет меня. Нет, в этот ужас меня не заманишь. Это новое, будто бы спасшее, а в сущности приведшее к тому же желанию смерти, так намучило меня, что я ненавижу его.
Да, я зову в свое старое, и оно верное, и тогда только счастье восстановится, когда мы заживем старой жизнью. Никогда мне это не было так ясно. И ясно, что я очень, очень
- 529 -
теперь несчастлива этим разладом, но ломать жизмь не буду и не могу»161.
В тот самый день, 23 декабря, когда Софья Андреевна писала Т. Л. Толстой это письмо, Лев Николаевич писал ей из Никольского: «Как-то ты живешь, милый друг? Давно нет от тебя известий, и последние оставили впечатление невеселого и неспокойного состояния, да и мое последнее письмо было дурное. Жду очень от тебя известий и с надеждой, что будут хорошие. Таня все описывает о здешней жизни. Я могу подтвердить ее слова, что очень, очень милое, честное все семейство...»
Далее Толстой, как бы отвечая на тот упрек, который в письме к дочери предъявила ему Софья Андреевна162 — почему он «не плачет» над жизнью помещиков Олсуфьевых, гостя у них? — пишет про своих хозяев: «Роскошь жизни их очень большая и, очевидно, тяготит, давит их — и им скучно, и у них, скорее, скучно. Выкупа́ется все нравственной чистотой и честностью, которая чувствуется во всех...
Я сплю эти дни совсем хорошо и нахожусь в упадке нерв. Сердце немного сжимается иногда, но реже... Ах, как мне хочется получить от тебя хорошее известие... то есть что ты спишь хорошо, что дело [издания] наладилось и меньше требует твоих хлопот, что не беспокоишься ни о ком особенно и не сердишься на меня, не тревожишься обо мне. Вот программа, чего я желаю для тебя»163.
24 декабря Софья Андреевна извещала Толстого о том, что на его имя получено письмо от И. Б. Файнермана164, «очень умное и интересное», и далее прибавляла: «Но что за несчастный фанатик в твоем направлении, т. е. в мраке. Пишет, что с женой чуть не драка, бежать от нее хочет... И это — то, к чему и я должна стремиться! Нет, ваше учение — это то самое монашество, к которому и приходили люди, впервые сделавшиеся монахами. Чертков в разладе с матерью, — уйти хотел. Файнерман — с женой — бежать хочет; ты от семьи бежать хочешь. — А ведь если б не это, как бы счастливы мы были; как в глубине души мы все-таки наверное любим друг друга... Вот чего не пойму я никогда: почему истина должна вносить зло и разлад? Разлад не с разбойниками, а с тихими, любящими людьми? В первый раз в жизни я рада была, что ты уехал.
- 530 -
Как это больно и грустно! Но я, конечно, рада буду еще больше, когда ты приедешь»165.
На это письмо Толстой, решивший «молчать», ничего не ответил, хотя и упомянул о получении его в письме от 27 декабря.
XXIV
На письмо Толстого от 17 и 18 декабря В. Г. Чертков ответил 20 декабря. Он писал:
«Получил я ваши последние два грустные письма, дорогой друг Лев Николаевич. Не стану я пытаться вас утешать или что-нибудь подобное: вы сами лучше знаете все, что я могу сказать. Но я сообщу вам те мысли, которые вызвали во мне эти письма. Прежде всего я вспомнил слова: «Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас; если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Евангелие от Иоанна, гл. XV, ст. 20). Отсутствие единения с своими семейными — быть у себя дома чужим и встречать постоянный отпор от людей, самых близких — это очень тяжелая форма гонения; но это именно и есть один вид того гонения, которое мы должны ожидать... Но мне очень тяжело чувствовать, что вы страдаете, милый Лев Николаевич, дай вам бог поскорее выйти из этого испытания и выступить с удвоенными силами, пуская в оборот на пользу людям все то, чем вы теперь страдаете. Нам, со стороны, видны проявления того, что вас не только «гонят», но и «соблюдают ваше слово...»
Впоследствии Чертков писал и говорил, что всем древним учителям нравственности приходилось претерпевать жестокие гонения со стороны их современников (Голгофа у Христа, чаша с ядом у Сократа). Толстому выпала на долю особая, не менее жестокая форма гонения — постоянное враждебное отношение к его мировоззрению близких ему людей. В том, чтобы, не нарушая любви, всегда спокойно претерпевать враждебное отношение близких людей к тому, что было для него самой несомненной истиной, дороже жизни, Чертков видел «подвиг жизни» Толстого. При письме Чертков посылал вырезку из американской газеты о сочувственном отношении читателей к трактату Толстого «В чем моя вера?», вышедшему в английском переводе, и от себя прибавлял: «Если вы отложите в сторону чувство личного удовлетворения от сознания такого успеха, то все-таки должно остаться хорошее не личное сознание, что вы служите проводником божьей истины и многим делаете добро даже из современников».
- 531 -
Как пример глубокого интереса к «слову» Толстого Чертков сообщает свой разговор с И. Д. Сытиным, приезжавшим в Петербург исключительно для встречи с Чертковым. Сытин рассказал, что его типография не в силах удовлетворять вполне спрос на книжки «Посредника»; поэтому он и его компаньоны по издательскому делу решили приобрести новую типографскую машину, которая будет печатать по 50 тысяч экземпляров в день. Рассказав далее о редакторской работе сотрудников «Посредника» и о своей встрече с Салтыковым-Щедриным, Чертков закончил письмо словами: «Ну вот, Лев Николаевич, как видите, мы делаем что можем. Теперь за вами дело»166.
Толстой ответил на письмо Черткова 27 декабря. Он начал письмо словами: «Очень вы меня утешили своим письмом, милый друг. Я нашел в нем то самое, чего ждал, — сочувствия и сожаления — сострадания. Удивляюсь, почему люди не любят и стыдятся быть жалкими: мне радостнее всего именно это чувство сострадания. Я его заслуживаю со всех сторон».
Далее Толстой рассказывает, как «в самое рождество случилось», что он «пошел гулять по незнакомым пустынным зимним деревенским дорогам и проходил весь день и все время думал, каялся и молился», и ему «стало лучше на душе с тех пор». Затем Толстой приводит текст молитвы, которую он «твердил». Это — свободное и дополненное переложение молитвы, данной в Евангелии от Луки. Целью этой молитвы было для Толстого то, чтобы поддерживать себя в высоком и твердом настроении духа. Толстой просит Черткова «не показывать всем» его письма и прибавляет: «Неясно, странно, что я пишу, но тот, кто ходит теми дорогами, как я, поймет меня — вы».
Письмо заканчивается описанием того душевного настроения, в котором находился тогда Толстой:
«Кто не любит брата, тот пребывает в смерти. Я это боками узнал. Я не любил, имел зло на близких, и я умирал и умер. Я стал бояться смерти — не бояться, а недоумевать перед нею. Но стоило восстановить любовь, и я воскрес. Помогай нам бог не умирать... — Очень хочу работать, но вот уже давно нет сил. — Я забыл первую заповедь Христа: не гневайся. Так просто, так мало и так огромно. Если есть один человек, которого не любишь, погиб — умер. Я это опытом узнал»167.
В тот же день — 27 декабря — Толстой более коротко писал о своем душевном состоянии и Софье Андреевне: «Я же с дня рождества могу сказать, что чувствую себя лучше и лучше; главное нравственно. Они ездили кататься, а я ходил по дорогам, гулял и думал, и каялся, и молился богу. Не для успокоения тебе говорю, а искренно я понял, как я много виноват,
- 532 -
и как только я понял это и особенно выдернул из души всякие выдуманные укоризны и восстановил любовь и к тебе и к Сереже, так мне стало хорошо, и будто хорошо независимо от всех внешних условий... Целую, любя, тебя и детей»168.
30 декабря Толстой выехал из Никольского в Москву.
Несмотря на то, что он, уезжая в Никольское, захватил с собой для работы рукописи начатых произведений, он во все пребывание в Никольском только один раз несколько поработал над продолжением повести «Смерть Ивана Ильича». Кроме того, Толстой просматривал книги из библиотеки Олсуфьевых, чтобы найти в них что-либо подходящее для издания в «Посреднике». Он нашел несколько «хороших нравоучительных масонских книг», как писал он Софье Андреевне 24 декабря.
2 января 1886 года Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской: «Левочка вернулся и стал добрый». Затем ей же 8 января: «Левочка был добр и кроток, но я не прощала и не могла долго простить тех мучений, которые он мне сделал. Но кончилось примирением и твердым обещанием никогда ни разу не поминать прошлого. Но я, обещавши этого не делать на словах, до сих пор в сердце не забыла... После примиренья пошло весело в доме. Делали все, что хотели. Приглашали гостей (т. е. все это не я, а дети), собирались вечером... Поехали в костюмах и масках в самые знакомые и веселые дома... Были у нас и вечеринки, кое-кто собрался, пели, плясали, из горящего рома таскали сладости, гадали... Звали нас с Таней на балы и вечера, но мы ни разу никуда не ездили, только визиты делали кое-кому»169.
То, что Толстой был «добр и кроток» с женой и старшим сыном, разумеется, вовсе не означало того, чтобы он стал одобрять образ жизни его семьи. На другой день по приезде в Москву, 31 декабря, он писал художнику Н. Н. Ге: «Я никаких планов не делаю; но вероятно, что опять после нескольких недель здешней жизни измучаюсь, запрошу пардона и уеду в деревню»170.
XXV
Трактат «Так что же нам делать?» в окончательной редакции не имеет авторской даты, но в рукописной копии трактата, ранее принадлежавшей Г. А. Русанову и в настоящее время хранящейся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого,
- 533 -
рукою С. А. Толстой, вероятно, не без основания, проставлена дата — 14 февраля 1886 года171.
В новом, пятом издании собрания сочинений Толстого, вышедшем в 1886 году, были напечатаны отрывки из трактата «Так что же нам делать?» под заглавием «Мысли о переписи». К ним было написано В. Ф. Орловым предисловие, которое должно было печататься от имени издательницы. 22 февраля Толстой писал Черткову: «Последние дни у меня был Орлов и начал писать для Софьи Андреевны предисловие от издательницы к «Что же нам делать?» И написал прекрасную статью, в которой указывает различие моих взглядов от социалистов и революционеров. «Те хотят исправить мир, а этот хочет спасти душу». Предисловие едва ли выйдет, а статья хорошая»172.
Статья Орлова в печати не появилась, очевидно, по цензурным условиям; текст ее остался неизвестным.
Сомнения цензуры вызвал и трактат Толстого в новом, сокращенном варианте. Но все же XII том, где печатались «Мысли о переписи», был выпущен в свет. О том, чем руководилась при этом цензура, мы узнаем из протокола заседания Московского цензурного комитета от 2 апреля 1886 года, где обсуждался нижеследующий доклад председательствующего В. Я. Федорова:
«1 сего апреля из типографии Волчанинова (Леонтьевский переулок) в Московский цензурный комитет представлен отпечатанный без предварительной цензуры XII том сочинений гр. Льва Н. Толстого, и из статей, помещенных в этом томе, более других обратила на себя внимание статья на стр. 179—375 «Мысли, вызванные переписью». Статья эта, имевшая первоначально другое название «Что же нам делать», известная Комитету из предварительного ее прочтения, изменена и сокращена настолько, что коммунистические и социалистические идеи в ней уступают ныне место идеям филантропического характера; но известного рода тенденциозность остается за статьей и в настоящем ее виде.
В статье нет ни резких сопоставлений положения бедных и богатых, ни грубых укоров церкви, отступившей будто бы от своего призвания и не руководящей духовною жизнью людей, нет и грозных указаний на приближающуюся все более и более рабочую революцию со всем ужасом разрушений и убийств; но плохо скрываемое чувство нерасположения к привилегированным
- 534 -
классам, не живущим среди народа и в условиях его жизни, проводится и теперь во всей статье.
Со страницы 279 автор вдается в рассмотрение вопроса о разделении деятельности и в конечном выводе пространных своих рассуждений он приходит к тому, что разделение труда в современных нам обществах, хотя и оправдывается наукой, но в сущности есть ложь, и все те, которые не работают на народ мускульной работой, не имеют права на кусок хлеба.
Разделение труда всегда было и есть, — говорится между прочим на стр. 296; но оно правильно тогда только, когда совесть и разум всех людей просто, несомненно и единогласно решают этот вопрос. Когда же человек может с детства до 30 лет прожить на шее других, обещаясь сделать, когда вырастет, что-то очень полезное, о котором никто его не просит, и когда с 30 лет и до смерти он живет все только своими обещаниями, то это не будет разделение труда, а будет, как оно и есть, один только захват чужого труда сильным; такой захват, который философы прежде называли необходимыми формами жизни, а теперь наука называет органическим разделением труда.
Отдельно взятые такие места несомненно представляются неодобрительными, но, принимая в соображение: что в общем рассуждения автора на эту тему не только не оставляют впечатления, но представляются даже утомительными для чтения; что в ряду этих рассуждений встречаются места с явным характером абсурдов, таково отрицание, например, всякой пользы от научной и вообще умственной деятельности, и что апология мускульного труда не может не казаться крайне парадоксальною, я полагал бы, что того вреда, который предусматривается в печати пунктом 1 закона 1872 г. 7 июня, статья принести не может.
Не лишним представляется присовокупить к сему, что на ту же тему об исключительном значении физического труда написана имеющаяся на стр. 123 небольшая сказка об Иване-дураке и его двух братьях».
«Комитет, соглашаясь с мнением докладчика, определил о вышеизложенном представить на благоусмотрение Главного управления по делам печати, объяснив, что срок выхода книги гр. Толстого наступит 8 апреля к 12 часам дня. — Цензора экземпляр с отметками приложить к донесению»173.
Эти соображения были доложены Главному управлению по делам печати, который вынес 4 апреля 1886 года постановление, что «XII том сочинений графа Л. Н. Толстого может быть выпущен в свет без всяких исключений».
Трактат «Так что же нам делать?», как и другие запрещенные
- 535 -
сочинения Толстого, получил распространение в списках и нелегальных изданиях; об этом сохранилась интересная переписка.
Старший инспектор типографий и книжной торговли в Москве доносил московскому генерал-губернатору 14 марта 1884 года о появлении «тайно отпечатанных некоторых сочинений графа Льва Николаевича Толстого» и о том, что по полученным им негласно сведениям «оказывается, что означенные издания графа Толстого печатаются и распространяются им самим у себя на дому». Генерал-губернатор предписал московскому обер-полицмейстеру «установить строжайшее по сему делу наблюдение».
Ответ обер-полицмейстера последовал спустя два года — 8 марта 1886 года. Он писал, что «одно из сочинений графа Толстого под заглавием «Так что же нам делать?» было отдано автором для помещения в журнале «Русская мысль», но, вследствие запрещения цензурою, отгектографировано было в кружке умершего инженера Александра Ивановича Александрова, в квартире Губаревой, известной своим крайним направлением? и распродавалось по 2 рубля за экземпляр между учащейся молодежью. Корректура этого сочинения была взята в редакции «Русской мысли» сотрудником означенного журнала, членом Географического общества Александром Степановичем Пругавиным, находящимся по распоряжению Департамента полиции под негласным надзором, вследствие политической неблагонадежности и сношений с сектантами».
Далее полицмейстер сообщал, что «запрещенные сочинения графа Толстого большей частью ходят в рукописях по рукам между последователями его учения и переписываются ими, что, конечно, идет весьма медленно, так как переписка отнимает много времени; литографированных же изданий находится в обращении незначительная часть. Последнее обстоятельство объясняется тем, что большое количество подобных изданий, только что отлитографированных, было арестовано в литографии Киселева 30 апреля 1884 года и самое заведение тогда же закрыто. Точно так же много взято таких изданий у разных лиц, обысканных и арестованных по делу сказанной литографии. Сам же граф Толстой не гектографирует своих запрещенных изданий и не продает их у себя на дому»174.
Из этой же переписки узнаем, что в апреле 1885 года в Москве появилось еще одно нелегальное издание трактата Толстого «Так что же нам делать?» Это издание было уже не гектографическим, а типографским, но печаталось «домашним
- 536 -
способом, посредством щетки»175; оно вышло в свет с фирмой несуществующей типографии «Москва. В. Готье, Пименовская улица, № 25» от имени несуществовавшего «Общества распространения полезных книг».
Обер-полицмейстер предполагал, что это издание «печаталось на юге России, в одной из подпольных типографий». Инспектор типографий доносил генерал-губернатору, что «экземпляры этого издания сочинений графа Толстого, как дознано мною, вращаются в кругу московской интеллигенции, и об этом издании известно Департаменту полиции»176.
После запрещения первых глав трактата «Так что же нам делать?», подготовлявшегося к печати в журнале «Русская мысль», в редакции «Посредника» возникла мысль об издании трактата полностью за границей на русском языке. Обсуждался вопрос о названии работы Толстого (до того времени трактат носил название «Что нам делать?»).
В письме к Толстому от 25 мая 1885 года Чертков советовал переменить заглавие на «Что мне делать?» В ответном письме от 1—2 июня Толстой писал Черткову: «Ваше замечание, что лучше назвать «Что мне делать?», справедливо, и я им воспользуюсь. И то задор и гордость»177 (Замечание относится к названию «Что нам делать?»). Но, по-видимому, Толстой был не вполне удовлетворен названием, предложенным Чертковым. 17—18 июня Толстой писал ему: «Думал сейчас, какое бы придумать заглавие «Что же нам делать?» и не придумал. «Могу ли я помогать ближнему?», «Какова моя жизнь?» «Великое (дело добро)?» «Не придумаете ли вы?»178
Чертков ответил, что название «Какова моя жизнь?» кажется ему подходящим. Толстой писал ему 4 июля: «Заглавие статьи, если вы одобряете, так и пошлите»179.
В начале июня Чертков отправился в Англию, захватив с собой из Москвы печатный экземпляр «В чем моя вера?» и рукописную копию «Что же нам делать?» Из Англии материалы были посланы в Женеву издателю русских книг М. К. Элпидину. В 1886 году труд Толстого под названием «Какова моя жизнь?» вышел из печати. Издание содержало первые 20 глав трактата.
Название «Какова моя жизнь?» нельзя признать вполне удачным. Смысл его состоял в том, что, жестоко обличая привилегированные классы в деспотизме и эксплуатации рабочего
- 537 -
труда, Толстой, чтобы смягчить впечатление, спешил заявить, что он и сам принадлежит к числу людей, живущих на счет народа. Но признание это непомерно суживало смысл и содержание его труда и с некоторыми оговорками могло быть применено только к первым главам трактата.
Толстой сам тогда же чувствовал неудовлетворенность новым названием (хотя оно было предложено в числе других им самим). Согласившись в письме к Черткову от 4 июля 1885 года с новым названием своей работы, Толстой в следующем же письме к нему от 13 июля сообщает: «По утрам пишу все статью «Что нам делать?» — и далее поясняет, что статья говорит «о деньгах, податях и значении правительства и государства»180.
В 1889 году в том же издательстве Элпидина появился полный текст трактата Толстого под заглавием «Что же нам делать?» Заглавие «Так что же нам делать?» появилось в восьмом томе «Полного собрания сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого», вышедшем в 1902 году в Англии (Крайстчерч) под редакцией В. Г. Черткова.
XXVI
12 ноября 1885 г. исполнявший должность киевского отдельного цензора по иностранной цензуре направил начальнику Главного управления по делам печати рапорт:
«Киевское жандармское управление доставило мне, при секретном отношении, экземпляр неизвестного сочинения графа Л. Н. Толстого под заглавием: «Так что ж нам делать?», прося дать заключение о его содержании, ввиду того, что несколько десятков экземпляров этого сочинения было взято при обыске лиц, обвиняемых в государственном преступлении. Сочинение это гр. Л. Н. Толстого отпечатано в неизвестной типографии, без означения года и места издания. Оно состоит из двух выпусков, переплетенных в одну брошюру, и заключает в себе XX глав, из коих XV глав, на 62 страницах, составляет 1-й выпуск, а остальные V глав, на 20 страницах, 2-й. Печать в высшей степени неразборчивая, некоторые места и страницы оттиснуты так неясно, что читать трудно, везде следы типографских чернил — очевидно, брошюра эта печаталась на ручном станке. Таким же шрифтом и на такой же бумаге напечатаны воззвания о пожертвовании на издание заграничного революционного листка «Вестник народной воли», захваченные у тех же лиц».
Далее излагалось основное содержание брошюры.
- 538 -
«По моему мнению, — доносил цензор, — основные положения этого сочинения направлены против современного общественного строя, это протест против веками установившихся общественных порядков, воззрений и убеждений всего культурного человечества. Автор, ознакомившись с положением бедных, живущих в разных ночлежных домах и других притонах Москвы, приходит к тому выводу, что бедность, нищета и самый разврат — суть результаты современного нашего социального строя. Условия жизни общества неправильны, по его мнению. Стремление разных филантропов, и в том числе его самого, направить бедный люд на трудовую жизнь — суть глупые ошибочные фантазии, так как общественная благотворительность даже ухудшает положение бедняков и несчастных. Нужно поэтому изменить строй общественной жизни, нужно «иначе жить», грошовые подачки рабочему и трудящемуся люду не принесут никакой пользы, пока богатые и вообще неработающие физически не сознают, что богатство — это плод насилия высших классов над низшими».
Приведя затем довольно много цитат из книги Л. Н. Толстого, цензор сообщал:
«Ввиду идей, высказанных в этой брошюре, я сообщил Жандармскому управлению, что, по моему мнению, ее нельзя причислять к книгам, могущим быть дозволенными к свободному обращению в публике. Подобного рода сочинения у писателя, столь талантливого, с таким громким именем, могут только поддерживать учение крайних социалистов. Они, основываясь на таком серьезном литературном авторитете, несомненно будут настаивать на необходимости изменения общественного строя и, убеждая словами автора людей малоразвитых, увлекающихся, что богатство есть продукт насилия, а деньги — орудие рабства, что все неработающие физически — чиновники, купцы и т. д. — суть в сущности представители этого грубого насилия, — будут проповедывать, что, ввиду несогласия сих «насильников» отказаться от богатства, своих прав и изменить свою жизнь, необходимо насилием, мерами крутыми и кровавыми, произвести перемены в общественном строе. Ввиду этого настоящую книгу следует причислить к сочинениям безусловно вредным и распространение ее опасным.
Донося об этом Вашему превосходительству, я полагаю, что эту брошюру гр. Л. Н. Толстого следует поместить в список книг, запрещенных к обращению в публике. Экземпляр брошюры при сем прилагаю»181.
Начальник Главного управления по делам печати Феоктистов, конечно, согласился с мнением цензора. 23 ноября 1885 г. в Киев было послано отношение за № 4053:
- 539 -
«Главное управление по делам печати, находя отзыв Вашего превосходительства об означенном издании правильным, имеет честь уведомить, что книга эта, независимо от содержания, как тайно отпечатанная, на основании действующих постановлений должна быть запрещена к обращению со внесением в общий список запрещенных изданий»182.
XXVII
Трактат «Так что же нам делать?» являлся для того времени самым полным изложением социальных воззрений Толстого.
Можно считать дайный трактат последней частью той тетралогии, к которой принадлежат основные произведения Толстого, написанные в первой половине 80-х годов и в своей совокупности раскрывающие основы его мировоззрения.
Первая часть тетралогии (1879—1882) — «Исповедь», излагающая пережитый автором духовный кризис и его искания истинной веры.
Вторая часть (1879—1881, 1884) — «Исследование догматического богословия», содержащее критику догматов православной веры и раскрывающее противоречие этих догматов с требованиями разума.
Третья часть (1882—1884) — «В чем моя вера?» — изложение основ религиозно-нравственного учения Толстого.
Четвертая часть (1882—1886) — «Так что же нам делать?» — изложение социально-экономических воззрений Толстого.
Дальнейшие произведения Толстого представляли собой развитие и углубление тех положений, которые были изложены в этих четырех трудах.
Вместе с тем трактат «Так что же нам делать?» содержит яркое обличение всей неправды современного Толстому общественного строя не только в России, но и во всем мире.
Ко многим страницам трактата применимы слова Тургенева о «Былом и думах» Герцена: «Все это написано слезами и кровью, горит и жжет»183.
В статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» В. И. Ленин писал:
«По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки,
- 540 -
основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»184.
Эта характеристика обличительных произведений Льва Толстого, написанных после переворота в его мировоззрении, вполне приложима прежде всего к трактату «Так что же нам делать?»
Продолжением и развитием идей, выраженных в «Так что же нам делать?», явились такие произведения Толстого, написанные в 1890-е и 1900-е годы, как статьи о голоде, «Царство божие внутри вас», «Рабство нашего времени», «Неужели это так надо?», «Пора понять» и другие.
- 541 -
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
А. Ш. «Деревенская философия» — 429
Абамелик-Лазарев С. С. — 340
Абрикосов Х. Н. «Двенадцать лет около Толстого» — 43
Аввакум Петрович — 444, 461
Августин Аврелий. «Исповедь» — 341
Авраам — 146
Аврелий Марк. См. Марк Аврелий
Агафья Михайловна, экономка в Ясной Поляне — 269, 270
Аксаков И. С. — 34, 36, 177—179, 183, 396
Аксакова А. Ф. (рожд. Тютчева) — 396
Александр II — 7, 8, 33, 43, 128, 129, 223, 240, 244, 439
Александр III — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30, 35, 204, 210, 216, 223, 240, 255, 340, 444, 445
Александр Никитич. См. Ш-н А. Н.
Александров А. И. — 535
Александров Н. А. — 140, 141, 199
Александрова О. «И. П. Минаев и Л. Н. Толстой» — 218
Алексеев В. И. — 8, 9, 12, 21, 22, 27, 32, 33, 47, 55, 56, 59, 67, 79, 81, 86, 87, 104, 109, 133, 164, 166, 168, 195, 229, 303, 320, 327, 343—345, 468, 490, 519
— «Воспоминания» — 9, 32, 490
Алексеева Е. — 32, 55
Алчевская Х. Д. — 272, 273, 274, 277, 281, 282, 283, 312, 395, 421, 426, 466, 478
— «Передуманное и пережитое» — 274
Амвросий, старец Оптиной пустыни — 42, 43, 44, 46
Амелфа Тимофеевна, былинный персонаж — 41
Амиель Анри — 227
Амфилохий, архимандрит — 251, 252
Амфитеатров А. В. — 117, 118, 373
«Ангел», легенда — 89
«Английский милорд Георг». См. «Повесть о приключениях английского милорда Георга».
Анке Н. Б. — 468
Анненков П. В. — 146, 202, 209
Анпенкович — 263
Антонович М. А. — 34
Апостолов Н. Н. «Лев Толстой и русское самодержавие» — 252
Арбузов С. П. — 40—45
— «Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания бывшего слуги гр. Л. Н. Толстого» — 40
Аристотель — 279
Армфельд А. А. — 340
Армфельд А. В. — 309, 310
Армфельд А. О. — 309
Армфельд Н. А. — 309, 310, 340
Арнаутов И. А. (Арнаутовка) — 150, 151, 163
Арнаутова Т. Г. — 150, 151
Арсеньева В. В. — 263
«Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», журнал — 312
Астафьев А. В. «Лев Толстой и его современники» — 515
Ауэрбах Бертольд — 279
Ауэрбахи — 218
Афанасьев А. Н. «Русские народные легенды» — 89
Бакунин А. А. — 67
Бакунин М. А. — 67
Бакунин П. А. — 67
Бальзак О. «Евгения Гранде» — 513
Баратынский Е. А. — 483
Бардина С. И. — 307, 308
— «Две соседки» — 307, 308
- 542 -
— «К матери» — 308
— «Суд нынче мог бы хоть с балетом...» — 307
Барлас Л. «Разговорная и просторечная лексика в произведениях Л. Н. Толстого (на материале рассказа «Чем люди живы» и повести «Смерть Ивана Ильича») — 92
Бартенев П. И. — 358
Бартенев Ю. «Памяти Николая Федоровича Федорова» — 76
Батуринский В. «Гейнс В. К.» — 490
Бахметев Н. Н. — 151, 152, 155, 253, 366
— «Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах» — 155, 254
Белинский В. Г. — 65
Белоконский И. П. («Петрович») — 431, 437, 443
— «Дань времени» — 431, 436, 443
— «На сибирские темы» — 443
— «Т. М. Бондарев и его учение» — 443
«Беломорские старцы», легенда — 476
Белотелов П. Г. «Царство дураков. Сказка. Продолжение сказки «Иван-дурак» Льва Толстого» — 469
Беляев Ю. Д. — 119
— «В Ясной Поляне» — 119
Бер С. Ю. — 257, 346
Берс А. А. — 18
Берс А. Е. — 18
Берс В. А. — 336
Берс Л. А. (рожд. Иславина) — 18
Берс П. А. — 52, 61, 88, 168
Берс С. А. — 17, 19
— «Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом» — 18, 19
Берсы — 340, 468
Бессонов П. А. «Калики перехожие. Сборник духовных стихов и исследование» — 269, 276
Бестужев-Рюмин В. Н. — 340
Бестужев-Рюмин К. Н. — 13, 29, 30, 340
Бибиков А. А — 55, 56, 59, 195, 196, 320, 327
Бибиков А. Н. — 362
«Библиотекарь», журнал — 77
Библия 49, 73, 165, 192, 242, 416, 428, 441, 445, 448, 450, 512
Бирюков П. И. — 9, 126, 165, 183, 226, 248, 276, 359, 360, 410, 411, 415, 425, 426, 443, 457—461, 463, 464, 466, 470, 471, 495, 505, 506, 513, 517, 533
— «Биография Л. Н. Толстого» — 165, 183, 224, 248, 360, 464, 466
— «Моя переписка с Л. Н. Толстым» — 416
«Битва русских с кабардинцами», рассказ — 281
Бичер-Стоу Гарриет — 273
Блаватская Е. П. — 304
Благосветлов Г. Е. — 34
Блохин Г. — 338
Боборыкин П. Д. — 189, 267
— «В Москве у Толстого» — 189, 267
Боголюбов А. П. — 213
Боголюбов Н. П. — 213
Боголюбский М. — 252
Бондарев Д. Т. — 438, 449, 450
Бондарев Т. М. — 73, 74, 390, 428—432, 434—450, 464
— «Памятник» — 449
— «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» («О нравственном значении земледельческого труда») — 390, 428—431, 438, 442, 444, 464
Борисов П. И. — 340
Боровиковский А. Л. — 308
Боткин В. П. — 146
Боянус О. С. (рожд. Хлюстина) — 260
Бредихин Ф. А. — 351
Буало Николя — 280
Бугаев Н. В. — 305, 306, 359
Бугро Вильям Адольф
— «Истязание Христа» — 361
— «Страдание Христа» — 403
Будда — 145, 286
Буланже П. А. — 285
Булыгин Т. — 198
Бутлеров А. М. «Физическая теория спиритизма» — 515
Бутурлин А. С. — 126, 228, 252, 256
Бухгейм Л. Э. — 183
Бушканец Е. Г. «Мнимые стихотворения Софьи Бардиной» — 308
«Былое», журнал — 17, 211
Вагнер Рихард — 500
Валов Н. Д. — 158
Варшер С. «История одного литературного сюжета» — 89
Васильев С. В. — 304
Васнецов В. М. — 304
«Ведьма и Соловей-разбойник», рассказ — 281
Венгеров С. А. — 112, 113, 114, 120, 141, 448
— «Источники словаря русских писателей» — 490
— «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» — 448
- 543 -
Венгерова Р. А. — 112, 113, 120
Венедиктов Д. Г.
— «Палач Иван Фролов и его жертвы» — 16
Вересаев В. В. — 356
— «Художник жизни. (О Толстом)» — 356
Верн Жюль — 273
«Весельчак. Сборник стихотворений и веселых анекдотов» — 281
«Вестник Европы» — 62, 113, 120, 122, 146, 473, 474
«Вестник народной воли», газета — 537
«Вечерние известия» — 198
Виленкин (Минский) Н. М. (N. W.)
— «Новое слово г. Соловьева» — 122, 123
Виноградов Д. Ф. — 40, 346
Владимир Акимович, священник — 41
Владимиров Е. И. «Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой» — 431, 449
Власов П. В. — 190
Вовчок Марко — 273
Вогезский В. (В. М. Грибовский)
— «Беседы с гр. Л. Н. Толстым» — 156
Волчанинов М. Г. — 533
«Вольная русская поэзия второй половины XIX века», сборник — 308
Вольпер М. «Новые методы. Практическое руководство к легчайшему изучению древнееврейского языка» — 165
«Вопросы истории», журнал — 31
Воронов М. А.
— «Арбузовская крепость» — 114
— «Повести и рассказы» — 114
«Воспитание и обучение», журнал — 478
«Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом», сборник — 190
Врангель А. Е. — 222
«Всемирная панорама», журнал — 297
Всероссийская промышленно-художественная выставка — 146, 147
Галилей Галилео — 231
Ганди Мохандас Кармчанд — 247
Гаршин В. М. — 57, 102, 202, 203
— «Ночь» — 203
— «Художники» — 203
— «Attalea princeps» — 203
Гафиз — 150
Ге Е. Н. — 349
Ге Н. Н. — 124, 125, 229, 252, 264, 299, 300, 339, 345, 349, 350, 411, 532
— «Толстой за работой», портрет — 124
Ге Н. Н. (сын) — 350, 446
Ге П. Н. — 349
Гегель Георг Вильгельм Фридрих — 24, 486
Гейнс В. К. См. Фрей Вильям
Георгиевский Г. П. (Покровский П. Я.) — 78
— «Из воспоминаний о Николае Федоровиче» — 78
— «Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров» — 78
Герд А. Я. — 102
Геродот — 277
Герцен А. И. — 134
— «Былое и думы» — 539
Гершензон М. О. «Вильям Фрей» — 490
Гете Иоганн Вольфганг — 280
Гиляров-Платонов Н. П. — 98, 99, 112, 136, 137, 139, 157
Гиляровский В. А. — 268
Гинкин А. «Идеальный библиотекарь Н. Ф. Федоров» — 77
Гладстон Вильям Юарт — 63
Гоголь Н. В. — 65, 94, 273, 279, 280, 345, 405, 519
— «Выбранные места из переписки с друзьями» (Переписка с друзьями) — 65
— «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — 405
«Голос», газета — 101, 102, 155, 210
«Голос минувшего», журнал — 15, 71, 202, 400
Гольденвейзер А. Б. «Вблизи Толстого» — 189, 212, 356
Голохвастов Д. Д. — 312
Гольцев В. А. — 210, 211
Гонкур Жюль — 57
Гонкур Эдмон — 57
Гончаров И. А. — 200, 473
Горбунов-Посадов И. И. — 90
— «Домиан де-Вестер» — 409
Горбунова Е. Д. — 273
Горощенко Н. — 446
Горький А. М. — 119, 367
Готье В. — 535
«Гражданин», газета — 94, 95, 96
Грановский Т. Н. — 209
Григорович Д. В. — 158, 171
Гриценко А. П. — 273
Громека М. С. — 183, 184, 187, 188, 189, 203, 213
— «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» — 156, 188
Гроссман Л. П. — 137
- 544 -
Грузинский А. Е. «Источник рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и бог» — 400
Грязной Терентий — 28
«Гуак, или Непреодолимая верность», рассказ — 281
Гудзий Н. К. — 115, 423
Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм — 280
Гуревич Л. Я. — 346, 461
Гурьев В. «Пролог в поучениях» — 398
Гурьян И. М. — 192
Гусев А. «Гр. Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» — 259
Гусев Н. Н.
— «Два года с Л. Н. Толстым» — 73, 82, 145, 185, 390
— «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» — 303, 439
— «Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869» — 49, 200, 231, 479, 502
— «Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881» — 159
Гюго Виктор — 38
— «Бедные люди» — 90
— «Девяносто третий год» — 410
Давыдов Н. В. — 12, 223, 299
— «Из прошлого» — 223
Даниил Заточник — 444
Данилевский Г. П. — 462
— «Поездка в Ясную Поляну» — 462
Данилевский Н. Я. — 136, 157, 396, 415, 420, 478
Данте Алигьери — 279
Дантон Жорж — 311
Дарвин Чарльз Роберт — 488—489, 496
«XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» — 346, 357, 453
«Дело», журнал — 53, 123, 385
«Детская помощь», журнал — 382, 383, 384
«Детский отдых», журнал — 52, 88, 93
Джордж Генри — 385—390, 393, 446
— «Изучение политической экономии» — 385
— Общественные задачи» — 389
— «Социальные проблемы» — 393
— «Progress and Poverty» («Прогресс и бедность» — 385—389
Диккенс Чарльз — 410, 513
— «Крошка Доррит» — 513
— «Оливер Твист» — 409, 459, 513
— «Тайна Эдвина Друда» — 409
— «Холодный дом» — 459, 513
Диксон В. «Новая Америка» — 490
Дикман, английский проповедник — 296
«Для народного чтения», журнал — 412
Дмоховская А. В. — 306, 307, 394
Дмоховский Л. А. — 306
Добролюбов А. М. — 34
Додэ Леон — 57
— «Евангелистка» — 203
Долгорукая, княгиня — 167
Долгоруков В. А. — 126, 210, 211, 212, 262, 263
«Домашняя беседа для народного чтения», журнал — 411, 412, 413
Домна, кухарка — 344
Достоевская А. Г. — 419
Достоевский Ф. М. — 57, 58, 65, 76, 96, 97, 121, 178, 180, 200, 201, 202, 219—222, 282, 500
— «Бесы» — 220
— «Братья Карамазовы» — 200, 402
— «Дневник писателя» — 178, 180
— «Записки из мертвого дома» — 200
— «Записки из подполья» — 220
— «Преступление и наказание» — 201, 220
Драгаманов М. П. (Z) — 123
— «Народ и общество» — 123
Дружинин А. В. — 57, 146, 155
Дружинин В. Г. — 155
Друцкий, князь — 355
Дуброво И. И. — 408, 409
Дунаев А. Н. — 20
Дунин А. «Граф Л. Н. Толстой и толстовцы в Самарской губ.» — 198
Дуняша. См. Попова А. В.
Духовская В. [Ф.] «Из моих воспоминаний» — 16
Духовской С. М. — 16
«Душеполезное чтение», журнал — 413
Дюма Александр, отец — 312
Евангелие (Новый Завет) — 10, 27, 29, 31, 42, 44, 49, 53, 54, 58, 69, 71, 85, 94, 101, 108, 122, 143, 145, 159, 173, 176, 177, 178, 183, 230, 233, 234, 236, 242, 244, 248, 250, 251, 252, 255, 257, 283, 286, 302, 313, 333, 346, 361, 383, 400, 416, 484, 505, 520, 530, 531
Евгения Максимилиановна, принцесса. См. Ольденбургская Е. М.
Егоров М. Ф. — 362
«Ежемесячный журнал» — 190
- 545 -
Екатерина II — 312
Елеонский Н. А. «О новом Евангелии графа Толстого» — 252
Елисеев Г. З. — 34, 66
Ермолова Е. П. — 261
Жданов В. А. — 190
— «Любовь в жизни Льва Толстого» — 525
Желябов А. И. — 244
«Женское образование», журнал — 29, 475, 476
«Жизнь отцов», сборник — 89
«Житие Петра Мытаря» — 274, 275, 276
«Житие святых» — 270
Жорж Санд — 273
Жуковский В. А. — 273, 279, 280
Жюльен Станислав (St. Julien) — 285
Залюбовский Алексей Петрович — 505, 506
Залюбовский Анатолий Петрович — 505
«Записки Неофилологического общества», журнал — 93
Засодимский П. В. — 99
— «Благие намерения» — 99
Засулич В. И. — 311
Захарьин Г. А. — 390, 391
Златовратский Н. Н. — 202, 278, 303, 359, 392, 393, 441
— «Деревенские будни» — 113
Золя Эмиль — 57
— «Жервеза» (L’assommoir) — 513
Зябрев А. Т. — 189
Зябрев В. П. — 190
Зябрев Е. Т. — 190
Зябрев К. Н. (Константин Белый) — 26, 27, 471
Ивакин И. М. — 24, 29, 33, 35, 36, 81, 196, 415, 419, 451, 457, 462, 463, 466, 468, 481, 495, 513
— «Записки» — 13, 36, 47, 81, 196, 415, 419, 420, 426, 463, 466, 468, 481, 495, 513
Иван IV Васильевич (Иван Грозный) — 402
Иванов А. П. — 289, 290, 497
Иванов, студент — 311
Иванова З. Н. — 471
Иванцов-Платонов А. М. — 257, 258, 298, 312
Иванчин-Писарев А. И. — 382, 430
Иванюков И. И. — 305, 372, 373
Игорь, князь — 371
Иерон, монах (Новый Афон) — 81
«Из истории русской журналистики. Статьи и материалы» — 157
Измайлов Л. Д. — 184
Иисус Христос — 8—11, 15, 17, 43, 44, 74, 131, 132, 135, 146, 154, 159, 160, 173, 177, 180, 181, 198, 224, 228, 230—236, 239—244, 246, 248—252, 255, 257, 259, 300, 306, 326, 351, 361, 368, 383, 400, 401, 403, 407, 414, 417, 423, 437, 451, 496, 505, 530, 531
Иконников А. С. — 45
Иконниковы — 45
Илларион, старец Саровской пустыни — 412
Иоанн, апостол — 96, 101
Иоанн Златоуст — 410
«Иова книга» — 279
Исайя, пророк — 165
«Искра», газета — 211
«Искусство», журнал — 83
Иславин К. А. — 150, 294
Иславина Л. А. См. Берс Л. А. (рожд. Иславина)
Иславины — 340
Исленьев А. М. — 18
Истомин В. К. — 88, 126
«Исторический архив», журнал — 211
«Исторический вестник», журнал — 49, 311, 420, 447, 458, 462
Кавелин К. Д. — 156, 161, 162
Калмыкова А. М. — 395, 418, 421—427, 496, 517
— «Учитель греческого народа Сократ» («Греческий учитель Сократ») — 422—427
«Калужские губернские ведомости», газета — 45
«Калужские епархиальные ведомости», газета — 45
Капнист Е. И. — 186
Капустин П. — 259
Каракозов Д. В. — 195
Карамзин Н. М. — 200, 460
Карышев И. А. «Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л. Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в сочинении «В чем моя вера?» — 259
Катков М. Н. — 97
Кесарь. См. Цезарь Гай Юлий
Кингслей Ч. «Гипатия. (Из эпохи борьбы христианства с греческой философией в Александрии в V веке)» — 312, 409
Кислинский Н. А. — 167, 293
«Книжки недели», журнал — 418
- 546 -
«Книжный вестник», журнал — 476, 477, 522, 523
Ковалев В. — 305
Ковалевский А. Ф. — 413
Ковальская П. Ф. — 350
Ковальский А. М. — 350
Кожевников В. А. «Н. Ф. Федоров. Опыт изложения учения» — 77
Кольцов А. В. — 273
Кони А. Ф. — 21, 46, 474
— «Лев Николаевич Толстой» — 21
Коничев К. И. «Русский самородок. Повесть о Сытине» — 407
Константин I Великий — 250
Конт Огюст — 485, 487, 488, 489, 491, 492, 496, 497, 517
Конфуций — 283, 284, 285, 286, 311
— «Великое учение и учение о середине» — 283, 284
Коран — 89
Корнель Пьер — 280
Короленко В. Г. «Великий пилигрим» — 311
Корф М. А. — 255
Кравков Е. М. — 311
Крамской И. Н. — 357, 361
— «Неутешное горе» — 302
«Красная газета», вечерний выпуск — 217
«Красная шапочка», сказка — 211
Красовский, помещик — 30
Крашенинников Н. А. — 150
Кривенко С. Н. (С. Н. К.) — 48
— «Из литературных воспоминаний» — 49
— «Физический труд как необходимый элемент образования» — 312
Крюгер Мэри — 445
Ксенофонт — 423
— «Воспоминания о Сократе («Меморабилиа») — 423
Кузминская В. А. — 324
Кузминская М. А. — 58
Кузминская Т. А. — 7, 15, 18, 22, 29, 32, 49, 167, 209, 218, 219, 260, 287, 288, 322, 323, 325, 328, 332, 334, 335, 349, 355, 361, 364, 381, 391, 463, 466, 468, 470, 471, 473, 474, 485, 495, 503, 524, 532
— «Бабья доля» — 470, 471—474
— «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — 22
Кузминские — 129, 322, 325, 335, 337, 380, 410, 436, 463
Кузминский А. М. — 22, 23, 33, 49, 129, 139, 218, 219, 300, 334, 485, 515
Купер Фенимор — 273
Курносов, крестьянин — 198
Кушнерев И. Н. — 252, 254
Кюнен Авраам — 341
Лавров В. М. — 213
Лавров П. Л. — 490
Лазарев Е. Е — 195, 196, 197, 356, 357
Лазурский В. Ф. «Дневник» — 126
Лао-Цзы (Лаоцы, Лао-Тзе) — 283, 285, 286, 311
— «Тао-те-Кинг» — 285
Ларивон, кучер — 25, 26
Лебедев В. С — 431, 436, 437, 438
Левенфельд Р. В. — 73, 164
— «Гр. Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим» (Gespräche über und mit Tolstoi) — 74, 165
Ледерле М. М. — 285, 409
Ленин В. И. — 211, 503, 539, 540
— «Толстой и пролетарская борьба» — 503
— «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» — 539
Леонтьев К. Н. («Русский мирянин») — 95—98
— «Наши новые христиане Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой» — 96
Лермонтов М. Ю. — 200, 261, 273, 279, 293
Лесков Н. С. — 96, 97
— «Русская рознь» — 402
— «Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи. (Религия страха и религия любви)» — 96
— «Христос в гостях у мужика» — 401—402, 474
Лессинг Готхольд Эфраим — 279
Леткова Е. П. — 312
«Летописи Гос. литературного музея», кн. 2—241, 448, 481, 482
«Летописи Гос. литературного музея», кн. 12—9, 21, 23, 27, 32, 43, 150, 173, 344, 350, 468, 490
Лисицин М. М. — 79, 81
«Литература и жизнь», газета — 213
«Литературное наследство», т. 22—24—210, 253; т. 37—38—126; т. 69, кн. 1 и 2—13, 25, 29, 36, 47, 81, 149, 196, 271, 419, 451, 457, 479, 490; т. 75, кн. 1—313
«Литературный вестник», журнал — 482
Ломброзо Чезаре — 312
Ломовская Л. Ф. — 381
Лопатин Л. М. — 305
Лопухины — 7
Львов Н. А. — 304
Лэйк Эммелина — 336
- 547 -
Магомет — 89, 235
Мазон А. «Léon Tolsloj et Destin de paysanne» — 474
Майн-Рид — 273
Макарий, митрополит московский — 146, 152
Макаров О. Д. — 190
Маковицкий Д. П. «Яснополянские записки» — 21, 171, 222
Маковский К. Е. — 83
Маликов А. К. — 12
Мальтус Томас Роберт — 487, 489, 496
Мальцев С. И. — 340, 393, 394, 396
Маракуев В. Н. — 251, 252, 254, 277, 278, 359, 360, 384
Марк Аврелий Антонин. «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя» — 146, 286
Марков Е. Л. — 62, 63, 64, 65, 66
«Международный толстовский альманах» — 77, 189, 214, 267, 305, 373
Мейер Жюль — 254
Мельников-Печерский П. И. — 202
Менгден Е. И. — 55
Мечников Иван Ильич — 88
Мечников Илья Ильич — 88
Мещерская Е. Н. — 200
Мещерский В. П. — 95
Мещерский И. — 263
Мидоус Томас Тейлор — 341
Миллер О. Ф. — 256
Милль Джон Стюарт — 134, 386
Минаев И. П. — 217, 218
— «Буддизм. Исследования и материалы» — 218
Минор Л. С. — 165
Минор С. А. — 164, 165, 166
Миронов Б. «Свидание с Толстым» — 214
Михайлов Т. М. — 14
Михайлова В. Н. — 144
Михайловский Н. К. — 15, 82, 311
— «Герои и толпа» — 201
— «Жестокий талант» — 201
— «Записки профана» — 201
— «Записки современника» — 65
— «Литературные воспоминания и современная смута» — 15, 82
— «Научные письма» — 311
Мишле Жюль — 341
Моисеев Р. «Возмутительная выходка Л. Н. Толстого» — 217
Моисея заповеди — 250
Мольер (Жан Батист Поклен) — 64
Монтень Мишель — 277, 279
Моод Эльмер (A. Maude) — 421
— «The Life of Tolstoy» — 421
Мопассан Анри Рене Альбер Ги — 57, 62, 341
— «Дом Телье» (Maison Tellier) — 57
Мордовцев Д. Л. — 311
Моров А. «Сергей Рахманинов» — 504
«Московские ведомости», газета — 33, 78, 97, 98, 146, 282
«Московский телеграф», газета — 210
Муравьев-Апостол М. И. — 82
Мэн-Цзы (Менгце) — 286
«Нагорная проповедь» — 54, 159
Нагорнова Н. М. — 419
Наживин И. Ф. — 356
— «Из жизни Л. Н. Толстого» — 356
Назаревский В. — 469
Наполеон I Бонапарт — 340
«Народная воля. Социально-политическое обозрение» — 437
«Народная школа», журнал — 99, 100, 477, 478
Наталья Петровна. См. Охотницкая Н. П.
«Наука и жизнь», журнал — 490
«Нева», журнал — 504
«Неделя», журнал — 156, 463
Незеленов А. И. — 155
Некрасов Н. А. — 231, 273, 279, 341
Некрасова Е. С. (Е. Н.) — 120
— «Книжки для народа» — 474, 475
Нестеров М. В. — 46
— «Давние дни» — 46
Нечаев С. Г. — 79, 81, 311
«Нива», журнал — 50
Никифоров Л. П. — 70, 72, 73
— «Сютаев и Толстой» — 15, 71
Николай I — 464
Никольский Ю. «Дело о похоронах И. С. Тургенева» — 211
«Новая жизнь», журнал — 81
Новиков М. П. — 73
Новицкий А. «Перов Василий Григорьевич» — 83
«Новое время», газета — 119, 155, 215, 222, 515
«Новости», газета — 474
«Новости и биржевая газета» — 96, 475
Ностиц Г. И. — 263
«Обзор детской литературы», сборник — 102
Оболенская М. Л. — см. Толстая М. Л.
Оболенские — 186, 262
Оболенский Д. А. — 21
Оболенский Л. Д. — 292, 517
- 548 -
Оболенский Л. Е. (Созерцатель) — 157, 185, 391, 392, 414, 429, 430, 438, 442, 458, 460
— «Литературные воспоминания и характеристики» — 420
— «Научные основания учения любви» — 517
— «О любви» — 517
— «Обо всем» — 157, 429, 430
«Общее дело», журнал — 156, 185, 256
Ожешко Элиза — 273
Озмидов Н. Л. — 525
Олсуфьев А. В. — 298, 526
Олсуфьев В. А. — 150
Олсуфьева А. Г. — 170
Олсуфьева А. М. — 526
Олсуфьева М. А. — 167
Олсуфьева — 528, 529, 532
Ольденбург С. Ф. — 496
Ольденбургская Е. М. — 309, 310
Опульская Л. Д. «Творческая история повести «Холстомер» — 479
Орехов А. С. («Алеша») — 144
Орлов, генерал-адъютант, князь — 253
Орлов В. И. «Формы крестьянского землевладения в Московской губ.» — 310
Орлов В. Ф. — 79, 80, 81, 127, 299, 513, 533
Орлов-Давыдов С. В. — 262
Орлов-Чесменский А. Г. — 482
Орфано А. «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека» — 259
Осипова П. А. — 263
Островский А. Н. — 273, 282
«Отечественные записки», журнал — 53, 65, 66, 82, 201, 202, 282, 311, 385
Оуэн Роберт — 37
Охотницкая Н. П. — 402
Павел, апостол — 250, 252
Павлов Н. П. — 358
Пажес Амедей — 445
Пажес Эмиль — 445
«Памятники древнерусской церковно-учительской литературы» — 88—89
Пантелеев Л. Ф. «Воспоминания» — 135
Паскаль Блез — 64, 277, 279, 286
Пашков В. А. — 172, 254, 255
«Педагогический листок» — 99
Перелыгина А. В. — 165
Перов В. Г. — 83
Перпер М. И. «Предисловие [к публикации письма Л. Н. Толстого к Вильяму Фрею]» — 490
Перфильев В. С. — 356
«Петербургская газета. Прибавление» — 83
«Петербургские ведомости» («Сан.-Петербургские ведомости») — 215, 482
Петерсон Н. П. — 76, 79
— «Из записок народного учителя» — 77
Писарев Р. А. — 277, 278
«Письма Толстого и к Толстому», сборник — 178, 183, 202
Платон — 64, 423, 424
— «Апология Сократа» — 427
— «Пир» — 64
— «Федон» — 425, 427
Победоносцев К. П. — 12, 13, 14, 15, 173, 209, 210, 254, 255, 257, 258, 259
«К. П. Победоносцев и его корреспонденты» — 13
«Повесть о приключениях английского милорда Георга и бранденбургской марк-графини Фридерики-Луизы...» («Английский милорд Георг») — 281, 399, 462
«Под знаменем науки», юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженка — 89
Поздняков Н. И. — 99, 475
«Полвека для книги. Лит.-художественный сборник» — 360
Поливанов Л. И. (Поливанова гимназия) — 62, 64, 65, 304, 349
Поливанова М. А. — 62
Полонский Я. П. — 50, 51, 209, 303
— «На высотах спиритизма» — 50
— «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину. (Из воспоминаний)» — 50
Пономарев А. И. — 89, 93
— «Церковно-народные легенды «О судах божиих не испытаемых» и рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы» — 89
Попов Е. И. — 241, 447
— «Отрывочные воспоминания о Л. Н. Толстом» — 241
Попов И. И. «Минувшее и пережитое» — 17
Попов К. Д. — 384
Попов П. С. — 139
Попова А. В. — 166
«Послания святейшего Синода» (1881 г.) — 33
«Посредник», издательство — 226, 276, 287, 348, 360, 384, 399, 400, 401, 403, 404, 406—411, 417, 418, 421, 422, 425, 432, 458, 459, 461—463,
- 549 -
468, 469, 471, 473—478, 496, 512, 513, 514, 515, 525, 531, 532, 536
Поссе В. А. — 196
— «Моя жизнь» — 197
— «Мой жизненный путь» — 197
Прескотт В. «Завоевание Мексики» — 409
Преснов Д. И. — 312
Пролог — 89, 397, 398
Пругавин А. С. — 53, 54, 56, 67, 68, 70, 73, 76, 81, 82, 120, 172, 173, 296, 359, 535
— «Алчущие и жаждующие правды» — 67
— «О Льве Толстом и о толстовцах» — 53, 172
— «О парадоксах Льва Толстого» — 76
— «Религиозные отщепенцы» — 67
— «Сютаевцы» — 73
— «Л. Н. Толстой в 80-х годах» — 81, 82, 120
Прянишников И. М. — 83, 304
Пушкин А. С. — 63, 64, 200, 263, 273, 279, 280, 420, 500
Пушкин, старообрядец — 340
Пыпин А. Н. — 51, 211, 212, 213, 227, 389, 393
Пятковский А. П. — 100
Р[адлов] Э. Л. «Сократ» — 424
Раевский И. И. — 126, 339
Растопчин Ф. В. — 358
Рахманинов С. В. — 504
Рачинский С. А. — 72
Редсток Гренвиль Вальдигрев — 254
Резунова А. С. — 404
Рейнгардт Н. В. «Необыкновенная личность» — 490
Рекк П. К. — 206
Ренан Жозеф Эрнест — 134
Репин И. Е. — 83, 125, 301, 304, 357, 398, 399, 402, 403
— «Запорожцы» — 403
— «Иван Грозный и сын его Иван» — 402
— «Не ждали» — 302
«И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей» — 358, 403
Рёскин Джон — 448
«Римские деяния», сборник — 89
Робеспьер Максимильен Мари Исидор — 311
Ролстон Вильям — 312, 313
— «Песни русского народа» — 312
— «Русские народные сказки» — 312
Русанов А. Г. — 145
— «Воспоминания о Л. Н. Толстом» — 145, 394
— Русанов Г. А. — 58, 67, 113, 145, 170, 188, 189, 199, 200, 201—204, 206, 207, 208, 222, 223, 226, 394, 421, 445, 532
— «Поездка в Ясную Поляну» — 58, 147, 199
Русановы — 395
«Русская литература», журнал — 113, 120, 218, 308
«Русская мысль», журнал — 24, 53, 67, 97, 100, 101, 113, 142, 147, 149, 151, 152, 154—158, 162, 170, 177, 188, 198, 210, 213, 218, 253, 316, 317, 358, 366, 367, 368, 374, 375, 381, 383, 385, 391, 428—431, 436, 535, 536
«Русская старина», журнал — 352, 443
«Русские ведомости», газета — 382, 457
«Русские пропилеи», сборник — 490, 495
«Русский архив», журнал — 76, 99, 358
«Русский биографический словарь» — 83, 490
«Русский вестник», журнал — 136, 158, 415, 420, 478
«Русский листок», газета — 157
Русский мирянин. См. Леонтьев К. Н. «Русский начальный учитель», журнал — 477
«Русский рабочий», журнал — 399, 400
«Русское богатство», журнал — 57, 157, 185, 259, 385, 391, 392, 408, 414, 429, 430, 438, 439, 442, 517
«Русское дело», газета — 443, 444, 445, 476
«Русское обозрение», журнал — 74, 84
«Русское слово», журнал — 114
Руссо Жан Жак — 219, 280
«Русь», газета — 34, 177, 178
Рыбин, яснополянский крестьянин — 299
Рысаков Н. И. — 43
Савихин В. И. — 99
— «Суд людской — не божий» — 99
Савонарола Джироламо — 410
Сайян Рубен (R. Saillens). «Le рére Martin» — 399, 400, 401
Салиас де Турнемир Е. В. (псевд. Евгений Тур) — 202
— «Катакомбы» — 384
Саломон Шарль — 470, 474
Салтыков-Щедрин М. Е. — 66, 202, 311, 341, 385, 513, 514, 515, 531, 539
- 550 -
— «Бедный волк» — 515
— «Пошехонская старина» — 311
— «Пропала совесть» — 515
— «Рождественская сказка» — 515
— «Самоотверженный заяц» — 515
— «Современная идиллия» — 202
— «Сон в летнюю ночь» — 514
Самарин П. Ф. — 21, 22, 298, 304
Самарины — 262
«Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом» — 76
Свечин Ф. А. — 173, 174
Свешникова Е. П. — 410, 478, 496, 513
Свистунов П. Н. — 82, 83
«Свободное слово», издательство — 533
Святополк-Мирский Д. И. — 228, 312, 313, 314
Северная М. «Бабья доля» — 311
«Северный вестник», журнал — 346, 443
Седова Е. Н. «Борьба помещичьих крестьян центрально-черноземных губерний за землю в 1861—1865 годах» — 31
Сейрон Алсид — 349
Сейрон Анна — 268, 325, 337
— «Лев Толстой» — 268
Семевский М. И. — 443
Сен-Симон Анри Клод — 37
Сервантес Мигуэль Сааведра — 64
Сергеенко П. А. — 77, 189, 214, 267, 373
Сергиевский Ф. — 152, 154, 250, 460, 500
«Сибирская газета» — 429
Сибиряков К. М. — 226, 459—461
Сирянин Я. — 304
«Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче, о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевны (Еруслан Лазаревич)» — 281, 462
Скобелев М. Д. — 240, 408
Скотт Вальтер — 273
«Слово», журнал — 53, 113, 457
Смирнов-Платонов Г. П. — 382
Смирнов-Сокольский Н. П. — 254
— «Моя библиотека» — 254
«Советская Россия», газета — 454
«Современник», журнал — 409
«Современные записки», журнал (Париж) — 332
«Современные известия» — 98, 112, 113, 114, 136, 137, 139, 140
Соколов Д. П. — 500
Сократ — 279, 422—427, 477, 530
Соловьев В. С. — 15, 16, 17, 76, 79, 121, 122, 177, 178, 179, 220, 233, 304, 350, 351
— «Вторая речь в память Ф. М. Достоевского» — 121
— «Духовные основы жизни» (Религиозные основы жизни) — 233
— «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса» — 16
— «О расколе в русском народе и обществе» — 177
— «О церкви и расколе» — 177
Соломин С. — 296
Соломон, царь — 142
Спенсер Герберт — 386, 496
Спиро С. П. — 88
— «Беседы с Л. Н. Толстым» — 88
Срезневский В. И. — 13
Стасов В. В. — 93, 158, 165, 189, 216, 218, 219, 357, 505, 506
— «Н. Н. Ге» — 300
Стасов Д. В — 219
Стасюлевич М. М. — 146, 147
«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке» — 147
Стахович А. А. — 482
— «Несколько слов о «Холстомере», рассказе гр. Л. Н. Толстого» — 482
Стахович М. А. — 481
Стахович С. А. — 222
— «Как писался «Холстомер» — 481, 482
Стороженко Н. И. — 81, 82, 89, 305, 312
«Странник», журнал — 89
Страхов Н. Н. — 10, 12, 13, 14, 16, 17, 32, 34—39, 46, 47, 79, 81—86, 88, 92, 94, 109, 129, 133, 134, 135, 136, 143, 157, 159, 160, 165, 198, 199, 208, 213, 218—222, 233, 256, 291, 299, 300, 312, 350, 396, 406, 415, 420, 421, 427, 445, 466, 467, 468, 478, 515—516
— «Борьба с Западом в нашей литературе» — 34, 134
— «Закономерность стихий и понятий» — 515
— «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» — 95
— «Письма о нигилизме» — 34—39, 134, 299
— «Чем люди живы» — 94, 95
Страхов Ф. А. — 80
Сумцов Н. «Литературная родня рассказа Толстого «Чем люди живы» — 89
Суриков В. И. — 83
- 551 -
Суханов Н. Е. — 133
Сухоленова А. С. — 331
Сухотин М. С. — 171, 202, 271, 340
Сухотина Т. Л. См. Толстая Т. Л.
Сытин И. Д. — 360, 406—408, 460, 463, 531, 533
— «Жизнь для книги» — 360, 406
Сютаев В. К. — 54, 67—75, 85, 125, 126, 127, 356, 436, 439, 446, 449
Сютаев И. В. — 69, 72, 355, 356
Сютаева Д. — 72
«Тайное общество в России в начале XIX столетия. Сборник материалов, статей и воспоминаний» — 83
Талмуд — 89, 165, 233, 236
Тарабарин М. П. — 447
Тарас, яснополянский крестьянин — 404
Тепловы — 260, 262
Терновский В. — 304
Тимирязев К. А. — 312
Тимковский Н. И. — 123, 124
Тихон, архимандрит — 69
Тихоцкий А. А. — 394
Тищенко Ф. Ф. — 221
Толстая А. А. — 47, 83, 126, 128, 129, 131, 132, 299, 309, 310, 333, 345, 445
Толстая А. Л. — 331, 332, 338
— «Из воспоминаний» — 332
Толстая В. Л. — 331
Толстая В. С — 516
Толстая Е. В. — 292
Толстая М. Л. — 92, 163, 260, 262, 263, 276, 322, 324, 325, 331, 332, 335, 443, 523, 524, 526
Толстая С. А. — 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17—20, 22, 23, 27, 29, 32, 40, 47, 48, 51—56, 59, 61, 67, 83, 87, 125, 127—131, 133, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 160—164, 167, 168, 174, 184, 185, 186, 187, 190—197, 206, 207, 209, 211, 214, 218, 219, 222, 251, 254, 257—354, 356, 363—366, 376, 377, 379—381, 384, 385, 390, 394—396, 399, 404, 418—421, 457, 458, 463, 471, 473, 478, 480, 481, 484, 495, 497, 498, 503, 505, 506, 516, 518—533
— «Дневники. 1860—1891» — 19, 129, 157, 161, 186, 187, 363, 395
— «Дневники. 1897—1909» — 329
— «Дневники. 1910» — 330
— «Моя жизнь» (Автобиография) — 14, 19, 20, 27, 61, 224, 260—263, 270, 329—332, 363
— «Письма к Л. Н. Толстому» — 48, 59, 128, 130, 133, 139, 162, 163, 167, 192—194, 214, 251, 263, 270, 293, 350, 353, 354, 363—365, 380, 418, 419, 457, 458, 526, 529, 530
— «Четыре посещения гр. Л. Н. Толстым монастыря Оптина пустынь» — 42
Толстая Т. Л. («старшая дочь») — 29, 32, 46, 55, 56, 61, 83, 125, 149, 161, 163, 166, 167, 185, 186, 187, 218, 260—265, 267, 292, 294, 302, 322, 323, 324, 331—333, 335, 349, 355, 361, 364, 458, 459, 470, 516, 523—529, 532
— «Воспоминания» — 149
«Толстовский ежегодник 1912 г.» — 58, 67, 113, 147, 170, 188, 199, 203, 222
«Толстовский ежегодник 1913 г.» — 42, 72, 449
Толстой Алексей Львович — 167, 262, 331
Толстой Алексей Николаевич — 202
Толстой Андрей Львович — 331
Толстой Д. А. — 173, 209, 211, 216, 444
Толстой Д. Н. («Митенька») — 394
Толстой И. Л. — 7, 61, 87, 160, 270, 272, 294, 331, 335—337, 344, 349, 516, 524
— «Мои воспоминания» — 7, 58, 87
Толстой Л. Л. («Леля») — 48, 61, 161, 186, 260, 262, 263, 270, 271, 272, 294, 331, 337, 349, 524, 526
«Толстой-редактор», сборник — 425, 427, 470, 471, 474
«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» — 268, 311
«Лев Толстой и Тимофей Бондарев.
Труд. Перевод с русского» (Léon Tolstoï et Timothée Bondareff. Le travail) — 445
«Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка» — 124
«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка» — 94, 158, 216, 357
«Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Переписка» — 14, 34, 79, 85, 86, 134, 136, 199, 218—221, 233, 397, 406, 421, 467
«Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка» — 299
А. А. Толстая. Переписка» — 99
«Толстой и Тургенев. Переписка» — 49, 50, 169, 171
Толстой М. Л. — 331
Толстой Н. Л. — 331
Толстой П. Л. — 331
- 552 -
Толстой С. Л. («старший сын») — 23, 29, 32, 46, 47, 51, 57, 60, 61, 62, 77, 117, 119, 120, 125, 126, 257, 264, 268, 291, 292, 294, 323, 327, 328, 331, 334, 335, 336, 337, 356, 357, 364, 377, 414, 415, 419, 516, 523, 532
— «Вступительная статья к «Запискам» И. М. Ивакин» — 47
— «Очерки былого» — 29, 58, 59, 77, 120, 125, 126, 196, 264, 268, 292, 331, 415, 418
Толстой С. Н. — 190, 270, 292, 294, 298, 328, 333, 516
Третьяков П. М. — 125, 304
Труды Киевской духовной академии» — 384
Тур Е. См. Салиас де Турнемир Е. В.
Тургенев И. С. — 46, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 158, 169, 170, 171, 172, 200, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 221, 273, 279, 280, 282, 305, 341, 420, 462, 500, 539
— «Гамлет и Дон-Кихот» — 213
— «Довольно» — 209, 212
— «Записки охотника» — 200, 204, 282:
— «Живые мощи» — 282
— «Певцы» — 282
— «Новь» — 206
— «Первое собрание писем» — 158, 171, 207, 539
— «Песнь торжествующей любви» — 200
— «Поездка в Полесье» — 341
— «Стихотворения в прозе»:
— «Воробей» — 171, 172
— «Голуби» — 171
— «Морское плавание» — 171
— «Русский язык» — 171
— «Что я буду думать» — 171
— «Яков Пасынков» — 341
«1001 ночь» — 89
Тьерри А. «Св. Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия» — 410
Тюрина А. — 470—473
Уварова П. С. — 128
Урусов Л. Д. — 12, 32, 49, 58, 138, 146, 158, 206, 217, 218, 256, 261, 299, 337, 339, 340, 365, 368, 383, 389, 390, 391, 393, 396, 403, 406, 408, 422, 430, 437, 451, 452, 458, 459
Урусов С. С. — 77, 83, 319, 350
Урусова М. С. — 396
— «Histoire d’une âme — Mary. — Souvenirs recueillis par sa mère» — 396
Усов С. А. — 278, 302, 305, 372
Успенская А. И. — 311
Успенский Г. И. — 66, 202, 366, 381, 382, 428—430
— «Власть земли» — 66
— «Трудами рук своих» — 366, 428, 437
«Глеб Успенский. Материалы и исследования» — 366
Успенский П. Г. — 311
«Устои», журнал — 112, 113, 122, 123, 141
«Учение двенадцати апостолов» — 383—385
Ушаков С. П. — 336
«Фабиола, или Древние христиане» — 384
Файнерман И. Б. — 471, 529
Фаусек В. А. — 202
Федоров В. Я. — 249, 251, 533
Федоров Н. Ф. — 75, 76, 77, 78, 79, 85, 127, 299
— «Философия общего дела» — 77
Федосеевец, «Программа вопросов для собирания сведений о русском сектанстве» — 53
Феоктистов Е. М. — 209, 210, 249, 253, 257, 258, 538
Фет А. А. (Шеншин) — 29, 83, 84, 91, 109, 113, 198, 199, 208, 209, 300, 302, 303, 340, 350, 479
— «Горная высь» — 83
— «Мои воспоминания» — 91
— «Осенний цветок» — 83
— «Я в жизни обмирал» — 83
Филарет, протоиерей. См. Сергиевский Ф.
Фин С. И. и Каценеленбоген Х. Л. «Мировоззрение талмудистов» — 165
Флобер Гюстав — 57
— «Мадам Бовари» — 203
Флотов Ф. «Марта», опера — 319
Франциск Ассизский — 410
Фрей В. (В. К. Гейнс) — 461, 490—496, 517, 518
— «Письма к Л. Н. Толстому» — 490, 491
Фроленко М. Ф. — 133
Фролов И. — 16
Фурье Шарль Франсуа Мари — 37
Х. См. Юрьев С. А.
Хлудов, московский купец — 322
Хомяков А. С. — 143
Христофоров А. — 156
«Художественный журнал» — 140
- 553 -
Цвет Т. — 385
Цебрикова М. К. — 513
Цезарь Гай Юлий (Кесарь) — 198
Цейтлин Б. — 445
«Чем люди живы», рассказ гр. Л. Н. Толстого», статья в «Московских ведомостях» — 97
Чернозубов Яков, помещик — 430
Чернышевский Н. Г. — 34
Чертков В. Г. — 185, 191, 221—229, 256, 257, 277, 283, 286—289, 292, 294, 299, 300, 306, 317, 321, 324, 326, 330, 331, 332, 334, 341, 342—348, 351, 356—361, 366, 384, 386, 390, 392, 397—403, 406, 408—411, 414, 415, 417, 418, 422, 423, 425, 426, 427, 430, 437, 438, 443, 451, 457—461, 463, 465, 466, 471, 475, 485, 494, 498, 503, 505, 506, 513—518, 522—525, 529—531, 533, 536, 537
Черткова Е. И. (рожд. Чернышева-Кругликова) — 224
Чертковы — 223
«Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения» — 102, 273, 274, 277, 282, 312, 421, 427, 466, 478
Чугунов Д. К. — 28
Чуковский К. И. — 83
Чупров А. И. — 305, 372, 373
Чурюкина М. — 28
Ш-н А. Н. — 91
Шарапов С. Ф. «Неопознанный гений» — 112, 443, 476
Шаховской Д. И. — 340
Шевченко Т. Г. — 273
Шекспир Вильям — 57, 64, 81, 193, 269
— «Кориолан» — 269
— «Макбет» — 269
Шенфельд Эдуард (Шенфер) — 350
Шервуд-Верный И. В. — 91, 98
Шереметева Е. Г. — 261
Шидловские — 291
Шиллер Иоганн Фридрих — 83, 280
Шильцов А. Х. — 390
Ширяев Г. (Г. Ш.) «Странник и домосед» («Подвиг паломничества и подвиг человеколюбия») — 411, 412, 413
Шкловский В. Б. «Лев Толстой» — 375
Школа живописи и ваяния (Москва) — 61, 83, 292, 302
Шмидт М. А. — 302
Шмидт Эуген Генрих — 74, 446
Шнейдер А. П. — 217
Шопенгауэр Артур — 84, 142, 516
— «Мир как воля и представление» — 84
Шохор-Троцкий К. С. «Сютаев и Бондарев» — 449
Шредер Феликс — 74
— «Le Tolstoïsme» — 74
Штанге А. Г. — 328, 340
Шувалова Е. И. — 505
Щеголев П. «События 1 марта и В. С. Соловьев» — 17
Щеголенок В. П. — 52, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 411, 413
Щепкин М. П. — 150, 277, 280, 281
Щербатов А. А. — 260
Щербатовы — 185
Эйхенбаум Б. М. «Лев Толстой» — 420
Эккартсгаузен Карл — 45
Элиот Джордж (псевд. Эванс Марии Анны)
— «Адам Бид» — 410
— «Феликс Холт — радикал» — 410
Элпидин М. К. — 147, 156, 185, 257, 536, 537
Эмерсон Ральф Уолдо — 340
— «О доверии к себе» — 311
Энгельгардт А. Н. — 66, 176, 312
— «Письма из деревни» — 66, 176, 312
Энгельгардт М. А. — 176—185, 226, 244, 313, 334, 406
«Энциклопедический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) и И. А. Ефрон (С.-Петербург)» — 424
Эпиктет — 160, 286
Эразм Роттердамский — 279, 311
— «Похвала глупости» — 311
Эренбург И. Г. «В Проточном переулке» — 115
Эртель А. И. — 202, 389, 392, 393
Эфрон С. К. — 112, 136, 137
— «Н. П. Гиляров-Платонов и гр. Л. Н. Толстой (из воспоминаний)» — 137, 157
Ювеналий, настоятель в Оптиной пустыне — 43
Южаков С. Н. «К вопросу о бедности» — 385
Юзефович В. М. — 253
Юрьев С. А. (Х.) — 24, 100, 112, 140, 142, 147, 157, 209, 210, 211, 213, 300, 301, 316, 358, 391
Юрьев Ю. — 300
— «Записки» — 301
- 554 -
Якобий А. И. — 394
Якубович П. Ф. (П. Я.) — 80
— «Стихотворения» — 80
Янжул Е. Н. — 305
— «Встречи с Толстым» — 305
Янжул И. И. — 114, 305, 372, 373
— «Влияние финансовых учреждений на экономическое положение первобытных народов. Страница из истории островов Фиджи» — 453
— «Мое знакомство в Толстым» — 373
Ярошенко Н. А. — 218, 219
— «Всюду жизнь» — 218
«Ясная Поляна», журнал — 62
«Яснополянский сборник. Статьи и материалы. 1962» — 270
«Daily Telegraph», газета — 78
Pressensé E. de (Прессансе) — 221
«Revue des deus Monds», журнал — 132
«Revue des études slaves», журнал — 474
Jarmolinsky A. «A russian’s american dream. The University of Kansas Press» — 490
- 555 -
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
«Азбука» — 419, 474
«Ангел на земле». См. «Чем люди живы»
«Анна Каренина» — 24, 93, 94, 100, 159, 173, 176, 188, 189, 203, 204, 244, 263, 288, 297, 357, 419, 420, 512
«Бог правду видит, да не скоро скажет» — 273, 401, 405, 474, 475, 471
«В чем моя вера?» — 142, 159, 160, 164—259, 264, 285, 314, 323, 340, 346, 364, 393, 491, 506, 530, 536, 539
«Власть тьмы» — 265
«Война и мир» — 49, 65, 93, 94, 101, 147, 189, 201, 203, 204, 231, 303, 312, 357, 358, 405, 419, 420, 421, 479, 516
«Воскресение» — 31, 196, 197, 248, 329, 484
«Вражье лепко, а божье крепко» — 404
«Вступление к ненапечатанному сочинению». См. «Исповедь»
«Где любовь, там и бог. (Дядя Мартын)» — 400, 401, 415, 476, 477
«Греческий учитель Сократ» — 422—427, 477
«Два брата и золото» — 397, 398, 399
«Два старика» — 411—413, 415, 476, 477
«Девчонки умнее стариков» — 404, 405
«Декабристы» — 93, 357, 358
«Деревенские работы и крестьянская жизнь на все месяцы года. Работы в феврале» (1886). См. «Календарь с пословицами на 1887 год» (1886)
«Детство» — 18, 94
«Детство и Отрочество» — 94
«Для чего люди одурманиваются?» — 201
«Дядя Мартын». См. «Где любовь, там и бог»
«Живой труп» — 289
«Жил в селе человек праведный. Звать его Николай...» — 174, 176
«Закон насилия и закон любви» — 316
«Записки сумасшедшего» («Записки несумасшедшего») — 292, 316—321
«Записки христианина» — 24, 27, 160, 321
«И свет во тьме светит» — 289
«Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» — 419
«Ильяс» — 399, 401, 433
«Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению)» — 24, 26, 97, 99, 140—158, 159, 162, 170, 171, 199, 205, 210, 216, 256, 257, 259, 297, 313, 314, 318, 320, 491, 539
«Исследование догматического богословия» — 19, 136, 145, 146, 159, 351, 539
«Кавказский пленник» — 273, 401, 474, 475
«Казаки» — 144
«Как я понял учение Христа». См. «В чем моя вера?»
«Какова моя жизнь». См. «Так что же нам делать?»
«Календарь с пословицами на 1887 год» — 293
«Кающийся грешник» — 419
«Китайская мудрость. Книги Конфуцы» — 283
«Книги для чтения» — 419
«Краткое изложение Евангелия» — 54, 159, 183, 184, 199, 206, 252, 257
«Крейцерова соната» — 230, 457
«Круг чтения» — 73, 90, 165, 171, 227, 286, 385, 427, 450, 496
«Люцерн». См. «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн»
«Метель» — 94, 203
«Московские прогулки» — 107
«Моя религия». См. «В чем моя вера?»
- 556 -
«Мысли, вызванные переписью». См. «Так что же нам делать?»
«Народные рассказы» — 348, 469
«Не могу молчать!» — 16
«Неизбежный переворот» — 316
«Нет в мире виноватых» — 80
«Неужели это так надо?» — 540
«Новое Евангелие». См. «Краткое изложение Евангелия»
«Номер газеты», статья — 457
«О голоде» — 77, 78
«О народном образовании» — 62
«О переписи в Москве» (Речь в Московской городской думе) — 109, 110, 119—121, 123, 124, 127, 136, 141, 316, 317
«О помощи при переписи». См. «Так что же нам делать?»
«Об общественной деятельности на поприще народного образования» — 412
«Отрочество» — 94
«Петр Хлебник» («Петр Мытарь») — 274—276
[Письмо к издателю «Художественного журнала» Н. А. Александрову] — 140
«Плоды просвещения» — 44, 304
«Поликушка» — 101
«Пора понять» — 540
Предисловие к книге Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» (Труд и теория Бондарева) — 441—443, 449, 450
Предисловие к «Краткому изложению Евангелия» — 159, 257
Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана — 62
«Прогресс и определение образования» — 62
«Путь жизни» — 424
«Рабство нашего времени» — 540
Речь в Московской городской думе. См. «О переписи в Москве»
Речь о народных изданиях — 278
«Свечка» — 415—418, 476, 478
«Севастополь в декабре месяце» — 439
«Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» — 257, 419, 421, 463, 464—470, 476—478, 497, 534
[Скорбный лист душевнобольных яснополянского гошпиталя] — 337, 338
«Смерть Ивана Ильича» — 87, 88, 92, 136—139, 315, 317, 419, 459, 478, 481, 484, 532
«Соединение и перевод четырех Евангелий» — 145, 159, 301, 313
«Сон» — 80, 81
«Так что же нам делать?» — 73, 104, 106, 108, 115, 118, 119, 127, 130, 141, 257, 265, 316, 317, 338, 345, 346—348, 358, 365—382, 389, 390—393, 398, 402—404, 408, 419, 439, 445, 451—456, 464, 481, 485—504, 506—512, 516, 517, 532—537, 539, 540
Текст к картине В. А. Бугро «Страдания Господа нашего Иисуса Христа» — 361, 403
«Упустишь огонь — не потушишь» — 286, 405, 415, 475, 477, 478
«Утро помещика» — 26
«Учение двенадцати апостолов» — 383—385
«Фальшивый купон» — 26, 176
«Ходите в свете, пока есть свет» — 321
«Хозяин и работник» — 346
«Холстомер» — 49, 415, 419, 478—484, 499
«Христианство Христа» (Christs’s Christianity) — 257
«Царство божие внутри вас» — 540
«Церковь и государство» — 136, 209
«Чем люди живы» — 52, 59, 87—95, 97—103, 158, 172, 174, 176, 216, 218, 257, 272, 273, 275, 401, 474, 475, 477
«Что же нам делать? См. «Так что же нам делать?»
«Что такое искусство?» — 410
«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» — 362
- 557 -
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Л. Н. Толстой. С фотографии Шерера и Набгольца (Москва, 1885)
Л. Н. Толстой. С фотографии С. С. Абамелика-Лазарева (Ясная Поляна, 1885)
«Исповедь» («Что я?»). Вариант начала. Рукописная копия с исправлениями Толстого
Л. Н. Толстой в кругу семьи. С фотографии С. С. Абамелика-Лазарева (Ясная Поляна, 1885)
«Смерть Ивана Ильича». Начало повести. Первая редакция. Автограф
«Так что же нам делать?» Первая редакция. Рукописная копия с исправлениями Толстого
«Ильяс». Первая редакция. Автограф
«Холстомер» («Хлыстомер»). Первая сохранившаяся редакция. Автограф
- 558 -
- 559 -
ОГЛАВЛЕНИЕ
От редакторов
3
Глава первая. Л. Н. Толстой в 1881 году
7
Глава вторая. В Москве (1881—1882)
61
Глава третья. «Исповедь». «В чем моя вера?» (1881—1884)
142
Глава четвертая. Обострение семейного разлада (1884)
260
Глава пятая. «Так что же нам делать?» Основание книгоиздательства «Посредник». Первые народные рассказы.
348
Глава шестая. Толстой и крестьянин Т. М. Бондарев (1885—1898)
428
Глава седьмая. Вторая половина 1885 года
451
Указатель имен и названий
541
Произведения Л. Н. Толстого
555
Список иллюстраций
557
- 560 -
Николай Николаевич Гусев
Лев Николаевич Толстой
Материалы к биографии с 1881 по 1885 год
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССРРедактор издательства В. Ч. Воровская
Технический редактор В. Г. Лаут
Сдано в набор 5/XI 1969 г. Подписано к печати 27/IV 1970 г.
Формат 60×901/16. Бумага № 1. Усл. печ. л. 35,38. Уч.-изд. л. 35,7
Тираж 11 000 экз. А-01042. Тип. зак. 3026
Цена 2 р. 47 к.Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10
СноскиСноски к стр. 7
1 Илья Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 139.
2 Письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской полностью не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого в Москве. Выдержки из них печатались в нескольких работах по Толстому.
Сноски к стр. 9
3 В. И. Алексеев. Воспоминания. — «Летописи Гос. литературного музея», кн. 12. М., 1948, стр. 285—286.
4 Полное собрание сочинений, т. 76, стр. 114. — Здесь и далее ссылки на издание: Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (в девяноста томах). М., Гослитиздат, 1928—1958.
Сноски к стр. 10
5 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 59. — Письма Толстого к Н. Н. Страхову, почти все недатированные, датируются на основании карандашных пометок Страхова на оригиналах писем, воспроизводящих, очевидно, даты почтовых штемпелей отправления, проставленных на конвертах писем.
Сноски к стр. 11
6 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 44—52.
Сноски к стр. 12
7 Этот отрывок появляется в печати впервые.
8 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 57.
Сноски к стр. 13
9 Записки И. М. Ивакина. — «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, 1961, стр. 59.
10 «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, полутом 1. М. — Пг., 1923, стр. 47—48; там же и факсимиле этого письма.
Сноски к стр. 14
11 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 60—61.
12 С. А. Толстая. Моя жизнь. Машинописная копия, тетр. 3, стр. 668, Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
13 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 271—272. — Тяжелые слухи о казни первомартовцев, о которых упоминает Страхов, состояли, вероятно, в рассказах о том, как один из приговоренных, Тимофей Михайлов, вследствие непрочности веревки, на которой он был повешен, дважды падал на эшафот с петлей на шее. По словам очевидцев, в толпе, окружавшей эшафот (казнь совершалась публично), послышались восклицания: «Надобно его помиловать!» — Простить его нужно!» — «Нет такого закона, чтобы вешать сорвавшегося!» — «Тут перст божий!» (сб. «1 марта 1881 г.». М., Изд-во политкаторжан, 1933, стр. 212).
14 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 280.
Сноски к стр. 15
15 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 58—59.
16 Лев Никифоров. Сютаев и Толстой. — «Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 144.
17 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I. СПб., 1900, стр. 214.
18 Неопубликованное письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 3 марта 1881 г., хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 16
19 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 61.
20 Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 86.
21 Д. Г. Венедиктов. Палач Иван Фролов и его жертвы. М., 1930. — В. Ф. Духовская, жена начальника Московского военного округа С. М. Духовского, писала в своих воспоминаниях: «Всех убийц присудили к повешению и выписали для казни единственного палача в России, живущего в Москве» (Варвара Духовская. Из моих воспоминаний, ч. 1 СПб., 1900, стр. 130).
Сноски к стр. 17
22 И. И. Попов. Минувшее и пережитое, т. I. Изд-во «Колос», 1924, стр. 74—76. — Другие записи слушателей лекции Соловьева приведены в статье: П. Щ[еголев]. Событие 1 марта и В. С. Соловьев. — «Былое», 1906, № 3, стр. 48—55, и в другой статье того же автора — «Событие 1 марта и Владимир Соловьев». — «Былое», 1918, № 4—5 (32—33), стр. 330—336.
23 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 61. — За свою лекцию В. С. Соловьев не подвергался никаким преследованиям; однако он счел за лучшее прекратить чтение лекций в Петербургском университете и уехал из Петербурга.
Сноски к стр. 18
24 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893, стр. 35.
25 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 324.
Сноски к стр. 19
26 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 81, 80.
27 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928. стр. 133.
28 Этот рассказ С. А. Толстой об ее отказе от переписки «Исследования догматического богословия» я слышал от нее в 1909 году.
Сноски к стр. 20
29 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 3, стр. 616.
30 Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 164.
31 Александр Никифорович Дунаев (1850—1920) — близкий знакомый Толстого, разделявший в некоторой степени его взгляды.
32 Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 176.
33 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 3, стр. 652—653.
Сноски к стр. 21
34 А. Ф. Кони. Избранные произведения, т. 2. «Лев Николаевич Толстой». М., Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1959, стр. 269.
35 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 272—273.
36 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 36.
37 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 3 декабря 1906 г. — Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 22
38 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тульск. обл. изд-во, 1958, стр. 251.
39 Полное собрание сочинений, т. 90, стр. 244.
Сноски к стр. 23
40 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12, стр. 272—273.
41 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 37—38.
Сноски к стр. 24
42 Учитель детей Толстого И. М. Ивакин в своих воспоминаниях пишет, как на слова Софьи Андреевны (по поводу «Анны Карениной»). «Ведь ты теперь считаешься первым» — Толстой «с раздражением» ответил: «Ах, оставь, матушка, пожалуйста. До сих пор я только белиберду писал» («Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 38—39).
Сноски к стр. 27
43 «Записки христианина» напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 49, стр. 7—21.
44 Дневник 1881 года напечатан в Полном собрании сочинении, т. 49, стр. 25—58.
45 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 3, стр. 666.
46 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12, стр. 304.
Сноски к стр. 29
47 «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 35, 43.
48 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 68. — И. М. Ивакин рассказывает в своих воспоминаниях, что С. Л. Толстой обозвал «чепухой» сделанный отцом перевод начала Евангелия от Иоанна, которому Толстой приписывал особенную важность («Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 43). Впоследствии С. Л. Толстой, приготовляя к печати записки И. М. Ивакина, счел нужным к этому месту сделать следующее примечание: «Это — легкомысленное суждение семнадцатилетнего юноши. Впоследствии С. Л. Толстой был другого мнения о трудах своего отца» (там же, стр. 112).
Сноски к стр. 31
49 Подробности этого возмутительного дела, тянувшегося 13 лет — с 1864 по 1877 год. изложены в статье Е. Н. Седовой «Борьба помещичьих крестьян центрально-черноземных губерний за землю в 1861—1865 годах». — «Вопросы истории», 1956, № 4, стр. 124.
Сноски к стр. 32
50 «Воспоминания» В. И. Алексеева, содержащие ценный материал Для характеристики миросозерцания Толстого и для изучения его жизни в 1877—1881 годах, напечатаны в «Летописях Гос. лит. музея», кн, 12, стр. 236—325.
Сноски к стр. 33
51 «Московские ведомости», 14 апреля 1881 г., № 102.
Сноски к стр. 34
52 Записи Толстого в дневнике 12 и 15 мая 1881 г.; дневниковые записи на отдельных листах. — Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 35—36, 135—137.
53 Н. Н. Страхов. Письма о нигилизме. — «Русь», 1881, № 23, 24, 25, 27. Перепечатан»: в книге: Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе, кн. 2. Изд. 3. Киев, 1897, стр. 50—90.
54 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 276.
Сноски к стр. 36
55 И. М. Ивакин. Записки. — «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 31.
56 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 62.
Сноски к стр. 37
57 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 63—64.
Сноски к стр. 39
58 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 67—69.
Сноски к стр. 40
59 Были изданы в 1904 г. в Москве под названием «Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги гр. Л. Н. Толстого».
60 Дневник путешествия Толстого в Оптину пустынь напечатан в т. 49 Полного собрания сочинений, стр. 138—147.
Сноски к стр. 41
61 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 285—286.
Сноски к стр. 42
62 С. А. Толстая. Четыре посещения гр. Льва Николаевича Толстого монастыря Оптина пустынь. — «Толстовский ежегодник 1913 года». СПб., 1913, стр. 5.
Сноски к стр. 43
63 Х. Н. Абрикосов. Двенадцать лет около Толстого. — «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 397.
Сноски к стр. 45
64 В названной книге Арбузова (стр. 98—100) рассказывается, что несколько калужских молокан приходили к Толстому в номер беседовать о вере, но слова Толстого в этой беседе приведены в извращенном виде. Толстой будто бы упрекал молокан за отступление от православия, чего, конечно, не могло быть.
65 Просмотр полного комплекта «Калужских губернских ведомостей» за 1881 год, а также «Калужских епархиальных ведомостей» за тот же срок не дал никаких сведений о разборе дела сектантов в Калужском окружном суде. В Алфавите дел Калужского окружного суда за 1880 и 1881 годы, хранящемся в Историческом архиве Калужской области, дел на фамилии калужских сектантов, упоминаемых в дневнике Толстого, также не найдено. Возможно, что судебного дела против сектантов не возбуждалось и судебный следователь опечатал их книги собственной властью.
Сноски к стр. 46
66 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 70.
67 Там же, стр. 72.
68 М. В. Нестеров. Давние дни. М., 1941, стр. 116.
69 А. Ф. Кони в одно из своих посещений Ясной Поляны слышал рассказ Толстого про его «путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется, в Киев или в Оптину пустынь, — причем спутники считали его за своего и потому не стеснялись его присутствием — С тонким юмором рассказывал он мне про презрительные отзывы о «господишках», которые ему приходилось слышать в пути и на постоялых дворах» (А. Ф. Кони. Избранные произведения, т. 2. М., 1959, стр. 260. — В Киев Толстой пешком не ходил, а ездил по железной дороге в 1879 г.).
Сноски к стр. 47
70 С. Л. Толстой. Вступительная статья к «Запискам» И. М. Ивакина. — «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 21.
71 Письмо напечатано в Полном собрании сочинений, т. 61, стр. 281, с неправильной датой: «1872 г. марта 31».
72 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 476.
Сноски к стр. 48
73 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 289.
74 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936, стр. 162
Сноски к стр. 49
75 См.: «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 г.» М., 1958, стр. 59.
76 С. Н. К. Из литературных воспоминаний. — «Ист. вестник», 1890, № 2, стр. 275—276.
77 Дата указана в неопубликованном письме Т. А. Кузминской к А. М. Кузминскому от 6 июня 1881 г., где сказано: «Сегодня в тот дом приеэжают Тургенев и Урусов». Письмо хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого («тот дом» — так в Ясной Поляне называли каменный флигель, в котором летом большею частью проживала семья Кузминских).
78 «Толстой и Тургенев. Переписка». М., 1928, стр. 98.
Сноски к стр. 50
79 Полное собрание сомнении, т. 63, стр. 69—70.
80 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 100.
81 Воспоминания Полонского «И. С. Тургенев у себя» были напечатаны в № 1—8 журнала «Нива» за 1884 год; перепечатаны под заглавием «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» в книге: Я. Полонский. На высотах спиритизма. СПб., 1889, стр. 477—596.
Сноски к стр. 51
82 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 149—150.
Сноски к стр. 52
83 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 292, 294, 296, 298.
84 Там же, стр. 293, 295.
85 Там же, стр. 297.
86 Там же, стр. 298.
Сноски к стр. 53
87 Там же, стр. 296.
88 Там же, стр. 297.
89 А. С. Пругавин. О Льве Толстом и о толстовцах. М., 1911, стр. 44.
Сноски к стр. 54
90 А. С. Пругавин. Указ. соч., стр. 46, 51—52.
91 Там же, стр. 53.
92 Там же, стр. 58.
93 Там же, стр. 57—59.
94 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 293—294.
95 А. С. Пругавин. Указ. соч., стр. 62.
Сноски к стр. 55
96 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 296
97 Там же, стр. 304—305.
98 Там же, стр. 302.
Сноски к стр. 56
99 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 306.
Сноски к стр. 57
100 Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 3—4.
Сноски к стр. 58
101 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 315—316.
102 Илья Толстой. Мои воспоминания, стр. 130—131.
103 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.). — «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, стр. 55—56.
Сноски к стр. 59
104 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 314—315.
105 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 171.
106 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 308.
Сноски к стр. 60
107 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 76.
Сноски к стр. 62
1 Рукопись не опубликована; копия хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 65
2 Первая статья Н. К. Михайловского о Достоевском, под названием «Записки современника», за подписью Н. М., появилась в № 2 «Отечественных записок» за 1881 г., стр. 242—264.
Сноски к стр. 66
3 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIX. М., 1939, стр. 232.
Сноски к стр. 67
4 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 58.
5 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 81.
6 Очерки А. С. Пругавина, посвященные Сютаеву, под названием «Алчущие и жаждущие правды» появились в журнале «Русская мысль» 1881 г., № 10 и 12; 1882 г. — № 1. Перепечатаны под заглавием «Сютаевцы» в книге: А. С. Пругавин. Религиозные отщепенцы, вып. 1. М., 1906, стр. 3—143.
7 «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, стр. 64.
Сноски к стр. 71
8 Л. П. Никифоров. Сютаев и Толстой — «Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 148.
Сноски к стр. 72
9 Л. П. Никифоров. Указ. соч., стр. 147—148. Интересные воспоминания о взглядах и проповеди Сютаева, написанные его сыном Иваном Васильевичем, напечатаны в «Толстовском ежегоднике 1913 года», отдел «Статьи и материалы», стр. 26—36.
Сноски к стр. 73
10 Л. П. Никифоров. Указ. соч., стр. 152—153.
11 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 386
12 Полное собрание сочинений, т. 56, стр. 144.
13 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., изд-во «Посредник», 1912, стр. 263.
14 Там же, стр. 229.
Сноски к стр. 74
15 Р. Левенфельд. Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим. — «Русское обозрение», 1897, № 10, стр. 590.
16 Полное собрание сочинений, т. 66, стр. 335.
17 Полное собрание сочинений, т. 68, стр. 62.
Сноски к стр. 75
18 См. комментарий в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 84.
19 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 58.
Сноски к стр. 76
20 Юрий Бартенев. Памяти Николая Федоровича Федорова. — «Русский архив», 1904, № 1, стр. 192.
21 Так мне передавал восклицание Толстого один из близких знакомых Н. Ф. Федорова.
22 А. С. Пругавин. О парадоксах Льва Толстого. — «Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом». М., изд-во «Златоцвет», 1911, стр. 7—8.
23 Ученик Федорова Н. П. Петерсон, бывший учитель яснополянской школы Толстого 1860-х годов, в 1878 году написал Достоевскому письмо о взглядах Федорова, в ответ на которое Достоевский в письме от 24 марта 1878 года просил Петерсона объяснить ему, «как и в каком виде» понимает Федоров воскрешение мертвых. При этом Достоевский прибавлял, что сам он, так же как В. С. Соловьев, верит «в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле» (Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV. М., 1959, стр. 9—10).
Сноски к стр. 77
24 Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 23.
25 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 116. Миросозерцание Федорова изложено в его книге «Философия общего дела. Статьи и письма», т. I. Верный, 1906; т. II, М., 1913. Работы о Н. Ф. Федорове: Ант. Гинкин. Идеальный библиотекарь Н. Ф. Федоров. — «Библиотекарь», вып. 1, 1911; В. А. Кожевников. Н. Ф. Федоров. Опыт изложения учения. М., 1908. Об отношениях между Толстым и Федоровым: Н. П. Петерсон. Из записок народного учителя. — В кн. «Международный толстовский альманах», сост. П. А. Сергеенко. М., 1909, стр. 257—268.
26 Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 106, 108.
Сноски к стр. 78
27 Г. П. Георгиевский. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Из личных воспоминаний. Рукопись, стр. 24—25 (Отд. рукописей Гос. библиотеки СССР имени Ленина, ф. Г. П. Георгиевского, без шифра). Ср. П. Я. Покровский. [Г. П. Георгиевский]. Из воспоминаний о Николае Федоровиче. — «Московские ведомости», 25 января 1904 г., № 25.
Сноски к стр. 79
28 Полное собрание сочинений, т. 68, стр. 246—247.
29 Полное собрание сочинений, т. 78, стр. 48.
30 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 81.
31 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 57.
32 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 81.
33 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 81.
34Письмо В. Ф. Орлова к М. М. Лисицыну 1885 г. См. комментарий в Полном собрании сочинений, т. 85, стр. 148.
Сноски к стр. 80
35 П. Ф. Якубович. Стихотворения. Л., 1960, стр. 104.
36 Полное собрание сочинений, т. 71, стр. 402.
37 Полное собрание сочинений, т. 57, стр. 52.
38 Не законченная Толстым повесть «Нет в мире виноватых» появилась в 38 томе Полного собрания сочинений, вышедшем в 1936 году.
39 Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 24.
Сноски к стр. 81
40 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 79, 90.
41 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 208—209.
42 А. С. Пругавин. Л. Н. Толстой в 80-х годах. — «Новая жизнь». 1912, V, стр. 122—123. Любопытна характеристика художнической натуры Толстого, которую давал В. Ф. Орлов. Он говорил, что знал на своем веку «трех сыщиков — сыщиков по духу, по натуре: его приятель Нечаев, монах с Нового Афона Иерон и Лев Толстой» («Записки И. М. Ивакина». — «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 38).
43 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 81.
44 Там же, стр. 85.
Сноски к стр. 82
45 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 86.
46 А. С. Пругавин. Л. Н. Толстой в 80-х годах, стр. 128—129.
47 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I. СПб., 1900, стр. 214.
48 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, М., 1928, стр. 76, запись от 6 февраля 1908 г.
Сноски к стр. 83
49 «Тайное общество в России в начале XIX столетия. Сборник материалов, статей и воспоминаний». М., 1926, стр. 204.
50 «Художник К. Е. Маковский», прибавление к «Петербургской газете», 7 ноября 1910 г., № 302.
51 А. Новицкий. Перов Василий Григорьевич. — «Русский биографический словарь», «Певел — Петр». СПб., 1902, стр. 560.
52 И. Е. Репин. Письмо к К. И. Чуковскому от 18 марта 1926 г. — «Искусство», 1936, № 5, стр. 96—97.
53 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 80, 81.
Сноски к стр. 84
54 «Русское обозрение». 1901, № 1, стр. 280.
Сноски к стр. 85
55 Оба приводимых письма Н. Н. Страхова к Фету не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина.
56 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 284—285.
Сноски к стр. 86
57 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 85—86.
58 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 288—289.
59 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 80.
60 Там же, стр. 81.
Сноски к стр. 87
61 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 167
62 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 85, с ошибкой в тексте Напечатано: «хотя не больно, та деятельность», должно быть: «хотя не боль, но та деятельность».
63 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 80—81.
Сноски к стр. 88
64 С. П. Спиро. Беседы с Л. Н. Толстым. М., 1911, стр. 35.
65 В текст первой редакции повести «Смерть Ивана Ильича» входят записки Ивана Ильича, датированные 16 декабря 1881 г. Эта дата не противоречит тому, что Толстой уже в конце ноября мог обдумывать новое художественное произведение и написать начало сохранившейся первой редакции повести, предшествующее запискам Ивана Ильича (т. 26. стр. 505—509). Сохранилось также следующее отброшенное начало повести: «Нельзя и нельзя и нельзя так жить, как я жил, как я еще живу и как мы все живем. Я понял это вследствие смерти моего знакомого Ивана Ильича и записок, которые он оставил. Опишу то, как я узнал о его смерти и как я до его смерти и прочтения его записок смотрел на жизнь» (там же, стр. 519).
66 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 85.
67 Сделанная Толстым запись рассказа Щеголенка, послужившего основой легенды «Чем люди живы», напечатана в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 207. Существует еще запись того же рассказа, сделанная кижским священником. Она напечатана в сборнике «Памятники древнерусской церковно-учительной литературы», под ред. А. И. Пономарева, вып. II. СПб., 1896, стр. 216—217. Священник постарался придать рассказанной Щеголенком легенде в большей степени церковную окраску.
Сноски к стр. 89
68 Сергей Варшер. История одного литературного сюжета. — В кн. «Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженка». М., 1902, стр. 99—118; проф. А. И. Пономарев. Церковно-народные легенды «О судех божиих не испытаемых» и рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы». — Журн. «Странник», 1894, № 1, стр. 36—49; «Памятники древнерусской церковно-учительной литературы» под ред. А. И. Пономарева, вып. II, ч. 1, стр. 148—150.
69 Проф. Н. Сумцов. Литературная родня рассказа Толстого «Чем люди живы». Харьков, 1896, стр. 7.
Сноски к стр. 90
70 Черновые варианты к рассказу «Чем люди живы» напечатаны в т. 25 Полного собрания сочинений, стр. 544—569; комментарии к легенде — там же, стр. 665—674.
71 Письмо Толстого к И. И. Горбунову-Посадову от 4 марта 1905 г. — Полное собрание сочинений, т. 75, стр. 229.
Сноски к стр. 91
72 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 561.
73 А. Фет. Мои воспоминания, т. 2. М., 1891, стр. 242—243. — Иллюстрации В. Шервуда, о которых упоминает Фет, появились в издании «Чем люди живы», выпущенном в 1882 году «Обществом распространения полезных книг».
Сноски к стр. 92
74 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 238, 261, 286, 288.
75 Употребление в рассказе «Чем люди живы» народных слов и выражений прослежено в статье: Л. Барлас. Разговорная и просторечная лексика в произведениях Л. Н. Толстого (на материале рассказа «Чем люди живы» и повести «Смерть Ивана Ильича». — «Уч. зап. Шахтинского пед. ин-та», 1960, т. 3, вып. 2.
76 Письмо Толстого к М. Л. Оболенской от 16 сентября 1905 г. — Полное собрание сочинений, т. 76, стр. 33.
Сноски к стр. 93
77 «Записки Неофилологического общества», 1892, № 1, стр. 23—25.
78Печатание «Анны Карениной» закончилось в 1877 году. Потом Толстой работал над несколькими художественными произведениями («Декабристы», другие исторические романы), но ничего не опубликовал.
Сноски к стр. 94
79 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906». Л., 1929, Стр. 61.
Сноски к стр. 95
80 Н. Н. Страхов. «Чем люди живы». — «Гражданин», 1882, № 10—11. Перепечатано в книге: Н. Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, изд. 2. СПб., 1887, стр. 415—418.
81 Рецензия К. Н. Леонтьева на рассказ «Чем люди живы», за подписью «Русский мирянин», появилась в № 54 и 55 газеты «Гражданин» от 8 и 11 июля 1882 г.
Сноски к стр. 96
82 «Новости и биржевая газета». Первое ежедневное издание. 1 и 3 апреля 1883 г., № 1, 3. В собрания сочинений Лескова статья не вошла.
Сноски к стр. 97
83 «Чем люди живы», рассказ гр. Л. Н. Толстого». — «Московские ведомости», 14 мая 1882 г., № 132.
Сноски к стр. 98
84 Это мнение Н. П. Гилярова-Платонова совершенно ошибочно. — Н. Г.
Сноски к стр. 99
85 «Русский архив», 1889, № 11, стр. 425—428.
86 П. Засодимский. Благие намерения. — «Педагогический листок», 1882, № 2, стр. 66—77.
87 Н. Н. П-л-ъ [Н. И. Поздняков]. — «Женское образование», 1885, № 8, стр. 550.
Сноски к стр. 100
88 «Народная школа, педагогический журнал, издаваемый А. П. Пятковским», 1883, № 10, стр. 25—27.
Сноски к стр. 101
89 «Русская мысль», 1882, № 3, стр. 333—336.
Сноски к стр. 102
90 «Литературная летопись». — «Голос», 7 (19) января 1882 г., № 2.
91 «Обзор детской литературы», вып. 1, составленный кружком учащихся под редакцией В. М. Гаршина и А. Я. Герда. СПб., 1885, стр. 95.
92 «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. Составлен учительницами Харьковской частной воскресной школы». СПб., 1884, стр. 17—29.
Сноски к стр. 104
93 Трактат «Так что же нам делать?». — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 186.
94 Описание Ляпинского ночлежного дома дано Толстым в трактате «Так что же нам делать?», гл. II. — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 186—192; черновая редакция этой главы — там же, стр. 617—618.
Сноски к стр. 106
95 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 188—189.
96 Там же, стр. 191.
Сноски к стр. 107
97 Там же.
Сноски к стр. 108
98 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 613.
Сноски к стр. 109
99 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 624—625.
100 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 80.
101 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. б-ки СССР им В. И. Ленина.
Сноски к стр. 110
102 Опубликована под заглавием «О переписи в Москве»; перепечатана в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 173—181.
Сноски к стр. 112
103 С. Шарапов. Неопознанный гений. Памяти Н. П. Гилярова-Платонова. М., 1903, стр. 89—90.
Сноски к стр. 113
104 «Русская литература», 1961, № 1, стр. 212.
105 Рецензия С. А. Венгерова на книгу Н. Н. Златовратского «Деревенские будни». — «Устои» 1882, № 3—4, стр. 135—136. В 1883 году Толстой говорил Г. А. Русанову об этой статье: «Я читал потом его статью и помню, что я нашел, что он не совсем верно передал мои слова» («Толстовский ежегодник 1912 г.», стр. 72). Однако суждения Толстого о современной народнической литературе в записи Венгерова вполне правдоподобны, и Толстой, вероятно, был не совсем доволен языком, каким он говорил у Венгерова, — разумеется, гораздо менее выразительным, чем был подлинный язык Толстого.
Сноски к стр. 114
106 Этот дом был описан М. А. Вороновым в очерке «Арбузовская крепость», напечатанном в № 2 журнала «Русское слово» за 1864 г. Перепечатан в книге: М. А. Воронов. Повести и рассказы. М., 1961.
Сноски к стр. 115
107 Дом этот, числящийся под № 11/27, существует и в настоящее время. По словам Н. К. Гудзия, приблизительно до 1925—1926 годов население этого дома соответствовало той характеристике, какую дал ему в свое время Толстой (Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 834).
Описанию условий быта и нравов обитателей Проточного переулка посвящен роман И. Эренбурга «В Проточном переулке», вышедший в свет в 1927 году.
108 Подробное описание своего обхода квартир назначенного ему дома Толстой дал в IV—XI главах трактата «Так что же нам делать?» (Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 196—223), откуда и заимствованы приводимые ниже выдержки.
Сноски к стр. 117
109 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 218—220.
110 А. В. Амфитеатров. Собрание сочинений, т. 23. «Л. Н. Толстой». СПб., стр. 73—92.
Сноски к стр. 118
111 А. В. Амфитеатров. Указ. соч., стр. 85.
Сноски к стр. 119
112 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 614.
113 Ю. Д. Беляев. В Ясной Поляне. — «Новое время», 24 апреля 1903 г., № 9746. Толстой читал корреспонденцию Беляева в корректуре
Сноски к стр. 120
114 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 119.
115 А. С. Пругавин. Л. Н. Толстой в 80-х годах, стр. 129.
116 Там же, стр. 130.
117 «Русская литература», 1961, № 1, стр. 212—213.
Сноски к стр. 121
118 Имеется в виду «Вторая речь в память Ф. М. Достоевского», произнесенная В. С. Соловьевым 2 февраля 1882 г.; напечатана в третьем томе «Собрания сочинений В. С. Соловьева». СПб., изд-во «Общественная польза», б. г., стр. 183—188
Сноски к стр. 122
119 «Вестник Европы», 1882, № 3, стр. 456—457.
Сноски к стр. 123
120 N. W. [Н. М. Виленкин]. «Новое слово» г. Соловьева. — «Устои», 1882, № 2, стр. 146—147.
121 Z. Народ и общество. — «Дело», 1882, № 3, стр. 48—49. Автором статьи был историк М. П. Драгоманов, бывший профессор истории в Киевском университете, затем эмигрант, руководитель украинских националистов.
Сноски к стр. 124
122 Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка». М. — Л., «Academia», 1930, стр. 8—9, Портрет «Толстой за работой» Н. Н. Ге написал в январе 1884 года.
Сноски к стр. 125
123 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 116.
124 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 233—234.
Сноски к стр. 126
125 Письмо Толстого к П. И. Бирюкову от 24 июля 1885 г. — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 280.
126 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 20 июля 1894 г. — «Лит. наследство», 1939, № 37—38, стр. 468.
127 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 117.
128 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 156.
Сноски к стр. 127
129 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 313.
130 Там же, стр. 314.
131 Перепечатана полностью в 25 томе Полного собрания сочинений стр. 614—625.
Сноски к стр. 128
132 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М. 1936, стр. 174—179.
133 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 89.
Сноски к стр. 129
134 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 452.
135 Письмо к А. А. Толстой от 4 марта 1882 г., там же, стр. 91.
136 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 318.
137 «Домом Кузминских» в Ясной Поляне называли каменный флигель, в котором летом обыкновенно проживала семья А. М. Кузминского.
138 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 319.
139 Там же, стр. 320.
140 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 130.
Сноски к стр. 130
141 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 184.
142 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 320.
143 Там же, стр. 321.
144 Там же, стр. 324.
145 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 188.
Сноски к стр. 131
146 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 324.
147 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 90—91.
Сноски к стр. 132
148 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 91—93.
149 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 325.
Сноски к стр. 133
150 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 94.
151 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 328.
152 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 183.
153 Там же, стр. 186.
154 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 328.
Сноски к стр. 134
155 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 325.
156 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 94.
157 См. стр. 34—37 настоящего издания.
158 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 292—293.
Сноски к стр. 135
159 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 94—95.
160 Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958, стр. 257.
Сноски к стр. 136
161 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 294—296.
162 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 98.
163 «Русский вестник», 1901, № 2, стр. 467.
Сноски к стр. 137
164 С. Эфрон. Н. П. Гиляров-Платонов и гр. Л. Н. Толстой (из вос поминаний). — «Русский листок», 1902, № 28.
165 Первая редакция «Смерти Ивана Ильича» опубликована в томе 26 Полного собрания сочинений, стр. 505—519. В том же томе напечатаны «История писания и печатания» и «Описание рукописей», подготовленные Л. П. Гроссманом (стр. 679—691).
Сноски к стр. 138
166 Письмо Толстого к Л. Д. Урусову от 20 (?) августа 1885 г. — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 282.
Сноски к стр. 139
167 Описание карьеры Ивана Ильича напоминает прохождение службы свояка Толстого — А. М. Кузминского, начавшего службу, как и Иван Ильич, судебным следователем. Описание устройства Иваном Ильичом новой квартиры в отсутствие жены «взято из переписки Кузминского с женой» в 1879 г. (С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 76; прим. П. С. Попова). А. М. Кузминский придерживался правила Ивана Ильича не смешивать личные отношения со служебными, что вызвало резкий отзыв о нем в дневнике Толстого от 20 января 1910 г. (Полное собрание сочинений, т. 58, стр. 10)
168 В окончательном тексте, напечатанном в 12-й части сочинений Л. Н. Толстого издания 1886 года, слова «под покровительством императрицы» были выпущены несомненно по цензурным причинам.
Сноски к стр. 141
169 Незаконченное письмо Толстого к Н. А. Александрову напечатано в Полном собрании сочинений, т. 30, стр. 209—212.
170 Полное собрание сочинений, т. 90, стр. 248—249.
1 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 143
2 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 518—519.
3 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 500.
4 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 525.
Сноски к стр. 144
5 Грумант — деревня в трех верстах от Ясной Поляны, крестьяне которой во время крепостного права принадлежали Толстым.
6 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 329—330.
7 Там же, стр. 334.
Сноски к стр. 145
8 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 57.
9 Там же, стр. 57. Рассказ о виденном сне там же, стр. 57—59.
10 Проф. А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Воронеж, 1937, стр. 96—97.
11 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 86, запись 15 февраля 1908 г.
Сноски к стр. 146
12 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 338, 339, 341.
13 Там же, стр. 342.
14 План выставки был напечатан в «Московских ведомостях», 1882, № 139.
Сноски к стр. 147
15 «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПб., 1912, стр. 402.
16 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.). — «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, стр. 58.
17 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 346.
Сноски к стр. 148
18 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 2.
19 Толстой разумел основной догмат церковной веры о едином боге в трех лицах (триединство божества).
20 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 33.
21 Там же, стр. 34.
22 Там же, стр. 37.
23 Там же, стр. 44.
24 Там же, стр. 51.
Сноски к стр. 149
25 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 54.
26 «Воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой». — «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 257.
Сноски к стр. 150
27 Свое название Долго-Хамовнический переулок в Москве получил еще в XVII веке, когда его население составляли «хамовники», как прозывались в то время ткачи, полотнянщики, скатерщики, поставлявшие для царского двора полотна, скатерти, наволоки, подкладки под сукна и другие подобные изделия. С переездом двора в Петербург в XVIII веке Хамовники постепенно утрачивали свое значение, характер населения переулка изменялся, но прежнее название осталось.
28 Воспоминания Т. Г. Арнаутовой о покупке дома Толстым были записаны с ее слов писателем Н. А. Крашенинниковым. Рукопись хранится в Гос. музее Л. Н. Толстого.
29 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 527.
Сноски к стр. 154
30 Центр, гос. архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 189, л. 139—140. Публикуется впервые.
Сноски к стр. 155
31 Там же, ед. хр. 2173, л. 132.
32 Н. Б[ахмете]в. Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах. — «Новое время». 1908, № 11694.
33 Записка А. И. Незеленова хранится в ЦГАЛИ.
Сноски к стр. 156
34 «Общее дело», 1883, № 56, 57; 1884, № 58—61.
35 Журн. «Неделя», 1885, № 44, 46
Сноски к стр. 157
36 «Из истерии русской журналистики. Статьи и материалы». Изд-во МГУ. 1959, стр. 241.
37 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 43.
38 С. Эфрон. Н. П. Гиляров-Платонов и граф Л. Н. Толстой (из воспоминаний). — «Русский листок», 1902, № 281.
39 «...Образ другого нашего великого художника графа Толстого, который еще на днях поведал миру свою душевную исповедь». — Созерцатель [Л. Е. Оболенский]. Обо всем. Критические заметки. — «Русское богатство», 1883, № 1, стр. 216.
Сноски к стр. 158
40 «Русский вестник», 1901, № 2, стр. 468.
41 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, стр. 65.
42 Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1885, стр. 210.
43 «...Мои запрещенные писания: «Исповедь»...» — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 242.
44 «...В Исповеди, написанной в 79 году...» — Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 539.
45 «...Я изложил в следующих писаниях: 1) «Исповедь...» — Полное собрание сочинений, т. 64, стр. 61.
46 Т. е. за два года до написания «Исповеди».
Сноски к стр. 159
47 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 104.
48 Предисловие к «Краткому изложению Евангелия». — Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 801.
49 См. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биогра фии с 1870 по 1881 год. М., 1963, стр. 662—665.
50 Публикуется впервые. Автограф хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 160
51 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 104.
Сноски к стр. 161
52 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 130.
53 Лев Львович Толстой.
54 Эти и следующие выдержки из дневника Т. Л. Толстой-Сухотиной печатаются по выпискам, предоставленным ею в распоряжение автора настоящей работы.
Сноски к стр. 162
55 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 100—101. Письмо напечатано с неверной датой: «1882 г. Июль — август?» Датируется на основании упоминания о полученных Толстым оттисках «Исповеди» и упоминания о тех же оттисках в письме к Толстому Софьи Андреевны от 14 августа 1882 г. (С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936, стр. 195).
56 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 355.
57 Там же, стр. 362.
Сноски к стр. 163
58 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 351.
59 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936, стр. 202.
Сноски к стр. 164
60 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 370.
61 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 106.
Сноски к стр. 165
62 С. И. Фин и Х. Л. Каценеленбоген. Мировоззрение талмудистов. Т. 1—3. СПб., 1874, 1876. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке; в ней много пометок Толстого. Он пользовался ею при составлении сборника «Круг чтения» в 1904 году.
В Яснополянской библиотеке сохранилась также книга: М. Вольпер. Новые методы. Практическое руководство к легчайшему изучению древнееврейского языка. Вильна, 1882. В книге три подчеркивания карандашом, очевидно, Толстого («Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне», т. I, ч. 1. М., 1958, стр. 135).
63 R. Löwenfeld. Gespräche über und mit Tolstoi, Berlin, 1891 (русский перевод А. В. Перелыгиной: «Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и разговорах с ним самим». — «Русское обозрение», 1897. № 10. Цит. с исправлением перевода).
64 П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 2, 1923, стр. 208.
Сноски к стр. 166
65 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 147, 148.
66 Много лет спустя, в 1925 году Татьяна Львовна Толстая-Сухотина в разговоре со мной со свойственной ей скромностью признала, что характеристику, сделанную ей отцом, она считает вполне справедливой не только для своих молодых лет, но и для всей жизни.
Сноски к стр. 167
67 Т. А. Кузминская.
68 Подруга Татьяны Львовны М. А. Олсуфьева.
69 Насмешливое прозвище, придуманное Толстым.
70 Лучший в то время обувной магазин в Москве.
71 Юноша, знакомый семьи Толстых.
72 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 208.
Сноски к стр. 168
73 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 367.
74 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 105—106.
Сноски к стр. 169
75 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 59.
76 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 95—96.
77 «Толстой и Тургенев. Переписка». М., 1928, стр. 102—103.
Сноски к стр. 170
78 Там же, стр. 104—105.
79 Там же, стр. 106—107. Многоточия в тексте — Тургенева.
80 В 1883 году Толстой на вопрос Г. А. Русанова, атеист ли Тургенев, отвечал: «Вполне» («Толстовский ежегодник 1912 г.» М., 1912, стр. 55).
Сноски к стр. 171
81 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 110.
82 Многоточие Тургенева.
83 «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 510.
84 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 110.
85 Д. П. Маковицкий. «Яснополянские записки», запись от 12 июня 1909 года. — Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 172
86 А. С. Пругавин. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911, стр. 15—16.
Сноски к стр. 173
87 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 208. — В сведениях, которые сообщал Победоносцев министру внутренних дел, много неверного. Вопреки его сообщению, все дети Толстых были крещены; встречи с сектантами не были целью поездки Толстого в Самарскую губернию, а произошли случайно; А. С. Пругавин не был агентом Толстого по делам его сношений с сектантами; «потяевцы» — очевидное искажение «сютаевцы».
88 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 107—108.
Сноски к стр. 176
89 Данная легенда напечатана с некоторыми неточностями в тексте в Полном собрании сочинений, т. 26, стр. 461—465. Планы опубликованы там же, на стр. 851—852, причем второй план ошибочно представлен в виде двух отдельных планов.
Сноски к стр. 177
90 Статья В. С. Соловьева «О церкви и расколе» была напечатана в № 38—40 газеты «Русь» за 1882 год. Перепечатана с присоединением статей на ту же тему, написанных в следующем 1883 году и напечатанных в той же газете, в Собрании сочинений В. С. Соловьева, т. III, СПб., без указания года, стр. 251—254, под заглавием «О расколе в русском народе и обществе».
Сноски к стр. 178
91 Письма М. А. Энгельгардта к Толстому, а также его переписка с Аксаковым напечатаны в сборнике «Письма Толстого и к Толстому». М. — Л., Госиздат. 1928, стр. 307—325.
Сноски к стр. 179
92 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 112—124.
Сноски к стр. 180
93 В Полном собрании сочинений (т. 63, стр. 120) в этой фразе опечатка: «тушить» вместо «сушить».
Сноски к стр. 183
94 Совершенно немыслимо, чтобы М. А. Энгельгардт не известил Толстого о получении его длинного, задушевного и обстоятельного письма, если бы он его получил. Между тем ни в письме от 24 января 1883 г. с извещением о получении «Краткого изложения Евангелия», ни в следующем письме Энгельгардта от 19 марта того же года, в котором он спорил с учением о непротивлении злу насилием, нет ни одного слова о получении им второго письма Толстого. Равным образом М. С. Громека в своем письме к Толстому о посещении М. А. Энгельгардта должен был бы сказать, что он передал Энгельгардту письмо Толстого, и какое впечатление произвело на Энгельгардта это письмо. Таким образом, факт неполучения Энгельгардтом второго письма Толстого (то-есть факт неотсылки Толстым этого письма) не подлежит никакому сомнению. Между тем П. И. Бирюков в своей «Биографии Л. Н. Толстого» (т. II, 1923, стр. 209) ошибочно утверждает, что второе письмо Толстого к Энгельгардту было послано адресату. Ту же ошибку повторяют и публикатор писем Энгельгардта к Толстому и Аксакову Л. Бухгейм («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник». М. — Л., 1928, стр. 311), и редактор 63 тома Полного собрания сочинений Толстого (стр. 124: «М. А. Энгельгардт в ответ получил приводимое нами выше письмо...»).
95 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 132—135.
Сноски к стр. 184
96 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 131.
Сноски к стр. 185
97 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1912, стр. 265, запись от 21 марта 1909 г.
98 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 103.
99 Письмо Толстого к В. Г. Черткову от 7 мая 1884 г., Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 180.
100 «Общее дело», 1885, № 75 и 76.
101 До этих слов письмо публикуется впервые.
Сноски к стр. 186
102 Клуб московского дворянства в то время носил название «Московское благородное собрание». Он помещался на Большой Дмитровке, там, где теперь Дом Союзов.
103 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 131.
104 Последние три письма публикуются впервые. Хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 187
105 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 131.
106 Публикуется впервые.
107 «Дневники С. А. Толстой 1860—1891», стр. 131.
Сноски к стр. 188
108 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 136.
109 Там же, стр. 129—130.
110 Там же, стр. 136.
111 «Толстовский ежегодник 1912 г.» М., 1912, стр. 56.
112 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 137.
Сноски к стр. 189
113 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 61.
114 П. Д. Боборыкин. В Москве у Толстого. — «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеенко. М., 1909, стр. 10.
115 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 63, запись от 21 февраля 1900 г.
Сноски к стр. 190
116 «Ежемесячный журнал», 1916, 8, стр. 76. — Рассказы о пожаре 1883 года находим также в воспоминаниях яснополянских крестьян В. П. и Е. Т. Зябревых («Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом», общая редакция В. Жданова. Тула, 1960, стр. 187—188 и 232).
Сноски к стр. 191
117 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 373 и 374.
118 Эта доверенность напечатана в Полном собрании сочинений, т. 83, стр. 579—581.
119 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 129.
Сноски к стр. 192
120 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 228.
121 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 382—383.
122 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 210.
Сноски к стр. 193
123 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 211—212.
124 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 382.
125 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 216.
Сноски к стр. 194
126 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 391—392.
127 Там же, т. 83, стр. 393—394.
128 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 227.
Сноски к стр. 195
129 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 384.
Сноски к стр. 196
130 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 131.
131 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 384.
132 Записки И. М. Ивакина. «Лит. наследство», т. 69, кн. II, стр. 70.
133 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 131.
Сноски к стр. 197
134 В. А. Поссе Мой жизненный путь. М. — Л., 1929, стр. 317. Свои встречи с Толстым Е. Е. Лазарев описал в книге «Моя жизнь», изданной в Праге в 1935 году.
Сноски к стр. 198
135 А. Дунин. Граф Л. Н. Толстой и толстовцы в Самарской губернии. — «Русская мысль», 1912, № 11, стр. 156—164; Н-н. Лев Толстой в Самарской губернии. — «Вечерние известия», 9 января 1928 г.
136 Письмо напечатано в Полном собрании сочинений, т. 90, стр. 250, с неверной датой: «18—19 июля 1883 г.».
Сноски к стр. 199
137 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 304.
138 Воспоминания Г. А. Русанова под заглавием «Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г.» напечатаны в «Толстовском ежегоднике 1912 г.» М., 1912, стр. 51—81. Вошли (с небольшими сокращениями) в двухтомное издание «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников».
Сноски к стр. 200
139 Дочь Н. М. Карамзина.
140 См. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, стр. 202.
Сноски к стр. 201
141 Образ Раскольникова представлялся Толстому настолько типичным и художественно законченным, что в своей статье «Для чего люди одурманиваются?» (1890) он воспользовался этим образом для иллюстрации положения о том, что все действия человека имеют свое начало в его мыслях. Для Раскольникова, писал Толстой в этой статье, вопрос о том, «убьет ли он или не убьет старуху», решался «не тогда, когла он, убив одну старуху, стоял с топором перед другой, а тогда, когда он не действовал, а только мыслил, когда работало одно его сознание и в сознании этом происходили чуть-чуточные изменения» (Полное собрание сочинении, т. 27, стр. 280).
142 См. стр. 65 настоящего издания.
143 Статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант» была напечатана в «Отечественных записках» 1882 года, № 9 и 10. Михайловский первый из русских критиков указал на противоположный характер творчества Достоевского и творчества Толстого. Еще в 1875 году он писал: «Меня толкает случайное совпадение имен графа Л. Толстого и Достоевского. Я не помню, чтобы кому-нибудь из наших критиков приходило на мысль изучить их вместе, параллельно, а это было бы весьма плодотворно. Оба они заняты в своих произведениях психологическим анализом, но светлый, ровный, жизнерадостный мир одного и мрачный, исключительный, напряженный мир другого очень рельефно взаимно оттеняются» (Н. М. Записки профана — «Отечественные записки», 1875, № 1, стр. 158).
144 Статья Н. К. Михайловского «Герои и толпа» появилась в «Отечественных записках», 1882 г., № 1, 2 и 5. В первой главе статьи Михайловский приводит целиком из «Войны и мира» сцену растерзания Верещагина толпой, сопровождая ее следующим замечанием: «Я не знаю ни исторического ни художественного описания момента возбуждения толпы под влиянием примера, которое могло бы сравняться с этими двумя страницами по выпуклости и тонкости работы» (Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 6. СПб., 1885, стр. 286).
Сноски к стр. 202
145 В письме от 14 февраля 1884 года М. Е. Салтыков благодарил Толстого за «доброе и благорасположенное письмо» («Письма Толстого и к Толстому». М. — Л., Госиздат, 1928, стр. 256). О том же письме М. Е. Салтыков писал П. В. Анненкову 26 мая 1884 года, вспоминая, что за месяц до закрытия «Отечественных записок» он получил от Толстого письмо с «похвалами» и его журналу и ему лично (М. Е. Салтыков- Щедрин. Письма 1845—1889. Госиздат, 1924—1925, стр. 264). Письмо это до сих пор не найдено.
146 А. И. Эртель в записи своего дневника 6 февраля 1884 г. со слов друга Гаршина, студента В. А. Фаусека, приводит следующее сделанное Толстым в юмористическом тоне сравнение рассказов Глеба Успенского с его (Толстого) романами:
« — Этот [Глеб Успенский] не напишет, как барыня возлежала на кушетке, и не изобразит кончик ее ботинка, а Толстой напишет.
— Какой Толстой? Алексей? — спросил присутствовавший при этом разговоре будущий зять Толстого М. С. Сухотин.
— Нет, Лев Толстой, — ответил Лев Николаевич» («Голос минувшего», 1913, 2, стр. 236).
Сноски к стр. 203
147 В копии воспоминаний Русанова, с которой они печатались в «Толстовском ежегоднике 1912 года», в перечислении рассказов Гаршина, одобренных Толстым, два пропуска. В одном случае Толстым был назван, очевидно, рассказ «Attalea princeps», заглавие которого не было вписано машинисткой из-за отсутствия иностранного шрифта. Второй пропуск неизвестен.
Сноски к стр. 206
148 3 октября 1883 г. Толстой в письме к жене из Ясной Поляны в Москву сообщал об «удивительном событии» в семье сестры Л. Д. Урусова, жены ярославского вице-губернатора П. К. Рекка: ее дочь выходит замуж за сельского учителя, сына крестьянина (Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 401).
Сноски к стр. 207
149 Письмо было напечатано в «Первом собрании писем И. С. Тургенева». СПб., 1884, стр. 500—501.
Сноски к стр. 208
150 Письмо к Фету 21 октября 1869 г. (Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 220).
151 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 138.
Сноски к стр. 209
152 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 395—397.
153 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 109.
154 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 399, 402.
155 «Общество любителей российской словесности». М., 1911, стр. 145.
156 Министром внутренних дел в 1880—1889 годах был граф Дмитрий Андреевич Толстой, четвероюродный брат Л. Н. Толстого, крайний реакционер. Был сторонником «сильной» власти, боролся с либеральной печатью и земством, принимал меры к возвышению дворянства. Толстой в неопубликованной черновой редакции статьи «Церковь и государство» иронически называет его «братец Дмитрий Андреевич».
Сноски к стр. 210
157 «Лит. наследство», № 22—24, 1935, стр. 502—503.
Сноски к стр. 211
158 Юр. Никольский. Дело о похоронах И. С. Тургенева. — «Былое», 1917, стр. 152—153 — Копия этого документа сохранилась в архиве ленинской газеты «Искра» со следующей припиской В. И. Ленина, относящейся к 1900 году: «Приводим сообщенный нам секретный документик, характеризующий обычные приемы нашего «внутреннего управления» («Исторический архив», 1955, № 6, стр. 9).
159 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 150.
Сноски к стр. 212
160 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, стр. 62, запись от 29 апреля 1900 г.
161 Письмо напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 149—150.
Сноски к стр. 213
162 Толстой имел в виду речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», написанную в 1860 г.
163 Подтверждением данной характеристики последнего этапа в мировоззрении Тургенева могло бы служить недавно опубликованное письмо художника А. П. Боголюбова к брату Н. П. Боголюбову о последних днях Тургенева. По словам А. П. Боголюбова, Тургенев сознавал, что умирает, и за несколько дней до смерти сказал посетившему его художнику: «Спасибо, что пришел, Боголюбов, а завтра, пожалуй, не застал бы». Затем тихо сказал: «Вы любите людей, и я их старался любить. Так любите их всегда. Прощайте» («Литература и жизнь», 1958, № 74 от 26 сентября).
164 Полное собрание сочинений, т. 63. стр. 138, 137.
Сноски к стр. 214
165 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 395.
166 Б. Миронов. Свидание с Толстым — «Международный толстовский альманах», составленный П. А. Сергеенко. М., 1909, стр. 120.
167 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936, стр. 235.
Сноски к стр. 215
168 «Петербургские ведомости», 1883, № 270 от 7 октября, рубрика «По городам и селам».
169 «Новое время», 1883, № 2734 от 8 октября под рубрикой: «Среди газет и журналов».
Сноски к стр. 216
170 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, стр. 65.
Сноски к стр. 217
171 Р. Моисеев. «Возмутительная выходка» Л. Н. Толстого». — «Красная газета», веч. вып., 1924, № 265 от 20 ноября.
172 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 402.
Сноски к стр. 218
173 О. Александрова. И. П. Минаев и Л. Н. Толстой. — «Русская литература», 1960, № 3, стр. 203.
174 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 310.
175 Там же, стр. 370.
Сноски к стр. 219
176 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
177 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 305.
Сноски к стр. 220
178 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 307—309. — В письме к В. С. Соловьеву, написанном в конце февраля 1884 г., Н. Н. Страхов, как это видно из ответного письма Соловьева от 2 марта того же года, обвинял Достоевского в «непрямоте и неискренности» («Письма В. С. Соловьева», т. I. М., 1908, стр. 18).
179 Письмо напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 142— 143, по копии, со многими грубыми ошибками и с неверной редакторской датой «ноября 30? — декабря 1?» Здесь печатается по оригиналу, хранящемуся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 221
180 Пресансе — протестантский богослов, автор сочинений по истории христианства.
181 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 310.
182 Полное собрание сочинений, т. 86, стр. 54.
Сноски к стр. 222
183 Полное собрание сочинений, т. 66, стр. 254.
184 Там же, стр. 253—254.
185 Д. П. Маковицкий. Неопубликованные «Яснополянские записки», запись от 12 мая 1909 г.
186 «Толстовский ежегодник 1912 г.», стр. 66.
Сноски к стр. 223
187 Н. В. Давыдов. Из прошлого. М., 1913, стр. 284.
Сноски к стр. 224
188 П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. II. 1923, стр. 221—222.
189 В своей автобиографии «Моя жизнь» С. А. Толстая в 1907 г., писала: «В 1884 году явился к Льву Николаевичу в Москве высокий, красивый, мужественный человек, настоящий аристократ с первого же взгляда на него. Это был Владимир Григорьевич Чертков. Начитавшись последних сочинений Львя Николаевича, Чертков, служивший в конной гвардии, вышел в отставку и старался жить по новым идеям Льва Николаевича. В нем совершился резкий поворот. Отставка блестящего конногвардейского офицера, сына шефа Преображенского полка и придворной аристократки Е. И. Чертковой, рожденной графини Чернышевой-Кругликовой, не могла пройти незаметно в Петербурге. Все заговорили об этом, выражая крайнее сожаление. Чертков очень полюбился Льву Николаевичу, и так до конца он любил его и высоко ценил его искреннее, глубокое почитание всего, что писал и думал Лев Николаевич».
Здесь две неточности: неверно обозначен год знакомства Черткова с Толстым; как сказано выше, Чертков оставил военную службу еще до знакомства с последними сочинениями Толстого вследствие возникших у него сомнений в правильности своего жизненного пути.
Сноски к стр. 225
190 Полное собрание сочинений, т. 85, 1935, стр. 3—4.
191 Там же, стр. 25.
192 Там же, стр. 27, 32.
193 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 70, 72, 78.
194 Письмо от начала марта 1884 г. — Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 32.
195 Там же, стр. 35.
Сноски к стр. 226
196 Письмо Черткова от 24 марта 1884 г., П. С. С., стр. 45.
197 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 44, 64.
198 Там же, стр. 44, 90, 270, 297.
Сноски к стр. 227
199 Полное собрание сочинений т. 63, стр. 239, 260.
200 Там же, т. 85, стр. 46.
201 Там же, т. 41, стр. 562.
202 Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 107.
203 Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 144, 146.
204 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 150.
Сноски к стр. 228
205 Письмо к Д. И. Святополку-Мирскому от 6 апреля 1884 г. — Полное собрание сочинений, т. 90, стр. 251.
206 Многоточие в автографе. Это многоточие должно было указать адресату на то, что существуют еще другие имена, которыми верующие называют начале жизни.
207 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 155.
208 Там же, т. 85, стр. 4.
Сноски к стр. 229
209 Письмо к А. А. Толстой от 7 мая 1884 г. — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 167.
210 Там же, стр. 165.
211 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 60.
212 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 76.
213 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 194.
Сноски к стр. 230
214 Выдержки из черновых редакций трактата «В чем моя вера?» публикуются впервые по автографам, хранящимся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
215 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 351, 357, 360, 369.
Сноски к стр. 231
216 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 362, 334, 369, 367.
Вспоминается некрасовское:
«Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабана, цепей, топора».Вспомним также Пьера Безухова, который после вида смертной казни мнимых поджигателей Москвы пережил крушение всех своих идеалов и потерял желание жить и только после встречи с Платоном Каратаевым почувствовал, что «прежде разрушенный мир» вновь «воздвигается в его душе».
217 См. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., изд-во АН СССР, 1957, стр. 190—194.
Сноски к стр. 232
218 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 365—366, 369—371, 334, 402, 423.
219 Там же, стр. 374—376.
Сноски к стр. 233
220 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 334, 378, 381, 379.
221 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 411.
В письме от 20 июня 1884 г. Н. Н. Страхов настойчиво советовал Толстому прочитать новую книжку В. С. Соловьева «Религиозные основы жизни». «Это почти полная параллель Вашему толкованию Евангелия и книге «В чем моя вера?» — писал Страхов. — Его понимание Христа и церкви есть лучшее изо всего, что мне случалось читать у чистых церковников. Он мне открыл самую внутреннюю сторону церкви, и хотя я не признаю этой постановки дела, но начал понимать, в чем состоит великая привлекательность этого учения и какими силами создалось то историческое явление, которое называется церковью. С величайшей жадностью услышал бы я Ваше мнение об этом предмете. Прочтите книжку Соловьева — право, она того стоит. Много мест слабых, даже очень слабых... Но есть страницы бесподобные, ясно и глубоко определяющие стремление душ, выразившееся в религиозной истории» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 314).
Но Толстой, для которого вопрос о церкви был давно уже решен, очевидно, не прочел рекомендованной ему Страховым книжки, о которой в его последующих письмах к Страхову нет никакого упоминания.
Книга В. С. Соловьева «Религиозные основы жизни» была перепечатана в третьем томе собрания его сочинений (СПб., изд-во т-ва «Общественная польза», без обозначения года, стр. 270—282) под заглавием «Духовные основы жизни».
Сноски к стр. 234
222 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 399, 386, 390, 391, 395.
Сноски к стр. 240
223 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 417—422.
Сноски к стр. 241
224 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 416.
225 Том же, стр. 426—427.
226 Там же, т. 23, стр. 428, 429.
227 Е. И. Попов. Отрывочные воспоминания о Л. Н. Толстом. — «Летописи Гос. лит. музея», кн. 2. М., 1938, стр. 367.
228 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 430.
Сноски к стр. 243
229 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 437, 439, 441.
230 Там же, стр. 512.
231 Там же, стр. 447—448.
Сноски к стр. 244
232 Так, А. И. Желябов, один из главных организаторов покушений на Александра II, на заседании суда 27 марта 1881 года на вопрос председателя о вероисповедании ответил: «Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа, признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть, и что всякий истинный христианин и должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера» («Дело 1-го марта 1881 г. (Правительственный отчет)», Одесса, 1906, стр. 6).
233 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 120.
Сноски к стр. 245
234 Из дальнейшего видно, что под словом «образование» Толстой разумел приобретение «таких знаний, которые выделяли бы меня от других», т. е. получение дипломов об окончании среднего или высшего учебного заведения, дававших возможность поступить на службу и занять привилегированное положение.
Сноски к стр. 246
235 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 460—462.
236 Там же, стр. 463—464.
Сноски к стр. 247
237 Там же, стр. 464.
238 Там же, стр. 464—465.
Сноски к стр. 248
239 П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. II. 1923, стр. 216.
240 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 333.
241 Там же, стр. 454.
242 Там же, стр. 389.
243 Запись в дневнике 4 марта 1855 г. — Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 57.
Сноски к стр. 251
244 Центральный Государственный архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2175.
245 С. А. Толстая. Письма к. Л. Н. Толстому, стр. 246.
246 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 418.
Сноски к стр. 252
247 Дело Московского цензурного комитета 1884 г., № 22 — в кн.: Н. Н. Апостолов. Лев Толстой и русское самодержавие. М. — Л., Госиздат, 1936, стр. 75—76.
248 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 155.
Сноски к стр. 253
249 Там же, стр. 160.
250 Дело Главного управления по делам печати № 22. — «Лит. наследство», т. 22—24, 1935, стр. 508.
Сноски к стр. 254
251 Н. Б[ахмете]в. Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах. — «Новое время», 1908, № 11694 от 1 октября.
252 См. Ник. Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. Библиографическое описание, т. I. М., 1969, стр. 454.
Сноски к стр. 255
253 «Письма Победоносцева к Александру III, т. II. Изд. «Новая Москва», 1926, стр. 53.
Сноски к стр. 256
254 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 155.
255 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 65.
256 Письмо не опубликовано, хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 257
257 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 289.
258 История знакомства Иванцова-Платонова с Толстым неизвестна. Возможно, что знакомство произошло через старшего сына Толстого, в то время студента Московского университета.
259 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 205—206.
Сноски к стр. 258
260 Письмо Победоносцева к С. А. Толстой полностью печатается впервые; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 259
261 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 522.
262 Таковы в особенности были книги: А. Гусев. Граф Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера. М., 1890; Александр Орфано. В чем должна заключаться истинная вера каждого человека. М., 1890; Ив. А. Карышев. Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л. Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в сочинении «В чем моя вера?». М., 1891.
Сноски к стр. 262
1 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 4, стр. 122—125, 127—130, 135—137. Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 263
2 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М, 1936, стр. 250.
3 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 4, стр. 200.
4 Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 81—82.
Сноски к стр. 264
5 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 368.
6 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 136.
7 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 417, 421.
8 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 159—160.
Сноски к стр. 265
9 Чтобы представить себе ясно, что значили в жизни крестьянина того времени 250 рублей, достаточно вспомнить, что Аким из «Власти тьмы» приходит к сыну Никите просить у него десять рублей, чтобы на эти деньги «объегорить лошаденку». Следовательно, 250 рублей — это для того времени цена 25 крестьянских лошадей.
10 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 627.
Сноски к стр. 267
11 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 303—305.
12 П. Д. Боборыкин. В Москве у Толстого. — «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеенко. М., 1909, стр. 6.
13 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 544.
Сноски к стр. 268
14 Полное собрание сочинений, т. 56, стр. 239.
15 Там же, стр. 28.
16 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 134.
17 Анна Серон. Граф Лев Толстой. Пер. с нем. М., 1896, стр. 53.
18 «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1960, стр. 282.
Сноски к стр. 269
19 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 417.
20 Письма к С. А. Толстой 28 и 29 января 1884 г. — Там же, стр. 414—415.
21 Там же, стр. 418, 421.
22 Там же, стр. 422, 421.
Сноски к стр. 270
23 Шесть писем напечатаны: С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 245—254. Остальные три цитируются по подлинникам, хранящимся в Гос. музее Л. Н. Толстого.
24 «Яснополянский сборник Статьи и материалы». Тула, 1962, стр. 90—91. Когда Софья Андреевна впоследствии писала свою автобиографию, в которую включила и данное письмо, она не вписала в свою работу окончание этого письма, закончив выписку словами: «ни радости, ни просто обязанностей». (С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 4, стр. 205).
Сноски к стр. 271
25 Все цитаты из дневника Толстого 1884 года приводятся по тексту, опубликованному в Полном собрании сочинений, т. 49, стр. 61—121.
26 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 544—545
27 Из дневника М. С. Сухотина — «Лит. наследство», т. 69, кн. 2. стр. 174.
Сноски к стр. 272
28 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 198—199.
29 Л. Л. Толстой благополучно кончил гимназию и Московский университет. И. Л. Толстой оказался совершенно чужд гимназическому обучению; выйдя из гимназии, он вскоре женился и занялся хозяйством в приобретенном для него матерью имении Гриневка, Чернского уезда, Тульской губернии.
30 Выдержки из письма Х. Д. Алчевской напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 110.
Сноски к стр. 273
31 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 108—110.
Сноски к стр. 274
32 Х. Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. М., 1912, стр. 105—106.
Сноски к стр. 276
33 Начало народной пьесы о Петре Мытаре напечатано в Полном собрании сочинений, т. 29, стр. 364—371.
34 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 255.
35 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 29, стр. 281—291.
Сноски к стр. 277
36 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 27.
37 Там же, стр. 30.
Сноски к стр. 278
38 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 876—877.
Письмо Р. А. Писарева датировано 7 февраля 1884 г., но это несомненная ошибка. В письме упоминается возвращение Толстого из Ясной Поляны в Москву которое состоялось 8 февраля. Речь Толстого, о которой сообщает Писарев, была произнесена, по его словам, «третьего дня», т. е., если принять дату его письма, она была сказана 5 февраля. Но Толстой в этот день был еще в Ясной Поляне. Письмо Писарева следует датировать 7 марта; в таком случае речь Толстого следует отнести к 5 марта, что соответствует и дате письма к Толстому М. П. Щепкина — 6 марта (см. стр. 280—281).
39 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 523—529, под редакторским заглавием «Речь о народных изданиях».
Сноски к стр. 281
40 Выдержки из письма М. П. Щепкина к Толстому напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 877—878.
41 Лубочной литературой назывались дешевые издания, печатавшиеся большими тиражами на очень плохой бумаге. В Москве целый ряд издателей, вышедших из народа, занимался изданием такой литературы. Содержанием лубочной литературы служили главным образом приключенческие и юмористические рассказы: «Английский милорд Георг», «Битва русских с кабардинцами», «Гуак, или Непреодолимая верность», «Ведьма и Соловей разбойник», «Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче, о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевны», «Весельчак» — сборник стихотворений и веселых анекдотов, и т. п.
«Лубочными» эти книги назывались потому, что они распространялись среди народа особыми продавцами, носившими название офеней, которые упаковывали свой товар в лубочные короба.
Сноски к стр. 282
42 Х. Д. Алчевская. Указ. соч., стр. 104—115.
Сноски к стр. 283
43 Х. Д. Алчевская. Указ соч , стр. 115.
44 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 30, 37.
Сноски к стр. 284
45 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 532—534.
Сноски к стр. 285
46 Полное собрание сочинений, т. 66, стр. 68.
47 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 62.
Сноски к стр. 286
48 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 39.
49 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 61.
Сноски к стр. 288
50 «Анна Каренина», ч. 5, гл. XX.
51 Сохранившаяся часть письма опубликована: Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 42—43 (с ошибкой в первой фразе: «напишу» вместо «не пишу»).
Сноски к стр. 289
52 Александр Петрович Иванов (1836—1912), бывший артиллерийский поручик и участник войны за освобождение славян в 1877—1878 гг., опустившийся до босячества, вел бродячий образ жизни. Он пришел к Толстому в 1880 году, и Толстой, чтобы поддержать его, устроил у себя переписчиком. Но Иванова неудержимо тянуло к бродяжничеству и, проработав у Толстого два-три месяца, он уходил странствовать, часто спускал с себя все, что на нем было, и через некоторое время, голодный и раздетый, вновь появлялся у Толстого.
Эпизодическая работа Иванова переписчиком у Толстого продолжалась с 1880 по 1900 год. Толстой вывел А. П. Иванова в пьесе «Живой труп» под именем Александрова и в пьесе «И свет во тьме светит» — под его собственным именем.
Сноски к стр. 292
53 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 138.
54 К большой чести С. Л. Толстого следует отметить, что в своих «Очерках былого» (стр. 138—139) он буквально приводит все (кроме одного, пропущенного, вероятно, случайно) отрицательные суждения о нем отца, записанные в дневнике 1884 года.
55 Леонид Дмитриевич Оболенский, муж племянницы Толстого Елизаветы Валерьяновны Толстой.
Сноски к стр. 293
56 О первом приезде Кислинского к Толстым Софья Андреевна писала Льву Николаевичу из Ясной Поляны в Самару 19 июня 1883 г. «Вчера с колокольчиками прилетел в первый раз Коля Кислинский. Приезд его имел магическое действие. Девицы все мгновенно оживились, порхали и пели два дня» (С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 225).
57 Статья «Деревенские работы и крестьянская жизнь на все месяцы года. Работы в феврале» (1886). — Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 18.
Сноски к стр. 295
58 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 46—47.
Сноски к стр. 297
59 «Всемирная панорама», 1910, № 83, стр. 4.
60 Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 47—59, записи с 7 марта по 18 апреля 1851 г.
Сноски к стр. 299
61 «Переписка Л. Н. Толстого с графиней А. А. Толстой». СПб., 1911, стр. 27.
Сноски к стр. 300
62 В. Стасов. Николай Николаевич Ге. Его жизнь, произведения и переписка. М., 1904, стр. 298. Из данного письма Н. Н. Ге известен только приведенный отрывок. После смерти Н. Н. Ге Толстой передал В. В. Стасову, писавшему биографию Ге, письма художника к нему. Некоторые из писем Н. Н. Ге, в том числе и данное письмо, не были возвращены Толстому. В настоящее время местонахождение данного письма Н. Н. Ге, как и некоторых других ранних его писем к Толстому, неизвестно.
63 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 168.
Сноски к стр. 301
64 Ю. М. Юрьев. Записки, т. I. М., 1963, стр. 119—121.
Сноски к стр. 302
65 18 февраля 1909 г. Толстой записал в дневнике: «Не знал и не знаю ни одной женщины духовно выше Марьи Александровны. Она так высока, что уже не ценишь ее. Кажется, так и должно и не может быть иначе» (Полное собрание сочинений, т. 57, стр. 28).
Сноски к стр. 303
66 Факсимиле напечатано в книге: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М., 1936, стр. 195.
Сноски к стр. 305
67 Е. Н. Янжул. Встречи с Толстым. — «Международный толстовский альманах», стр. 427—428.
Сноски к стр. 306
68 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 60—61.
Сноски к стр. 308
69 Стихотворения С. И. Бардиной напечатаны в сборнике «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Л., 1959, стр. 275, 295—299. По новейшим разысканиям, из шести стихотворений, приписывавшихся Бардиной, четыре написаны поэтом-адвокатом А. Л. Боровиковским, а два — «К матери» и «Две соседки» — возможно, написаны Бардиной (Е. Бушканец. Мнимые стихотворения Софьи Бардиной.— «Русская литература», 1961, № 2, стр. 170).
Сноски к стр. 309
70 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 163.
Сноски к стр. 311
71 В. Г. Короленко. Великий пилигрим. — «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I, стр. 352.
Сноски к стр. 312
72 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 448—449.
Сноски к стр. 313
73 «Лит. наследство», т. 75, кн. I. М., 1965, стр. 309.
74 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 174, как письмо к неизвестному.
75 См. стр. 176—185 настоящего издания.
Сноски к стр. 314
76 Полное собрание сочинений, т. 90, стр. 251—252.
77 Там же, стр. 253—254.
78 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 458.
Сноски к стр. 316
79 Полное собрание сочинении, т. 25, стр. 787.
Сноски к стр. 317
80 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 65.
Сноски к стр. 319
81 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 167.
Сноски к стр. 320
82 Письмо В. И. Алексееву и А. А. Бибикову от 16 июня 1884 г. — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 180.
Сноски к стр. 321
83 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 382.
84 Полное собрание сочинений, т. 86, стр. 9. Толстой имел в виду свою повесть «Ходите в свете, пока есть свет».
85 Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 128.
86 Там же, стр. 129.
87 Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 341.
Сноски к стр. 325
88 29 января 1884 г. Толстой писал жене из Ясной Поляны «Самое доброе, совершенное и милое существо в мире — это пьяный, на первом взводе, мужик» (Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 416).
Сноски к стр. 326
89 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 64.
Сноски к стр. 327
90 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 180—182.
91 Там же, стр. 184.
Сноски к стр. 329
92 Впоследствии по поводу лошадей С. А. Толстая высказывала другие упреки: что Лев Николаевич пользуется роскошью — верховой лошадью для прогулок. Так, 7 марта 1898 г. С. А. Толстая записала в своем дневнике, что они с Львом Никсласвичем «упрекали друг друга», она «говорила, что его верховую лошадь, его спаржу и фрукты, его благотворительность, велосипеды и пр.» ему доставляет она на деньги, получаемые от продажи его сочинений, за которую «упрекал» ее Лев Николаевич («Дневники С. А. Толстой. 1897—1909». М., 1932, стр. 38).
13 сентября того же года С. А. Толстая, изливая свое негодование против романа «Воскресение», записывает в дневнике, что Лев Николаевич, работая над этим романом, «жил по-старому, любя сладкую пищу, и велосипед, и верховую лошадь...» (там же, стр. 81).
28 августа 1910 г., в день рождения Льва Николаевича, Софья Андреевна записывает в дневнике, что он «откровенно веселится, любит и хорошую еду, и хорошую лошадь, и карты, и музыку, и шахматы...» («Дневники С. А. Толстой. 1910». М., 1936, стр. 177).
Сноски к стр. 330
93 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 4, стр. 227—228.
Сноски к стр. 331
94 В 1884 году из родившихся раньше одиннадцати детей были живы восемь сыновей и дочерей: Сергей, Татьяна, Илья, Лев, Мария, Андрей, Михаил, Алексей (Петр, Николай и Варвара умерли в малолетнем возрасте).
95 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 137.
96 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 69.
Сноски к стр. 332
97 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 4, стр. 225.
98 Александра Толстая. Из воспоминаний. — «Современные записки», XLV. Париж, 1931, стр. 7.
99 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 69—70.
100 Толстой читал это письмо дочери, что видно из сделанной им к письму приписки Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 333
101 От французского eluder — уклоняться, обходить.
102 Сравнение взято из следующего текста в Евангелии от Матфея (перевод Толстого). «И тот, кто отманит от истины хоть одного из таких детей, верующих в меня, тот готовит ему то, чтобы надеть жернов на шею и потонул бы он в море» (Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 577).
Сноски к стр. 334
103 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
104 См. стр. 179—183 настоящего издания.
105 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 336
106 Мисс Лэк — гувернантка, англичанка.
Сноски к стр. 337
107 Мечты об улучшении мира.
108 Необузданная торопливость.
Сноски к стр. 338
109 «Так что же нам делать?», гл. XXXVIII. — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 387.
Сноски к стр. 339
110 Все заметки Толстого для яснополянского почтового ящика, написанные в 1884—1885 гг., напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 513—522.
Сноски к стр. 342
111 Выдержки из письма В. Г. Черткова от 18 июня 1884 г. напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 85, стр. 74.
112 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 73.
113 Там же, стр. 91, 92.
Сноски к стр. 343
114 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 80.
115 В своих воспоминаниях В. И. Алексеев рассказывает следующие подробности этого случая в жизни Толстого:
«Не могу пройти молчанием происшествие со Львом Николаевичем, которое сильно потрясло его и оставило глубокий след на всю жизнь в его душе. Случай этот касается чувственного соблазна плоти...
Подходит однажды Лев Николаевич ко мне взволнованным и просит меня помочь ему. Смотрю — на нем лица нет. Я удивился, чем я могу помочь ему. Он говорит взвохнованным голосом:
— Спасите меня, я падаю.
Такие слова меня испугали. Чувствую, что у Льва Николаевича что-то не ладно. У меня на голове даже волосы зашевелились.
— Что с вами, Лев Николаевич? — спрашиваю его.
— Меня обуревает чувственный соблазн, и я испытываю полное бессилие, боюсь, что поддамся соблазну. Помогите мне.
— Я сам слабый человек, чем же я могу помочь вам, — говорю ему.
— Нет, можете помочь, только не откажитесь.
— Да что же я должен сделать, — говорю, — чтобы помочь.
— А вот что: не откажитесь сопутствовать мне во время моих прогулок. Мы будем вместе с вами гулять, разговаривать, и соблазн не будет приходить мне на ум.
Мы пошли, и тут он мне рассказал, как он во время прогулок почти каждый день встречает Домну, людскую кухарку, как он сначала молча несколько дней следовал за нею, и это ему было приятно. Потом, следуя за ней, стал посвистывать; затем стал ее провожать и разговаривать с нею, и, наконец, дело дошло до того, что назначил ей свидание. Затем, когда он шел на свидание мимо окна дома, в нем происходила страшная борьба чувственного соблазна с совестью. В это время Илья (второй сын), увидев отца в окно, окликнул и напомнил ему об уроке с ним по греческому языку, который был назначен на этот день, и тем самым помешал ему. Это было решающим моментом. Он точно очнулся, не пошел на свидание и был рад этому. Но этим дело не кончилось. Чувственный соблазн продолжал его мучить. Он пробовал молиться, но и это не избавляло его от соблазна. Он страдал и чувствовал себя бессильным. Чувствовал, что наедине он каждую минуту может поддаться соблазну, и решил испытать еще одно средство — покаяться перед кем-нибудь, рассказать все подробно о силе подавляющего его соблазна и о душевной слабости его самого перед соблазном. Вот почему он и пришел ко мне и рассказал все подробно, чтобы ему стало как можно больше стыдно за свою слабость. Кроме того, чтобы избавиться от дальнейших условий соблазна, он просил меня каждый день сопутствовать ему во время прогулок, когда он обыкновенно бывает совершенно один. Я, конечно, был рад случаю побольше бывать с Львом Николаевичем, побольше говорить с ним обо всем, и мы стали гулять вместе каждый день. После этого у нас и речи не было о его соблазне. Мне неловко было поднимать разговор, да и ему-то, вероятно, неприятно было вспоминать об этом. Затем он принял меры, чтобы и Домна эта ушла куда-то на другое место». О самой Домне В. И. Алексеев сообщал, что это была молодуха «лет 22—23, не скажу, чтобы красивая, но — кровь с молоком, высокая, полная, здоровая и привлекательная. Муж ее, кажется, был в солдатах» («Летописи Гос. лит. музея», кн 12 М., 1948, стр. 261—263).
Сноски к стр. 344
116 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 76—77.
Сноски к стр. 345
117 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 95, 98.
118 Письмо опубликовано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 200—201 (с датой: 1884 г.).
Сноски к стр. 346
119 С. А. Толстая, которой Толстой в 1883 году предоставил право издания своих прежних сочинений, была недовольна, когда он передавал свои новые произведения частным лицам, как это было в 1895 г., когда Толстой предоставил Л. Я. Гуревич, редактору журнала «Северный вестник», свой новый рассказ «Хозяин и работник». Но она не возражала, когда неизданные произведения Толстого печатались с благотворительной целью.
120 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 76.
Сноски к стр. 347
121 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 89.
1 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 118.
2 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 445.
Сноски к стр. 349
3 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 105.
4 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 350
5 Письмо П. Ф. Ковальской от 23 февраля 1891 г. — Полное собрание сочинений, т. 65, стр. 227. В письме к Н. Н. Ге-сыну от 23 января 1891 г. Толстой просил его «приветствовать» врача Ковальского (там же, стр. 226).
6 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 160.
7 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936, стр. 257, 263.
Сноски к стр. 351
8 Письма В. С. Соловьева, т. I. СПб., 1908, стр. 19. Это письмо датировано 19 октября 1884 г., но это или описка автора, или ошибка переписчика, так как весь октябрь 1884 года Толстой провел в Ясной Поляне.
Сноски к стр. 352
9 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 431—432.
10 Там же, стр. 439—440.
11 Там же, стр. 432.
12 Там же, стр. 448.
13 Там же, стр. 437, 441.
14 Там же, стр. 450.
Сноски к стр. 353
15 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 446.
16 Там же, стр. 433—434.
17 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 261.
Сноски к стр. 354
18 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 258, 268, 270, 271, 274, 275.
19 Там же, стр. 274.
Сноски к стр. 355
20 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 446.
21 Там же, стр. 436.
22 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 356
23 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 118.
24 Иван Наживин. Из жизни Льва Николаевича Толстого. М., 1911, стр. 32. Эти слова Толстого вызвали у В. В. Вересаева такое замечание: «Кто в здоровых, нормальных условиях станет радоваться такой своеобразной чести? И кто, не принужденный переживать этот вечный стыд за себя, способен говорить так?» (В. В. Вересаев. Художник жизни. (О Толстом). М., 1922, стр. 97).
Этот же разговор Толстого с Сютаевым кратко воспроизводит А. Б. Гольденвейзер в своем дневнике 10 июля 1907 г. (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 200).
Сноски к стр. 357
25 Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 53.
26 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, стр. 68.
27 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 124.
Сноски к стр. 358
28 «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой», I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей М, 1949, стр. 11.
29 Павлов имел в виду страницы «Войны и мира», посвященные главнокомандующему Москвы в 1812 г. графу Ф. В. Растопчину.
30 Письмо не опубликовано; хранится в ЦГАЛИ.
31 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 102.
Сноски к стр. 359
32 Там же, стр. 101, 104, 110.
33 Там же, стр. 112.
34 См. стр. 305 настоящего издания.
Сноски к стр. 360
35 П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. II. 1923, стр. 226.
36 «Полвека для книги. Литературно-художественный сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И. Д. Сытина». М., 1916, стр. 21—22; И. Д. Сытин. Жизнь для книги. М., 1960, стр. 62—63.
Сноски к стр. 361
37 Первая редакция текста к картине Бугро напечатана в т. 25 Полного собрания сочинений, стр. 589.
38 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 121.
39 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 453.
Сноски к стр. 362
40 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
41 Молодой кучер, яснополянский крестьянин Миша Егоров, служивший у Толстых.
42 От французского ṕrorer — говорить речи, разглагольствовать.
Сноски к стр. 363
43 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 454—457.
44 Дневники С. А. Толстой 1860—1891. М., 1928, стр. 57.
45 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 279.
46 С. А. Толстая. Моя жизнь. Авторизованная копия, тетр. 4, стр. 132.
Сноски к стр. 364
47 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 46.
48 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 286.
49 Там же, стр. 287.
Сноски к стр. 365
50 «Добродетельная женщина» (фр.).
51 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 288—289.
52 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 458, 460—462, 465, 469.
Сноски к стр. 366
53 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 128.
54 Письмо секретаря «Русской мысли» Н. Н. Бахметева Г. И. Успенскому от 19 декабря 1884 г. — «Глеб Успенский. Материалы и исследования». Изд-во АН СССР, 1958, стр. 340.
55 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 133.
56 «Глеб Успенский. Материалы и исследования», стр. 340.
57 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 368
58 ЦГИА, ф. 776, оп. 6, д. 361, л. 244.
59 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 203—204.
Сноски к стр. 370
60 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 503—507; в окончательной редакции трактата вопросу о деньгах посвящены шесть глав — с XVII по XXII (см. далее, стр. 452—457).
Сноски к стр. 372
61 Из черновых редакций главы о деньгах в трактате «Так что же нам делать?». — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 628—632.
Сноски к стр. 373
62 Академик И. И. Янжул. Мое знакомство с Толстым. — «Международный Толстовский альманах», сост. П. А. Сергеенко. М., 1909, стр. 410.
63 А. В. Амфитеатров. Собрание сочинений, т. 22, СПб., б. г., стр. 4—5.
64 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 634.
Сноски к стр. 375
65 В. Б. Шкловский. Лев Толстой. М., 1963, стр. 633.
Сноски к стр. 376
66 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 800.
Сноски к стр. 377
67 См. стр. 265 настоящего издания.
68 Из черновой редакции «Так что же нам делать?» (рукопись 22, л. 10—11). Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 378
69 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 472—474.
70 Там же, стр. 475—476.
Сноски к стр. 380
71 См. «Письма гр. Л. Н. Толстого к жене». М., 1913, стр. 249.
72 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 476—477.
Сноски к стр. 381
73 См. письмо Л. Ф. Ломовской к Г. И. Успенскому от 10 февраля 1885 г. Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. 13. Изд-во АН СССР, 1951, стр. 636.
74 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 382
75 Г. И. Успенский. Собрание сочинений, Гослитиздат, т. 9. М., 1957. стр. 367.
76 Там же, стр. 385—386.
Сноски к стр. 383
77 Перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 536—537.
Сноски к стр. 384
78 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 472—473
79 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 142.
Сноски к стр. 386
80 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 479, 480, 482, 483.
81 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 144.
Сноски к стр. 387
82 Генри Джордж. Прогресс и бедность. Перевод с англ. С. Д. Николаева. Изд. Л. Ф. Пантелеева, СПб., 1906, стр. 1—8.
Сноски к стр. 388
83 Генри Джордж. Прогресс и бедность, стр. 232—239.
84 Там же, стр. 257.
Сноски к стр. 389
85 Генри Джордж. Прогресс и бедность, стр. 258.
86 Письмо к Л. Д. Урусову от 26 (?) февраля 1885 г. — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 212.
Сноски к стр. 390
87 «Так что же вам делать?», гл. XXI. — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 290.
88 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 169—173.
89 Полное собрание сочинений, т. 69, стр. 76—77.
Сноски к стр. 391
90 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
91 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 212.
Сноски к стр. 392
92 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 154.
93 Там же, стр. 157.
94 См. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 300—301.
95 См. стр. 289—290 и 374—375 настоящего издания.
96 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 158.
Сноски к стр. 393
97 Письма А. И. Эртеля. М., 1909, стр. 52—53.
98 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, ф. А. И. Эртеля.
Сноски к стр. 394
99 Т. е. проводников.
100 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 488, 489, 490, 491. Последнее письмо датировано здесь неточно: 10 марта.
101 Там же, стр. 493.
102 Воспоминания сына Г. А. Русанова о встрече с Толстым 12 марта 1885 г. напечатаны в книге: Проф. А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Воронеж, 1937, стр. 147—154. В воспоминаниях Русанова сообщаются некоторые подробности образа жизни Толстого того времени. Оказывается, Толстой тогда много курил, но только самодельные папиросы; чай пил в прикуску, наливая на блюдечко.
Сноски к стр. 395
103 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 495.
104 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 132.
105 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 495.
106 Там же, стр. 497.
Сноски к стр. 396
107 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 498.
108 Там же, стр. 499—501 (письма от 16—17 и 18 марта).
109 «В Крыму, во время его (Толстого) пребывания там вместе с моим мужем он нанялся в работники в один виноградник за рубль в день». (Pr-se Ouroussov. Histoire d’une âme — Mary. — Souvenirs recueillis par sa m̀re. P., 1904, p. 42).
110 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 499.
Сноски к стр. 397
111 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 318.
Сноски к стр. 398
112 «Пролог в поучениях». Сост. свящ. В. Гурьев. М., 1894, стр. 229—230.
Сноски к стр. 399
113 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 158.
114 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 495, 497.
Сноски к стр. 400
115 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 155.
116 А. Е. Грузинский. Источник рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и бог». — «Голос минувшего», 1913, 3, стр. 52—63.
117 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 154.
Сноски к стр. 401
118 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 204.
Сноски к стр. 402
119 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 160.
120 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 222—223.
Сноски к стр. 403
121 «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей» «Искусство», 1949, стр. 12.
122 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 160.
123 Там же, стр. 173—174.
124 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 234.
Сноски к стр. 404
125 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 501.
126 Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 61.
127 Там же, т. 49, стр. 96.
Сноски к стр. 405
128 В 25 томе Полного собрания сочинений рассказ «Упустишь огонь, не потушишь» помещен прежде текста к картине «Девчонки умнее стариков». Я думаю, что должен быть принят обратный порядок: в тексте к картине тема ссорящихся мужиков едва намечена, а в рассказе она развита подробно. Толстому было свойственно сначала набрасывать рассказ на какую-либо тему, а потом развертывать его подробно. Так, в «Войне и мире» Платон Каратаев в общих главных чертах рассказывает историю купца Аксенова, а позднее эта же история составила содержание целого рассказа «Бог правду видит, да не скоро скажет».
Сноски к стр. 406
129 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, стр. 323.
130 См. стр. 179—183 настоящего издания.
131 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 235—236.
132 И. Д. Сытин. Жизнь для книги. М., 1960, стр. 64.
Сноски к стр. 407
133 Константин Коничев. Русский самородок. Повесть о Сытине. Л., 1966, стр. 85; исправлено по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
134 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 408
135 Толстой разумел большое рассуждение о деньгах, входящее в состав трактата «Так что же нам делать?» Однако работа Толстого над этим рассуждением не кончилась в мае, а только в августе 1885 года. — Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 202.
136 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 242.
Сноски к стр. 409
137 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 174.
138 Там же, стр. 180.
139 Так, по-старинному, писал Толстой.
140 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 184.
Сноски к стр. 410
141 Полное собрание сочинений, т. 66, стр. 67.
142 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 188—189. 11 октября 1857 г. Толстой читал роман Джорджа Элиота «Адам Бид», о котором тогда же записал в дневнике: «Сильно, трагично, хотя и неверно, и полно одной мысли» (Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 22). В трактате «Что такое искусство?» Толстой причисляет «Адама Бида» к образцам высшего искусства (Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 160). 2 февраля 1885 г. Толстой читал роман Джорджа Элиота «Феликс Холт — радикал», про который в тот же день писал жене: «Превосходное сочинение... Вот вещь, которую бы надо перевести, если она не переведена» (Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 477).
143 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 254.
144 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 211.
Сноски к стр. 411
145 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 206
146 Там же, стр. 207—208.
147 Там же, стр. 210.
148 Запись эта неизвестна.
149 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 211.
150 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 255.
Сноски к стр. 412
151 Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 262—265.
Сноски к стр. 413
152 См. комментарий В. И. Срезневского к рассказу «Два старика». — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 703—704. Указание на рассказ в «Домашней беседе» как на источник рассказа Толстого в печати не появлялось.
153 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 208—209.
Сноски к стр. 414
154 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
155 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 223—224.
Сноски к стр. 415
156 С. Л. Толстой. Очерки былого. Изд. 3, Тула, 1965, стр. 167.
157 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 229.
158 Имеется в виду рассказ «Холстомер», черновая редакция которого была написана Толстым в 1861—1863 годах.
159 «Русский вестник», 1901, № 3, стр. 137.
160 «Записки И. М. Ивакина», стр. 49.
Сноски к стр. 416
161 П. И. Бирюков. Моя переписка с Л. Н. Толстым. Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого. Машинопись, стр. 59.
Сноски к стр. 417
162 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
163 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 277.
Сноски к стр. 418
164 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 276.
165 Там же, стр. 278.
166 С. А. Толстая. Письма к А. Н. Толстому, стр. 257, 262. «Мать увидала, что если не будут приняты экстренные меры, то ей и ее детям придется сильно сократить свои расходы и даже отказаться от жизни в Москве» (С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 158).
Сноски к стр. 419
167 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 436. «Выйдут» в данном письме означает, что предыдущее издание будет распродано
168 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 297.
169 «Записки И. М. Ивакина». — «Лит. наследство», т. 69, ч. 2. М., 1961, стр. 78, 60 («Справедливо, прекрасно!... Благодарствуйте, Лев Николаевич, — говорил Лев Николаевич, кланяясь другому, воображаемому Льву Николаевичу, — справедливо вы написали, хорошо!»).
Сноски к стр. 420
170 Из прежних своих художественных произведений Толстой в то время был особенно недоволен «Анной Карениной». В апреле 1885 г., прочитывая в помощь Софье Андреевне корректуры нового издания собрания сочинений, Толстой говорил: «Вот сейчас должен был поневоле корректировать свою «Анну Каренину» и все время думал: и какой это дурной человек (Толстой выразился гораздо резче) написал такую гадость!» (Л. Е. Оболенский. Литературные воспоминания и характеристики. — «Исторический вестник», 1902, № 4, стр. 22).
171 «Русские считают нужным читать Пушкина, Тургенева, Толстого, и этой-то дребеденью заслоняют книги, которые для людей действительно нужны», — говорил Толстой 3 июля 1885 г. («Записки И. М. Ивакина», стр. 49—50).
172 «Русский вестник», 1901, № 3, стр. 138.
173 Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
174 Некоторые из них указаны в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой», кн. 2. М., 1931.
Сноски к стр. 421
175 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 355.
176 См. стр. 204 настоящего издания.
177 Aylmer Maude. The Life of Tolstoj, v. I. Oxford University Press, 1930, p. 421.
178 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 560.
179 Толстой имел в виду свою «Сказку об Иване дураке и его двух братьях».
180 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 422
181 Письмо Толстого к Л. Д. Урусову от 5 апреля 1885 г. — Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 225.
182 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 853.
183 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 215, 220.
184 Там же, стр. 225.
185 Там же, стр. 242.
186 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 174.
187 Там же, стр. 197.
188 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 248.
189 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 854.
Сноски к стр. 423
190 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 207.
191 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 252.
192 Меморабилиа — воспоминания о Сократе его ученика Ксенофонта. — Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 210.
193 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 857.
Сноски к стр. 424
194 Э. Р[адлов]. Сократ. Энциклопедический словарь Брокгауза, полутом 60, СПб., 1900, стр. 741.
195 Название одного из отделов сборника «Путь жизни». — Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 47.
196 Э. Радлов. Сократ, стр. 741.
Сноски к стр. 425
197 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого; «Толстой-редактор». М., 1965, стр. 62.
198 Полное собрание сочинений, т. 66, стр. 68.
Сноски к стр. 426
199 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 855—856.
200 Записки И. М. Ивакина, стр. 80.
Сноски к стр. 427
201 «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения», т. 2. СПб., 1889, стр. 74—77.
202 ЦГАЛИ, ф. Черткова; «Толстой-редактор», стр. 63.
203 Перепечатаны в Полном собрании сочинений, т. 41, стр. 348—351, т. 42, стр. 65—72.
1 Перепечатана в девятом томе Полного собрания сочинений Г. И. Успенского. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 91—118.
Сноски к стр. 429
2 А. Ш. Деревенская философия. — «Сибирская газета». Томск, 1 июля 1884 г., № 27.
Сноски к стр. 430
3 Созерцатель. (Л. Е. Оболенский). Обо всем. — «Русское богатство», 1884, № 12, стр. 693—707.
4 Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. 13, 1951, стр. 448.
5 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 275.
6 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 241—242.
7 Так сам автор называл свою рукопись. Пропуск слова «тунеядство» в статье Г. И. Успенского не объясняется ли цензурными соображениями?
Сноски к стр. 431
8 И. П. Белоконский. Дань времени. М., 1928, стр. 332.
9 Е. И. Владимиров. Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой. Красноярск, 1938, стр. 35.
10 Цитаты из сочинения Т. М. Бондарева даются по изданию: «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство». Сочинение крестьянина Т. Бондарева. Изд. «Посредника», М., 1906. В тексте сочинения Бондарева редакцией «Посредника» были сделаны сокращения — выпущены некоторые слабые места и повторения.
Сноски к стр. 436
11 Краткий обзор содержания всего сочинения Бондарева по «вопросам» дан И. П. Белоконским в его книге «Дань времени», стр. 333—340.
12 Студент-медик Московского университета Василий Степанович Лебедев был членом Центрального комитета партии «Народная воля». Он принимал ближайшее участие в редакции печатного органа партии «Народная воля. Социально-политическое обозрение». Под редакцией В. С. Лебедева вышли четыре номера «Народной воли». Был арестован в Москве в 1882 году и приговорен в административном порядке к ссылке в Восточную Сибирь на пять лет (И. П. Белоконский. Указ. соч., стр. 317—319).
Сноски к стр. 437
13 Полное собрание сочинений, т. 90, стр. 257.
14 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 275.
15 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 242.
16 Имеется в виду статья Г. И. Успенского «Трудами рук своих» (см. стр. 428—429).
Сноски к стр. 438
17 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 276—277.
18 «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство». Сочинение крестьянина Т. Бондарева, стр. 64.
19 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 322. — Письмо Бондарева, о котором пишет Толстой, неизвестно.
20 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 358.
Сноски к стр. 439
21 Трактат «Так что же нам делать?»
22 В XXXVIII главе трактата «Так что же нам делать?» Толстой поместил следующее примечание: «За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу — крестьяне Сютаев и Бондарев» (Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 386).
23 В 1855 году Александр II приказал перевести на французский язык очерк Толстого «Севастополь в декабре» (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. М., 1958, стр. 93).
Сноски к стр. 440
24 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 332—334.
Сноски к стр. 441
25 Там же, стр. 337—338.
26 Там же, стр. 352.
Сноски к стр. 442
27 Предисловие к сочинению Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» напечатано с восстановлением цензурных пропусков и искажений в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 463—475.
Сноски к стр. 443
28 ЦГИА, ф. 777, оп. 3, д. 43. Статья И. П. Белоконского увидела свет только в 1905 г. в книге автора «На сибирские темы» (стр. 271). Была перепечатана в 1928 г. в другой книге автора «Дань времени» (стр. 324—346).
29 Полное собрание сочинений, т. 64, стр. 137.
30 Полное собрание сочинений, т. 86, стр. 115.
31 Полное собрание сочинений, т. 64, стр. 149.
32 Полное собрание сочинений, т. 86, стр. 138.
Сноски к стр. 444
33 «Русское дело», 1888, № 12.
34 Там же, № 13.
Сноски к стр. 445
35 ЦГИА, ф. 776, «Всеподданнейшие доклады», оп. 1, д. 24.
36 Полное собрание сочинений, т. 64, стр. 158.
37 Там же, стр. 159.
38 Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 58.
39 Полное собрание сочинений, т. 65, стр. 123.
Сноски к стр. 446
40 Полное собрание сочинений, т. 65, стр. 257.
41 Полное собрание сочинений, т. 67, стр. 158.
42 Полное собрание сочинений, т. 68, стр. 62.
43 Полное собрание сочинений, т. 69, стр. 99.
44 Полное собрание сочинений, т. 68, стр. 143.
45 Ошибка Горощенко.
Сноски к стр. 447
46 «Исторический вестник», 1913, № 7, стр. 213.
47 Полное собрание сочинений, т. 64, стр. 12.
48 Там же, стр. 286—287.
49 Полное собрание сочинений, т. 69, стр. 99. Письмо к Бондареву от 23 мая 1896 г.
Сноски к стр. 448
50 «Летописи Гос. лит. музея», кн. 2. М., 1938, стр. 26.
51 Полное собрание сочинений, т. 69, стр. 204.
Сноски к стр. 449
52 В перепечатке статьи Толстого в виде предисловия к сочинению Бондарева в издании 1906 г. слова «которые описаны в этом лексиконе» заменены словами «описываемые в истории русской литературы». Замена эта была произведена Толстым при перечитывании статьи перед сдачей ее в набор. С тем же изменением статья была перепечатана в Полном собрании сочинений (т. 31, стр. 69—71); здесь, кроме того, были восстановлены по автографу цензурные выкидки и исправлены ошибки переписчиков.
53 Тексты на могильных плитах, изготовленные Бондаревым, напечатаны по копиям, присланным Толстому, в статье К. С. Шохор-Троцкого «Сютаев и Бондарев». — «Толстовский ежегодник 1913 года». СПб., 1913, стр. 36—39, отдел «Статьи и материалы».
Завещание Бондарева было исполнено, каменные плиты с его текстом были положены на его могилу, где пролежали несколько лет. В настоящее время каменных плит на могиле Бондарева не существует.
54 Е. И. Владимиров. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. Красноярск, 1938, стр. 51.
Сноски к стр. 450
55 Полное собрание сочинений, т. 71, стр. 519.
56 Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 411—422.
57 Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 212.
1 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 282.
2 «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 56.
3 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 241.
4 Там же, стр. 250.
5 Там же, стр. 241.
Сноски к стр. 452
6 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 275.
7 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 247—294.
Сноски к стр. 453
8 Напечатана в сборнике «XXV лет 1859—1884», изданном Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, стр. 562—586.
Сноски к стр. 454
9 Жители островов Фиджи и в настоящее время находятся в порабощении у Англии. В газете «Советская Россия» 9 сентября 1966 года появилась следующая корреспонденция из Нью-Йорка: «Специальный комитет ООН по осуществлению декларации о поедоставлении независимости колониальным странам и народам (Комитет 24-х) призвал Англию прекратить на островах Фиджи всякую дискриминацию в отношении коренного населения, создать в этой тихоокеанской колонии местное правительство с передачей ему всей полноты власти и назначить дату предоставления островам в ближайшее время независимости».
Сноски к стр. 457
10 «Лит. наследство», том 69, кн. 2, стр. 70—71. Толстой взялся за осуществление этого замысла лишь в 1909 г. В статье под названием «Номер газеты» он критически рассмотрел содержание одного из номеров петербургской либеральной газеты «Слово» (Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 273—278).
11 К слову «турнюры» Софья Андреевна в подготовлявшемся его новом издании «Писем гр. Л. Н. Толстого к жене» (издание в свет не вышло) сделала примечание: «Турнюры — коротенькие, из конского волоса, юбочки, которые надевались под платья, чтобы делать их сзади пышнее» (Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 510). Позднышев, громя уродливые моды светских женщин того времени, упоминает о «накладных задах» («Крейцерова соната», гл. VI).
12 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 509.
13 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 250.
Сноски к стр. 458
14 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 283. В 1924 г. Т. Л. Сухотина-Толстая говорила мне, что она с сестрой «через «темных» приблизилась к миросозерцанию отца». «Темными» в Ясной Поляне назывались неименитые, простого звания и происхождения последователи взглядов Толстого. Происхождение этого прозвища таково. Как-то вечером в Москве у С. А. Толстой была светская дама; Лев Николаевич не выходил из своего кабинета. Гостья спросила: «Где граф? Здоров ли он?» Софья Андреевна ответила, что он с кем-то занят. «С кем же?» — спросила гостья. «Я не знаю, — ответила Софья Андреевна, — какие-то темные люди».
Ради справедливости следует прибавить, что в том влиянии, которое Чертков оказывал на «женский персонал» Ясной Поляны, несомненно играла роль и внешняя привлекательность молодого красавца, бывшего кавалергарда, подлинного аристократа В. Г. Черткова.
15 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. — М. — Л., 1936, стр. 322. Предположение Софьи Андреевны, по-видимому, имело некоторые основания. Л. Е. Оболенский в своих воспоминаниях рассказывает следующий эпизод. В апреле 1885 г. он с Чертковым обедал в Ясной Поляне. «Толстой... все время обеда вел разговор, так сказать, a part со мной и с Чертковым, так как мы сидели по правую и левую его сторону. Этот разговор a part был обусловлен, однако, не его исключительной внимательностью к нам, а довольно неприятным для меня и Черткова разговором, который завела одна из дам, развивавшая ту мысль, что «некоторые люди наживают себе славу, пользуясь добротой Льва Николаевича и издавая бесплатно его произведения». Намек на склад «Посредник» был очень ясен, а тон говорившией дамы — несдержан и возбужден. Толстой ничего не возражал, делал вид, что не слышит, хотя говорившая дама си дела vis a vis с ним. И вот, чтобы казаться не слышащим, он постоянно поддерживал разговор с нами, обращаясь то к одному, то к другому» («Исторический вестник», 1902, № 4, стр. 87). Л. Е. Оболенский не прав, когда он пишет, что Толстой «делал вид, что не слышит»; правильнее бы ло бы сказать: старался переменить разговор.
Сноски к стр. 459
16 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 292—294.
17 Там же, стр. 283.
18 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 210.
Сноски к стр. 460
19 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 239—240.
20 Там же, стр. 245.
21 Там же, стр. 255.
22 Там же, стр. 273—274.
23 Там же, стр. 288.
Сноски к стр. 461
24 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 286.
25 Там же, стр. 287.
26 В Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 296, напечатано «прессов». Исправление сделано нами по письму Толстого к Черткову от 11 октября 1885 г. (Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 261).
27 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 296—297.
28 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 266.
29 Там же.
Сноски к стр. 462
30 Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну. — «Исторический вестник», 1886, № 3, стр. 529—544. В воспоминаниях И. М. Ивакина записано следующее наблюдение Толстого над разнообразием видов земледельческого труда: «Какая это славная вещь — крестьянская работа! Ни один мускул не остается без упражнения! Иное дело — пахать, иное — косить, молотить, подавать. Везде упражняются разные мускулы» («Записки И. М. Ивакина», стр. 69).
Сноски к стр. 463
31 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 258.
32 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
33 То есть после отъезда семьи Кузминских из Ясной Поляны в Петербург, состоявшегося 20 сентября.
34 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
35 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 296.
36 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 270.
Сноски к стр. 464
37 У П. И. Бирюкова («Биография Льва Николаевича Толстого», т. 3. М, 1922, стр. 23). Толстой сказал: «развитие милитаризма в царстве Николая I». Очень сомнительно, чтобы Толстой в данном случае ограничивал свою аллегорию временем Николая I.
Сноски к стр. 465
38 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 716.
Сноски к стр. 466
39 «Записки И. М. Ивакина», стр. 74.
40 П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. 3, стр. 23.
41 «Что читать народу?», т. 2. СПб., 1859, стр. 104.
42 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 290.
Сноски к стр. 467
43 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, стр. 325—327.
Сноски к стр. 468
44 «Анковский пирог» — выражение, бытовавшее в доме Берсов и Толстых и произведенное от фамилии знакомого Берсов — доктора Н. Б. Анке, знавшего рецепт какого-то необыкновенного пирога. Толстой называл «анковским пирогом» совокупность условий, обеспечивавших спокойную, безмятежную жизнь в довольстве и роскоши представителей буржуазного общества.
45 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 393.
46 «Записки И. М. Ивакина», стр. 76. Подобную же мысль о Страхове, высказанную не позднее 1881 года, находим в воспоминаниях В. И. Алексеева: «Страхов — как трухлявое дерево — ткнешь палкой, думаешь, будет упорка, ан, нет, она насквозь проходит, куда ни ткни — точно в нем нет середины; вся она изъедена наукой и философией» («Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 279).
47 Центр, гос. архив, г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2178, л. 5528.
Сноски к стр. 469
48 ЦГИА, ф. 807, оп. 2. д. 1749, л. 16 и об., 33 и об. Отзыв архим. Тихона о «Сказке об Иване-дураке» с небольшими неточностями перепечатан в Полном собрании сочинений, т. 25, стр. 717.
Сноски к стр. 470
49 Центр, гос. архив, г. Москвы, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 1112; ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2227, л. 106.
50 «Толстой-редактор». М., 1965, стр. 78.
51 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 283.
52 Там же, стр. 289.
Сноски к стр. 471
53 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 527.
54 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 283.
55 «Толстой-редактор». М., 1965, стр. 88—145, публ. З. Н. Ивановой. Ей же принадлежит и вступительная заметка к публикации (стр. 77—87)
Сноски к стр. 473
56 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 393.
57 Полное собрание сочинении, т. 83, стр. 527.
58 По-видимому, описка вместо «апреля».
Сноски к стр. 474
59 «Толстой-редактор», стр. 77; письмо хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
60 Том XXII, стр. 162, 179.
Сноски к стр. 475
61 Е. Н. Книжки для народа. — «Новости и биржевая газета», первое ежедн. изд., 16 июля 1885 г., № 193.
62 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 141.
63 «Женское образование», 1885, № 8, октябрь, стр. 549—550; подпись: Н. П-я-ъ (Н. И. Позняков).
Сноски к стр. 476
64 «Женское образование», 1885, № 10, стр. 680; подпись: Н. П-я-ъ (Н. И. Позняков).
65 «Русское дело», 1886, № 18, 23 августа, стр. 2.
Сноски к стр. 477
66 «Книжный вестник», 1886, № 15—16, 15 августа, стр. 704—707.
67 «Русский начальный учитель», 1886, № 3, стр. 147.
68 «Русский начальный учитель», 1886, № 8—9, стр. 415, 418—419; без подписи.
Сноски к стр. 478
69 «Народная школа», 1886, № 11, стр. 55—59; рецензия В. З.
70 «Воспитание и обучение», 1886, № 1, стр. 19—20; № 10, стр. 201—202; рецензии Е. Св. (Е. П. Свешниковой), сотрудницы «Посредника».
71 «Что читать народу?», т. 2, СПб., 1889, стр. 104.
72 «Русский вестник», 1901, № 3, стр. 137.
Сноски к стр. 479
73 Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 598—602.
74 «Лит. наследство», т. 69, кн. 1. М., 1961, стр. 257—266.
75 Там же, стр. 267—290.
76 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 17.
Сноски к стр. 480
77 Варианты к «Холстомеру». — Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 480.
78 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 53.
Сноски к стр. 481
79 София Стахович. Как писался «Холстомер». — «Летописи Гос. лит. музея», кн. 2. М., 1938, стр. 333.
80 «Записки И. М. Ивакина», стр. 64—65.
Сноски к стр. 482
81 София Стахович. Как писался «Холстомер», стр. 334. — В ЦГАЛИ хранится письмо графа А. Г. Орлова-Чесменского к управляющему его конным заводом от 17 сентября 1807 года, в котором в числе других хозяйственных сведений сообщается о лошади по кличке Холстомер («Летопись Гос. лит. музея», кн. 2, стр. 336).
82 Александр Стахович. Несколько слов о «Холстомере», рассказе графа Л. Н. Толстого. — «С.-Петербургские ведомости», 1903, № 278; то же. — «Литературный вестник», 1903, кн. 5, стр. 256.
Сноски к стр. 483
83 Взгляд на смерть, как на «разрешение всех цепей» (Баратынский), не был чужд Толстому. Он сам иногда в часы особенно обострявшегося семейного разлада переживал это настроение.
Сноски к стр. 484
84 Выражение взято из Евангелия от Матфея (гл. VIII, стихи 21 — 22): «...Другой же из учеников его сказал ему: «Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
85 В первоначальном тексте «Холстомера» оказалось несколько ошибок, искажающих смысл, которые, переходя из издания в издание, вошли и в Полное собрание сочинений (т. 26). Так, на стр. 27, строка 25, вместо «прижав» должно быть «признав» хозяина; на стр. 35, строка 20, вместо «странный» должно быть «страшный». На стр. 27, строка 8, ошибка данного издания: «больным кнутом» вместо «большим».
Сноски к стр. 485
86 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 267.
87 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 290.
Сноски к стр. 487
88 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 314—334.
Сноски к стр. 489
89 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 333—343.
Сноски к стр. 490
90 О Фрее см. В. Батуринский. «Гейнс В. К.» — «Русский Биографический словарь». Том «Гаач — Гербель». М., 1914, стр. 355—359; Н. В. Рейнгардт. Необыкновенная личность. Казань, 1889 (то же журнал «Наука и жизнь», 1905, февраль — апрель); С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. I. СПб., 1900, стр. 718—719; М. О. Гершензон. Вильям Фрей. — В кн. «Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 276—279; М. И. Перпер. Предисловие к публикации письма Л. Н. Толстого к Вильяму Фрею. — «Лит. наследство», т. 69, кн. 1. М., 1961, стр. 533—536. Подробная биография В. Фрея дана в книге: Avrahm Jarmolinsky. A russian’s american dream. The University of Kansas Press, Lawrence, 1965.
91 Письмо Фрея к Толстому от 5 сентября н. ст. 1885 г. — «Письма В. Фрея к Л. Н. Толстому». Женева, 1887, стр. 10.
92 Из письма Фрея к П. Л. Лаврову от 23 мая 1885 г. — «Лит. наследство», т. 69, кн. 1, стр. 534.
93 О жизни Фрея в Канзасской коммуне рассказывает В. И. Алексеев в своих «Воспоминаниях» («Летописи Гос. лит. музея», кн. 12. М., 1948, стр. 244—245).
Сноски к стр. 491
94 Предисловие к «Письмам В. Фрея к Л. Н. Толстому» (Женева, 1887, стр. 5).
Сноски к стр. 494
95 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 258.
Сноски к стр. 495
96 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 260.
97 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 512.
98 Фрей был убежденным вегетарианцем; он считал вегетарианство одной из «основ здоровой и моральной жизни». Толстой еще до встречи с Фреем склоняли к вегетарианству. В своем дневнике 15 августа 1885 г. И. М. Ивакин записывает: «Затем началась ругань по поводу вегетарианства Софья и Татьяна Андреевны упрекали Льва Николаевича за то, что он сбил всех девочек с толку, научил их не есть мяса — они едят уксус (!) с маслом, стали зеленые и худые... Лев Николаевич оправдывался. Он-де тут в сущности ни при чем; он только был рад пробуждению сознания, стремлению испытать лишение во имя убеждения; поступки-то по убеждению и составляют главное отличие человека от животного. Он не думал, что из-за этого может возникнуть такая неприятность... Дамы не скупились на выражения: слышалось sottes [глупые] по адресу девочек, дурак — по адресу самого Льва Николаевича, который посмеивался тихо в сторонке» («Записки И. М. Ивакина», стр. 73).
99 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 289.
100 Там же, стр. 296.
101 «Записки И. М. Ивакина», стр. 77.
102 Опубликовано в книге «Русские пропилеи», т. I, стр. 279—294.
Сноски к стр. 496
103 В 1904 году, составляя сборник избранных изречений в духе его мировоззрения, получивший название «Круг чтения», Толстой включил в него и данную «заповедь» Конта (Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 179).
Сноски к стр. 497
104 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 515.
105 Там же, стр. 513.
106 Намек на «Сказку об Иване-дураке».
Сноски к стр. 498
107 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 520.
108 Там же, стр. 521.
109 Там же, стр. 523.
110 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 269—270.
Сноски к стр. 500
111 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 524.
112 Там же, стр. 525—526.
Сноски к стр. 502
113 Когда Толстой в 1859—1862 гг открывал школы в деревнях близ Ясной Поляны, приглашенные им учителя (большею частью студенты) жили вместе с крестьянами в их избах. См. Н. Н. Гусев. Материалы к биографии Л. Н. Толстого с 1855 по 1869 год», стр. 343—362.
Сноски к стр. 503
114 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 348, 350, 351, 353, 354, 356, 360, 372—375.
115 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 70.
116 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 275.
Сноски к стр. 504
117 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
118 В 1900 г., разговаривая с молодым С. В. Рахманиновым и услышав от него, что его мучают сомнения в своем таланте, Толстой сказал: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие...» (Алексей Моров. Сергей Рахманинов. Легенды и правда. — «Нева», 1967, № 2, стр. 209).
Сноски к стр. 505
119 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 369, 373—374.
120 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 530; т. 63, стр. 299—301; т. 85, стр. 283.
121 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 300—301.
Сноски к стр. 506
122 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 299.
123 Там же, стр. 301.
124 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 536.
125 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 289.
Сноски к стр. 511
126 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 376—405.
Сноски к стр. 512
127 Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 406—411.
Сноски к стр. 513
128 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 275.
129 Там же, стр. 286—287.
130 «Записки И. М. Ивакина», стр. 76.
Сноски к стр. 514
131 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 307—308.
132 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 289.
Сноски к стр. 515
133 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 292.
134 Там же, стр. 292—293.
135 А. В. Астафьев. Лев Толстой и его современники. Ярославль, Верхне-Волжское книгоизд-во, 1966, стр. 49.
136 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 309.
Сноски к стр. 516
137 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 313—314.
138 Вера Сергеевна Толстая (1865—1923), племянница Толстого, дочь его брата Сергея Николаевича.
139 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 535—536.
140 Чертков приехал в Москву 25 ноября.
141 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 289.
Сноски к стр. 517
142 ЦГАЛИ, ф. 258, оп. 3, ед. хр. 141.
143 Письмо В. Фрея к Толстому от 25 декабря (очевидно, нового стиля) хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
144 Философия Конта в изложении Фрея («одного почтенного американского позитивиста») была также подвергнута критике в статье Л. Оболенского «Научные основания учения любви» («Русское богатство», 1886, № 1, стр. 1—27); в связи с этим Толстой 15—16 февраля 1886 г. писал Л. Е. Оболенскому: «...Ваша статья в первом номере «О любви» доставила мне большую радость, и я очень благодарю вас за нее» (Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 328).
Сноски к стр. 518
145 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 298.
Сноски к стр. 519
146 Первоначально Толстой написал конец этой фразы так: «вопросом жизни или смерти — повеситься или жить».
147 В. И. Алексеев.
Сноски к стр. 521
148 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 539—547.
Сноски к стр. 522
149 Журнал «Книжный вестник» напечатал два письма и передовую статью, посвященные условиям продажи нового собрания сочинений Толстого. В письме читателя к книгопродавцу, опубликованном журналом, говорилось: «С удивлением получил я ваш отказ выслать на мое требование XII часть сочинений графа Л. Н. Толстого. Вы отвечаете, что эта часть отдельно не продается, и навязываете мне полное собрание — все XII томов! Но у меня уже есть все остальные, я у вас же их приобрел. Ведь это знаете как называется? — Самой бессовестной спекуляцией!.. И вздумали же на чем эксплоатировать: на сочинениях Толстого — того Толстого, который вот уж третий год учит, что деньги зло и нет счастья в деньгах — какая наглая насмешка!» В передовой статье журнал писал, что «воля издательницы идет слишком вразрез с принципами, которыми освещена вся литературная деятельность графа Л. Н.», и что «мы ни минуты не сомневаемся, что автором будут приняты меры к справедливому удовлетворению интересов публики и к отклонению упреков и оскорблений, павших безвинно на книгопродавцев» («Книжный вестник», 15 июня 1886 г., № 11—12, стлб. 539—541, 550).
Сноски к стр. 523
150 Дочери Толстого — Татьяна и Мария.
Сноски к стр. 524
151 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 294—296.
Сноски к стр. 525
152 Далее до конца абзаца цит. по кн. В. А. Жданов. Любовь в жизни Льва Толстого, кн. 2. М., 1928, стр. 59.
153 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 297.
154 Там же, стр. 297—300.
Сноски к стр. 526
155 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 310.
156 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 548. На автографе письма Толстого помета Софьи Андреевны, сделанная впоследствии: «Не отданное и не посланное письмо Льва Николаевича к жене», — очевидно, ошибка памяти Софьи Андреевны.
157 С. А. Толстая. Письма Л. Н. Толстому, стр. 351.
Сноски к стр. 527
158 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 551—553
Сноски к стр. 528
159 Письмо Т. Л. Толстой публикуется впервые. Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
160 Козел отпущения (фр.).
Сноски к стр. 529
161 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 353—354.
162 В Полном собрании сочинений (т. 85, стр. 305) сказано, что письмо Софьи Андреевны от 23 декабря 1885 г. было обращено и к дочери и к самому Толстому. Это неверно: письмо Софьи Андреевны было обращено к одной Татьяне Львовне. Переписка Толстого с Софьей Андреевной за время его пребывания у Олсуфьевых ясно свидетельствует о том, что Татьяна Львовна не решилась показать ему письмо матери.
163 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 554—555.
164 И. Б. Файнерман (1863—1925) — в то время горячий последователь мировоззрения Толстого.
Сноски к стр. 530
165 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 355.
Сноски к стр. 531
166 Полное собрание единений, т. 85, стр. 303—304.
167 Там же, стр. 301—302.
Сноски к стр. 532
168 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 556.
169 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 306.
170 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 311—312 (с ошибкой в датировке).
Сноски к стр. 533
171 П. И. Бирюков, бывший в курсе работы Толстого над трактатом, считал данный экземпляр наиболее исправным по сравнению с другими рукописными копиями. С этого экземпляра трактат печатался в 1902 г. в издательстве «Свободное слово» под редакцией В. Г. Черткова, а также в 1912 г. под редакцией самого Бирюкова в «Полном собрании сочинений», Л. Н. Толстого в издании И. Д. Сытина.
172 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 324.
Сноски к стр. 534
173 Центр. гос. архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2177.
Сноски к стр. 535
174 Центр. гос. архив г. Москвы, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 129, л. 127—127 об. Публикуется впервые.
Сноски к стр. 536
175 Изготовление печатных оттисков с набора, покрытого краской, ударами металлической щетки по листу мокрой бумаги.
176 Центр. гос. архив г. Москвы, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 129, л. 128—128 об.
177 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 210.
178 Там же, стр. 229.
179 Там же, стр. 238.
Сноски к стр. 537
180 Полное собрание сочинений, т. 85, стр. 241.
Сноски к стр. 538
181 ЦГИА, ф. 776, оп. 20, д. 753, л. 56—58.
Сноски к стр. 539
182 Там же, л. 62.
183 Письмо Тургенева от 19 января 1876 г. к Салтыкову-Щедрину. «Первое собрание писем И. С. Тургенева». СПб., 1885, стр. 281.
Сноски к стр. 540
184 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 39—40.