1
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
*
Н. Н. ГУСЕВ
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ
———————
МАТЕРИАЛЫ
К БИОГРАФИИ
с 1870 по 1881 год
———————
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1963
2
Ответственный редактор
А. И. ШИФМАН
3
ОТ АВТОРА
«Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого с 1870 по 1881 год» являются непосредственным продолжением выпущенных мною в Издательстве Академии наук СССР книг «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» (1954) и «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год» (1958).
Как и в предыдущих томах, в этом томе автор исходил из убеждения, что творчество каждого писателя есть неотъемлемая часть его биографии, и из слов самого Толстого: «Писанье мое есть весь я». Поэтому автор ставил своей задачей не только подробное описание всех значительных фактов жизни Л. Н. Толстого, но и освещение основных моментов творческой истории его произведений, а также последовательное изложение эволюции его мировоззрения.
И в том и в другом случае необходимым материалом для автора являлись не только письма и дневники Толстого, но и мемуары о нем его современников и архивные материалы, а также и художественные произведения гениального писателя в той мере, в которой они включают в себя несомненные автобиографические данные.
4
5
Глава первая
Л. Н. ТОЛСТОЙ ПОСЛЕ «ВОЙНЫ И МИРА»
(1870—1872)
I
Еще не была закончена «Война и мир», как у Толстого явился замысел совершенно нового произведения: он задумал составить книгу для первоначального обучения.
В 1868 году Толстой заносит в записную книжку название своей будущей работы:
«Первая книга для чтения
и
Азбука
для семьи и школы с наставлением учителю
графа Л. Н. Толстого
1868 года»1.
Далее Толстым были записаны некоторые заметки к задуманной книге и набросаны рисунки для обучения детей азбуке, написаны некоторые наставления учителю и рассказ о мальчике Ване. Дальнейших записей к задуманной «Азбуке» нет. Но Толстой продолжал обдумывать план «составления книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки», как записала в своем дневнике С. А. Толстая 14 февраля 1870 года.
В октябре 1868 года Толстой расспрашивает посетившего его американского консула Евгения Скайлера о методах первоначального обучения, применяющихся в американских школах, и просит его прислать американские руководства для первоначального обучения2.
Зимою 1869/70 года Толстой, всегда восхищавшийся русскими народными былинами и сказками, начал изучать сборники Киреевского, Рыбникова, Афанасьева, Кирши Данилова для того, чтобы выбрать из них материалы для задуманной им книги первоначального обучения. «Сказки и былины приводили его в восторг», — записывает С. А. Толстая 14 февраля 1870 года.
6
Былина о Даниле Ловчанине навела его на мысль написать на эту тему драму. Содержание былины о Даниле Ловчанине действительно дает много материала для драмы. В былине ставится вопрос: «Можно ли от жива мужа жену отнять?», и согласно народной мудрости ответ дается отрицательный. В былине рассказывается, как князь Владимир посылает свою дружину убить богатыря и охотника Данилу Ловчанина и завладеть его женой. Но Данила Ловчанин решил не сдаваться княжеской дружине. Он убивает себя, а его жена, Настасья Микулишна, убивает себя на трупе мужа.
Изучение русских былин навело Толстого на мысль написать роман из современной жизни и придать героям этого романа черты характеров русских богатырей. Сохранились заметки, относящиеся к этому роману, в которых намечены главные особенности девяти русских богатырей, приведенные в связь с некоторыми условиями современной жизни. Имена этих богатырей следующие: Илья Муромец (на первом плане), Добрыня Никитич, Василий Буслаев, Алеша Попович, Михайло Потык, Иван Годинович, Данила Ловчанин, Чурила Пленкович, Дюк Степанович, Микулушка-мужик3.
О замысле романа, герой которого должен был быть наделен чертами характера Ильи Муромца, С. А. Толстая пишет в той же записи дневника: «Особенно ему [Льву Николаевичу] нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен».
Но оригинальный замысел Толстого наделить героев задуманного романа чертами характеров русских богатырей в связи с событиями современной жизни не получил осуществления.
«После чтения былин и сказок, — рассказывает далее С. А. Толстая в той же записи, — именно все это последнее время он перечитал бездну драматических произведений, и Мольера, и Шекспира, и Пушкина „Бориса Годунова“, которого не хвалит и не любит, и сам все собирается писать комедию. Он даже начал ее и рассказал мне довольно пустой сюжет. Но я знаю, что это несерьезная его работа. Он сам на днях сказал мне: „Нет, испытавши эпический род (т. е. „Войну и мир“), трудно и не стоит браться за драматический“. Но я вижу, что он только и думает о комедии и все свои силы направил на драматический род»4.
Следующую дневниковую запись от 15 февраля Софья Андреевна начинает высказываниями Толстого о драме. «Вчера
7
вечером, — пишет она, — много говорил Левочка о Шекспире и очень им восхищался, признает в нем огромный драматический талант. Про Гёте говорил, что он эстетик, изящен, пропорционален, но что драматического таланта у «его нет, что в этом он слаб, и все собирается поговорить с Фетом о Гёте, которым Фет так восхищается»5.
16 февраля Толстой пишет Фету: «...я ничего не пишу, но говорить о Шекспире, о Гёте и вообще о Драме очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще и, как это всегда случается с людьми, которые до сорока лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с сорокалетней ясностью обратят внимание на новый, ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового».
Далее Толстой сообщал, что когда он больной лежит в постели, лица задуманной им драмы или комедии «начинают действовать. И очень хорошо представляют»6.
О том, какими именно мыслями о драме и комедии хотелось Толстому поделиться с Фетом, узнаем из двух его записей, датированных 2 и 3 февраля 1870 года7.
Первая запись касается трагедии вообще. Толстой говорит, что трагедия «при психологическом развитии нашего времени страшно трудна». Поэтому такие вещи, как «Ифигения» и «Эгмонт» Гёте, «Генрих IV» и «Кориолан» Шекспира, «ни читать, ни давать их нет возможности». Это, по мнению Толстого, относится и к «Борису Годунову» Пушкина, являющемуся подражанием Шекспиру и написанному непоэтическим белым стихом.
Во второй записи Толстой, признавая образцовыми произведениями «Горе от ума» и «Ревизор», относит их к «самому мелкому, слабому роду» драматической литературы — сатирическому. Все же «остальное огромное поле — не сатиры, но поэзии — еще не тронуто».
II
Не позднее, чем с конца января 1870 года, Толстой начинает чтение работ по истории Петра I и его времени.
Надо думать, что чтение это возникло у Толстого только потому, что его интересовала столь важная в истории России
8
эпоха и личность самого Петра; но в то же время несомненно, что, знакомясь с историей Петра и его приближенных, Толстой искал в ней подходящий сюжет для драмы. Это видно из первой же записи Толстого, связанной с изучением времени правления Петра. «Меншиков, — записывает он 2 февраля 1870 года, — женит Петра II на дочери, его изгнание и смерть — драма»8.
15 февраля С. А. Толстая записывает, что Лев Николаевич сам позвал ее в кабинет, и она застала его за чтением «Истории царствовани Петра I» Н. Г. Устрялова; он говорил ей «много об русской истории и исторических лицах».
«Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют», — пишет далее С. А. Толстая. Лев Николаевич высказал свой взгляд на деятельность Петра, согласующийся с философской теорией «Войны и мира»: что Петр «был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с европейским миром». «О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков».
«В истории, — сообщает Софья Андреевна, — он ищет сюжета для драмы и записывает, что ему кажется хорошо. Сегодня он записал сюжетом историю Мировича, хотевшего освободить Иоанна Антоновича из крепости9. Вчера он сказал мне, что опять перестал думать о комедии, а думает о драме и все толкует: как много работы впереди!»10
20 февраля Толстой отправился к Фету в его имение Степановку, чтобы поделиться с ним своими мыслями о драме и комедии. В разговоре Фет почему-то высказал мнение, что Толстому не свойствен драматический род искусства. Он прочел Толстому свою новую повесть «Семейство Гольц», которой Толстой остался не вполне доволен. По возвращении в Ясную Поляну он 21 февраля писал Фету: «Вы... лишнее должны все
9
выкинуть и сделать изо всего, как Анненков говорит, „перло“. Добывайте золото просеванием. Просто сядьте и весь рассказ с начала перепишите, критикуя сами себя, и тогда дайте мне прочесть»11.
III
Толстой не написал ни драмы, ни комедии, но продолжительные размышления о драме и комедии и об искусстве вообще вызвали у него подъем художественного творчества.
23 февраля он сказал жене, что когда он «думает серьезно, тогда ему представляется не драматическое, а опять эпическое». И в тот же день вечером Толстой поделился с женою новым появившимся в его творческом сознании сюжетом. Это был сюжет будущей «Анны Карениной».
«Вчера вечером, — записывает Софья Андреевна 24 февраля, — он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. „Теперь мне все выяснилось“, — говорил он».
На другой день, 24 февраля, Толстой начал совершенно новое художественное произведение. «Наконец, после долгих колебаний, — записывает Софья Андреевна, — сегодня Л. приступил к работе...
Сейчас утром он написал своим частым почерком целый лист кругом. Действие начинается в монастыре, где большое стечение народа и лица, которые потом будут главными»12.
Это был первый набросок романа из времени Петра I13.
Действие происходит в Троице-Сергиевой лавре 7 сентября 1689 года. Схвачен и привезен в лавру главный «заводчик» заговора против Петра в пользу царевны Софьи, начальник Стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый и главный «зачинщик в стрельцах», стрелецкий урядник Обросим Петров. Бояре допрашивают на пытке и Шакловитого и Петрова.
Рисуя образ человека из народа, стрельца Обросима Петрова, Толстой так же любуется им, как раньше любовался многочисленными
10
образами людей из народа в других своих произведениях.
Когда Обросима привели в застенок и стали допрашивать, «еще прежде, чем разобрали и поняли бояре, и дьяки, и палачи, и Федор Леонтьевич, что он говорил, все уже верили ему и слушали его так, как в застенке слышался только его звучный, извивающийся, певучий и ласковый голос». Во время пытки, когда выламывали ему руки и кнутом полосовали спину, Обросим не издал ни одного стона и только повторял то же самое, что показал раньше. Когда его после пытки сняли с дыбы, «лицо его было тож. Так же расходились мягкие волной волоса по обеим сторонам лба, та же как бы кроткая, спокойная улыбка была на губах, только лицо было серо-бледное, и глаза блестели более прежнего».
Обросим признался во всем, в то время как Шакловитый, напротив, «вилял» и старался скрыть свое участие в заговоре.
Отрывок кончается сценой в комнате Петра, который столярничает под руководством Лефорта. По молодости он еще очень плохо разбирается в государственных делах. К нему входит князь Борис Голицын, просит за Василия Васильевича Голицына; тут же врывается дядька царя Нарышкин. Происходит резкая перебранка между «ближними боярами».
Весь отрывок написан очень живо и переносит читателя в русскую жизнь конца XVII столетия. Этот вариант был одним из самых многообещающих и интересных из всех написанных Толстым вариантов начал романа о Петре I и его времени, но продолжения он не получил.
IV
Отправившись в Пензенскую губернию осматривать продающееся имение, Толстой 4 сентября 1869 года с чувством удовлетворения писал жене, что мыслей не только о романе, но и «о философии» «совсем нет».
Но это отдохновение от размышлений над философскими вопросами было только временным. Толстой не мог перестать отыскивать разрешение волновавших его основных вопросов человеческой жизни. Его записные книжки 1870 года содержат целый ряд мыслей философского содержания.
Толстой разделяет всех философов на две категории. К первой он относит Платона, Декарта, Спинозу, Канта. Это — «большие мыслители», «труженики независимые, страшные по своей оторванности и глубине». Ко второй категории относятся философы «периода упадка»: Фихте, Шеллинг, Гегель. Эти философы способствовали понижению уровня философской мысли. Теперь явился Шопенгауэр, который был «необходим для того,
11
чтобы дать понятие о свойствах забытого нами настоящего мышления»14.
Толстой вполне принимает теорию познания Канта и Шопенгауэра. «Мир разумный есть наше представление», — записывает он 21 июля 1870 года. — «Величина пространства, времени и последовательность, потому большая или меньшая сложность, разумность, суть только наши представления». «Для мыслящего человека это не может не быть непреложной истиной»15. «Естественники решают философские метафизические задачи, а если бы они прочли Канта, вся работа их не имела бы места»16.
Но Толстой считает недостатком всей новой философии, начиная с Декарта, то, что эти философы признают одно только «сознание себя, индивидуума (так называемого субъекта)», тогда как «сознание всего мира, так называемого объекта, так же несомненно».
Человек может сознавать себя «как человека, индивидуума», но может сознавать себя и «не индивидуально», как и весь мир. «Из этого строится всё». «Человек сознает больше или меньше всё или я, смотря по возрасту»17.
Рождаясь, утверждает Толстой, человек индивидуализируется, то есть «получает способность видеть все индивидуально». Рождение есть переход «из жизни общей к заблуждению индивидуальности». В процессе жизни человек все больше и больше «стирает свою индивидуальность и перестает быть один и сливается со всем». Смерть же, иногда медленная, в виде старости, есть прекращение индивидуального бытия, избавление «от заблуждения, через которое все видишь индивидуально».
Только в средний период, когда человек чувствует себя «во всей силе жизни», он может «видеть и свое заблуждение индивидуальности и сознавать истину всеобщей жизни»18.
Эти мысли Толстого напоминают рассуждения Шопенгауэра о том же предмете.
Вопрос о значении разума в человеческой жизни продолжал волновать Толстого. Он решает его так же, как решал в философских главах «Войны и мира»: «Все, что разумно, то бессильно. Все, что безумно, то творческо производительно».
В пояснение этих положений Толстой говорит:
«Возьмитесь разумом за религию, за христианство — и ничего не останется, останется разум, а религия выскользнет с своими неразумными противоречиями. То же с любовью, с поэзией, с историей»19. То есть: любовь пропадет, если начать
12
подходить к любому человеку с критикой его недостатков; поэзия исчезнет, если поэт будет писать только то, что он понимает разумом; обаяние исторических лиц и исторических событий уничтожится, если историк будет описывать их, сообразуясь только со строгой исторической правдой.
Все это Толстой записал 26 марта 1870 года. Но уже 11 апреля он записывает совершенно противоположные суждения по тому же вопросу.
Запись этого числа посвящена выяснению значения философии Шопенгауэра. Шопенгауэр, по мнению Толстого, необходим для того, чтобы «разбить erreurs [заблуждения] мнимого защитника божества, которые разбивает всякий искренний мальчик». Но не для одного этого. Толстой сравнивает Шопенгауэра со сказочным богатырем Ерусланом Лазаревичем, про которого в былинах поется, что схватит он кого за руку — рука прочь, схватит за ногу — нога прочь. Таков, по мнению Толстого, и Шопенгауэр в области философии. «Никто более, как он, не приводит к Nichts’y, к Еруслану Лазаревичу... Бог, поэзия — всё прочь».
Здесь Толстой вопреки тому, что он писал в вышеприведенной записи 26 марта, вполне признает право разума на критику традиционных понятий в области религии и искусства. Такая критика и даже разрушение ложных установившихся представлений кажутся ему необходимыми. Этим Толстой уже отказывается от высказанного им ранее положения о бессилии и творческой непроизводительности разума. Только что Толстой писал, что не следует дотрагиваться разумом до положений религии, что от этого прикосновения религия обратится в ничто; теперь он, напротив, считает, что критика религиозных суеверий необходима. Теперь он и сам уже не может не критиковать отдельных догматов церкви. Под 30 декабря 1870 года в его записной книжке находим такую запись: «Чем безумнее занятие, которым занимаются люди, тем важнее лицо, которое они при этом делают. Евхаристия»20.
Увлечение философией Шопенгауэра продолжалось у Толстого и в последующие годы. В начале 1872 года в разговоре с секретарем редакции журнала «Беседа» Н. В. Лысцевым Толстой рассказал, что «в настоящее время его занимает философия, что он проштудировал всего Огюста Конта21, которого ставит
13
вообще высоко, но что этот мыслитель не удовлетворяет его, что ему больше по душе Шопенгауэр, которого он теперь и изучает». «Заметив, вероятно, мое равнодушие к метафизической философии, — рассказывает далее Н. В. Лысцев, — Лев Николаевич за два дня моего житья под его кровлей нередко удостаивал меня своей беседой все о том же Шопенгауэре, стараясь возбудить во мне интерес к философии вообще и к названному мыслителю в особенности. Он даже подарил мне одну из его наиболее популярных книг — „О воле в природе“»22.
V
Говоря о миросозерцании Толстого начала 1870-х годов, невозможно обойти молчанием его письмо к Н. Н. Страхову, написанное по поводу статьи Страхова «Женский вопрос»23. Толстой, радовавшийся статьям Страхова о «Войне и мире», был расположен внимательно отнестись и к другим его статьям.
Основные положения статьи Страхова сводились к следующему.
Существует разница между душевным миром женщины и душевным миром мужчины. «Нам одинаково противны и женоподобный мужчина и мужеподобная женщина». Это — «извращение природы». «Женщина по красоте, по прелести душевной и телесной есть первое существо в мире, венец создания. Но благородство и прелесть женской натуры принадлежат ей только на том условии, чтобы она не изменяла себе». Поэтому «главною целью нашею должно быть охранение женской натуры во всей ее чистоте, развитие тех качеств, которые она может иметь, и устранение тех недостатков, которые ей свойственны». Так называемый «женский вопрос» не вытекает из женских потребностей и не есть дело самих женщин: «женский вопрос выдуман мужчинами, и женщины схватились за него, как они хватаются за все, чем надеются привлечь внимание мужчин». «История вовсе не представляет нам примеров стремления женщин к политическим правам; это стремление выдумано современными мужчинами». Призвание женщины — брак и семья; идеал женщины — жена и мать. «Отношения между полами, эти таинственные и многозначительные отношения — источник величайшего счастья и величайших страданий, воплощение всякой прелести и всякой гнусности, настоящий узел жизни, от которого существенно зависит ее красота и ее безобразие». «Для общественных дел требуется женщина бесполая, т. е. или такая, которая не имеет пола от рождения, или такая, которая перешла уже за пределы полового возраста». «Развитие женского вопроса
14
стремится к распространению бесполости между женщинами». В этом нет ничего хорошего; это — «крайняя уродливость, о которой невозможно говорить без отвращения». «Общество должно свято хранить женский идеал и давать всякий простор его раскрытию и осуществлению. Но это делается не столько законами и правами, сколько тем духом, в котором заключается внутренняя сила общества. Что же касается до прав и привилегий, то нельзя не пожелать от души, чтобы женщинам были открыты всевозможные поприща. Это нужно на случай несчастия, на случай неудачи в жизненном пути, когда женщине нужен какой-нибудь исход из бедственного положения. На случай крайности, в виде исключения, в виде неизбежного зла — можно женщинам вступать на неженские поприща. Но видеть в этом что-либо желательное и всячески толкать женщин на несвойственные им пути было бы нелепо и вредно».
В письме от 19 марта 1870 года24 Толстой сообщал Страхову, что он «обеими руками» подписывается под всеми его основными положениями, кроме одного. По мнению Толстого, «бесполых женщин» «нет, как нет четвероногих людей. Отрожавшая женщина и не нашедшая мужа женщина — все-таки женщина», и такая женщина найдет свое дело в своей или чужой семье — как повивальная бабка, нянька или экономка.
Нельзя не заметить, что, объясняемое культом семьи и материнства, которым тогда был проникнут Толстой, такое теоретическое решение женского вопроса не соответствовало другим его суждениям на ту же тему. Здесь оказывалось совершенно обойденной педагогическая деятельность женщин, которая не могла не интересовать Толстого. В письме от 7 августа 1862 года к деятелю по народному образованию С. А. Рачинскому Толстой просил его написать «о жизни и развитии» народной школы, в которой занималась сестра Рачинского, прибавляя при этом: «Оттенок школы под женской рукой очень интересен»25. Позднее, в 1866 году, четвероюродная сестра Толстого, бывшая фрейлина, княжна Елена Сергеевна Горчакова, не вышедшая замуж, выдержала экзамен в университет и заняла должность начальницы 3-й московской гимназии, о чем Толстой с полным сочувствием, хотя и с некоторым удивлением, известил тетушку Ергольскую. В следующем году Толстой просил П. И. Бартенева послать Е. С. Горчаковой отпечатанные листы томов «Войны и мира». Забыл Толстой и о работе на войне сестер милосердия, о которой он с таким восхищением писал в «Севастополе в мае».
Далее в том же письме к Страхову Толстой, смотря «на то, что есть», и стараясь «понять, для чего оно есть», в духе признания целесообразности всего существующего, пытается, опять в
15
интересах сохранения семьи, оправдать существование проституции. По мнению Толстого, «только земледелец, никогда не отлучающийся от дома, может, женившись молодым, оставаться верным своей жене и она ему; но в усложненных формах жизни... это невозможно (в массе, разумеется)». Не только в больших городах, но и в малых городах и в больших селах, существующих согласно «тем законам, которые управляют миром», неизбежно появляется проституция. Свободная перемена жен и мужей «не входит в цели провидения», потому что этим разрушается семья, и потому «по закону экономии сил» произошло «появление магдалин, соразмерное усложнению жизни». «Представьте себе Лондон без своих 80 тысяч магдалин. Что бы сталось с семьями? Много ли бы удержалось жен, дочерей чистыми?» «Мне кажется, — повторяет Толстой в заключение этой части своего письма, — что этот класс женщин необходим для семьи, при теперешних усложненных формах жизни».
Толстой вычитал эту мысль у Шопенгауэра, который, считая моногамию мужчин явлением неестественным, утверждал, что при системе моногамии «число замужних женщин сокращается и остается множество неустроенных женщин, которые в высших классах влачат существование бесполезных старых дев, а в низших принуждены заниматься чрезмерно тяжелой работой или становятся женщинами легкого поведения, которые, однако, при таком положении необходимы для удовлетворения мужского пола; они являются признанным сословием, социальная задача которого — сохранение от разврата тех женщин, которым судьба благоприятствовала найти себе мужа или которые надеются найти его. В одном Лондоне их насчитывается 80 тысяч»26.
Но это согласие с взглядами Шопенгауэра по данному вопросу продержалось у Толстого недолго. Уже в первой части «Анны Карениной» Левин за обедом в ресторане говорит Облонскому, что он не признает «погибших милых созданий» и что для него все женщины разделяются на две категории: женщины и стервы.
Но и в то самое время, когда данное письмо к Страхову было написано, Толстой, очевидно, усомнился в правоте выраженных в нем взглядов. Это видно из того, что письмо не было отправлено по назначению и осталось в архиве Толстого.
Остальная часть его письма к Страхову не могла вызвать колебаний в Толстом. Долли в «Анне Карениной» за обедом у Облонских высказывает те же мысли о женском труде, какие выражены в письме Толстого. На вопрос Облонского, «что же делать девушке, у которой нет семьи», Долли, понимая, что ее муж имел в виду артистку Чибисову, которая ему нравилась,
16
«с раздражительностью» отвечала: «Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью, или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело»27.
Однако в споре о женском вопросе на обеде у Облонского Кити стоит за предоставление женщинам свободы образования, «потому что она не раз думывала, что с ней будет, если она не выйдет замуж. И ей приятна была мысль, что если она не выйдет замуж, то она устроит все-таки хорошо и независимо свою жизнь». В окончательную редакцию романа эти размышления Кити не вошли. В другой черновой редакции той же главы на слова Левина, настаивавшего на том, что всякая женщина найдет себе женское дело в семье, Кити возражает: «Нет, очень может быть, что она так поставлена, что не может без униженья войти в семью, и неужели ей выйти за первого замуж?» Левин соглашается с Кити и даже говорит: «О да, чем самостоятельнее женщина, тем лучше»28.
VI
Историческое чтение продолжалось в марте — апреле 1870 года.
Толстой читает тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, посвященные царствованию Петра I, и делает ряд записей на исторические темы в записной книжке. 2 апреля он записывает, что в споре славянофилов с западниками, «как во всяком споре», правы обе стороны. «Петр, т. е. время Петра, — пишет Толстой, — сделало великое, необходимое дело» — открыло «путь к орудиям европейской цивилизации». Но не следовало перенимать направление этой цивилизации, а следовало, взяв ее «орудия», воспользоваться ими «для развития своей цивилизации. Это и делает народ. Во времена Петра сила и истина были на стороне преобразователей, а защитники старины были пена, мираж». Но «после Екатерины» роли переменились: «защитники русского — истина и сила, а западники — пена старого, бывшего движения»29.
Затем Толстой обратился к предшествовавшим томам «Истории» Соловьева, посвященным древней истории России. Чтение это навело его на ряд мыслей относительно древней русской истории. Он увидал, что Соловьев все свое внимание обращает на действия, распоряжения, войны правителей и никакого внимания не уделяет жизни народа. Об этом Толстой 4 апреля 1870 года сделал следующую замечательную запись:
«Всё, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье
17
ничего сделать. Правительство стало исправлять. — И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.
Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?
Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю.
Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что́ грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше?»
Вслед за этим Толстой высказывает свое мнение о роли правительств в жизни народной, — мнение, выведенное в споре с той же «Историей России» Соловьева:
«Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражущихся. И это правители — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого»30.
Толстой остался недоволен «Историей России» Соловьева, как и другими ранее прочитанными им историческими работами, и со стороны метода изложения исторических событий, и со стороны языка. 5 апреля он заносит в записную книжку свои размышления о современном состоянии науки истории.
«История, — говорит Толстой, — хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не только народа, но человека из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве нужно много и много написать, чтобы вполне мы поняли одного человека».
Между тем положение историков таково, что у них «не только подробностей всех о человеке нет, но из миллионов людей об одном есть несколько недостоверных строчек, и то противуречивых». Историкам «остается одно: в необъятной, неизмеримой скале явлений прошедшей жизни не останавливаться ни на
18
чем, а от тех редких, на необъятном пространстве отстоящих друг от друга памятниках-вехах протягивать искусственным, ничего не выражающим языком воздушные, воображаемые линии, не прерывающиеся и на вехах».
«На это дело тоже нужно искусство», — иронически замечает Толстой. Но вот в чем состоит пока это искусство: «в употреблении бесцветного языка и в сглаживании тех различий, которые существуют между живыми памятниками и своими вымыслами. Надо уничтожить живость редких памятников, доведя их до безличности своих предположений. Чтобы всё было ровно и гладко и чтобы никто не заметил, что под этой гладью ничего нет».
«Что делать истории?» — спрашивает Толстой и отвечает:
«Быть добросовестной. Браться описывать то, что она может описать, и то, что она знает, — знает посредством искусства. Ибо история, долженствующая говорить необъятное, есть высшее искусство».
К истории-искусству Толстой предъявляет такие требования:
«Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история-искусство не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство, как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке»31.
VII
Все лето 1870 года Толстой ничего не пишет, но много работает и в поле и в саду.
26 апреля С. А. Толстая писала М. П. Фет: «Левочка целые дни с лопатами чистит сад, выдергивая крапиву и репейник, устраивает клумбы»32.
11 мая, получив от Фета письмо с текстом его нового стихотворения «Майская ночь», Толстой свой ответ Фету начал такими словами: «Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно за тысячу верст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела»33.
Здесь Толстой, несмотря на то, что сам чувствует себя «за тысячу верст от всего искусственного», все-таки называет поэзию «нашим делом». Не то читаем мы в следующем письме к Фету, написанном через месяц, в середине июня: «Я, благодарю бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу
19
и о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах34, слава богу, не думаю»35.
Письмо свое к севастопольскому товарищу С. С. Урусову, написанное около того же времени, Толстой начал словами: «Я виноват, что не отвечал вам, любезный друг. Произошло это оттого, что я с утра до вечера работаю — руками — и ничего не думаю и не помню». Далее Толстой сообщал: «Я теперь вот уже шестой день кошу траву с мужиками по целым дням и не могу вам описать — не удовольствие, но счастье, которое я при этом испытываю»36.
В 1870—1872 годах Толстой выписывал только журнал «Revue des deux mondes», но не выписывал ни одной русской газеты и ни одного журнала. Журнал «Заря», где были напечатаны восторженные статьи Страхова о «Войне и мире», присылался редакцией бесплатно. Ф. Ф. Рис, в типографии которого печаталась «Война и мир», присылал бесплатно газету «Moskauer deutsche Zeitung».
Лишь самые крупные события общественно-политической жизни Европы привлекали внимание Толстого. Таким событием была франко-прусская война 1870 года.
Симпатизируя французскому народу, Толстой желал победы французам и даже был в ней уверен. Об этом писал Тургеневу И. П. Борисов (письмо неизвестно), и Тургенев в ответном письме от 24 августа 1870 года писал Борисову, что он совершенно понимает, почему Толстой держит сторону французов: «Французская фраза ему противна, но он еще более ненавидит рассудительность, систему, науку, одним словом — немцев»37.
Ошибочность прогноза Толстого в данном случае вызывалась тем, что, мало интересуясь течением общественно-политической жизни европейских государств, он не имел вполне ясного представления ни об усилении германского милитаризма, ни о полном моральном разложении правительства Наполеона III.
Николай Левин в черновой редакции «Анны Карениной» возмущается (и Толстой с ним явно согласен) огромной контрибуцией,
20
наложенной Германией на Францию после победы. «Ограбить одного нельзя, а целый народ, как немцы французов, можно», — с возмущением говорил Николай Левин38.
В том же романе старый князь Щербацкий, выражающий мнения автора, передавая свои впечатления от поездки по Германии, с ядовитой иронией говорит о росте среди немцев после войны 1870 года шовинистических настроений. «Все они довольны, — говорит князь, — как медные гроши; всех победили».
Интересовался Толстой и революционным движением во Франции в 1871 году — Парижской Коммуной, что видно из упоминания Левина о Парижской Коммуне в споре с Катавасовым о добровольческом движении в пользу восставших сербов39.
Толстой продолжал постоянную переписку с теми немногими лицами, с какими он вел ее и в предыдущие годы. Это были: А. А. Толстая, А. А. Фет, брат Сергей Николаевич, Т. А. и А. М. Кузминские. С 1869 года к этим лицам присоединился еще севастопольский товарищ Толстого С. С. Урусов, а с 1870 года — Н. Н. Страхов.
С Фетом Толстой продолжал переписку по вопросам литературным и философским, иногда и хозяйственным. Он рассказывал Фету о своих работах и высказывал свои мнения о различных литературных произведениях. Фет присылал ему на суд свои последние стихи.
Толстой внимательно вчитывался в каждую строчку новых стихотворений Фета и в письмах к нему откровенно высказывался как о достоинствах, так и о недостатках его стихов. Так, относительно стихотворения «Майская ночь» Толстой писал Фету 11 мая 1870 года: «Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно»40.
Это письмо Толстого Фет напечатал в своих воспоминаниях.
Иной отзыв вызвало со стороны Толстого написанное в том же году стихотворение Фета «После бури», о котором он писал автору 1 декабря 1870 года:
«Стихотворение, которое вы мне прислали, одно из прекрасных; но последняя строфа, прекрасная по мысли, не готова. «Утлый челн» и «паруса» несогласно41. Я уверен, что вы уж перелили эту строфу»42.
21
Но Фет не любил возвращаться к своим прежним стихотворениям. Забракованную Толстым строфу он не «перелил», и письмо Толстого в своих воспоминаниях не напечатал.
В последних числах июля 1870 года Толстой вновь ездил на короткое время к Фету. Фет в то время состоял мировым судьей третьего участка Мценского округа, и Толстой из любопытства пошел на судебное заседание, которое проводил Фет. В числе дел, разобранных Фетом, было дело по жалобе дьячка Белозерского на крестьянина Сильвестра Исаева, обещавшего проработать у него до 15 ноября, но ушедшего 19 июля. Фету удалось склонить тяжущихся к мировой сделке. Белозерский сделку подписал, а Исаев был неграмотный, и в протоколе, написанном рукою Фета, появилась подпись: «За Сильвестра граф Толстой»43.
VIII
Только 2 октября 1870 года Толстой счел возможным написать Фету:
«Я охочусь, но уж сок начинает капать, и я подставляю сосуды. Скверный ли, хороший ли сок — все равно, а весело выпускать его по длинным чудесным осенним и зимним вечерам»44.
Толстой вернулся к роману о Петре I и его времени, но ему были еще очень неясны и сюжет и характеры действующих лиц начатого романа. 17 ноября он пишет Фету:
«Из вашего письма я вижу, что вы бодры и весело деятельны. И я вам завидую. Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать мильоны возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1 000 000, ужасно трудно. И этим я занят»45.
О том же писал Толстой и Н. Н. Страхову 25 ноября:
«У меня... нет ничего, над чем бы я работал. Я нахожусь в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и вместе с тем упорной внутренней работы. Может быть, это состояние предшествует периоду счастливого самоуверенного труда, подобного
22
тому, который я недавно пережил, а может быть, я никогда больше не напишу ничего»46.
Нет никаких данных в пользу того, чтобы полагать, что в зиму 1870/71 года Толстой приступил к продолжению работы над романом о времени Петра I.
Это творческое бездействие было для него тем более мучительно, что «лучшим счастьем» он считал «успех и довольство в труде»47.
«Все это время бездействия, — записывает в своем дневнике С. А. Толстая 9 декабря 1870 года, — по-моему — умственного отдыха — его очень мучило. Он говорил, что ему совестно его праздности не только передо мной, но и перед людьми [т. е. перед прислугой] и перед всеми».
В тот же день С. А. Толстая отмечает в своем дневнике, что Лев Николаевич начал что-то писать «серьезно». В таких выражениях передает она содержание начатого произведения:
«...Замысел о гениально умном человеке, гордом, хотящем учить других, искренно желающем приносить пользу, и потом, после несколького времени путешествия по России, столкновения с людьми простыми, истинно приносящими существенную пользу, после разной борьбы приходящему к заключению, что его желание приносить пользу, как он это понимал, бесплодно, и потом переход к спокойствию ума и гордости, к пониманию простой, существенной жизни, и тогда — смерть. Я по крайней мере так поняла то, что он мне нынче говорил и растолковывал».
Из этого неясного изложения содержания начатой Толстым новой повести все-таки можно заключить, что замысел повести, по-видимому, состоял в том, чтобы изобразить интеллигентного человека, усомнившегося в полезности приобретенных им знаний и обратившегося к народу, «к пониманию» его «простой, существенной жизни».
Идея близкого общения с народом должна была, по-видимому, составить содержание также и начатого около того же времени и также оставшегося незаконченным рассказа, начинающегося словами: «Все, что можно было ему сделать, было сделано».
Содержание рассказа: помещик Желябовский убивает свою неверную жену и сам заявляет об этом в полицию. Он арестован. Ему мучительно тяжело. До убийства ему казалось, что надо что-то сделать, «чтобы утолить свое беспокойство». Но и после убийства «то, от чего он искал успокоения, делая все то, что он делал, все точно тем же тяжелым, выжимающим из него жизнь камнем лежало на нем и давило его». Он не спал две ночи. На вторую ночь он с помощью камердинера воспользовался
23
тем, что сторожа были пьяны, и бежал из-под ареста. Камердинер его сопровождал. Всю ночь они шли, а к утру вошли в рожь и проспали весь день. Вечером он пошел к реке, где стояли повозки и было много народа, ожидающего переправы, разделся и вошел в воду, — вероятно с целью симуляции самоубийства.
На этом рассказ прерывается48. Очевидно, бывший помещик, освободившись от собственности и от почетного положения, с нею связанного, по замыслу автора, нашел бы успокоение в том, чтобы раствориться в гуще народной жизни.
Новым вариантом на ту же тему явился начатый позднее и в ином стиле рассказ «Степан Семеныч Прозоров».
IX
В начале декабря 1870 года Толстой начал усердно изучать древнегреческий язык. Жена его записала в дневнике 9 декабря, что изучать греческий язык он начал «вдруг». В приведенном ниже письме к Фету конца декабря Толстой писал, что «бог наслал» на него «эту дурь». П. И. Бирюков предполагал, что «поводом к этому увлечению были его [Толстого] занятия с его старшим сыном, которого он сам хотел готовить к гимназическому экзамену»49, но сам С. Л. Толстой считал такое предположение невероятным.
9 декабря, как отмечено в дневнике С. А. Толстой, в Ясную Поляну приехал приглашенный из Тулы семинарист, у которого Толстой начал брать уроки грамматики греческого языка. Взяв несколько уроков, Толстой прямо приступил к чтению греческих классиков. В конце декабря он писал Фету:
«Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал потому, что с утра до ночи учусь по-гречески... Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения.
Жду с нетерпением случая показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые хоть и знают, не понимают), в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану. И виноват, и ей-богу никогда не буду.
24
Ради бога объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фоссы50 и Жуковские51 поют каким-то медово-паточным горловым, подлым и подлизывающимся голосом, а тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать.
Можете торжествовать: без знания греческого нет образования. Но какое знание? Как его приобретать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные, как день, доводы»52.
Раньше Толстой так не думал. В статье «Воспитание и образование», написанной в 1862 году, он писал: «Не признаю столь же таинственного, никем не объясненного образовательного влияния классического воспитания, о котором не считают уже нужным спорить»53.
В январе, феврале и марте 1871 года увлечение чтением греческих авторов продолжалось. «Живу весь в Афинах, — писал Толстой Фету 6 февраля. — По ночам во сне говорю по-гречески»54.
С. А. Толстая 27 марта 1871 года записала:
«С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь то Платона, то «Одиссею» и «Илиаду», которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем55, перевод которого он находит очень хорошим и добросовестным. Успехи его по греческому языку, как кажется по всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими.
Иногда, проверяя его перевод, я замечаю в двух-трех страницах едва ли два-три слова и иногда непонятый оборот речи»56.
25
В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр «Одиссеи» на греческом языке в издании 1830 года со сделанными на полях пометами Толстого о значении отдельных греческих слов.
Впоследствии Толстой писал, что чтение «Анабазиса» Ксенофонта, а также «Одиссеи» и «Илиады» в греческом подлиннике произвело на него «очень большое» впечатление57. «Анабазис» он называл «прелестным» произведением, вспоминая, что читал его «с наслаждением»58.
Всю зиму 1870/71 года Толстой ничего не писал.
«Писать ему хочется, и часто говорит об этом, — записывает Софья Андреевна 27 марта 1871 года. — Мечтает, главное, о произведении столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство... Я не могу объяснить, хотя понимаю ясно, в каком роде его задуманное произведение. Он говорит, что «не трудно написать что-нибудь, а трудно не написать». То есть удержаться от лишнего пустословия, от которого почти никто никогда не удерживается.
Мечтает написать из древней русской жизни. Читает Четьи-Минеи, жития святых и говорит, что это наша русская настоящая поэзия»59.
X
С декабря 1870 года Толстой начал прихварывать. Недомогание все усиливалось и продолжалось всю зиму и весну 1871 года. В письме к брату в конце января этого года Толстой в таких словах рассказывал о своей болезни: «Род лихорадки и боль зубов и коленки. Страшная ревматическая боль, не дающая спать»60.
К началу лета нездоровье так усилилось, что Толстой начал думать даже о приближении смерти. 9 июня он писал Фету: «Не писал вам давно и не был у вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как называть конец. Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет»61.
Последние слова в этом письме (о том, что нет спокойствия) указывают на то, что кроме физической болезни были еще и нравственные причины недомогания. Дневники и Толстого и его жены с несомненностью указывают на то, что такие нравственные причины действительно существовали.
В дневнике 26 мая 1884 года Толстой после упоминания об «отсутствии любимой и любящей жены» записал: «Началось с
26
той поры, четырнадцать лет, как лопнула струна, и я сознал свое одиночество»62.
С. А. Толстая в записи дневника от 18 августа 1871 года писала: «...Что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас... С прошлой зимы, когда и Левочка и я мы были оба так больны, что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье и жизнь, которая была»63.
Болезнь Софьи Андреевны, о которой она упоминает в этой записи, была связана с рождением 12 февраля 1871 года второй дочери Марии. Ко времени, близкому к этому событию, и следует отнести разлад в семейной жизни, отмеченный в дневниках и Толстого и его жены.
Мы не располагаем несомненными данными относительно причин семейного разлада, который отмечен Толстым в приведенной выше дневниковой записи. Некоторый свет на этот эпизод проливает рассказ П. И. Бирюкова В. Г. Черткову в 1912 году, записанный мною дословно. П. И. Бирюков в то время гостил у В. Г. Черткова в Телятинках, и Чертков задал ему вопрос, не знает ли он что-либо о семейном разладе, записанном Толстым в дневнике 1884 года и относящемся приблизительно к 1870 году. П. И. Бирюков рассказал:
«Приблизительно в 1906 году я для своей биографической работы расспрашивал Льва Николаевича, в Ясной Поляне, за круглым столом, о некоторых событиях его жизни. Мы остались одни в зале. Я между прочим спросил его, с какой целью он в первый раз посетил Оптину Пустынь. Лев Николаевич ответил мне приблизительно следующее: „Мне хотелось побеседовать с тогдашним старцем Амвросием, о нравственных качествах которого я был высокого мнения. У меня на душе лежало большое сомнение, поводом которого было расстройство семейных отношений. Жена после тяжелой болезни, под влиянием советов докторов, отказалась иметь детей. Это обстоятельство так тяжело на меня подействовало, так перевернуло все мое понятие о семейной жизни, что я долго не мог решить, в каком виде она должна была продолжаться. Я ставил себе даже вопрос о разводе. И вот, за разрешением этого-то сомнения я и решился обратиться к старцу Амвросию. Но, как и во всех моих сношениях с Оптиной Пустынью, и тут меня постигло полное разочарование. Старец как-то мало обратил внимания на важность моего вопроса, принял его, как обычную исповедь, и сказал несколько самых обыкновенных слов утешения о смирении, которые нисколько мне не помогли в разрешении мучившего меня вопроса. Семейные же наши отношения потом сами собой наладились“.
27
Лев Николаевич рассказывал это шепотом, чтобы не услыхали».
По-видимому, в этом воспоминании Лев Николаевич соединил в одно несколько эпизодов своей жизни, происходивших в разное время. Первое посещение им Оптиной Пустыни произошло 22 июля 1877 года. Нет никаких данных ни о расстройстве его семейной жизни в то время, ни о разговоре его с Амвросием о своих семейных делах, ни о его неудовлетворенности Амвросием после первой с ним встречи. Самая его поездка в ту пору в Оптину Пустынь, если принять во внимание его тогдашнее религиозное, близкое к церковной вере настроение, не представляет ничего непонятного.
Но в письме Толстого к Фету от 20 ноября 1870 года есть фраза: «Получив ваше письмо, я сейчас же решил ехать к вам... если бы не Урусов, которого я вызвал к себе для поездки в Оптину Пустынь»64. Эта фраза, несомненно, нуждается в объяснении. Никаких особенных религиозных исканий и сомнений в ту пору у Толстого не было, из дома он уезжал крайне неохотно и лишь по очень важным делам: для чего было ему собираться в Оптину Пустынь? По-видимому, именно расстройством семейной жизни и вызвано было его желание посетить Оптину Пустынь, которое, однако, по тем или другим причинам осуществить ему не удалось. И этот первый повод для беседы с Амвросием был так значителен, что в его сознании заслонил все остальные и неосуществившуюся беседу представил осуществившейся, придав его небывалому разговору с Амвросием то впечатление, которое Толстой вынес из позднейших бесед с ним.
Тяжелая болезнь С. А. Толстой, после которой доктора посоветовали ей больше не иметь детей, — это, конечно, родильная горячка, которой она заболела после родов. Но, вероятно, судя по письму Толстого к Фету от 20 ноября 1870 года о предполагаемой поездке в Оптину Пустынь и по рассказу Бирюкова, разговоры на эту тему были начаты в последние месяцы беременности С. А. Толстой.
Толстой не представлял себе семейной жизни без ее последствий — детей. Этот «обрыв струны семейной жизни» был столь мучителен для него, что он сделался серьезно болен. Во всю свою жизнь Толстой заболевал не столько от физических, сколько от нравственных причин. Так было и на этот раз.
Видя серьезность недомогания Льва Николаевича, Софья Андреевна посоветовала ему поехать на кумыс, который хорошо помог ему в 1862 году.
9 июня 1871 года Толстой выехал в Москву, чтобы там, посоветовавшись со знакомыми и врачами, решить, куда ему лучше поехать: в Самарскую или Саратовскую губернию.
28
В Москве Толстой виделся со знакомыми, в том числе с Ю. Ф. Самариным и с профессором классической филологии Московского университета П. М. Леонтьевым. С Леонтьевым Толстой разговаривал о своих занятиях греческим языком и поразил его своим быстрым и правильным переводом à livre ouvert греческих классиков. «В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным»65. Леонтьев раньше слышал о намерении Толстого учиться греческому языку, но не верил в то, что он сможет это сделать. «Жуковский тоже хотел выучиться по-гречески», — говорил Леонтьев66. Теперь, прослушав перевод Толстого, Леонтьев всем знакомым стал рассказывать о необыкновенно быстром усвоении Толстым греческого языка. С. С. Урусов писал С. А. Толстой: «Вообразите, что во всей Москве только и разговоров о том, как граф выучился по-гречески в три месяца»67.
Из расспросов знакомых Толстой пришел к заключению, что лучший кумыс — в Самарской губернии. 10 июня он выехал из Москвы до Нижнего Новгорода по железной дороге. Его сопровождали шестнадцатилетний шурин Степан Андреевич Берс и слуга Иван Васильевич Суворов. От Нижнего Новгорода до Самары двое суток плыли на пароходе.
Путешествие по Волге, как и раньше, было для Толстого «очень занимательно», хотя и беспокойно (письмо к жене 14 июня). С. А. Берс вспоминал: «Лев Николаевич обладает замечательною способностью сходиться с незнакомыми пассажирами во всех классах. Когда он попадал на угрюмых и необщительных незнакомцев, он все-таки не затруднялся подойти к ним и, после нескольких попыток, удачно вызывал их на разговор... В двое суток на пароходе он перезнакомился со всею палубою, не исключая и добродушных матросов, у которых на носу парохода мы проспали все ночи»68.
Толстой решил поселиться в том же месте, где он жил за девять лет до этого, в 1862 году — в деревне Каралык (Орловка, Николаевского уезда Самарской губернии).
Из Самары до Каралыка ехали 130 верст на лошадях и прибыли на место 15 июня. Башкиры, старые знакомые Толстого, узнали его и приняли радостно.
В деревне Каралык, расположенной по реке того же названия, по сведениям 1859 года, числилось 162 двора и свыше тысячи жителей. Но Толстой поселился не в самой деревне, а вблизи
29
нее в нанятой у муллы кибитке, в которой прежде была мечеть. Кибитка, или кочевка, представляла собой деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария и покрытую войлоком. Пол в кибитке — земля, покрытая густым ковылем. Кругом на сотни верст ни одного деревца. Спастись от палящего солнца можно только в кочевке, хотя и в ней жарко, как в бане. Но Толстой не тяготился жарой и отсутствием тени. Он писал жене 20 июля: «Жить без дерева за сто верст в Туле ужасно, но здесь другое дело: и воздух, и травы, и сухость, и тепло делают то, что полюбишь степь»69.
Первое время Толстой продолжал чувствовать то же недомогание и вызываемое им уныние. «Нет умственных, и главное поэтических, наслаждений. На все смотрю, как мертвый, — то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть; понимаю, соображаю, но не вижу насквозь, с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, — хочется плакать» (письмо к жене 18 июня)70.
Но нездоровье и тоскливое настроение скоро прошли, и Толстой стал с интересом вглядываться в окружающую его жизнь.
Кроме Толстого, в Каралыке жило еще около десяти кумысников, в том числе товарищ прокурора с женой, которая «курит и волоса короткие, но не глупая» (письмо к жене 27 июня)71, адвокат, помещик, управляющий имением графа Уварова, учитель греческого языка в семинарии, священник, купцы — «все наши друзья», — писал Толстой жене.
«На Каралыке кроме нас, — рассказывает С. А. Берс, — были еще лечившиеся кумысом, но все они точно выдерживали карантин или заключение в степи и к образу жизни кочевников привыкнуть не хотели.
Тотчас по приезде Лев Николаевич со всеми перезнакомился и разогнал их уныние. Старик, учитель семинарии, стал прыгать с ним через веревочку; товарищ прокурора искал случая с ним побеседовать, а молодой помещик и охотник из Владимирской губернии вполне поддался его влиянию»72.
Чтобы лучше узнать жизнь мало известного ему края, Толстой приобрел лошадь, на которой вместе с С. А. Берсом ездил по окрестным деревням.
«Ново и интересно многое, — писал Толстой жене 23 июня, — и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа»73. О том же и почти в тех же выражениях писал Толстой
30
Фету 17 июля: «Здесь очень хорошо и значительно всё... Если: бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью описывает тех самых галактофагов-скифов, среди которых я живу...
Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа»74.
Образ жизни Толстого в степи был такой. Он вставал в 6—7 часов, пил кумыс или чай с молоком и отправлялся «на зимовку», то есть в деревню к другим кумысникам. Потом гулял около кибитки, любовался возвращающимися с гор табунами лошадей (около тысячи голов), с учителем греческого языка переводил Геродота. Возвратившись в свою кибитку, пил чай, читал, ходил по степи в одной рубашке, обедал, ходил на охоту. Пищей служила главным образом баранина, которую по местному обычаю ели без вилок, руками, — и дичь. Кумыс пили несколько раз в день.
Из Каралыка Толстой предпринял две большие поездки; первая — за 30 верст в город Бузулук на ярмарку. «Ярмарка очень интересная и большая, — писал Толстой жене 29 июня. — Такой настоящей сельской и большой ярмарки я не видал еще. Разных народов больше десяти, табуны киргизских лошадей, уральских, сибирских»75.
«Ярмарка, — вспоминал С. А. Берс, — отличалась пестротой и разнообразием племен: русские мужики, уральские казаки, башкиры и киргизы. И в этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал...
В Бузулуке мы посетили старика-отшельника, который жил около монастыря в пещере. Лев Николаевич только внимательно слушал старика, говорившего исключительно о священном писании, но сам не говорил и впечатление свое мне не передавал...»76
Вторую поездку Толстой совершил вместе со Степой Берсом и еще двумя молодыми кумысниками. Поездка продолжалась четыре дня; они объездили ряд окрестных деревень. «Поездка наша, — писал Толстой жене 16 июля... — удалась прекрасно... И башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши были прекрасные... Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдюцкого барана, становит огромную кадку кумысу, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыса. Из рук поит
31
гостей и руками (без вилки) в рот кладет гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть»77.
«Лев Николаевич находил много поэтичного в кочевой и беззаботной жизни башкир», — пишет С. А. Берс78.
Проведя в самарских степях шесть недель, Толстой не почувствовал никаких лишений от отсутствия культурных условий жизни. «Если бы не тоска по семье, я бы был совершенно счастлив здесь», — писал он Фету 17 июля79.
В Каралыке Толстой ничего не писал, если не считать кратких записей картин местной природы и быта, набросанных им в записной книжке, как, например:
«Темная ночь, девка башкирка бежит, бренчат подвески на косе».
«Постелят ковры, подадут умываться и угощенье».
«Топят кизяком, дровами, камышом».
«Мужья уехали, жены нарядились и пьют кумыс».
«Сами шьют сапоги из выделанной ими же кожи».
«Пригибаются, чтобы видеть на горизонте»80.
В тридцати верстах от Каралыка Толстой присмотрел у помещика Н. П. Тучкова землю для покупки. Условия покупки оказались выгодными, и по возвращении из Самары 9 сентября 1871 года была совершена купчая крепость на 2500 десятин самарской земли за 20 тысяч рублей.
28 июля Толстой выехал из Каралыка и 2 августа был уже в Ясной Поляне.
XI
По возвращении в Ясную Поляну Толстой занялся перестройкой дома, требовавшейся увеличением семьи. С южной стороны была сделана пристройка — зала в верхнем этаже, кабинет и передняя в нижнем, а также летняя терраса. Яснополянский дом принял тот самый вид, какой он имеет в настоящее время.
Вероятно, 19 августа Толстой поехал к Фету в его Степановку. От Фета он проехал в свое имение Никольское и на станции Чернь встретился с Ф. И. Тютчевым, ехавшим в Москву. Толстой проехал с ним четыре станции. Разговор с Тютчевым произвел на него сильное впечатление. По возвращении в Ясную Поляну он писал Фету:
«Последняя поездка моя к вам была самая приятная из всех, которые я делал... Оттуда встретил Тютчева в Черни и четыре
32
станции говорил и слушал, и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика».
О том же писал Толстой и Н. Н. Страхову 13 сентября:
«Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы четыре часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик»81.
Сам Ф. И. Тютчев о встрече с Толстым упоминал в следующей телеграмме, посланной им жене из Москвы 22 августа: «Утомительно, но не скучно. Много спал. Приятная встреча с автором „Войны и мира“»82.
В начале февраля 1873 года Толстой, узнав о тяжелой болезни Тютчева, писал тетушке Александре Андреевне: «Я слышал уже про болезнь Тютчева, и вы не поверите, как это меня трогает. Я встречался с ним раз десять в жизни, но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки. Как он примет смерть, которая во всяком случае близка ему?
Если ему лучше, передайте ему через кого-нибудь мою любовь»83.
В первой половине августа 1871 года в Ясной Поляне произошло знакомство Толстого с Николаем Николаевичем Страховым. Знакомству предшествовала переписка. В ноябре 1870 года Страхов обратился к Толстому от имени журнала «Заря», в котором он принимал близкое участие, с просьбой предоставить этому журналу какой-нибудь новый рассказ (письмо неизвестно). Толстой 25 ноября ответил Страхову, что в настоящее время у него нет ничего готового, но если он напишет что-нибудь, то непременно полностью или частично предоставит «Заре». Этот свой ответ Толстой закончил так:
«Теперь позвольте мне благодарить вас, — не благодарить, потому что не за что, так же, как и вам меня, а выразить ту сильнейшую симпатию, которую я чувствую к вам, и желание узнать вас лично. Я в Москве не был уже с год, а в Петербурге надеюсь не быть никогда, поэтому мне мало шансов увидеть вас, но я воспользуюсь всяким случаем и прошу вас сделать то же; может быть, вам придется когда-нибудь проезжать по Курской дороге. Если бы вы заехали ко мне, я бы был рад, как свиданью с старым другом»84.
Страхов воспользовался приглашением Толстого только в первых числах августа 1871 года.
33
Личное знакомство не ослабило в Толстом то чувство симпатии, которое возбудил в нем Страхов своими статьями о «Войне и мире». Из разговоров со Страховым и из общего впечатления, им произведенного, Толстой пришел к заключению, что призвание Страхова, как он писал ему 13 сентября, «чисто философская деятельность». При личном общении Толстому еще больше бросилась в глаза особенность Страхова как критика, которую он заметил в его статьях: «У вас есть одно качество, которого я не встречал ни у кого из русских, это, при ясности и краткости изложения, — мягкость, соединенная с силой; вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами».
Толстой увидел в Страхове своего единомышленника по многим вопросам. Рассказав в том же письме о своей встрече с Тютчевым, Толстой прибавлял: «Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил». Тут же Толстой спешит оговориться, что единомыслие его со Страховым имеет границы. «Но на известной высоте душевной, — продолжает он, — единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности — для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем». Но, несмотря на это, «радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встретясь с вами и с Тютчевым»85.
Нельзя не обратить внимания на то, что Фет в числе этих чуждых и близких путешественников по житейской дороге Толстым не упоминается.
Страхову первая встреча с Толстым доставила «минуты удивительного восторга»86.
С этого времени началось оживленное и личное и письменное общение Толстого со Страховым. Страхов был восторженным почитателем Толстого как человека и таким же восторженным почитателем его художественного творчества; в известной степени он сочувствовал философским и моральным воззрениям Толстого. Переписка не прекращалась до самой смерти Страхова в 1896 году и имела важное значение в жизни Толстого, особенно в 1870-е годы.
XII
Толстой всегда любил детей; общение с детьми играло важную роль в его жизни еще до женитьбы. 10 января 1850 года он написал сестре, бывшей тогда в ожидании ребенка, следующее
34
столь необычное для молодого человека двадцати одного года письмо: «Рожай поскорее, милый друг Машенька; ты не поверишь, как скучно будущему дядюшке дожидаться, до свиданья, целую тебя очень нежно и поручаю так же поцеловать от меня Валериана»87.
Живя на Кавказе, Толстой подолгу играл в разные игры с мальчиками, детьми казаков. Вспомним, далее, его путешествие по Швейцарии с мальчиком Сашей Поливановым88 в 1857 году, его занятия и игры в Гиере с племянницами, племянником и Сережей Плаксиным89 в 1860 году и, главное, то «чудное время» его жизни, когда он в течение нескольких лет весь был поглощен занятиями и общением с яснополянскими детьми.
С началом семейной жизни дети — игры с малыми детьми и воспитание детей подрастающих — заняли в жизни Толстого первое место после писательства и отношений к жене. Воспоминания дочери и сыновей Толстого дают представление об этой важнейшей стороне его жизни в семидесятых годах.
Татьяна Львовна Толстая-Сухотина в своих воспоминаниях рассказывает:
«В свободное от занятий время папа был самым веселым человеком, какого я когда-либо знала. С ним всегда бывало весело. Казалось: стоило ему только показаться, как начиналось что-нибудь очень интересное и забавное. Меня он звал „Чуркой“, и это прозвище очень мне нравилось, потому что он употреблял его тогда, когда бывал весел и когда хотел меня приласкать или пошутить со мной. За всю мою жизнь у меня было особенное чувство любви и благоговения к отцу. И по тому, что я сама испытала, и по тому, что мне рассказывали — и он особенно нежно всегда ко мне относился. Была одна игра, в которую папа с нами играл и которую мы очень любили. Это была придуманная им игра. Вот в чем она состояла: безо всякого предупреждения — папа вдруг делает испуганное лицо, начинает озираться во все стороны, хватает кого-нибудь из нас за руку и, вскакивая с места, на цыпочках, высоко поднимая ноги и стараясь не шуметь, бежит и прячется куда-нибудь в угол, таща за руку того из нас, кто первый ему попадется.
— Идет!.. Идет!.. — испуганным шепотом говорит он.
Те из нас троих, которых он не успел захватить с собой, стремглав бросаемся к нему и цепляемся за его блузу и руки. Все мы вчетвером с испугом забиваемся в угол и с бьющимися сердцами ждем, чтобы «он» прошел. Папа сидит с нами на полу на корточках и делает вид, что он напряженно следит за кем-то
35
воображаемым, который и есть самый «он». Папа провожает «его» глазами, а мы сидим молча, испуганно прижавшись друг к другу, боясь, как бы «он» нас не увидал. Сердца наши так стучат, что мне кажется, что «он» может услыхать это биение и по нем найти нас. Наконец, после нескольких минут напряженного молчания — у папа̀ лицо делается спокойным и веселым.
— Ушел! — говорит он о «нем», и мы весело бежим с папа по комнатам. Но вдруг... брови у папа̀ поднимаются, глаза таращатся, он делает страшное лицо и останавливается: оказывается, что «он» откуда-то опять появился.
— Идет! Идет! — шепчем мы все вместе и начинаем метаться из стороны в сторону, ища укромного места, чтобы спрятаться от «него». Опять мы забиваемся куда-нибудь в угол и опять с волнением ждем, пока папа проводит «его» глазами. Наконец, «он» опять уходит, не найдя нас, мы опять вскакиваем, и все начинается сначала, пока папа̀ не надоест с нами играть и он не отошлет нас в детскую. Нам же эта игра, казалось, никогда не могла бы надоесть.
Также любили мы один незатейливый рассказ папа̀, которому он умел придать большое разнообразие интонациями и повышением и понижением голоса. Это был рассказ «Про семь огурцов». Он столько раз в своей жизни рассказывал его мне и при мне другим детям, что я помню его наизусть. Вот он:
— Пошел мальчик в огород. Видит — лежит огурец. Он его взял — хап! и съел. (Это рассказывается спокойным голосом, на довольно высоких нотах). Потом идет он дальше — видит, лежит второй огурец, побольше. Он его — хап! и съел. (Тут голос немного усиливается.) Идет дальше, видит — лежит третий огурец: вот тако-о-й огурец (и папа пальцами показывает расстояние приблизительно в пол-аршина), — он его хап! — и съел. Потом видит — лежит четве-е-е-ртый огурец — вот тако-о-о-й огурец, он его — ха-а-п! и съел. И так идет до седьмого огурца. Голос у папа делается все громче, гуще и гуще... — Идет мальчик дальше и видит, лежит седьмо-о-о-о-о-й огурец. Вот тако-о-о-о-о-й огурец! (И папа растягивает в обе стороны руки, насколько они могут достать.) Мальчик его взял: ха-а-а-п! ха-а-а-а-п! и съел. Когда папа показывает, как мальчик ел седьмой огурец, то его беззубый рот открывается до таких огромных размеров, что страшно на него смотреть, и он руками делает вид, что с трудом в него всовывает седьмой огурец.
И мы все трое, следя за ним, невольно так же, как и он, разеваем рты, и так и сидим с разинутыми ртами, не спуская с него глаз»90.
36
Сергей Львович Толстой в своих воспоминаниях рассказывает:
«В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д. Он не был ласков с нами обычными проявлениями нежности: поцелуями, подарками, ласковыми словами, редко дарил игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к нам и доволен ли он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич» вместо обычного «Сережа», это была уже ласка. А то он, бывало, тихонько подойдет сзади и молча закроет мне глаза обеими руками. Угадать, кто это сделал, было нетрудно. Или он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь на меня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечи. Тогда он, поддерживая меня, пройдется по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я опять становлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и если отец проделает их с одним из нас, например, со мной, то сейчас же сестра Таня или брат Илья закричат: «И меня, и меня!» Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил»91.
Большое значение Толстой придавал физическому развитию детей.
«Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика, — рассказывает далее С. Л. Толстой. — Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движениям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками, и т. д. Был также козел, через который мы прыгали.
Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: «Бежим на перегонки». И все мы бежим за ним»92.
О том же вспоминает и Илья Львович:
«Он [отец] обращал особенное внимание на наше физическое развитие, на гимнастику и на всякие упражнения, развивающие смелость и самодеятельность. Одно время он каждый день собирал нас в аллею, где была устроена гимнастика, и мы все, по очереди, должны были проделывать всякие трудные упражнения
37
на параллелях, трапеции и кольцах... Когда собирались идти гулять или ехать верхом, папа никогда не ожидал тех, которые почему-либо опаздывали, а когда я отставал и плакал, он передразнивал меня: «меня не подождали», а я ревел еще больше, злился и все-таки догонял. Слово «неженка» было у нас насмешкой, и не было ничего обиднее, чем когда папа называл кого-нибудь из нас „неженкой“»93.
«В нашем детстве, — рассказывает далее Сергей Львович, — мы, то есть я и мои братья и сестры, особенно любили прибаутки, поговорки и рассказы отца.
Когда мы почему-нибудь плакали, он бывало расскажет что-нибудь смешное, и мы смеемся сквозь слезы. Например, он говорил:
Ты не плачь, не плачь, детинка.
В нос попала кофеинка,
Авось проглочу.
Несмотря на бессмысленность этого изречения, оно действовало безошибочно. Кофеинка неизменно вызывала смех и улыбку.
Когда кто-нибудь из нас ушибется или упадет, он бывало скажет:
Танцевальщик танцевал,
А в углу сундук стоял.
Танцевальщик не видал,
Спотыкнулся и упал»94.
«В детстве у нас, троих старших, то есть у меня, сестры Тани и брата Ильи, было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были беспрекословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, — а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, — я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось»95.
О приемах нравственного воспитания, применявшихся Толстым к своим детям, узнаем из тех же воспоминаний. Сергей Львович рассказывает:
«Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было — немилость: не обращает
38
внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое... Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек. Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков, но я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял с урока. Больше всего он был недовелен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было — с матерью, воспитателями или прислугой...
Когда я делал что-нибудь нечаянно — разобью посуду, разорву или запачкою свое или чужое платье, забуду данное мне поручение — и оправдываюсь тем, что я это сделал нечаянно, то он бывало скажет: „Вот за то я тебя и упрекаю, что ты это сделал нечаянно. Надо стараться ничего нечаянно не делать“. Еще он говорил: „Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай“»96.
Илья Львович рассказывает следующий эпизод из своего детства:
«Помню елку в только что выстроенной и еще не совсем отделанной зале. Мне было пять лет. В этот раз мне подарили большую фарфоровую чайную чашку с блюдцем. Мама знала, что я давно мечтал об этом подарке, и приготовила мне его к рождеству. Увидав чашку на своем столике, я не стал рассматривать остальных подарков, схватил ее обеими руками и побежал ее показывать. Перебегая из залы в гостиную, я зацепился ногой за порог, упал, и от моей чашки остались одни осколочки. Конечно, я заревел во весь голос и сделал вид, что расшибся гораздо больше, чем на самом деле. Мама кинулась меня утешать и сказала мне, что я сам виноват, потому что был неосторожен. Это меня рассердило ужасно, и я начал кричать, что виноват не я, а противный архитектор, который сделал в двери порог и если бы порога не было, я бы не упал. Папа это услыхал и начал смеяться: „архитектор виноват, архитектор виноват“, — и мне от этого стало еще обиднее, и я не мог ему простить, что он надо мной смеется. С этих пор поговорка „архитектор виноват“ так и осталась в нашей семье, и папа часто любил ее повторять, когда кто-нибудь старался свалить свою вину на другого»97.
В письме к А. А. Толстой от 27 октября 1872 года Толстой кратко охарактеризовал всех своих детей, начиная с девятилетнего Сережи и кончая четырехмесячным Петром. Толстому удалось очень верно схватить особенности характера своих детей,
39
которые вполне отчетливо проявились в их взрослой жизни. Таковы: несамостоятельность Сережи, самобытность Ильи, семейные инстинкты Тани. Свою характеристику восьмилетней Тани Толстой заканчивает ироническим замечанием: «Готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает „новую женщину“». Это означало, что Толстой был уверен в том, что сделать «новую женщину» (в духе шестидесятых годов) из его дочери Тани, когда она вырастет, никому не удастся и премия останется невостребованной.
Особенной проницательностью отличается характеристика двухлетней дочери Маши: «Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие странные голубые глаза, — странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное»98.
XIII
С осени 1871 года Толстой приступил к осуществлению своего замысла о составлении книги для детского чтения. 20 сентября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Мы теперь опять занялись детскими книжками. Левочка пишет, а я с Варей [В. В. Толстая, племянница Льва Николаевича] переписываю. Идет очень хорошо»99.
Сначала Толстой предполагал издать отдельно «Азбуку» и книгу для детского чтения, но в процессе работы «Азбука» и книга для чтения были соединены в одну книгу в четырех частях под общим названием «Азбука».
Написанные им рассказы для детей Толстой прочитывал своим старшим детям и по их пересказу исправлял написанное, особенно язык.
29 октября Толстой пишет Т. А. Кузминской: «Я пишу книжку (и, кажется, будет толк)... В книжке моей будет много хорошего»100. Ей же 28 ноября пишет С. А. Толстая: «Так часто собираюсь писать тебе, милая Таня, и так занята
40
помоганием Левочке — детскими книжечками, что еле успеваю переделать в день все необходимые дела; но все еще не скоро будут готовы эти книжечки. Ты знаешь, как Левочка все отделывает и переделывает, даже мелочи».
22 декабря Софья Андреевна вновь пишет сестре: «Мы все это время с дядей Костей101 писали, переписывали детские книжечки и спешили кончить к празднику. И действительно кончили, и Левочка повез первую часть в Москву».
12 января 1872 Лев Николаевич сообщает А. А. Толстой: «Пишу я эти последние года азбуку и теперь печатаю. Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет — азбука, очень трудно»102. «Я очень занят и доволен работой», — писал Толстой Страхову 17 января103.
По своему обыкновению Толстой много исправлял написанные им рассказы в корректурах. 3 марта он писал Страхову: «Азбука моя кончена и печатается очень медленно и скверно у Риса, но я по своей привычке всё мараю и переделываю по двадцать раз»104. 16 марта Толстой извещал Фета: «Азбука моя не дает мне покоя для другого занятия. Печатанье идет черепашьими шагами и черт знает, когда кончится, а я все прибавляю, убавляю и изменяю. Что из этого выйдет, не знаю, а положил я в него всю душу»105. О том же писал Толстой Страхову 22 марта, имея в виду начатый роман из времени Петра I: «Писать я почти не начинал, да едва ли начну до зимы. Все время и силы мои заняты Азбукой»106.
Два самых больших рассказа, входящих в состав третьей и четвертой книг «Азбуки», — «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник», — были написаны Толстым по просьбе редакций двух мало распространенных журналов: «Беседа» (редактор С. А. Юрьев) и «Заря» (ближайшее участие принимал Н. Н. Страхов). Рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет» был закончен (а может быть, даже и начат) в первых месяцах (не позднее марта) 1872 года, когда к Толстому в Ясную Поляну приехал по поручению редакции секретарь «Беседы» Н. В. Лысцев. Толстой пригласил Лысцева остаться у него на два дня, в течение которых он и закончил рассказ107.
Рассказ «Кавказский пленник» был закончен 25 марта, о чем Толстой тогда же уведомил Страхова.
41
В начале апреля Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Работы все больше и больше впереди. Если бы мне 20 лет тому назад сказали: придумай себе работу на 23 года, — я бы все силы ума употребил и не придумал бы работы на три года. А теперь скажите мне, что я буду жить в 10 лицах по 100 лет, и мы все не успеем всего переделать, что необходимо. Азбука моя печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется. Эта Азбука одна может дать работы на сто лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная»108.
Работая над «Азбукой», Толстой, естественно, пришел к мысли возобновить школьные занятия с крестьянскими детьми. Занятия начались в январе 1872 года; каждый день приходило около 35 детей. На этот раз Толстой привлек к преподаванию трех своих старших детей: девятилетнего Сережу, семилетнюю Таню и даже пятилетнего Илью.
«Таня и Сережа учат довольно порядочно, — писала Софья Андреевна Т. А. Кузминской 2 февраля. — В неделю уже все знают буквы и склады на слух». Толстой писал Фету 20 февраля: «...Я опять завел школу; и жена, и дети, мы все учим, и все довольны»109. О том же извещал он и Н. Н. Страхова 3 марта: «Жизнь наша в деревне та же, прибавилось новое только — школа крестьянских детей, которая сама собой завелась. И всех нас с детьми моими очень занимает»110.
Софья Андреевна писала сестре 10 марта: «У нас все продолжается школа, идет хорошо, ребята детям носят разные деревенские штучки: то деревяшки какие-то, правильно нарезанные, то жаворонки, сделанные из черного теста; после классов таскают Таню на руках, иногда шалят, но почти все выучились читать и довольно бойко по складам».
В следующем письме, написанном в том же месяце, Софья Андреевна писала: «У нас все продолжается школа и идет хорошо. Учим мы их часа два или немного более». Затем 6 апреля: «Каждое утро своих детей учу, каждое после обеда школа собирается. Все читают и пишут хотя не совсем хорошо, но порядочно».
«Ученики приходили к нам в дом, — рассказывает С. Л. Толстой. — В передней и в прилегающих к ней комнатах мы учили каждый свою группу учеников. Опыт был довольно удачен, и ученики мои и сестры Тани усвоили себе начальную грамоту; Илья же был слишком мал и к тому же подрался со своими учениками».
42
Илья Львович сохранил в своей памяти следующее воспоминание о школе отца семидесятых годов:
«Когда мне было 6 лет, я помню, как папа учил деревенских ребят...
Деревенские ребята приходили к нам, и их было очень много. Когда они приходили, в передней пахло полушубками, и учили их всех вместе и папа, и Сережа, и Таня, и дядя Костя. Во время уроков бывало очень весело и оживленно.
Дети вели себя совсем свободно, сидели где кто хотел, перебегали с места на место и отвечали на вопросы не каждый в отдельности, а все вместе, перебивая друг друга и общими силами припоминая прочитанное. Если один что-нибудь пропускал, сейчас же вскакивал другой, третий, и рассказ или задача восстанавливались сообща.
Папа особенно ценил в своих учениках образность и самобытность их языка. Он никогда не требовал буквального повторения книжных выражений и особенно поощрял все „свое“.
Я помню, как один раз он остановил мальчика, бегущего в другую комнату.
— Ты куда?
— К дяденьке, мелку откусить.
— Ну беги, беги. Не нам их учить, а учиться у них надо, — сказал он кому-то, когда мальчик отошел. — Кто из нас сказал бы так? Ведь он не сказал — взять — или — отломить, а сказал точно „откусить“, потому что именно откусывают мел от большого куска зубами, а не ломают его»111.
Занятия с крестьянскими детьми имели очень важное значение для окончательного редактирования детских рассказов Толстого. Все написанное им для «Азбуки» Толстой прочитывал своим ученикам и по их пересказам, как ранее по пересказам своих детей, исправлял написанное как со стороны содержания, так и со стороны языка. Кроме того, школа служила Толстому проверкой тех приемов обучения, которые он рекомендовал в своей книге.
Старшие мальчики, дети Толстого, благодаря занятиям с крестьянскими детьми входили в дружеские отношения с деревенскими ребятами. «В свободное от уроков время, — рассказывает С. Л. Толстой, — мы с увлечением катались с нашими сверстниками-учениками на скамейках. Здесь они были нашими учителями. Особенно мы любили садиться на длинную скамейку глухонемого, уже взрослого Макарова, на которую усаживалось человек семь. Мы быстро скатывались по хорошо укатанной дороге и в конце горки обыкновенно с хохотом и визгом вываливались в снег.
43
Последствием нашего общения со сверстниками на деревне были добрые отношения с ними, которые не прекращались и в дальнейшей нашей жизни»112.
XIV
Изучение русского народного творчества, а также знакомство, в связи с работой над «Азбукой», с народным творчеством других народов, самая работа над детскими рассказами, приспособленными к пониманию крестьянских детей, живое общение с крестьянскими детьми — все это поставило перед Толстым во всей силе вопрос о народности в литературе.
3 марта Толстой пишет Н. Н. Страхову, единственному из его корреспондентов, который мог понять его мысли по данному вопросу:
«Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии, и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи <и украшения> и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет.
Вы поймете, вероятно, что я хочу сказать.
Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании. Я надеюсь»113.
Страхов своим ответным письмом (оно неизвестно), по выражению Толстого, задел его за живое, и Толстой 22 марта пишет ему второе письмо по тому же вопросу. В этом письме он писал, что у него появилось сомнение, «не ложные ли приемы, не ложный ли язык» тот, которым пишут русские писатели и писал он сам. «...Противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам (он же и случился народный) „влекут мечты невольные“».
Как пример искусственности содержания и языка Толстой вспоминает повесть Карамзина «Бедная Лиза» и противопоставляет ей народное творчество. «„Бедная Лиза“, — говорит он, — выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уж ее не прочтет, а песни, сказки, былины — все простое будут читать, пока будет русский язык».
«Я изменил приемы своего писания и язык, — объясняет Толстой, — но, повторяю, не потому, что рассудил, что так
44
надобно, а потому, что даже Пушкин мне смешон, не говоря уж о наших элукубрациях114, а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил».
Главное значение народного языка Толстой видит в том, что язык этот «есть лучший поэтический регулятор». «Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей, так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу». Не потому Толстой «изменил приемы своего писания и язык», что он проникся учением славянофилов. «Я ненавижу, — писал он далее, — все эти „хоровые начала“, и „строи жизни“, и „общины“, и „братьев славян“ каких-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное, и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни, и обратное в нашем».
Это упоминание о народной жизни как воплощении «определенного, ясного, красивого и умеренного» показывает, что Толстой уже в то время был на пути к отречению от своего класса.
Категоричность заявления Толстого («я изменил» — а не «решил изменить» «приемы своего писания и язык») указывает на то, что Толстой в то время уже пробовал что-то писать, применяя эти измененные приемы. То же вполне определенно утверждает Толстой в последних строках данного письма. Отправляя Страхову написанный им для детей рассказ «Кавказский пленник», Толстой поясняет: «Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших»115.
Взгляд на рассказ «Кавказский пленник» как на образец тех приемов и того языка, какими Толстой решил писать «для больших», высказан и в письме к Страхову от 15 апреля. Здесь Толстой пишет, что, печатая этот рассказ, он чувствует себя в положении искусного лекаря, который в сладких пилюлях старательно скрыл «пользительное», по его мнению, касторовое масло. Лекарь одного только желает: «Чтоб никто не разболтал, что это лекарство, чтоб проглотили, не думая о том, что там есть. А оно уж подействует»116.
В таком положении чувствовал себя Толстой по отношению к современной литературе.
Категорическое утверждение Толстого, что он что-то уж написал «для больших» в стиле «Кавказского пленника», заставляет обратиться к относящимся к этому периоду его художественным произведениям. Единственное произведение, по простоте
45
стиля и языка приближающееся к стилю и языку «Кавказского пленника», — это неоконченный отрывок «Степан Семеныч Прозоров»117. Вот второй абзац этого рассказа, характерный по своему стилю и языку для всего отрывка:
«В Сандарской губернии в Никольском уезде жил молодой богатый помещик. Ему досталось от отца большое состояние, но он скоро почти все прожил. Он продал два именья, и оставалось у него одно, то, в котором он родился и в котором были похоронены его отец и мать, и на этом именьи было столько долгов, что он ждал всякую минуту, что продадут и это именье, и ему ничего не останется. Но несмотря на то, Степан Семеныч жил, как и всегда, богато и весело, и дом у него был полон гостей, и что у него было, в том он никому не отказывал».
Дальнейшее содержание написанного начала произведения в следующем.
Имение Степана Семеныча описано за долги. Он занимает у тетки принадлежащие ее детям деньги, чтобы расплатиться с долгами, но вместо этого едет в Москву и проживает все полученные деньги. В отчаянье из-за того, что истратил чужие деньги, которые не может вернуть, он на другой день утром хочет лишить себя жизни и идет к реке, чтобы утопиться. Но когда он подошел к речке, «солнце встало, и ему стало вдруг весело». Мысль о самоубийстве была оставлена, и он решает убежать куда-нибудь, где его не знают. На берегу лежала мужицкая одежда; он разделся и вошел в воду, затем сейчас же вышел, надел мужицкую одежду и пошел по берегу, сам не зная куда. На пристани он взошел на отходящий пароход, прошел по привычке в первый класс, но оттуда его вытолкали. «Он прошел в третий класс и сел на полу у трубы с мужиками и солдатами и был, как во сне».
На этом начатый рассказ обрывается.
В этом рассказе Толстой впервые после изображения плена Пьера в «Войне и мире» и после незаконченного рассказа 1870 года «Убийца жены» пытался развернуть тему ухода (здесь вынужденного) человека привилегированного класса из барских условий жизни. Впоследствии этот сюжет сделался для Толстого одним из самых излюбленных.
XV
В середине января 1872 года Толстой едет в Москву по делам печатания «Азбуки», а также для того, чтобы посоветоваться со знатоками (Ф. И. Буслаевым, П. А. Бессоновым и другими) относительно помещения в «Азбуке» отрывков из летописей.
Тогда же, вероятно, он встретился со знатоком русских былин, писателем и историком Павлом Дмитриевичем Голохвастовым.
46
Голохвастов познакомил Толстого с задуманной им работой о законах русского стиха. Эта работа очень заинтересовала Толстого, и в своих письмах к Голохвастову в 1873—1876 годах он неоднократно советовал продолжать ее. Труд П. Д. Голохвастова появился в печати только в 1883 году под заглавием «Законы стиха русского народного и литературного». В предисловии автор писал, что его исследование «вызвано графом Л. Н. Толстым, когда тот переделывал народные былины и сказки для „Азбуки“ своей, и задумано в форме писем к Льву Николаевичу».
Изучение произведений устного народного творчества пробудило в Толстом интерес также и к народному пению. П. А. Бессонов, с которым Толстой познакомился в Москве, был инициатором учреждения Общества русского народного пения; Толстой также сделался одним из членов-учредителей этого общества, целям которого глубоко сочувствовал.
12 января 1872 года он обратился к А. А. Толстой с просьбой содействовать ускорению разрешения этого общества в правительственных сферах. О дальнейшей судьбе и деятельности этого общества ничего не известно118.
Имея в виду поместить в «Азбуку» ряд статей по физике и астрономии, Толстой занялся изучением этих наук. «Я все занимаюсь астрономией и физикой, — писал Толстой брату 9 марта 1872 года119.
19 апреля Софья Андреевна записывает в дневнике: «Всю ночь Левочка до рассвета смотрел на звезды»120. С. Л. Толстой вспоминает: «В ясную ночь он нам [своим детям] рассказывал про звездное небо. Одно время его интересовала астрономия — не математическая, а наглядная астрономия, и он называл нам звезды и объяснял разницу между звездами, планетами и кометами»121.
Особенно усердно занимался Толстой изучением физики. «Я нынешнюю зиму страстно, но урывками занимался естественными науками, особенно физикой», — писал он Страхову в конце сентября 1872 года122. Десятки страниц его записных книжек исписаны сведениями по физике и собственными его соображениями о законах физических явлений123.
47
Изучение физики у Толстого далеко перешло границы необходимого ознакомления с основами этой науки для составления популярных статей в «Азбуке». Записи Толстого показывают его знакомство с сочинениями выдающегося английского физика Гемфри Дэви, с книгой другого английского физика — Д. Тиндаля «Теплота, рассматриваемая как род движения», с положениями М. Фарадея, с опытами Д. Джоуля. Не ограничиваясь усвоением сведений, добытых экспериментальным путем, Толстой пытался проникнуть в самую сущность явлений физического мира. Он задается вопросами: что есть масса? Где граница тела? Что определяет объем? Что такое притяжение? Что такое теплая среда? Как объяснить горизонтальность жидкости? Что есть огонь? Отчего происходит делимость? На все эти и многие другие вопросы Толстой пытался найти ответы в меру своих знаний и на основе своего общего миросозерцания. «Аксиомы», из которых исходил при этом Толстой, выражены им в следующих формулировках:
«Все мироздание состоит из движущихся частей материи различной формы».
«Материя одна. Материя для себя самой непроницаема. Материя бесконечно дробима. Пространства без материи мы не знаем и не можем себе представить»124.
В предисловии к 48-му тому Полного собрания сочинений Толстого на основании отзывов специалистов дается следующая оценка его записей по физике:
«Наличие этих записей опровергает довольно распространенное представление, будто Толстой не интересовался точными науками и не был с ними достаточно знаком. Чтение этих записей убеждает в том, что Толстой был знаком с работами известных физиков своего времени. В тексте... упоминаются такие новые по тому времени открытия и экспериментальные данные, как поляризация света, разложение спектра на тепловые, световые и ультрафиолетовые («химические») лучи, химическое действие электрического тока и ряд других.
Из записей Толстого видно, что он не только знакомился с достижениями современной ему физики, но касался весьма широкого круга проблем этой науки и относился к ним со свойственным ему глубоким интересом и критикой самого существа вопроса...
Несомненно, что ряд высказываний Толстого по вопросам физики стоял на уровне современной ему науки, а в отдельных случаях он шел впереди ее. Таково, например, рассуждение о покое и движении, записанное 7 марта 1872 года, близкое по своему смыслу к закону относительности, открытому значительно позже: «Движение не есть противуположение покою. Покоя
48
нет, как скоро есть движение... Движение есть противуположение направлений движения»...
Как видно по записям и чертежам в записной книжке, Толстой, задумываясь над свойствами световых лучей, в конце концов пришел к выводу, который он записал 14 марта 1872 года: «Лучи, встречающие препятствие, производят силу». Таким образом, Толстой отмечает здесь хорошо известное теперь в физике явление светового давления»125.
XVI
Между тем печатание «Азбуки» в Москве подвигалось вперед очень медленно, и у Толстого явилась мысль перенести печатание в Петербург и просить Н. Н. Страхова держать последние корректуры. Страхов после некоторых колебаний согласился на это предложение, и Толстой 20 июня послал ему рукопись первых двух книг «Азбуки».
По ходу работы Толстой давал Страхову все новые и новые полномочия. Он просил Страхова делать переводы славянских текстов, входящих в «Азбуку», и снабжать их грамматическими объяснениями, вполне предоставлял его усмотрению порядок размещения материала и разрешение вопросов орфографии, просил исправлять «неясности и дурные обороты» в наставлениях «Для учителя», а из рассказов для детей вычеркивать все, что Страхов найдет «плоским и лишним».
В первом же письме к Страхову в середине июня, давая указания, касающиеся печатания «Азбуки», Толстой прибавлял; «...Во многом позвольте полагаться на ваш вкус и писать ad libitum» (по усмотрению)126.
Страхов очень умеренно пользовался предоставленными ему правами и вносил исправления в толстовские тексты лишь в исключительных случаях, всегда уведомляя об этом автора; но некоторые статьи по физике и по естественным наукам, казавшиеся ему не вполне точными и ясными, Страхов с согласия Толстого удалил из «Азбуки».
Толстой был очень доволен работой Страхова. «Не могу вам выразить, как я вам благодарен за то чувство спокойствия, которое испытываю, зная, что книга в ваших руках», — писал он Страхову 2 июля127.
В одном из писем в конце сентября Толстой даже просил Страхова поставить ему отметки по пятибалльной системе за-рассказы в четвертой книге «Азбуки»: «Какие вам понравились — 4 и 5, и какие не понравились — 2, 1 и 0»128.
49
С наступлением лета Толстой решил съездить в свое только что купленное самарское имение, отчасти с той целью, чтобы отдохнуть от напряженной работы, отчасти по хозяйственным делам. Он рассчитывал, что вся поездка займет не больше четырех недель.
Перед самым отъездом, 8 июля, Толстой написал Страхову, прося во время его отсутствия все недоразумения по печатанию «Азбуки» разрешать так, как ему «кажется лучше». «...Надеюсь на вас, как на каменную гору», — писал Толстой129. В отсутствие Толстого его жена 14 июля отправила Страхову третью книгу «Азбуки».
8 июля Толстой выехал из Москвы на пароходе до Нижнего Новгорода, а оттуда на пароходе же до Самары. Работа над «Азбукой» продолжалась и в пути. Особенно много труда требовала арифметика, входившая как особый отдел во все четыре книги «Азбуки». 12 июля Толстой писал жене из Самары: «Вчера мучился с арифметикой целый день, вместо того, чтобы любоваться берегами»130.
13 июля Толстой приехал на свой новый хутор, расположенный в Николаевском уезде Самарской губернии на реке Тананыке. Здесь он осмотрел дом, приобретенный у прежнего владельца, сделал план его перестройки, отдал распоряжения об уборке урожая, выбрал место для посева, распорядился относительно покупки скотины, птицы и хозяйственных принадлежностей. Степь опять привела Толстого в восхищение. «Что здесь за воздух — это нельзя понять, не испытавши», — писал он жене 14 июля131. И все-таки он чувствовал себя неспокойным. «Совестно вырывать из своей счастливой и полезной жизни время на пустяки», — писал он жене в том же письме.
Предыдущим летом Толстой этого не чувствовал. Тогда он только что пережил мучительный разлад семейных отношений и, с другой стороны, не был занят никакой работой. Теперь было другое. Семейные отношения опять наладились. Софья Андреевна писала в дневнике 30 марта 1872 года: «Зима была счастливая, мы опять жили душа в душу...»132. С другой стороны, над ним тяготела незаконченная работа над «Азбукой». Все это привело к тому, что Толстой не прожил в самарской степи назначенного им себе срока. Не позднее 29 июля он уже вернулся в Ясную Поляну, а 30 июля писал Страхову: «Я вернулся здоровый и свежий, но начинаю слишком рано работать и хочу удержаться и не могу. Как будто подгоняет меня невидимая сила, и неохотно покоряешься»133.
50
6 августа Толстой получил первые три листа корректуры «Азбуки». Он остался очень доволен внешностью книги. «Издание и отчетливость работы удивительны, — писал он Страхову 7 августа. — Я никогда не мечтал, чтобы было так хорошо»134.
Недоработанным оставался отдел арифметики, которому Толстой придавал особенно большое значение, как это всегда с ним бывало, когда он был очень увлечен какой-нибудь работой. В том же письме Толстой писал Страхову: «Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики... Вы будете смеяться надо мной, что я взялся не за свое дело; но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге»135.
Работа над рассказами для «Азбуки» была почти закончена; в середине августа Страхову была отправлена четвертая книга. Однако неожиданное обстоятельство на некоторое время выбило Толстого из рабочей колеи.
XVII
Во время пребывания Толстого в Самаре в Ясной Поляне произошло несчатье: бык насмерть забодал пастуха.
В сентябре в Ясную Поляну явился молодой либеральный судебный следователь. Обрадовавшись случаю «покуражиться» над помещиком-графом, он объявил Толстому, что дело передается в суд, и взял с него подписку о невыезде.
Между тем, спустя некоторое время Толстой был назначен присяжным на выездную сессию Тульского окружного суда в селе Сергиевском. Он отправил председателю Тульского суда запрос, ехать ему на суд или нет, так как с него взята подписка о невыезде. Председатель суда ответил, что он будет прав, если не поедет. Толстой пишет в суд, что не может ехать, так как находится под следствием. На суде товарищ прокурора заявляет, что граф Толстой не может быть присяжным, потому что обвиняется в преступлении, предусмотренном 1466-й статьей Свода законов. Эта статья гласила: «Кто, без намерения учинив убийство, дозволит себе какое-либо действие, противное ограждающим личную безопасность и общественный порядок постановлениям, и последствием оного, хотя и неожиданным, причинится кому-либо смерть, тот за сие подвергается заключению в тюрьме от двух до четырех месяцев».
Суд, однако, не соглашается с мнением прокурора и накладывает на Толстого штраф в 25 рублей, требуя, чтобы он явился, иначе он будет предан суду. С письмом председателя суда, в котором было сказано, что он юридически прав, не являясь на суд, Толстой приезжает в Сергиевское.
51
Возмущенный до крайности всем этим делом, Лев Николаевич, как десять лет назад, 15 сентября пишет письмо в Петербург А. А. Толстой. Он не менее возмущен всем происшедшим, чем был возмущен в 1862 году произведенным у него обыском. Он пишет, что если дело действительно дойдет до суда, то он решил, «как ни противна» ему «европейская жизнь», уехать в Англию «навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будет у нас обеспечено». Он просит А. А. Толстую снабдить его двумя-тремя письмами, которые бы открыли ему «двери хорошего английского круга. Это необходимо для детей, которым придется там вырасти».
Закончив эту деловую часть письма, Толстой вновь изливает все свое негодование на то, что с ним случилось. Он пишет: «Говорят, что законы дают sécurité [безопасность]. У нас напротив. Я устроил свою жизнь с наибольшей sécurité. Я довольствуюсь малым, ничего не ищу, не желаю, кроме спокойствия; я любим, уважаем народом; воры и те меня обходят; я имею полную sécurité, но только не от законов»136.
Как признавался Толстой в одном из следующих писем, отправляя это письмо, он надеялся на то, что А. А. Толстая разгласит случившееся с ним во дворце, быть может, расскажет и самому царю.
Через четыре дня, 19 сентября, Толстой пишет ей же второе письмо с извещением о том, что им от председателя суда получено уведомление, что следователь сделал ошибку, потребовав от него подписку о невыезде, и что суда не будет, вследствие чего его решение об отъезде из России отменяется.
Между тем А. А. Толстая, получив первое письмо Льва Николаевича, ответила ему не в том тоне, как он ожидал. Письмо ее не сохранилось, но, судя по ответному письму Толстого, она уговаривала его «мужаться, не быть эгоистом и быть христианином». Письмо вызвало в Толстом чувство раздражения. В ответном письме от 23 (?) сентября он по пунктам возражает своей корреспондентке:
«Мужаться можно там, где есть враг, где есть опасность», а здесь только «борьба лжи и притворства». Признать то, что с ним случилось, как посланное свыше испытание он отказывается, так как нельзя считать посланным свыше испытанием, если попадешь в муравьиную кучу, и тебя со всех сторон «обсыпают и жалят муравьи». «Я понимаю, — язвительно говорит далее Толстой, намекая на придворную среду, — что многих людей, возвышенно-утонченных, можно высечь, и они только оглянутся, — не видал ли кто-нибудь, и сделаются еще приятнее, чем прежде, и их не жалко». Но есть и другие люди, «приносящие все в жертву соблюдению своего достоинства, для которых
52
малейшее унижение есть физическое страдание». И несмотря на то, что план отъезда из России был уже совершенно оставлен, Толстой все-таки, с единственной целью уколоть свою придворную тетушку и ее высоких покровителей, заканчивает письмо словами:
«Очень жалею о том, что потревожил вас, и наверно вперед не буду. А более, чем когда-нибудь, остаюсь при своем мнении, что лучшее, что может сделать человек, уважающий себя, это уехать от того безобразного моря самоуверенной пошлости, развратной праздности и лжи, лжи, лжи, которая со всех сторон затопляет тот крошечный островок честной и трудовой жизни, который себе устроил. И уехать в Англию, потому что только там свобода личности обеспечена — обеспечена для всякой уродливости и для независимой и тихой жизни»137.
Толстой хотел предать гласности всю эту историю. Около 15 сентября он начал статью под заглавием «Новый суд в его приложении». Черновые наброски этой статьи сохранились в его архиве138.
В самом начале статьи Толстой повторяет почти дословно то самое, что он писал в письме к А. А. Толстой: «Я убедился, что для России надо совершенно перевернуть то положение, которому нас учили в университете, именно, что цель закона и суда есть безопасность граждан». Далее он поясняет, что, будучи «любим и уважаем в околотке», он чувствовал себя в полной безопасности от всего, кроме суда. «Жизнь моя, — пишет Толстой, — безопасна от всего, кроме как от приложения закона — того самого, что имеет назначением обеспечивать жизнь людей».
Прежде чем перейти к описанию случая, который вызвал статью, Толстой рассказывает о своем личном отношении к тем представителям суда, с которыми ему пришлось иметь дело. Он говорит: «...Как бы ни старался человек верить на слово торжественному восклицанию судебного пристава: «Суд идет!» и что это суд [слово «суд» Толстой подчеркивает дважды], я невольно видел в этом суде очень хорошо мне известных господ по их прошедшему и не мог никак помирить мое невольное презрение к лицам с уважением к суду». И далее, явно имея в виду председателя и членов Тульского окружного суда, Толстой пишет: «Но если представить себе, что где-нибудь суд составлен из известного вам пошлого развратника или старого, известного по старым судам взяточника и пошлого богатого дурака, который от убийственной скуки и глупости утешается сидением на возвышении... то если представить себе таких судей (что невозможно, но я говорю для примера), то тогда...».
53
Намек получился слишком прозрачный, и Толстой, не закончив фразу, зачеркивает ее.
Далее Толстой переходит к рассказу о двух фактах из деятельности Тульского окружного суда, особенно поразивших его своей нелепостью. В одном случае без достаточных оснований была оправдана жена, убившая мужа; в другом случае был приговорен к тяжкому наказанию муж, убивший жену. Нельзя думать, что Толстой в раздражении на все, что с ним случилось, умышленно подбирал такие факты, которые доказывали нелепость суда. В нелепости суда он был убежден еще до истории с быком. 2 апреля 1870 года он заносит в свою записную книжку такое рассуждение: «Как просто мы говорим теперь: как глупо было учреждение пытки. Пытка затемняла, а не открывала правду. Через...139 лет будут удивляться, как могли не понимать глупость учреждения присяжных, и обвинителя, и защитника! Это затемняло правду и была игра»140.
После описания этих двух случаев Толстой имел в виду рассказать про те судебные дела, в решении которых он сам принимал участие в качестве присяжного, но здесь статья была оборвана.
Кроме основного текста, в архиве Толстого сохранилось еще несколько незаконченных отрывков, относящихся к той же статье. В одном из этих отрывков Толстой обрушивается на новый суд за то, что этот суд не соблюдает статьи закона, по которой арестованному через семь дней должно быть предъявлено обвинение; в противном случае он должен быть освобожден. «Уклонение, всеми принятое, взошедшее в обычай, от семидневного срока есть не уклонение, а уничтожение закона. Вора следует, может быть, наказать одним годом тюрьмы, а он уже просидел три».
Все эти наброски написаны очень торопливо, многие слова оставлялись недописанными. Чувствуется глубокая взволнованность автора.
Но после того, как Толстой узнал, что суда над ним не будет, он оставил начатую статью и вернулся к своей работе над «Азбукой» — к окончанию «Арифметики». В конце сентября он писал Страхову: «Нынче первый день, что я провел без дробей, и испытываю великое наслаждение»141.
XVIII
Толстой продолжал вести тот же уединенный, замкнутый образ жизни безвыездно в Ясной Поляне летом и зимой. Из соседних помещиков он поддерживал знакомство только с
54
А. Н. Бибиковым, владельцем усадьбы Телятинки, расположенной в трех верстах от Ясной Поляны, которого он в одном из писем к А. А. Толстой назвал «очень добрым человеком».
Городскую жизнь Толстой не любил и, как это видно по письмам, бывая по делам в Москве, всегда спешил как можно скорее вернуться в деревню. Так, 18 июня 1867 года Толстой писал жене из Москвы: «Вчера, подъезжая к Москве, как я увидал эту пыль и толпу и почувствовал жар и шум, так страшно и гадко стало, что захотелось поскорее бежать к тебе под крыло»142. О том же в еще более резких выражениях писал он А. А. Толстой 20 февраля 1872 года: «...Вчера я вернулся из Москвы, где я заболел, с таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретенным и мужчинами и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвердости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву. Со страхом думаю о будущем, когда вырастут дочери»143.
Шурин Толстого С. А. Берс говорит в своих воспоминаниях о Толстом: «Когда он бывал в городе со мною, я был свидетелем того, как он впадал в уныние, суетливость и даже раздражительность»144.
С. А. Толстая в своем дневнике 9 декабря 1870 года записывает, что, вернувшись из Москвы, где он покупал игрушки на елку, Лев Николаевич «все говорил: „Какое счастье быть дома, какое счастье дети, как я ими наслаждаюсь!“»145.
Иначе относилась к жизни в деревне его жена. Несмотря на большую семью, она часто скучала в деревенской обстановке. Об этом она не один раз писала своей сестре Т. А. Кузминской.
«Скоро у нас все разъедутся, и я со страхом думаю об осени и одиночестве. Вообще только и не мрачно на душе, когда очень шумно, а когда я остаюсь одна, даже вчера, ходя по лесу, оставалась одна, и на меня находит какой-то ужас и невыносимая тоска» (30 августа 1871 года).
«Меня теперь постоянно страшно удивляет, что есть еще на свете что-то веселое, если кто-нибудь веселится» (29 сентября 1871 года).
«Если б во мне проснулись все мои способности ума и души, а главное, мои желания, я бы могла до смерти доплакаться и прийти в ужасное нетерпение и волнение. Как будто что-то будет впереди, а теперь я живу покамест» (28 ноября 1871 года).
«Так одиноко, монастырски живешь здесь, в Ясной Поляне» (2 февраля 1872 года).
55
«Я всем счастлива, — а все мне грустно, все пусто и одиноко» (1 октября 1872 года).
«Очень у нас скучно и уединенно. Только делами спасаешься от той малодушной скуки, которая невольно иногда находит, и хотелось бы иногда и общества, и какого-нибудь неразумного удовольствия» (14 ноября 1872 года).
Несмотря на томившую ее по временам скуку, Софья Андреевна добросовестно исполняла свои обязанности матери и хозяйки дома.
В начале ноября 1872 года Н. Н. Страхов вторично посетил Ясную Поляну, пробыв в ней на этот раз два дня. Об этом своем посещении Ясной Поляны Страхов писал Толстому 4 декабря:
«Не сумею выразить, как мне приятно было опять увидеть Вас и вообще ближе узнать Вас по поводу «Азбуки» ...Каким-то светлым духом веет от Вас, как и от всех Ваших произведений, и я часто укрепляюсь этим духом, вспоминаю о нем, как о том образце, которого следует держаться.
Право, я ничего столько не желаю, как того, чтобы Вам жилось хорошенько и чтобы Вы писали как можно охотнее. Это самый большой мой интерес»146.
Страхов оставил Толстому свою только что вышедшую книгу «Мир как целое. Черты из науки о природе». В том же письме Страхов просил Толстого прочесть его книгу, прибавляя, что суждение Толстого будет ему «одним из главнейших указаний, как идти вперед». Он выражал надежду, что Толстой почувствует «нравственное впечатление, которое производит книга», которое «и есть самое важное».
Толстой внимательно, с карандашом в руке прочел книгу Страхова. В общем он отнесся к книге одобрительно, но некоторые главы и отдельные места книги Страхова ему не понравились, о чем он и написал автору 12 ноября большое письмо. Возражения Толстого против отдельных положений книги Страхова интересны тем, что раскрывают его философские воззрения того времени. Экземпляр книги Страхова с пометками Толстого в яснополянской библиотеке не сохранился.
В своем письме Толстой нападает на фразу Страхова: «Человек есть дух, а не вещество», и потому «постижение должно быть начато с духа, а не с вещества». На это Толстой возражает: «Человек отличается от остального мира, на мои глаза, вовсе не духом, которого я совершенно не понимаю, но тем, что он — судит о самом себе, когда судит о человеке, и судит о не себе, когда судит о вещах. Судить о самом себе (вернее, иметь себя предметом своим) мы называем сознание».
Как поясняет Толстой далее, он не признает существования «объективного духа», противопоставляемого «объективному [то
56
есть вещественному] миру». Но с тем, что «человек должен начинать постижение с себя, а не с вне себя», Толстой согласен.
Далее Толстой возражает против представления Страхова о том совершенстве, которого должен достигать человек. «Совершенство зоологическое, на котором вы настаиваете, — пишет Толстой, — даже умственное, которое вытекает из зоологического, есть совершенство только относительное, вытекающее из того, что человек сам на себя смотрит. Муха такой же центр и апогей всего создания» Толстой признает другое совершенство: «Совершенство нравственное, ралигиозное (буддизм, христианство), которое ничем не доказывается, которое несомненно и которое даже не может быть сравниваемо ни с чем... Короче, это — понятие добра... Оно есть у человека, оно сущность всей жизни».
Толстой считает, что утверждение Страхова о том, что «цель человеческой жизни есть совершенствование, совпадающее с совершенствованием организма», «умаляет значение человеческой жизни».
Преследует Толстой следы гегельянства, встречающиеся в книге Страхова. Так, по поводу утверждения Страхова: «Чистая мысль эфирна, по выражению Гегеля, то есть она легка, прозрачна и подвижна; она знает сама себя, свободно обращается сама с собою» и т. д. Толстой замечает: «Я ничего не понимаю. Менее всего понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур».
Указывая на эти пункты своего несогласия, Толстой, однако, в том же письме говорит, что книга Страхова произвела на него «сильное действие», что он узнал из нее «много нового и не случайного, а того самого, что нужно знать», что в ней многие вопросы, смутно ему представлявшиеся, «поставлены и разрешены ясно, ново и сильно» и что по прочтении этой книги мнение его о силе ее автора «еще более увеличилось»147.
———
10 ноября 1872 года «Азбука» вышла в свет, и Толстой почувствовал себя свободным для новой работы.
57
Глава вторая
«АЗБУКА»
(1871—1872)
I
«Азбука» на титульном листе имела обозначение: «Книга I», свидетельствующее о том, что у Толстого было намерение продолжать работу по составлению учебных книг для детей и с течением времени выпустить еще вторую книгу «Азбуки».
Работая над «Азбукой», Толстой так представлял себе значение своего труда: «Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получат из нее и что, написав эту азбуку, мне можно будет спокойно умереть»1.
В письме к министру народного просвещения графу Д. А. Толстому в конце 1872 года Лев Николаевич еще шире определил задачи своей книги, считая ее полезным учебным пособием не только для детей, но и для взрослых. «Цель книги, — писал он в этом письме, — служить руководству при обучении чтению, письму, грамматике, славянскому языку и арифметике для русских учеников всех возрастов и сословий и представить ряд хороших статей, написанных хорошим языком»2.
«Азбука» состоит из четырех частей, сброшюрованных в одну книгу, каждая со своей отдельной нумерацией. Все четыре части составляют одну объемистую книгу в 758 страниц3.
Порядок расположения материала во всех четырех книгах одинаковый. Материал распределен по четырем отделам. Первый отдел содержит материал для чтения школьников; второй отдел состоит из материала для чтения на церковнославянском языке; третий отдел носит название «Счет» (слово «арифметика» в «Азбуке» не употребляется); четвертый отдел, озаглавленный «Для учителя», дает методические указания учителям, пользующимся «Азбукой» как учебным пособием.
58
Указания даются к каждому отделу всех четырех книг «Азбуки»; кроме того, в первой книге даны «Общие замечания для учителя», цель которых — разумная и целесообразная постановка всего дела школьного обучения. Здесь Толстой на основании своего педагогического опыта определяет условия, которые необходимы для того, чтобы ученик учился охотно. Для этого необходимо: «1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно, и 2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях».
Для того, чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, Толстой советует учителю избегать двух крайностей: «не говорите ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя».
Далее Толстой переходит к указанию тех данных, которые необходимы для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях для занятий. В числе этих условий Толстой называет и то, чтобы ученик не боялся наказания за плохое ученье.
После этого следуют указания относительно рационального преподавания в народной школе каждого предмета и затем дается следующее общее заключение:
«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученик». Однако «если учитель положит и все силы на свое дело, то все-таки он не только со многими учениками, но и с одним учеником будет постоянно чувствовать, что он далеко не исполняет того, что нужно.
Для того, чтобы, несмотря на это всегдашнее недовольство собой, иметь сознание приносимой пользы, нужно иметь одно качество. Это же качество восполняет и всякое искусство учительское и всякое приготовление, ибо с этим качеством учитель легко приобретет недостающее знание.
Если учитель во время трехчасового урока не чувствовал ни минуты скуки, — он имеет это качество.
Качество это есть любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, — он будет хороший учитель...
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель».
Современный советский педагог В. Я. Струминский, приведя некоторые выдержки из «Общих замечаний для учителя», дает следующую характеристику этого отдела «Азбуки»:
«Этих немногих примеров достаточно, чтобы видеть, что теоретические построения Толстого в области педагогики были
59
намечены методологически четко, уверенно и оригинально, что это был не только практик-педагог, но и серьезный мыслитель, подлинный теоретик педагогики»4.
II
В первой книге «Азбуки» отделу русского чтения предшествует букварная часть — упражнения, имеющие целью обучение детей чтению и пониманию прочитанного. Здесь вслед за крупным изображением всех букв русского алфавита следуют изображения разными шрифтами каждой буквы отдельно, причем на каждую букву дан рисунок, изображающий предмет, название которого начинается с данной буквы (арбуз, бочка, вилка, гриб и т. д.). Каждая буква представлена в шести различных строчках и заглавных начертаниях, причем первые пять начертаний представляют буквы печатные (включая курсив), а последнее — рукописные.
Толстой предлагает особый, им самим выработанный способ обучения чтению, который он называет «слуховым». В наставлениях «Для учителя» он подробно объясняет, в чем состоит преимущество предлагаемого им способа и каким образом применять его на практике. По своему опыту в яснополянской школе он утверждает, что по предлагаемому им способу «памятливый ученик выучит все буквы в один урок»5.
За разнообразными изображениями букв следуют упражнения в чтении слогов. Даны слоги, состоящие из двух, трех, четырех и пяти букв; при этом даются и такие сочетания букв и звуков, которые не встречаются в словах русского языка, как, например: шрти, встру, взхны и т. п. Включение в упражнения таких слогов объясняется тем, что Толстой, сторонник всяческой гимнастики — физической, умственной и моральной, видел в тех усилиях, которые школьники должны были употреблять на прочтение и произнесение таких слогов, полезную умственную гимнастику, приучающую к прочтению и произнесению трудных слов.
Далее следуют упражнения в чтении целых слов, а затем целых предложений, преимущественно народных пословиц, поговорок и загадок. Некоторые поговорки по образцу народных составлены самим Толстым. Для облегчения начинающим школьникам процесса чтения все слова разделены черточками на слоги.
От пословиц, поговорок и загадок учащиеся незаметно переходят к миниатюрным (в несколько строк) рассказам, написанным
60
Толстым. Эти упражнения в чтении предназначались также и для усвоения учащимися правописания сомнительных гласных и согласных. С этой целью, в случаях различия между произнесением и написанием того или другого слова, выговариваемый звук помечался мелким шрифтом над правильно написанной буквой, как, например:
а | ш | аво | а | а | а а | |
один, | ложка, | у кого | что болит, | тот о том | и говорит. И т. д. |
Разумеется, в изобилии помещая в свою «Азбуку» русские пословицы, Толстой, кроме обучения школьников правильному чтению, произношению и правописанию, преследовал еще и другую цель: познакомить учащихся с лучшими произведениями русской народной мудрости. На пословицы было написано самим Толстым несколько маленьких рассказцев, причем пословицы служили выводом и формулировкой основной мысли рассказа, как, например:
«На деревне умер мальчик; мать его плакала, а на улице пели песни. Лес по дереву не плачет».
Относительно всей букварной части «Азбуки» советский педагог С. П. Редозубов писал: «Толстой дал не только указанный выше способ обучения грамоте, но применительно к своему методу составил Азбуку, не превзойденную никем по простоте и занимательности материала и по систематичности расположения слоговых трудностей»6.
За букварной частью в первой книге «Азбуки» следует вторая часть, состоящая из материала для чтения и пересказа. (В трех следующих книгах этот материал составляет первую часть.)
Толстой и в этой части «Азбуки» не упустил из вида ранее поставленной задачи: обучение школьников правописанию и усвоению грамматических форм. С этой целью в рассказах и статьях «Азбуки» то одни, то другие категории грамматических форм, правописание которых представляло наибольшие трудности для учащихся, выделены жирным шрифтом. То это окончания существительных в различных падежах, то окончания прилагательных, числительных и местоимений мужского и женского рода единственного и множественного числа, то предлоги и наречия, то окончания глагольных форм, то знаки препинания — точки, двоеточия, кавычки, скобки, вопросительный знак. Жирным шрифтом во всех четырех книгах напечатана также трудная для учившихся по старой орфографии буква «ять».
В определении тех случаев, когда правописание тех или других грамматических форм представляло наибольшие трудности,
61
Толстой руководствовался своей школьной практикой. «Не забывайте, — писал он Н. Н. Страхову в августе 1872 года, — что я в школьном учительстве не выдумываю и не рассуждаю, а руковожусь практикой личной и продолжительной»7.
III
Но, разумеется, цель, которую ставил себе Толстой в работе над «Азбукой», состояла не только в том, чтобы научить учащихся правильно читать и писать. Главной целью было — предоставить ученикам такой материал для чтения, который давал бы им возможность испытывать сильные «поэтические впечатления». (Эстетика для Толстого в то время неразрывно связывалась с этикой.)
Все рассказы и статьи, входящие в состав «Азбуки», были написаны или переработаны самим Толстым. Толстой счел нужным поместить в «Азбуке» составленное Н. Н. Страховым предуведомление, что все взятые из различных источников рассказы «переделаны так, что часто имеют весьма мало общего с оригиналом»8.
К своим рассказам для детей Толстой предъявлял самые высокие и художественные и моральные требования. Он был убежден, что «требование истинного содержания, художественного или поучительного, у детей гораздо сильнее, чем у нас»9. «Надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно», — писал он А. А. Толстой в начале апреля 1872 года10. Ясность рассказа была достигнута вполне. В наставлении «Для учителя» Толстой указывал, что весь материал для чтения, входящий в состав «Азбуки», составлен так, что «всякий ученик может все понять» в нем11.
В «Азбуке» Толстой разговаривает с детьми как равный с равными; нигде им не проявляется покровительственного, снисходительного отношения к детям, что всегда замечается детьми и отталкивает их12.
В каждой из четырех книг «Азбуки» материал для русского чтения расположен в порядке возрастающей трудности усвоения содержания, усложнения стиля и языка. Точно так же каждая книга «Азбуки» является подготовительной по отношению к следующей книге в смысле увеличивающейся трудности.
62
Во всех четырех книгах «Азбуки» материал для чтения расположен по одному и тому же плану.
Сначала идут басни — главным образом басни Эзопа, переведенные самим Толстым с греческого подлинника. Обилие басен Эзопа, включенных Толстым в его «Азбуку» (всего дано сорок шесть басен Эзопа), объясняется как их художественными достоинствами, так и тем, что Толстой находил много общего в своем миросозерцании с миросозерцанием Эзопа. «У Эзопа такой мужицкий здравый смысл», — говорил он13. Сходство миросозерцания Толстого с миросозерцанием Эзопа выясняется из следующей общей характеристики Эзопа как баснописца:
«Можно сказать, что Эзоп установил настоящее значение басни. В коротком рассказе, где действуют и разговаривают, кроме людей, животные, птицы, деревья, он дает понять причины некоторых человеческих поступков и, благодушно подшучивая над слабостями людей, будто без умысла выправляет их суждения и действия, возбуждая сочувствие к тому, что честно, чисто, достойно похвалы, и возбуждая негодование к низкому, бесчестному, постыдному. На сцене у него хитрая лисица, злой волк, трусливый заяц, высокомерный конь, а нравственное учение вытекает само собой: «не рой другому яму — сам в нее попадешь», «не гордись блестящим положением: на свете все подвержено превратностям», «делай добро, будь сострадателен, услужлив: придет час — и с ним тебе отплата от одолженных тобою, хоть малых и смиренных». Чаще же всего выражает Эзоп верование в вечно действующий и бодрствующий закон правосудия. Зверек, насекомые, птички, наравне с крупными и сильными животными, оказывавшими себя жестокими и неблагодарными, в минуту смерти говорят себе: «это мне поделом», или: „я заслужил это тем-то и тем-то“»14.
В каждой басне Эзопа содержится какое-нибудь нравоучение, «мораль». Толстой не соглашался с теми педагогами, которые утверждали, что дети не любят дидактику в баснях и рассказах. «Я не согласен, — писал он, — чтобы дети не любили мораль, они любят мораль, но только умную, а не глупую»15.
В баснях Эзопа, помещенных Толстым в его «Азбуку», порицаются и осмеиваются: глупость, безрассудство, несообразительность, тупость и закоснелость, легкомыслие, беспечность, эгоизм, нетоварищеское отношение, тщеславие, пустота и надутость, честолюбие, гордость и самомнение, пренебрежение опытом старших, дурное товарищество, обман и самообман, трусость и малодушие, ложь, неблагодарность, злоба, козни, ссоры
63
и распри. Поощряются и восхваляются: ум, сметливость, благоразумие, трудолюбие, скромность, товарищество, дружба, честность, правдивость, смелость, бескорыстие, любовь к свободе.
У Эзопа везде нравоучение, «мораль» даны в конце басни словами самого автора. У Толстого, напротив, во всех баснях нравоучение совершенно отсутствует. В педагогических целях он считал более целесообразным, чтобы ученики не получали в басне готовый вывод, а делали его сами из содержания басни16. Толстой требовал от учителей, чтобы ученики «передавали не только самое содержание басни, но и тот общий вывод, который, по их понятиям, вытекает из басни»17.
В баснях у Толстого, так же как и у Эзопа, отсутствуют художественные детали, каких так много у Лафонтена и Крылова, пользовавшихся сюжетами Эзопа; нет даже эпитетов, характеризующих то или другое действующее лицо. Это объясняется стремлением обоих баснописцев сосредоточить все внимание на основной идее басни и не направлять его на подробности, не имеющие существенного значения для смысла. Все басни начинаются не с характеристики действующих лиц, не с описания обстановки, а с действия: «Галка увидела, что голубей хорошо кормят», «Поймал рыбак рыбку», «Попалась лисица в капкан», «Шли по лесу два товарища» и т. д. Басни Эзопа в «Азбуке» Толстого так же просты по содержанию и языку, как просты они в подлиннике. Для сравнения приведем несколько басен Эзопа в точном переводе с греческого и в передаче Толстого.
Эзоп. Лисица и виноград
Голодная лисица заметила свесившуюся с лозы гроздь винограда и хотела было достать его, но как ни старалась, все напрасно. Ушла она и говорит: «Он еще не дозрел».
Иной не может сделать что-нибудь от недостатка сил, а винит в том случай18.
Толстой. Лисица и виноград
Лисица увидала — висят спелые кисти винограда, и стала прилаживаться, как бы их съесть.
Она долго билась, но не могла достать. Чтоб досаду заглушить, она говорит: «Зелены еще»19.
64
Эзоп. Кузнечик и муравьи
Муравьи просушивали зимою подмоченные хлебные зерна. Подходит к ним голодный кузнечик и просит: «Дайте мне поесть». — «Отчего же ты не заготовил себе корму летом?» — спрашивают его муравьи. — «Я не сидел сложа руки, я играл и пел», — отвечает он. — «Ну, коли ты летом играл, — со смехом говорят муравьи, — то зимою пляши».
Ни к чему не относись небрежно, чтобы после не плакаться и не накликать беду на свою голову20.
Толстой. Стрекоза и муравьи
Осенью у муравьев подмокла пшеница; они ее сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали: «Что ж ты летом не собрала корму?» Она сказала: «Недосуг было: песни пела». Они засмеялись и говорят: «Если летом играла, зимой пляши»21.
Переводы басен Эзопа на простой русский, всем доступный язык потребовали от Толстого большого труда и переделывались им по нескольку раз. Вот для примера четыре варианта перевода басни Эзопа «Муравей и голубка», открывающего собою отдел для чтения первой книги «Азбуки».
I вариант
Муравей и голубь
Муравей захотел <пить в> напиться в ручье. Волна подхватила его и потопила. Голубь нес ветку в гнездо. Он увидел <это> муравья и бросил <муравью> ему ветку в <ручей> воду. Муравей влез на ветку и спасся.
После этого охотник, расставив сети, <прилаживался поймать голубя> хотел захлопнуть их над голубем. Муравей <, увидав> увидел это и укусил охотника в ногу. <Охо[тник]> <от боли> Охотник от боли уронил сети, и голубь улетел.
II вариант
Муравей и голубь
<Муравью захотелось напиться. Он> Муравей захотел пить и подошел к ручью. Ветер <поднял волну. Волна> всколыхнула воду. Вода подхватила муравья и отнесла от берега <и чуть не потопила>. Голубь нес ветку в гнездо. Он увидал, что муравей
65
тонет, и бросил ему ветку в воду. Муравей влез на ветку и поплыл к берегу.
<После этого> Потом охотник расставил сети <и хотел>, чтобы поймать голубя. Муравей увидал это и укусил охотника в ногу. Охотник <почесал ногу> <не захлопнув сети, а почесал ногу. А> бросил сеть, и голубь улетел.
III вариант
<Муравью захотелось пить, он и> Муравей спустился к ручью, <чтобы> хотел напиться, <да от волны чуть не захлебнулся> а волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка <увидала это> <несла ветку. Она увидала это> <неся> <у ней>. <Она> несла ветку. Она увидала это и бросила <ее> ветку в ручей. Муравей <вз[лез]> сел на ветку и спасся. Охотник после того <охот[ник]> наставил пружок, чтобы поймать голубку. Муравей увидел это и укусил охотника за ногу. <Он> Охотник <ур[онил]> <повалил от боли> от боли уронил пружок. Голубка увидала и улетела.
Окончательная редакция
Муравей и голубка
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидала — муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.
Это — пример той «ужасной», по выражению Толстого, работы над языком22, какой потребовала от него «Азбука».
Все четыре книги «Азбуки» написаны простым, ясным, точным, сильным, образным языком, приближающимся к народному разговорному языку.
В выработке такого языка неоценимую помощь оказывали Толстому его ученики — яснополянские дети, пересказывавшие содержание написанных или переработанных им басен и рассказов. Историю одного удачного выражения, попавшего в «Азбуку», рассказал С. Л. Толстой в своих воспоминаниях. Яснополянский мальчик пересказывал басню «Лев, осел и лисица». Лев, осел и лисица отправились на ловлю зверей. Когда они вернулись с богатой добычей, лев велел ослу разделить ее между всеми участниками. Осел добросовестно разделил все на три равные кучки. Лев сейчас же растерзал его и съел и велел
66
лисице делить сызнова. Лисица всю добычу отнесла ко льву, а себе оставила только маленький кусочек. Лев похвалил ее и спросил, кто ее научил так делить. «Я научилась этому от осла, потому что была свидетельницей постигшей его участи», — отвечает лисица по Эзопу23. Мальчик ответ лисицы передал так: «А с ослом-то что было?» Толстой сейчас же подхватил эту меткую фразу и закончил ею свое переложение басни24.
Кроме басен Эзопа, Толстой включил в «Азбуку» около тридцати переведенных или переработанных им восточных басен и сказок. Сюжеты индийских басен и сказок, переведенных на французский язык, Толстой заимствовал из двух сборников: «Les avadânas, contes et apologues indiens, inconnus jusqu’à ce jour», tt. 1—3. Paris, 1859, и «Contes et fables indiennes de Bidpai», в кн: «Les mille et un Jours. Contes persans». Paris, 1839. Из второй книги Толстым заимствованы также турецкие, персидские и арабские басни и сказки. Две восточные сказки были взяты Толстым из книги: «La morale en action ou choix de faits memorables». Paris, 1845. Все эти книги имеются в библиотеке Толстого в Ясной Поляне25.
IV
За баснями в «Азбуке» следуют сказки.
В педагогической литературе 1860—1870-х годов господствовало отрицательное отношение к элементу фантастики в детской литературе и, следовательно, к помещению сказок в книги для детей. Так, журнал «Педагогический листок» в 1873 году писал: «Мы часто судим о детях по тому, какими были мы сами в годы нашего давно минувшего детства, и думаем, что фантастический элемент имеет особое обаяние для детей. Мы забываем, что жизнь ушла вперед и что это невольно отражается и на том поколении, которое прямо вступило в более здоровую атмосферу жизни. Теперь даже шестилетний ребенок перебивает человека, читающего ему сказку, канальским замечанием: „Да ведь это же все чепуха“»26.
Анонимный автор рецензии на «Азбуку» в либеральном «Вестнике Европы» утверждал: «Сказочный, вычурный и вообще болтливый элемент, как ни привлекателен для молодого ума, решительно раздражает лишь нервы, то есть действует патологически, приучая к грезам, несообразности, неестественности,
67
небывальщине, неправде, поддерживая дедовские предрассудки и закоснелое суеверие»27.
«Позиции противников сказки обычно подкреплялись одной и той же аргументацией. Сказки вредны, так как «задерживают развитие детей...», «сказки пугают ребенка изображением страшного и расслабляют его волю...», «сказки развивают грубые инстинкты...» Эти доводы повторялись противниками сказки на протяжении десятилетий и передавались из поколения в поколение... Однако жизнь всегда неумолимо опровергала всю аргументацию противников сказки. Дети читали сказки, воспитывались на них, и никакими силами их нельзя было оторвать от этого живого источника народной мудрости»28.
На Толстого доводы противников сказки не оказали никакого воздействия. Он поместил в «Азбуку» несколько обработанных им русских народных сказок из сборников Афанасьева и Худякова, а также несколько немецких сказок из сборника братьев Гримм и популярную сказку «Мальчик с пальчик», входящую в состав сборников Перро, братьев Гримм, Ф. Гофмана и других. Несколько сказок, заимствованных из «Тысячи и одной ночи» и других восточных источников, рассказывающих о необыкновенных происшествиях, случающихся с героями этих сказок, отличаются особенной занимательностью. Таковы сказки: «Царский сын и его товарищи», «Праведный судья», «Строгое наказание». Толстой считал, что произведения богатой восточной фантазии будут доступны и интересны и русским детям.
Из сказок классических писателей Толстой поместил сказку Андерсена «Новое платье короля», заменив короля царем (сказка названа «Царское новое платье»), а ребенка, который кричит, что царь голый, и тем разрушает всеобщую ложь, — традиционным в русских сказках дурачком, который оказывается умнее всех. Кроме того, Толстой в несколько раз сокращает сказку, выпустив описание всей придворной обстановки (военный парад, появление короля в театре, церемонии, речь сановника, описание гардеробной и пр.). Цель сокращений состояла в том, чтобы путем удаления всего второстепенного и менее важного помочь маленьким читателям «Азбуки» сосредоточить все свое внимание на основной смелой мысли сказки-сатиры, выраженной в оригинальной форме. Кроме того, Толстой изменил конец сказки. У Андерсена после возгласа ребенка голый царь продолжает свое шествие по городу; Толстой же дает такой конец сказки: «И царю стало стыдно, что он не одет, и все увидали, что на царе ничего не было»29.
68
Главной целью, какую Толстой имел в виду, помещая в «Азбуку» сказки, было — выработать у школьников способность усвоения и передачи всех подробностей сложного развития действия. «По прочтении сказок, — писал Толстой в наставлениях «Для учителя», — требуйте от ученика преимущественно связного изложения хода дела»30. Вместе с тем многие сказки заключали в себе, подобно басням, некоторую «мораль» — восхваление сметливости, трудолюбия, настойчивости, сострадания, справедливости или сообщали ученикам сведения, расширяющие их умственный кругозор. Так, в сказках «Шат и Дон»31, «Волга и Вазуза» и «Судома» даются некоторые географические сведения; из сказки «Золотоволосая царевна» дети узнают интересные подробности о жизни шелковичного червя и т. д.
V
Вперемежку со сказками в отделе русского чтения «Азбуки» помещен целый ряд рассказов.
Кроме рассказов самого Толстого, в «Азбуку» включены рассказы, сюжеты которых заимствованы из печатных источников, в том числе из учебных книг и хрестоматий, каковы: П. Перевлесский. Практическая русская грамматика; П. Басистов. Для чтения и рассказа. Хрестоматия; И. Паульсон. Книга для чтения и практические упражнения в русском языке; К. Д. Ушинский. Детский мир. Хрестоматия; далее — из детских журналов «Звездочка» и «Детское чтение»; из журнала «Семейные вечера», где Толстой прочитал рассказ Фета «Первый заяц», который он изложил в «Азбуке» под названием «Как я в первый раз убил зайца»; из книги: В. И. Даль. Два сорока бывальщинок для крестьян и других.
Все эти рассказы были настолько переработаны Толстым, что их невозможно отличить от его собственных рассказов, включенных в «Азбуку».
Рассказ любимого ученика Толстого в его школе 1860-х годов, Васи Морозова, «Солдаткино житье», которым так восхищался Толстой и о котором писал в своей статье «Кому у кого учиться писать — крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских
69
ребят?», был помещен в «Азбуку» с некоторыми стилистическими исправлениями.
Все рассказы, включенные в «Азбуку», необычайно просты и по построению и по языку. Они написаны короткими предложениями, приближающимися к народной речи; в них схвачена свойственная русскому народному языку меткость и сила выражения. Причастные и деепричастные обороты, не употребляющиеся в обычной разговорной речи, в рассказах Толстого не встречаются.
К педагогам, пользующимся его «Азбукой», Толстой предъявлял требование — на основании содержащегося в книге материала развивать в детях чуткость к восприятию художественных образов. В наставлениях «Для учителя», помещенных в первой книге «Азбуки», он писал: «Заставляя рассказывать статьи второго отдела, нужно стараться, чтобы ученики при описаниях и рассказах передавали подробности рассказа или описания».
Все рассказы из жизни людей, помещенные в «Азбуке», можно подразделить на две категории.
К первой можно отнести рассказы, которые Толстой впоследствии в своих «Книгах для чтения» назвал «былями». В основу этих рассказав положен какой-нибудь действительный случай.
Ко второй категории относятся рассказы, являющиеся преимущественно произведениями творческой фантазии гениального художника.
К числу «былей» следует прежде всего отнести автобиографические рассказы, помещенные в «Азбуке». Таковы рассказы «Старая лошадь» и «Как я выучился ездить верхом», а также более значительный по размеру рассказ «Охота пуще неволи», в котором Толстой рассказал о едва не стоившей ему жизни охоте на медведицу в 1858 году.
Далее, к числу «былей» относится также рассказ яснополянского школьника Васи Морозова «Как меня не взяли в город», напечатанный первоначально в «Книжках для чтения», выходивших в виде приложений к журналу «Ясная Поляна», и записанные со слов яснополянских ребят рассказы: «Как меня в лесу застала гроза», «Как я дедушке нашел пчелиных маток», «Как я перестал бояться слепых нищих».
Некоторые из «былей» заимствованы из печатных источников. Так, рассказ «Пожар» написан на основании следующего сообщения, взятого из журнала «Сельское чтение» и озаглавленного «Неустрашимый мальчик», которое Толстой прочел в «Книге для чтения» Паульсона:
«В Ковенской губернии, в городе Шавлях, Казимир Глосовский по бедности жил в сушильне своего соседа Александровича. В октябре месяце 1845 года Глосовский отлучился в город Россиены. Дома остались жена Глосовского и трое малолетних детей: дочь Фекла шести лет и сыновья — Петр четырех и
70
Михаил трех лет. Мать затопила печку и вышла на время из дома посмотреть скотину. Что делали оставленные без присмотра дети, неизвестно, но вероятно, по неразумию, стали шалить с огнем, потому что в сушильне сделался пожар. Первый заметил это девятилетний мальчик Калиник, сын хозяина, игравший на дворе. Не думая долго, он бросился в сушильню: видит, что пламя уже почти охватило детей. Он схватил их в охапку и вытащил на двор. Между тем прибежали и взрослые, пожар потушить уже было невозможно; сушильня сгорела, но трое детей были спасены неустрашимостью девятилетнего Калиника»32.
Весь этот рассказ Толстой переделал до неузнаваемости, оставив неприкосновенным только поведение «неустрашимого мальчика». Чуждые русскому уху имена Казимир и Калиник он замелил привычными Маша, Кирюшка, Ваня; действие перенес из города в деревню, в самую обыкновенную крестьянскую избу; временем действия выбрал рабочую пору, когда все крестьяне, кроме самых старых и малых, уходят работать в поле. Вместо матери, отправившейся посмотреть скотину и не заметившей полыхавшего пожара, Толстой ввел новое лице — бабушку, которая, истопив печку, улеглась спать. Все действие развертывается самым естественным при данных условиях образом. Дети, пользуясь тем, что бабушка заснула, начали забавляться огнем: трехлетняя Маша нагребла из печки в черепок горячих угольков, «вздула печку» под снопами, лежавшими в сенях, и позвала своего маленького брата Кирюшку. Пламя быстро охватило сначала сени, а потом и избу. «Неустрашимый мальчик», с большим трудом и опасностью для самого себя спасший двух перепугавшихся детей, забившихся под лавку, сделан их родным братом. Само дидактическое название рассказа заменено простым словом «Пожар». И из сухого журнального сообщения получилось яркое художественное произведение, оставляющее глубокое впечатление не только описанием смелого и самоотверженного поступка восьмилетнего крестьянского мальчика, но и превосходной бытовой картиной жизни русской деревни во время уборки урожая.
Некоторые из «былей» обработаны Толстым таким образом, что вместе с занимательностью рассказа и бытовыми подробностями сообщают детям некоторые сведения по физике и химии. Таковы «были»: «От скорости сила», «Как в городе Париже починили дом», «Вредный воздух», «Самокрутка» и др.
Из американских источников заимствованы две «были» приключенческого характера — «Акула» и «Прыжок», которые с захватывающим интересом читаются детьми. Рассказ «Акула» был переведен с английского племянницей Толстого В. В. Нагорновой
71
и им проредактирован. Под пером Толстого оба эти рассказа получили особенную живость и образность.
Среди всех «былей», помещенных в «Азбуке», выделяется своим совершенно особым характером рассказ «Индеец и англичанин», заимствованный из какого-то американского источника. Время действия рассказа — годы войны англичан против индийцев. Рассказывается, что один англичанин, перебивший много индийцев, попал в плен. Его привязали к дереву и хотели убить, но старый индиец выпросил его себе, привел в свой дом, накормил, уложил спать, а на другое утро повел по направлению к английскому лагерю и отпустил на волю, сказав при этом: «Ваши убили моего сына, я спас тебе жизнь; иди к своим и убивай нас». Англичанин подумал, что индиец смеется над ним, и просил скорее его убить, но индиец отвечал: «Когда тебя стали убивать, я вспомнил о своем сыне, и мне стало жаль тебя. Я не смеюсь: иди к своим и убивай нас, если хочешь». Идея рассказа — излюбленная мысль Толстого о нравственном превосходстве порабощенных колониальных народов (в данном случае — индийцев) над их завоевателями европейцами (англичанами). Конечно, ни один англичанин, находившийся в составе покорявшей Индию английской армии, с самого начала вторжения англичан в Индию и до провозглашения независимости Индии, никогда не мог подняться до такой нравственной высоты, какую обнаружил описанный в рассказе индиец.
По своему опыту в яснополянской школе Толстой пришел к заключению, что у крестьянских детей того времени, нигде не бывавших дальше Тулы и не имевших никакого понятия «о государстве, власти, войне и законе, составляющих предмет истории»33, еще не может быть исторического интереса в собственном смысле этого слова. Поэтому занимательные рассказы исторического содержания, помещенные в «Азбуку», как «Основание Рима», «Как гуси Рим спасли», не преследовали цели объяснения исторического смысла событий.
Живой, увлекательный рассказ дается о покорении Сибири Ермаком (перепечатка из «книжек» «Ясной Поляны» с исправлениями Толстого для «Азбуки»). Образным народным языком переданы не только разговоры Ермака и его обращения к дружине и к татарам; народные выражения и обороты обильно включены и в авторский рассказ («Прослышали они, что по реке Каме на 140 верст в кругу есть хороша земля», «Сошлось к ним много гулящего народа», «Царь согласился и отписал», «Пришли места еще веселее», «Войска конца краю не видать...», «Как забрал Ермак всю эту землю, послал Ермак посла к Строгановым и письмо», «Откуда ни взялись татары» т. д.).
72
Два рассказа, заимствованные из Геродота: «Камбиз и Псаменит» и «Поликрат Самосский» — должны были не столько ознакомить детей с историческими событиями, сколько выразить определенные нравственные идеи.
VI
Особенными художественными достоинствами отличаются два, самых больших по размерам, рассказа, написанных Толстым для «Азбуки»: «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет».
В основу рассказа «Кавказский пленник» положен случай, происшедший с самим Толстым на Кавказе 13 июня 1853 года на пути из крепости Воздвиженской в крепость Грозную, когда он вместе с другими четырьмя офицерами, отделившись от «оказии», поехал вперед и чуть не попался в плен к чеченцам34. Кроме того, можно указать несколько литературных источников рассказа «Кавказский пленник».
Прежде всего следует назвать повесть неизвестного автора, подписавшегося инициалами Н. М., напечатанную в «Библиотеке для чтения» за 1838 год35.
Сюжеты повести Н. М. и рассказа Толстого в основном совпадают: русский офицер попадает в плен к горцам и бежит из плена. В подробностях есть и сходство и различие.
В повести Н. М. рассказ ведется от первого лица. Поручик Б. рассказывает, как он попал в плен, возвращаясь со служебной поездки в ближайшую крепость. Его вместе с товарищем захватил в плен известный своими смелыми налетами на казацкие станицы абрек Хамурзин. Пленников привезли в аул, где черкесские мальчишки с радостными криками «Рус! Гяур!» бросали им в лицо снег и грязь. Их поместили в сарае и приковали цепями к двум столбам, стоявшим посредине. Тут же находились шесть черкесов и брат Хамурзина. К ним был приставлен для услуг русский мальчик, попавший в плен семи лет.
Через некоторое время Хамурзин отправился в набег на русские владения и был убит. Когда в ауле было получено известие о его смерти, рассказчика стали подозревать в том, что он письмом дал знать казакам о набеге Хамурзина. Против него появилось страшное ожесточение, его хотели убить. Мальчик, прислуживавший пленным, понимавший горский язык, рассказал офицеру, что его хотят убить через неделю, в день праздника
73
байрам. Офицер стал просить мальчика принести ему ключ от цепи, которой он был прикован; ключ этот всегда хранился у брата Хамурзина под изголовьем. Но мальчика стали подозревать в сношениях с пленными, и он на другой день бежал.
Через неделю в ауле разнесся слух, что идут русские; горцы покинули свой аул и двинулись в Чечню. Пленников взяли с собой. Прибыли в какой-то аул; пленников поместили в землянке и опять заковали в цепи. Здесь пленник видит во сне какую-то окровавленную женскую голову, которая говорит с ним и целует его; в этом сне ему чудится какое-то предсказание. Проснувшись, он находит около себя ключ, которым запиралась сковывавшая его цепь. Ключ этот попадает к пленнику каким-то чудесным образом.
Он отпер замок и вместе с товарищем бежал на свободу. Они отправились в другой чеченский аул, где добровольно сдались в плен, написав письма родным. Их выкупили, как было принято у чеченцев, «за шапку серебра».
Этим заканчивалась повесть «Библиотеки для чтения», появившаяся через 16 лет после одноименной поэмы Пушкина. Герой повести Н. М. имеет много общего с героем пушкинской поэмы. Так же как пушкинский герой, он «охладел ко всему», для него «нет радости в настоящем», он живет только прошедшим. Вся повесть написана в стиле Марлинского с изобилием романтических эффектов. Свое душевное состояние в тот момент, когда он был захвачен в плен, офицер передает следующими словами: «Кровь кипела во мне, сердце раздиралось, я весь дрожал от негодования, хотелось разорвать себя, но крепко стянутые руки укрощали мое бешенство, а быстрый лет коня занимал дыхание... Я был, как этот быстрый Терек, скованный в тесных берегах своих, который напрасно рвется, напрасно стонет: крепка, неразрушима ограда его!»
«Библиотека для чтения» была в 30-х годах прошлого столетия очень распространенным журналом. Можно предположить, что Толстой еще мальчиком читал «Кавказского пленника» Н. М. и сюжет повести запомнился ему.
В 1864 году Толстому случилось прочесть другое литературное произведение на ту же тему. Это была уже не повесть, а воспоминания о действительном факте — записки полковника кирасирского полка барона Ф. Ф. Торнау, который в 1834—1836 годах был послан в Абхазию «для тайного обследования горских аулов» и попал в плен к горцам, где оставался до 1838 года. Свое пребывание в плену он описал в воспоминаниях, напечатанных в 1864 году36.
Воспоминания Торнау по своей литературной манере совершенно противоположны повести Н. М. Это вполне
74
реалистический рассказ, лишенный всяких эффектных сцен и изобилующий многочисленными бытовыми и психологическими подробностями. Характер рассказчика совершенно иной, чем характер поручика Б., изображенного в повести «Библиотеки для чтения». Это очень смелый, мужественный человек, полный сознания своего достоинства, внушающий уважение горцам. Первая его попытка бегства из плена была неудачна — он был пойман и возвращен в прежнее место жительства, после чего условия плена стали еще более тяжелыми. Несколько облегчает ему его положение влюбленная в него абхазская девушка Аслан Коз, мечтающая выйти за него замуж. По его просьбе Аслан Коз приносит ему нож, которым он постепенно, день за днем, вырезает отверстие в одном из бревен хижины, где он был заперт. Но побег его осуществляется другим способом — его освобождает один из абхазцев по своим личным расчетам.
Воспоминания Торнау, несомненно, были прочитаны Толстым. В ноябре и декабре 1864 года он жил в Москве, где лечил сломанную руку и вел переговоры с Катковым о печатании «1805 года». Не будучи в состоянии писать своей рукой, Толстой имел много времени для чтения и, конечно, обратил внимание на воспоминания Торнау, напомнившие ему жизнь на Кавказе и напечатанные в том самом журнале, в котором и он предполагал напечатать свой роман.
Характер главного героя толстовского рассказа Жилина во многом напоминает характер Торнау, каким он вырисовывается из его воспоминаний.
Влюбленную Аслан Коз Толстой заменил татарской девочкой Диной, жалеющей Жилина и устраивающей ему побег, отчего рассказ стал глубже и доступнее детям. Второму пленнику (Костылину), который у Н. М. только упоминается, но совершенно не характеризуется, Толстой придал определенный характер апатичного и неповоротливого человека, чем еще больше выделяется молодечество Жилина.
«Кавказский пленник» особенно нравился и автору и читателям-детям. В трактате «Что такое искусство?» (1897—1898) Толстой выделяет этот рассказ, так же как и рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет», из всего ранее им написанного. Здесь он причисляет «Кавказского пленника» к произведениям «всемирного искусства», соединяющего людей в одном чувстве, всем доступном37.
О «Кавказском пленнике» Толстой одобрительно отзывался и в устных беседах. В 1883 году на вопрос одного из посетителей, в каком возрасте можно давать детям его «Детство», Толстой ответил, что он не считает свои повести «Детство» и «Отрочество» пригодными для детского чтения, и прибавил,
75
«особенно оживившись»: «Вот «Кавказский пленник» — Жилин и Костылин — вот это я люблю. Это дело другое. «Кавказский пленник» можно дать детям, и они любят его. Хотя это могло бы быть и лучше». На вопрос собеседника, какие улучшения можно было бы сделать в «Кавказском пленнике», Толстой ответил: «Язык можно было бы сгладить несколько, некоторые резкие народные выражения заменить другими, но уж я этого не могу. Я всегда пишу так»38.
Толстой, вероятно, разумел такие встречающиеся в «Кавказском пленнике» выражения, как «Не боялся, да и не буду бояться вас, собак» и другие.
В дни 80-летнего юбилея Толстого в 1908 году в одной из провинциальных газет появилось очень живо написанное воспоминание бывшего ученика сельской школы о том, как он мальчиком прочел «Кавказского пленника». Книжка была получена им от учительницы. В субботний вечер после ужина мальчик по просьбе деда, любившего слушать его чтение, стал читать «Кавказского пленника» вслух.
«Содержание книжки, написанной прекрасным языком, сразу заинтересовало нас. С каждой новой страницей внимание наше возрастало к судьбе героев рассказа — Жилина и Костылина, и мы следили за их приключениями, затаив дыхание. Книга оставляла огромное впечатление и заставляла волноваться. Особенно потрясающее впечатление произвела на нас сцена прощания Жилина с черкешенкой Диной. Я не выдержал и зарыдал. На глазах у деда также заблестели слезы.
Чтение «Кавказского пленника» окончилось при глубоком молчании чтеца и слушателя. Я в первый раз в жизни пережил такое сильное волнение при чтении книги.
Описанные в рассказе великим писателем в художественных и ярких образах, доступных пониманию детского ума, приключения и несчастия симпатичных героев оставляли глубокое впечатление и действовали на впечатлительную детскую натуру.
Несколько минут сидели мы молча, потрясенные, взволнованные, и затем, перебивая друг друга, стали делиться впечатлениями о прочитанном.
Добрый поступок Дины восхищал нас, и нарисованный автором симпатичный образ этой дикарки стоял в воображении таким прекрасным, обаятельным.
Разговаривая, мы и не заметили, как подкралась полночь и старинные стенные часы медленно пробили двенадцать ударов, как бы приглашая засидевшихся старого и малого оторваться от иллюзии и возвратиться к действительности.
76
Но забыть яркие образы героев рассказа было нельзя. Они стояли перед глазами, как живые, хорошо знакомые люди, судьба которых нам была близка и дорога...»39
В эволюции творческого метода Толстого рассказ «Кавказский пленник», как и другие рассказы для детского чтения, сыграл важную роль. Здесь мы находим попытку автора «Войны и мира» писать новым для него, народным языком, в котором, как он писал Страхову 22 марта 1872 года, «есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт».
Как справедливо писал Б. М. Эйхенбаум, «Кавказский пленник» — «это вовсе не подражание фольклору, а этюд, художественная задача которого состоит в чистоте и простоте рисунка, в четкости линий, в ясности и элементарности сюжета. Нет никакой психологической раскраски, никаких отступлений в сторону, никаких описательных подробностей. В основу положены простые, первобытные, «натуральные» отношения и чувства, лишенные всякой болезненности и утонченности, все действие построено на элементарной борьбе за жизнь. События рассказа происходят во время войны русских с горцами, но рассказчик не сообщает никаких исторических сведений, ограничиваясь одной короткой фразой: «На Кавказе тогда война была». Впервые у Толстого рассказ построен на самых событиях, на самом сюжете — на самом просто интересе к тому, чем дело кончится. ...Недаром Толстой так увлекался Гомером: получилось нечто вроде миниатюрной „Одиссеи“, противостоящей не только всей современной литературе, но и собственной грандиозной „Илиаде“ — „Войне и миру“»40.
Название рассказа Толстого, совпадающее с названием романтических поэм Пушкина и Лермонтова, наводит на мысль, что Толстой имел в виду написать свой рассказ совершенно иначе, чем написаны эти поэмы. В этом предположении укрепляет резко отрицательный отзыв Толстого о пушкинских поэмах (за исключением «Цыган»), записанный им в дневнике еще 7 июня 1856 года.
И действительно, ни в характерах персонажей толстовского рассказа, ни в описании обстановки, ни в изображении природы ничто не напоминает романтическую поэму. В этом рассказе Толстой нигде не переступает строгих границ реализма. Он выступил «со своим „Кавказским пленником“, опирающимся на широкую базу мирового эпоса и обращенным к читателям всех классов и возрастов». Но результат получился неожиданный: «рассказ, как будто направленный против Пушкина, оказался стоящим гораздо ближе к пушкинской прозе, чем прежние вещи
77
Толстого. Это совершенно естественно: принципы «простоты и ясности рисунка и штриха» должны были привести Толстого к прозе Пушкина»41.
VII
Рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет», так же как и рассказ «Охота пуще неволи», является попыткой осуществления давнишней мечты Толстого о рассказах на темы русских народных пословиц. Еще в 1862 году Толстой писал:
«Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы»42.
Рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет» представляет собою художественную обработку рассказа Платона Каратаева о невинно пострадавшем купце43. Этот рассказ служит прежде всего иллюстрацией изречения Платона Каратаева: «Где суд, там и неправда». Суд присудил невинного купца Аксенова к тягчайшему наказанию. Аксенов подает прошения на имя царя, но эти прошения не доходят по назначению. Правда, однако, все же восторжествовала, но восторжествовала она, согласно народной пословице, «не скоро» — тогда, когда невинно осужденного уже не было в живых. И восторжествовала она не благодаря суду, а вследствие душевной высоты и кроткого отношения невинно осужденного к виновнику его несчастья.
Образ Аксенова несомненно очень близок автору. Толстому дороги и его твердость в перенесении в течение многих лет всех тягот каторжной жизни, и его просветленное душевное состояние («вдруг у него на душе легко стало...») после того, как он простил человека, который был виновником его страданий.
Андрей Болконский, выражая мысли автора, перед смертью думает о том, что друга можно любить человеческой любовью, но врага можно любить только любовью «божеской». Пример проявления такой «божеской», по его терминологии, любви и дает Толстой в образе Аксенова44.
78
Некоторые критики — и современные Толстому и позднейшие, основываясь на заглавии рассказа, видели в нем выражение мистических — религиозных — идей автора. Это мнение ошибочно. Мысль рассказа, как и мысль народной поговорки, озаглавливающей рассказ, состоит только в том, что в жизни правда все-таки торжествует над ложью, хотя бы и через большой промежуток времени. Народная поговорка только обобщает в религиозной форме опыт многих поколений, наблюдающих окружающую жизнь.
Советский педагог А. И. Елизарова (сестра В. И. Ленина) в рецензии на «Книгу для чтения», составленную из детских рассказов Толстого и выпущенную Государственным издательством в 1921 году, выразила свое возмущение тем, что в книгу не вошли многие рассказы Толстого, в том числе «прелестный рассказ „Бог правду видит, да не скоро скажет“». «Поскольку нам помнится, — писала А. И. Елизарова, — тенденция его выражена подчеркнуто только в заглавии, и если заменить его таким, например, как „Повесть о купце Аксенове“, то весь рассказ может пойти без изменений, а впечатление от него не ослабеет. А лучше уж опустить заглавие, чем весь рассказ: нам памятен тот захватывающий интерес, с которым читали его дети»45.
VIII
Но если в рассказе «Бог правду видит, да не скоро скажет» нельзя видеть выражение каких-либо мистических понятий, то, с другой стороны, несомненно, что в этом рассказе выражена одна из самых дорогих для Толстого идей — вера в силу добра.
Такой же твердой верой во всепобеждающую силу добра проникнут и рассказ «Архиерей и разбойник», представляющий собою переработку эпизода из романа В. Гюго «Les Misérables» («Отверженные»).
До известной степени близка к философии «Войны и мира» заимствованная из турецкого источника сказка «Царский сын и его товарищи», в которой проводится мысль о предопределении и незыблемости воли провидения.
Общий взгляд на природу человека выражен в басне «Отчего зло на свете», заимствованной из индийского источника. Содержание басни — спор зверей о том, откуда происходит зло. Ворон говорит, что всё зло происходит от голода; голубь возражает, что зло не от голода, а от любви; змея находит, что зло не от голода и не от любви, а от злости; олень считает, что зло не от голода, не от любви и не от злости, а от страха. Этот
79
спор зверей слышит пустынник, расположившийся под деревом (он понимал язык зверей и умел говорить с ними). Он говорит: «Не от голода, не от любви, не от злобы, не от страха все наши мучения, а от нашего тела все зло на свете: от него и голод, и любовь, и злоба, и страх».
Бросается в глаза, что в то время как все звери очень убедительно доказывают каждый свою точку зрения, приводя неопровержимые факты из своей собственной жизни (голубь аргументирует даже при помощи народной поговорки: «Одна голова не бедна, а и бедна, так одна»), пустынник совсем не развивает и не доказывает свою точку зрения. Очевидно, Толстой, тонкий знаток детской психологии, признававший справедливость пушкинского афоризма: «Блажен, кто смолоду был молод»46, считавший, что «философского миросозерцания не может быть» даже «у мальчика 16 лет»47, понимал, что философия пустынника совершенно не свойственна детскому возрасту.
Единственное объяснение того, для чего Толстым помещена в его «Азбуку» эта басня, можно видеть в том, что он считал полезными такие литературные произведения, в которых находил изложение противоположных, сталкивающихся между собою воззрений на жизнь. Рекомендуя В. В. Арсеньевой прочесть «Обыкновенную историю» Гончарова, Толстой писал ей 7 декабря 1856 года: «...Прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее»48. Так и теперь Толстой надеялся на то, что рассуждения зверей в басне «Отчего зло на свете» о том, откуда проистекает зло, заинтересуют учеников, возбудят вопросы и оживленные споры; следовательно, басню в «Азбуку» поместить можно.
Многие рассказы «Азбуки» проникнуты определенной «моралью»; в них изображаются проявления смелости, мужества, сметливости, энергии и деятельности, присутствия духа в момент опасности, находчивости, товарищеского отношения, сострадания и т. д. Но есть в «Азбуке» и такие небольшие по размеру рассказы, которые были включены в книгу исключительно ради комизма, которым они проникнуты. Таковы, например, рассказы: «Слепой и глухой», «Мужик и огурцы», «Мужик и лошадь», «Три калача и одна баранка», басня «Царь и слоны» и др.
Один из критиков «Азбуки», педагог-резонер Резенер, назвал басню «Царь и слоны» просто глупой, недоумевая, зачем
80
она попала в «Азбуку»49. Но Толстой даже незадолго до своей смерти редактору близкого ему издательства «Посредник», И. И. Горбунову-Посадову, советовал «наряду с книгами... одного определенного направления» издавать «простые, веселые, без всякого замысла рассказы, даже сборники смешных, веселых, невинных анекдотов»50. Тем более он, смело нарушая установившиеся каноны, считал такого рода «веселые» рассказы вполне уместными в детской, хотя бы и учебной книге.
IX
Ряд статей «Азбуки» знакомил детей с явлениями природы, с жизнью растений и животных. Статьи эти по своему стилю настолько близки к рассказам, что в художественном отношении нет резкой разницы между рассказами Толстого и его статьями. Во многих статьях рассказ ведется от первого лица.
О том, чем руководствовался Толстой в выборе тем для рассказов по физике и в обработке этих рассказов, он писал Н. Н. Страхову в сентябре 1872 года: «Но должен сказать, что из естественных наук я выбирал не то, что попадалось в книгах, не то, что случайно знаю, не то, что мне кажется нужно знать, но то, что ясно и красиво, и когда мне казалось недостаточно ясно и красиво, я старался выразить по-своему»51.
Следующие статьи «Азбуки» имели целью в доступной для крестьянских детей форме познакомить их с причинами происходящих вокруг них физических явлений: «Какая бывает роса на траве», «Тепло», «Отчего бывает ветер?», «Для чего ветер?», «Отчего потеют окна и бывает роса?», «Отчего в мороз трещат деревья?», «Сырость», «Разная связь частиц», «Лед, вода и пар», «Кристаллы», «Солнце — тепло». Все эти статьи написаны по одному плану. Рассказывается хорошо известное детям из окружающей их жизни физическое явление и объясняются причины этого явления. Объяснение дается простым разговорным языком без употребления специальных научных терминов. Нередко Толстой прибегает к форме вопросов и ответов. Для примера приведем начало статьи «Тепло»:
«Отчего на чугунке кладут рельсы так, чтобы концы не сходились с концами? Оттого, что зимой железо от холода сжимается, а летом от жару растягивается. Если бы зимой вплотную сомкнуть рельсы концы с концами, они бы летом растянулись, уперлись бы друг в друга и поднялись».
Статья «Какая бывает роса на траве» начинается следующим превосходным пейзажем летнего утра в лесу (пейзажей вообще
81
в «Азбуке» немного): «Когда в солнечное утро, летом, пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что́ это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце».
Во всех трех статьях под заглавием «Тепло» сначала идут вопросы, на которые отвечает автор, но далее даются только вопросы, ответы на которые учащиеся должны найти сами. Все примеры различных явлений природы, упоминаемые в этих вопросах, взяты из окружающей крестьянского ребенка жизни, как, например: «Отчего стакан лопается, если нальешь в него кипяток?», «Отчего под щепой и соломой снег не тает, а лежит до Петровок?», «Отчего когда ветрено без мороза, то зябнешь больше, чем в мороз без ветра?», «Отчего, когда горяч чай в чашке, на него дуют?» и т. д.
В статье «Вредный воздух» Толстой воспользовался случаем в его имении Никольском, о котором он 10 августа 1864 года писал жене:
«Я вчера приехал в Никольское в 8. Страшный там случай, поразивший меня ужасно. Баба скотница упустила бадью в колодезь на конном дворе. Колодезь всего 12 аршин. Села на палку и велела себя спустить мужику. Мужик староста, пчеловод, единственный мне знакомый и милый в Никольском. Баба слезла вниз и упала с палки. Мужик староста велел себя спустить. Долез до половины, упал с палки вниз. Побежали за народом, вытащили через полчаса, оба мертвые. В колодце было всего [на] три четверти [аршина] воды. Вчера хоронили»52.
Пересказав с художественными подробностями этот случай, нарисовав яркую картину жизни русской деревни в воскресное утро53, Толстой далее рассказывает детям о том, что бывает «вредный воздух», от которого погибают люди и животные.
В рассказе «Самокрутка» Толстой, судя по обозначению «быль», воспользовался каким-то действительным фактом для того, чтобы в доступной детям форме познакомить их с попытками, предпринимавшимися в средние века разными учеными, а в более позднее время многими самоучками, открыть «вечное
82
движение» (perpetuum mobile) и показать невозможность этих попыток.
Статья «Для чего ветер?» имеет целью раскрыть гармонию, существующую между физическим миром и жизнью растений, животных и людей. В статье объясняется, что ветер, разнося семена, способствует опылению растений; что благодаря ветру звери лучше чуют носом и слышат ушами; что человек, пользуясь ветром, устраивает ветряные мельницы и парусные суда; что ветер по всем направлениям разгоняет тучи, скопляющиеся над земной поверхностью и орошающие землю, и т. д.
Еще в «Ясной Поляне» в 1862 году Толстой писал: «Не то дорого знать, что земля круглая, а дорого знать, как дошли до этого»54. Теперь он ту же самую мысль выражает в полемически заостренной, вызывающей форме: «Для ученика, ничего не знающего о видимом движении небесного свода, солнца, луны, планет, о затмениях, о наблюдениях тех же явлений с различных точек земли, толкование о том, что земля вертится и бегает, не есть развязка вопроса и объяснение, а есть без всякой необходимости навязываемая бессмыслица. Ученик, полагающий, что земля стоит на воде и рыбах, судит гораздо здравее, чем тот, который верит, что земля вертится, и не умеет этого понять и объяснить»55.
В письме к П. И. Бирюкову от 5 (?) февраля 1887 года, касаясь вопроса об издании научных книг для народа, Толстой писал, что следует «науку передавать научно, то есть весь ход мысли при исследовании какого-либо предмета, а не сказочно...»56. Следуя этому принципу, Толстой, когда ему приходилось рассказывать в «Азбуке» о таких явлениях природы, которые крестьянские дети не могли непосредственно наблюдать, прежде всего рассказывал о том, как было сделано открытие этих явлений. Так, статья о магните начата с рассказа о пастухе Магнусе, нашедшем магнит; статья «Гальванизм» рассказывает о том, как Гальвани и Вольта пришли к своим открытиям.
В числе тем статей, намеченных Толстым для помещения в «Азбуке», значится тема: «Как Коперник догадался, что земля вертится»57. Замысел остался невыполненным.
83
Толстой руководствовался при этом принципом: «Голые результаты вредно действуют на ученика и приучают его верить на слово»58, — следовательно, задерживают умственное развитие учащегося.
Сообщение каких бы то ни было знаний должно, по убеждению Толстого, служить также развитию умственных способностей ученика. Поэтому он советовал учителям руководствоваться следующим правилом: «Вообще давайте ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания; но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии.
Сообщайте определение, подразделение, правило, название — только тогда, когда ученик имеет столько сведений, что сам в состоянии проверить общий вывод, — когда общий вывод не затрудняет, а облегчает его»59.
Следуя этому принципу, Толстой во второй статье — «Тепло» слово «металл» в подстрочном примечании поясняет простым перечислением: «Металлы — золото, серебро, медь, железо, олово, ртуть и другие». Тот же прием употреблен в статье «Осязание и зрение», где, не давая определения этим незнакомым для крестьянского мальчика понятиям, Толстой взятыми из жизни примерами делает эти слова понятными для него.
В некоторых статьях Толстой дает описание возможных и для крестьянских ребят физических опытов. Так, статья «Кристаллы» начинается словами: «Если сыпать в воду соль и мешать, то соль станет расходиться и так разойдется в воде, что не видать будет соли». И т. д. Все первые пять абзацев этой статьи начинаются союзом «если» и содержат описание простейших опытов, возможных даже в обстановке крестьянской жизни.
Большинство статей «Азбуки» по вопросам физики и химии превосходно усваивалось школьниками.
Интересные данные по этому вопросу находим в книге «Что читать народу?», составленной из записей учительниц Харьковской частной женской воскресной школы и вышедшей в свет в 1884 году. Вот некоторые из сообщаемых в этой книге сведений, касающихся усвоения детьми рассказов из «Азбуки» Толстого по физике и химии.
Статья «Куда девается вода из моря?»: «Самые маленькие дети передают ее превосходно».
«Отчего бывает ветер?» и «Для чего ветер?»: «Целым рядом удачных примеров объясняется значение ветра. Чтение этой статьи сопровождалось в классе большим оживлением».
84
«Отчего потеют окна и бывает роса?»: «Здесь при помощи множества примеров из обыденной жизни вполне ясно и вразумительно объясняется, отчего бывает роса».
«Самокрутка»: «Вопрос чрезвычайно занял детей».
«Отчего в морозы трещат деревья?»: «Изложено с удивительной ясностью, и малограмотные взрослые и дети передают содержание этой статейки безупречно».
«Кристаллы»: «Рассказ прост и ясен».
«Сырость» и «Разная связь частиц»: «Обе статьи понимаются и передаются удовлетворительно».
«Лед, вода и пар»: «Не только после чтения в классе, но и после чтения на дому передается детьми превосходно».
«Солнце — тепло»: «Прекрасная статья, в которой ясно, просто и художественно выясняется, что тепло есть движение и обратно, и главный источник тепла, а следовательно и движения, есть солнце».
«Газы»: «Все рассуждение чрезвычайно просто и доступно».
«Дурной воздух»: «Рассказ в высшей степени прост и удобопонятен».
Не совсем понятными оказались статьи: «Магнит» (хотя Толстой много работал над этой статьей), «Удельный вес», «Гальванизм», «Как делают воздушные шары» и некоторые другие60.
Кроме статей по физике и химии, Толстой имел в виду написать для «Азбуки» большую популярную статью по астрономии, озаглавленную: «Звезды, солнце, луна, планеты, кометы, затмения», но остановившись на начале этой статье, изменил план работы, решив написать отдельные статьи по каждой намеченной теме. Была начата большая статья о звездах, написано восемь глав, но статья не доведена до конца. Очевидно. Толстой остался недоволен написанным и отказался от мысли ясно и, главное, доказательно изложить для школьников основы астрономии.
X
Толстой поместил в «Азбуку» целый ряд рассказов из жизни животных и птиц, зная, что такие рассказы всегда интересны детям. Таковы рассказы и статьи: «Русак» (в этом рассказе дано превосходное описание одной ночи и одного утра из жизни зайца вместе с поэтическим описанием жизни русской деревни в те же часы), «Заяц и гончая собака», «Как волки учат своих детей», «Бешеная собака», «Медведь на повозке», «Лев и собачка», «Воробьи», «Сова и заяц», «Воробей и ласточки», «Фазаны», «Чутье» и др. Семь тематически связанных между собою
85
рассказов: «Булька», «Булька и кабан», «Мильтон и Булька», «Черепаха», «Булька и волк», «Что случилось с Булькой в Пятигорске», «Конец Бульки и Мильтона» — дают как бы своеобразную биографию двух собак. Это были первые в русской детской литературе художественные рассказы из жизни животных. Собаки под кличками «Булька» и «Мильтон» были у Толстого на Кавказе, и все рассказанное о них Толстым, происходило в действительности.
В рассказах из жизни животных Толстой старался внушить детям мысль о целесообразности устройства организмов животных и функций этих организмов, а в некоторых случаях раскрыть также психические свойства зверей, которые помогают им, по мысли Толстого, отстаивать свою жизнь в борьбе за существование. Сказано, например, что зайцу «бог дал трусость, и трусость спасает его» — тем, что вследствие трусости заяц, спасаясь от охотников, мечется из стороны в сторону и тем запутывает свои следы («Зайцы и волки»).
В сказке «Лисий хвост» лисица говорит человеку, что, спасаясь от собак, она делает так: вдруг взмахнет хвостом в одну сторону, а сама бежит в другую. Она взмахивает хвостом только потому, что иначе не может повернуться в другую сторону, но это ее спасает от собак. «Это не наша выдумка, — говорит лисица, — это придумал сам бог, еще тогда, когда он сотворял нас, — для того, чтобы собаки не могли переловить всех лисиц».
В рассказах из жизни растений Толстой почти одушевляет растительный мир. Так, рассказывая о том, с каким трудом он вместе с рабочим вытягивал из земли надрубленный молодой тополь, он говорит:
«Он [тополь] изо всех сил держался и не хотел умирать. Я подумал: „Видно, нужно им жить, если они так крепко держатся за жизнь“».
Старый тополь, — сказано далее, — «давно уже умирал и знал это, и передал свою жизнь в отростки.
От этого они так скоро разрослись, а я хотел его облегчить — и побил всех его детей» («Старый тополь»).
В рассказе «Как ходят деревья» читаем:
«Черемуха, чтобы ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку, за три аршина от прежнего корня... Она почуяла, видно, что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком за землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила».
Смерть дерева в рассказе «Черемуха» описывается следующим образом:
«Я положил топор, уперся с мужиком в дерево и попытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой и посыпались белые душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то, — хрустнуло в середине дерева; мы налегли, и, как будто заплакало, —
86
затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь легко сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.
„Эх! штука-то важная! — сказал мужик. — Живо жалко!“ А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим».
Рассказывая о строении деревьев, Толстой употребляет такое сравнение:
«Кора у деревьев — те же жилы у человека: через жилы кровь ходит по человеку, — и через кору сок ходит по дереву и поднимается в сучья, листья и цвет» («Яблони»).
XI
Отдел русского чтения во всех четырех книгах «Азбуки» заканчивается русскими народными былинами.
В первой книге помещена также народная сказка в стихах «Дурень», взятая из сборника Кирши Данилова XVIII века. Но Толстой, включая эту сказку в свою «Азбуку», значительно переработал ее. В сказке всего 285 стихов; из них Толстой 43 стиха удалил, 9 стихов, им самим написанных, прибавил, 142 стиха переработал главным образом стилистически; только 91 стих был оставлен без изменения.
«Дурень» — это единственное стихотворение, помещенное Толстым в его «Азбуку». Ни одного стихотворения русских классических поэтов Толстой в «Азбуку» не поместил, считая, по своему педагогическому опыту, эти стихотворения или непонятными для крестьянских детей, или «ничего не дающими» крестьянским детям61.
Конечно, нелегко было бы Толстому из русских классических писателей подобрать такие стихотворения, которые и по содержанию и по языку совершенно подошли бы к характеру его «Азбуки», если учесть, что Толстой, как он отметил в наставлениях «Для учителя», старался писать все свои рассказы таким слогом и языком, чтобы всякий школьник мог понять в них каждое слово без помощи учителя. Разумеется, отрывки из «Бориса Годунова» и «Полтавы» Пушкина, «Три пальмы» и, тем более, «Воздушный корабль» Лермонтова, помещенные Ушинским в его «Детский мир», не могли быть понятны крестьянским детям того времени без пояснений учителя («Воздушный корабль» Толстой и по самому смыслу и духу этого стихотворения никак не поместил бы в составленную им книгу для детского чтения).
Однако хотя Толстой по опыту своей работы в яснополянской школе и пришел к заключению, что произведения классической
87
поэзии совершенно чужды и непонятны крестьянским детям, но на основании одного из его же последних произведений мнение это нельзя считать окончательным.
В 1894—1895 годах Толстым была написана повесть «Хозяин и работник», действие которой относится к семидесятым годам прошлого столетия. В повести рассказывается, как в снежную метель сбились с дороги богатый мужик Василий Брехунов и его работник Никита. Дорогой они заезжают «погреться» к знакомому мужику. У мужика сын, молодой малый Петруха. Он грамотный и знает наизусть почти всю единственную имеющуюся у него книгу — «Пульсона», то есть учебную «Книгу для чтения», составленную И. Паульсоном и имевшую в то время большое распространение. Петруха любил приводить из этой книги «казавшиеся ему подходящими к случаю изречения». Когда Брехунов, уезжая, попросил хозяина проводить его до поворота и хозяин послал Петруху, Петруха, одевшись и запрягши лошадей, стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил:
Буря с мглою небо скроить,
Вихри снежные крутять,
Аж как зверь она завоить,
Аж заплачеть, как дитё.
Метель разыгрывалась все сильнее, но Петруха, отправившийся провожать приезжих, «и не думал об опасности. Он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутять», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе».
Таким образом, Петруха не только понял стихотворение Пушкина, но «стишки» эти еще придавали ему бодрость в борьбе со снежной стихией.
Когда Толстой в 1871 году составлял списки тем рассказов для «Азбуки», то в один из списков он включил названия нескольких повестей и рассказов классических русских писателей, имея в виду, может быть, поместить в «Азбуку» изложение этих произведений. Здесь названы: «Дубровский», «Барышня-крестьянка», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Коляска», «Бирюк», выдержки из «Записок из Мертвого дома»62. Но замысел этот не получил осуществления.
Что же касается произведений народного творчества, то, по опыту Толстого в яснополянской школе, эти произведения все без исключения были понятны крестьянским детям и любимы ими.
«Единственные книги, — писал Толстой, — понятные для народа и по его вкусу, суть книги, писанные не для народа, а из
88
народа, а именно: сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок... Нельзя поверить, не испытав этого, с какою постоянной новой охотой читаются все без исключения подобного рода книги... Дети... перечитывают их по нескольку раз, заучивают наизусть, с наслаждением уносят на дом и в играх и разговорах дают друг другу прозвища из древних былин и песен»63.
XII
Толстой поместил в «Азбуку» былины о четырех богатырях: о Святогоре, Сухмане, Вольге и Микулушке Селяниновиче.
Относительно всех помещенных в «Азбуке» былин Толстым сделано замечание: «Былины составлены из нескольких списков, пополненных один другим, и изложены правильным русским стихом»64.
«Правильность», внесенная Толстым в стихотворную форму былин, состоит в том, что в каждой былине стих подведен под один определенный ритм. Как объяснил Толстой в наставлениях «Для учителя», особенность этого ритма заключалась в том, что в каждом стихе «ударение находится на третьем слоге и с конца и с начала» («Илья Муромец сын Иванович»)65. Для того, чтобы сохранить этот ритм, в одних случаях пришлось устранить некоторые слова, в других — вставить новые, в третьих — переставить слова и т. д. Но Толстой при переработке былин далеко не ограничился теми изменениями формы, о которых он сообщил читателям «Азбуки». В некоторых случаях он производил как стилистические, так и смысловые изменения в печатных текстах былин — замену одних слов другими, сокращения, дополнения, перестановки.
Наибольшего труда стоила Толстому обработка былин о Вольге. В его архиве сохранилось девять набросков начал, а также четыре незаконченных и четыре законченных (пятая — печатный текст) редакции всего текста этой былины.
Центральное место в былинах, помещенных в «Азбуке», занимает образ Микулы Селяниновича — олицетворение земледельческого труда, выражение силы и мощи трудового крестьянства.
Впервые о Микуле Селяниновиче рассказывается в былине о богатыре Святогоре, повстречавшемся в пути с Микулою. Былина о Святогоре, помещенная Толстым в его «Азбуку», является свободной переработкой двух побывальщин — «Про Святогора богатыря» и про женитьбу Святогора66. Вторая побывальщина
89
была записана в форме прозаического рассказа; Толстой переложил ее в стихи.
Богатырь Святогор чувствует в себе силу великую, «грузно с силы Святогору, как от бремени». Святогор «похваляется», что если бы он мог найти «державу», то «всю землю поднял бы». Но вот Святогор замечает впереди себя в степи какого-то прохожего с сумочкой. Прохожий идет пешком не спеша. Святогор «пускает во всю прыть» своего богатырского коня, но не может догнать. Святогор кричал «да громким голосом», просит прохожего остановиться. Прохожий останавливается и легко сбрасывает с плеч на землю свою сумочку. Святогор наехал на эту сумочку, попробовал ее поднять, «во всю силу богатырску принатужился, от натуги по белу лицу аж кровь пошла, а поднял суму от земи только на волос, по колеса ж сам он в мать сыру землю угряз».
Святогор просит прохожего сказать «правду истинну», что у него в сумочке «накладено». Прохожий отвечает: «Тяга в сумочке от матери сырой земли». Святогор спрашивает, как зовут прохожего. У Рыбникова на этот вопрос прохожий отвечает просто: «Я есть Микулушка Селянинович». Толстой в окончательной редакции своей переработки былины этот ответ Микулы передает стихом: «Я Микула есмь, мужик я Селянинович», и прибавляет еще стих: «Я Микула, — меня любит мать сыра земля».
Этого стиха нет ни в одной былине о Микуле Селяниновиче; он создан самим Толстым. На этот стих навело Толстого одно место из былины «Святогор и Илья»67. В этой былине калики перехожие дают следующее наставление богатырю Илье Муромцу: «Будешь ты, Илья, великий богатырь, и смерть тебе на бою не писана. Бейся, ратися со всяким богатырем и со всею паленицею удалою; а только не выходи драться с Святогором богатырем: его и земля на себе через силу носит; ...не бейся и с родом Микуловым: его любит мать сыра земля».
Эту характеристику Микулы, данную каликами перехожими, Толстой приписал самому Микуле, прибавив еще слово «мужик», и получилось полное глубокого смысла яркое поэтическое заключение, вполне соответствующее всему содержанию былины68.
Вторая былина о Микуле Селяниновиче рассказывает про его встречу с богатырем Вольгой. У Толстого былина озаглавлена
90
«Микулушка Селянинович», но в сборнике Рыбникова былины под таким заглавием нет. Толстой воспользовался одним эпизодом из двух былин, которые он соединил в одну: о Вольге Святославовиче и о Вольге Всеславиче69. В этих былинах рассказывается, как богатырь Вольга выехал со своей дружиной собирать с мужиков по селам и городам «дани-выходы». В чистом поле Вольга услыхал пахаря (там, где у Толстого «пахарь», у Рыбникова «ратай»):
Слышно — пашет мужик, да посвистывает,
Сдалека, слышно, сошка поскрипывает,
Сошнички по камням, слышно, чѐркают, —
А не видно нигде в поле пахаря.
Вольга поехал по направлению к пахарю, но доехал до него только на третий день после обеда. Богатырь приветствует пахаря словами:
Гой мужик-пахарёк! Божья помощь те, —
Божья помощь пахать, да крестьянствовать,
Широку борозду отворачивать,
Да коренья, каменья вывертывать!
Пахарь благодарит и спрашивает богатыря, куда он едет. Богатырь объясняет ему цель своей поездки и зовет его с собой. Пахарь соглашается, оставляет соху и едет вместе с Вольгой на своей кобылке, но вдруг вспоминает, что оставил неубранной свою соху: следовало бы вытряхнуть с нее землю и бросить ее за ракитов куст. Вольга посылает десять своих дружинников убрать соху пахаря. Молодцы взялись все разом «за сошку «кленовеньку», но не могут поднять ее с земли. Вольга посылает всю свою дружину, но и вся дружина поднять не может. Подъехал сам пахарь — «мужик-деревенщина». Он одной рукой поднял соху, вытряхнул с нее землю и бросил за ракитов куст.
Поехали дальше. Очень скоро пахарь на своей соловенькой кобылке перегнал богатыря на его добром коне.
Мужику тут Вольга́ стал покрикивать,
Мужику колпаком стал помахивать:
«Ты, мужик-пахарек, ты посто́й, пожди,
За тобою, мужик, не угонишься».
(Двух последних стихов в подлиннике былины нет, они созданы самим Толстым.)
Видя, что богатырю на его добром коне за ним не поспеть, мужик
Стал кобылку свою укорачивать, —
И поехали шагом дорожкою.
91
Дорогой Вольга спрашивает пахаря:
«А и как тя, мужик, звать по имени, —
Величать тебя как по изотчеству?»
Мужик отвечает:
«А я ржи напашу, во скирды сложу,
Домой вы́волоку, дома вымолочу,
Да и пива сварю, мужиков сзову;
И почнут мужики тут покликивать:
Гой, Микула-свет ты Микулушка,
Свет-Микулушка, да Селянинович!»
Этим апофеозом земледельческого труда заканчивается былина о встрече Вольги с Микулою, а с нею вместе и отдел русского чтения всей «Азбуки»70.
В «Азбуке» восхваляется всякий физический труд. «Не потрудиться да не поработать — ничто на свете не радует», — говорит один из братьев в сказке «Два брата». «Всякую работу весело делать», — заявляет сам Толстой в рассказе «Черемуха». Но выше всякого другого труда автор «Азбуки» ставит труд земледельческий, и особенно высоко ценит представителя земледельческого труда — крестьянина-труженика. Уважение к трудовому крестьянству и любовь к крестьянской трудовой жизни красной нитью проходят через все содержание рассказов и статей «Азбуки». И хотя Толстой в то время еще не был противником деревенского «богачества», все же симпатии его были на стороне бедного, а не богатого мужика, как это видно из помещенной им в «Азбуку» народной сказки «Как мужик гусей делил».
Как и в прежних своих произведениях, Толстой в «Азбуке» не упускает случая полюбоваться силой, ловкостью, выносливостью русского крестьянина. В рассказе «Охота пуще неволи» описывается, как на охоте за медведем Толстой шел по снегу на лыжах вместе с охотником-медвежатником Демьяном. «Стал уж я уставать. Снял и шубу, и пот с меня так и льет. А Демьян как на лодке плывет. Точно сами под ним лыжи ходят. Не зацепит нигде, не свернется. И мою шубу еще себе на плечи перекинул, и все меня понукивает».
Эта особенность «Азбуки» сказалась и в языке, каким написана книга. В рассказах, входящих в состав «Азбуки», много слов, относящихся к земледельческому труду и к жизни деревни, вполне понятных крестьянским детям, но непонятным детям городским, тем более детям привилегированных сословий,
92
и у Толстого одно время даже была мысль дать объяснение слов, непонятных «городским детям».
Толстой и в последний период своей жизни выделял «Азбуку» из всего ранее им написанного — как произведение, созданное для народа. 11 августа 1908 года он записывает в дневнике на случай своей смерти следующее пожелание: «Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уже не это, то непременно все народное, как-то: „Азбуки“, „Книги для чтения“»71.
XIII
Большое количество сюжетов, намеченных для разработки в «Азбуке», не получило осуществления. Сохранилось пять списков намеченных, но не использованных Толстым тем рассказов для «Азбуки»72.
Содержание этих тем очень разнообразно. Преобладают темы бытового характера, как, например: «Жнитво: все зреет», «Бессонная ночь на дворе», «Постель — радость — сон», «Села, пашня», «Троицын день — церковь», «Богачи купцы», «Как я ездил на кумыс», «Беглый солдат», «Как на пароходе вора поймали», «Вор дома жалок», «Как мужик ушел из плена», «Несчастный в Сибири», «Из Сибири старики. Иркутская губерния», «Как в Старом Юрте лошадей отбили», «Дорога в Ташкент, рассказ приехавшего».
Не забыта была и тема, еще с Кавказа занимавшая Толстого: «Казак беглый».
Немало было записано тем исторического содержания, в том числе: «Солон», «Кир — воспитанье», «Скифы (из Плутарха)», «Крез и сын», «Геродот», «1612 [год]», «Самозванец», «Смерть самозванца (из Костомарова)», «Мазепа», «Меньшиков», «Ломоносов», «Суворов», «1812 [год]», «Как француза топили и спасли]», «Фигнер [партизан]», «Нахимов», «Пластуны в Севастополе», «Кулибин».
Несколько невыполненных тем рассказов для детей посвящено описанию жизни животных и птиц: «Табуны, жеребцы», «Медведи на овсе», «Волк бешеный и мужик», «Утки на озере».
На тему об охоте были намечены рассказы: «Охота за волками с поросенком», «Охота у башкирцев», «Как ловят лисенят и делят», «Киргиз ловит лошадь», «Как сома поймали», «Ловля кита».
По ботанике намечались темы: «Как родится растенье», «Отчего завязь», «Семя березы, борьба с человеком», «Растение и человек выдыхают друг другу», «Орешник, цвет».
93
Как сказано было выше, в «Азбуке» мы почти не встречаем пейзажей. Между тем Толстой не имел в виду в своей книге обходить картины природы, что доказывается наличием в списках следующих трех тем: «Восход солнца в степи летом», «Захождение солнца весной в лесу», «Метель — в Пирогово ехали».
По естественным и физико-математическим наукам намечались темы: «Передача тепла», «Как паром топят», «Разница — лед, пар и вода», «Аэронавт», «Насыщение атмосферы водяными парами», «Водородный баллон», «Огонь отчего»; химия: «Разные соединения»; минералогия: «Копи железные, угольные, медные», «Соль — кристаллы»; геология: «Что видно в колодцах под землею. Пласты, животные, растения»; астрономия: «Что видно на небе по ночам и что днем и что из колодца. И как это объяснить, не принимая вращения земли», «Солнце — работа. — Зима и лето».
Любопытно, что по физиологии человека при полном отсутствии статей об основных процессах, происходящих в человеческом теле, Толстой наметил три темы «об обманах чувств»: «Обман слуха», «Обман чутья», «Обман ощупи».
Только две темы намечены психологического характера: «Старый сердитый. Старый веселый», и «Добрая — притворщица. Горячая, веселая».
Наконец, особую категорию среди намеченных тем рассказов составляют те, в которых имелось в виду познакомить школьников, во-первых, с процессами производства продуктов питания и предметов хозяйственного обихода, а во-вторых, с основными процессами труда, на которых основана экономическая жизнь человеческих обществ.
Таковы намеченные темы (первая категория): «Как делают бумагу», «— кожу», «— стекло», «— фарфор», «— булавки, иголки», «— обода-ступицы», «— кадки, «— гвозди», как выделывают «полотно», «— сукно», «как делают квас», «— водку», «— спички», «— керосин», «— шелк», «— подкову», «— золото».
Ко второй категории относятся: «Как поле пашут», «Как поле убирают», «Как рушат гречу, пшеницу», «Как дом строят», «Плавка», «Освещение», «Литье колокола», «Паровая машина».
Всего во всех списках намечено 173 темы, из которых было использовано не более двадцати, здесь не указанных.
XIV
Вслед за отделом русского чтения в каждой книге «Азбуки» помещен большой отдел славянского чтения.
Помещение в «Азбуке» церковнославянского чтения было вызвано четырьмя причинами: 1) славянский язык входил в то время в программу народных училищ: 2) крестьяне требовали
94
обучения церковнославянской грамоте; 3) изучению языков Толстой всегда придавал большое значение, считая, что «есть только две науки, в пользе которых можно быть твердо уверенным, — это язык или языки, искусство выражать и понимать всякие и во всякой форме мысли, и математика»73; 4) вся древняя русская литература была излюбленным чтением яснополянских школьников74.
Для обучения школьников славянскому алфавиту Толстым употреблен очень остроумный прием. Славянская азбука отдельно не изучается, но в первом предложении отрывка из летописи, которым начинается славянский отдел, весь текст напечатан русским шрифтом, за исключением одной буквы, напечатанной славянским шрифтом. Во втором предложении еще одна буква дается по-славянски, в третьем — еще одна, и так до тех пор, пока по одной букве не будет изучен весь славянский алфавит.
Параллельно со славянским текстом помещен русский перевод, сделанный частью самим Толстым, который «много трудился над переводами», как писал он Страхову 20 июня 1872 года, частью по его просьбе Страховым. В примечаниях даны объяснения непонятных славянских слов и оборотов речи.
Во всех книгах «Азбуки» славянский текст начинается с отрывков из летописи Нестора (о древних славянских племенах, о призвании варягов, об убийстве Аскольда и Дира, о походе Олега на греков и др.), усвоение языка которой, по опыту Толстого в яснополянской школе, не представляло для школьников особенных трудностей. Далее следуют выдержки из Четьи-Минеи, отрывки из мифологических сказаний еврейского народа, изложенных в Библии (о сотворении мира, о первых людях, о всемирном потопе, история Иосифа с братьями, всегда трогавшая Толстого, и др.), несколько глав из Евангелия, в том числе глава о нагорной проповеди, еще в детстве произведшая на Толстого «огромное» впечатление75, молитва «Отче наш», символ веры, десять заповедей Моисея и три псалма.
Из Четьи-Минеи выбраны отрывки поучительного содержания. Так, «Слово о Филагрии монахе, который, нашедши тысячу золотых, воротил потерявшему», направлено против корыстолюбия и тщеславия; в рассказе о дровосеке Мурине проводится мысль, что простой труженик-дровокол, кормящийся трудами рук своих, угоднее богу, чем епископ, всю жизнь проводящий в молитве. «Житие преподобного отца нашего Давида, который
95
прежде был разбойником», занимательное по содержанию, рассказывает о раскаянии и трудах бывшего преступника. В Житии Сергия Радонежского Толстого привлекал ответ Сергия митрополиту, намеревавшемуся надеть на него золотой крест: «От юности не был златоносцем, в старости же в особенности желаю в нищете пребывать». Толстой не мог не сочувствовать также и решительному отказу Сергия занять митрополичью кафедру; несмотря на все уговоры митрополита и великого князя московского, Сергий, как пишет его жизнеописатель, «аки твердый адамант (алмаз) непреклонен пребысть». Наконец, внушали Толстому уважение и правила общежития, установленные Сергием в его монастыре: «Ничего для себя никому не приобретать, ни своим что-нибудь называть, но все общим иметь — по заповедям святых отцов».
За отделом славянского чтения в «Азбуке» следует отдел арифметики — «Счет».
Главная особенность арифметики Толстого состоит в требовании полной сознательности со стороны ученика в каждом производимом им действии. Заучивание наизусть изгнано совершенно. Даже таблица умножения не заучивается наизусть. Заучивание наизусть таблицы умножения Толстой считает «не только бесполезным, — так как при частом упражнении ученик скоро составляет себе каждый свою таблицу, — но даже вредным, потому что знание наизусть произведения затемняет ход вычисления»76.
Учителю не рекомендуется объяснять ученикам все правила действия: пусть ученики сами выводят некоторые из них, как, например, правило «о числе в уме, приписываемом в сложении, а главное, правило о занимании» (в вычитании). Точно так же при объяснении приемов приведения дробей к одному знаменателю Толстой не советует указывать способ перемножения знаменателей, «так как это — одно из тех открытий, которые должен сделать сам ученик».
В ряде случаев указываются новые приемы при производстве арифметических действий. Так, ученик должен начинать сложение и вычитание с высших, а не с низших разрядов, — так как, по мнению Толстого, «яснее и полезнее для ученика» «естественнее прежде узнать, сколько тысяч, а потом сколько единиц».
Сложение изучается одновременно с вычитанием, так же как умножение одновременно с делением. Особенно много новых приемов указывается в отделе о дробях, причем десятичные дроби изучаются прежде простых.
Задачи предлагаются двух видов: взятые из жизни и отвлеченные, взятые из области чистой математики. По своему опыту
96
с яснополянскими школьниками Толстой пришел к выводу, что дети «чрезвычайно любят делать задачи большими отвлеченными числами, без всякого приложения, увлекаясь поэзией чистой математики»77.
«Пройдя эти четыре части арифметики, — заканчивает Толстой свои объяснения к курсу арифметики, — и не упоминая об именованных числах, ни об отношениях и пропорциях, ни о тройных, смешанных и других правилах, учитель может смело открыть всякий задачник, — и всякую задачу ученик решит, если она изложена простым русским языком»78.
Особенно дорожа составленным им курсом арифметики, Толстой по выходе «Азбуки» отправил экземпляр книги одному из крупнейших русских математиков того времени В. Я. Буняковскому79 с письмом, в котором просил «уделить немного времени на рассмотрение математической части» книги. В объяснение своей просьбы Толстой писал, что, излагая курс арифметики для народной школы, он «стремился только к понятности, но, сверх ожидания, напал» на некоторые новые, как ему кажется, приемы. «Совершенная особенность изложения, — писал Толстой, — от обыкновенно принятого изложения непременно заставит обратить внимание педагогов на мою арифметику и, как я уверен, побудит их закидать ее каменьями, не разобрав, в чем дело». И Толстой просит Буняковского прочесть его арифметику и, «если она стоит того», сказать о ней в печати несколько слов, «осудительных или неосудительных»80.
Буняковский ответил Толстому обстоятельным письмом, о котором Толстой сообщал Страхову в письме от 3 декабря. Это письмо Буняковского считалось утраченным. Оно было обнаружено только в 1954 году в фондах Отдела рукописей УССР81.
Буняковский о многих отделах «Арифметики» Толстого высказался одобрительно. Так, применение счетов для уяснения значения цифр и десятичного исчисления Буняковский считает «весьма удовлетворительным и целесообразным пособием». Он находит также, что «сложение и вычитание целых чисел» объяснено в «Арифметике» Толстого с «возможной простотой и отчетливостью»
97
и что «умножение и деление целых чисел излагаются так же просто и ясно, как первые два действия».
Переходя далее к разделу о дробях, Буняковский высказывает свое убеждение, что «при толковом и совестливом выполнении со стороны преподающих ученики приобретут вполне сознательные понятия о дробях, о действиях над ними, а вместе с тем и навык в скором и верном вычислении».
Вместе с тем Буняковский полагал, что напрасно Толстой совсем не упоминает относительно обычных приемов действий с дробями. Толстой в письме к Страхову от 3 декабря 1872 года признал справедливость этого возражения.
Сделав еще несколько несущественных замечаний, Буняковский закончил свой отзыв словами: «Вот немногие и притом маловажные замечания, которые представляются мне при чтении арифметической части Вашей замечательной книги».
XV
В начале октября 1872 года Толстой писал Н. Н. Страхову:
«Я... избалован успехом своих книг. Если Азбука выйдет в ноябре, не разойдется вся к новому году (3600), то это будет для меня неожиданное fiasco... Огромных денег я не жду за книгу и даже уверен, что, хотя и следовало бы, их не будет; первое издание разойдется сейчас же; а потом особенности книги рассердят педагогов, всю книгу растащут по хрестоматиям, и книга не пойдет. — Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы... Издавая «Войну и мир», я знал, что она исполнена недостатков, но знал, что она будет иметь тот самый успех, какой она имела; а теперь вижу очень мало недостатков в Азбуке, знаю ее огромное преимущество над всеми такими книгами и не жду успеха именно того, который должна иметь учебная книга»82.
Действительность превзошла ожидания автора замечательного произведения. «Особенности книги» до такой степени раздражили и присяжных педагогов и литературных критиков, что вследствие их резко неодобрительных отзывов даже и первое издание «Азбуки» не пошло.
Уже появление в журнале «Беседа» рассказа «Бог правду видит, да не скоро скажет» вызвало несочувственные отзывы критики.
В. Буренин в либеральных «Петербургских ведомостях»83 начинает свою статью об «Азбуке» с того, что, повторив еще ранее высказанное им нелепое утверждение о принадлежности Толстого к лагерю «чистых художников», заявляет, что такие
98
«эстетические упражнения графа Толстого», как его последний рассказ, не годятся ни для детей, ни для взрослых, обучающихся грамоте. «Внешняя художественная отделка в рассказе доведена до простоты, почти граничащей с искусственностью. Это, если можно так выразиться, дистиллированная простота, которая эстетикам, образующим свой вкус на лакомых блюдах «изящной словесности», быть может, покажется необычайно сладкой; но человеком, обучающимся чтению, или ребенком вовсе даже и замечена не будет „тонкость“ этой работы».
После лишенного всякого смысла утверждения о том, что простота языка и стиля не является достоинством детских рассказов, Буренин дает следующую издевательскую характеристику Толстого-художника: «Граф Толстой, как доказывают многие его произведения, заражен давным давно, если так можно выразиться, эстетическим самодурством, которое приводит его к убеждению, что художественному «ндраву» его не должно быть положено никаких препятствий... Когда «чистый» художник задается идеей составить «Азбуку», он все-таки имеет в виду только одно: чтобы осуществление этой идеи доставило удовлетворение единственно его эстетическим стремлениям... Он делает все лишь для себя и в себе самом полагает свой „высший суд“».
Мораль нового рассказа Толстого, по словам Буренина, заключается будто бы в том, что «не следует много хлопотать о себе, когда подвергаешься какой-нибудь напраслине».
Буренин, о котором Н. Н. Страхов справедливо заметил, что в полемике у него «два главных средства: искажение и умолчание»84, не пожелал заметить протестующего смысла рассказа Толстого. Консервативный журналист В. Г. Авсеенко, автор романов из великосветской жизни, его заметил и за этот именно протестующий элемент и осудил рассказ85. Авсеенко с сожалением отмечает, что «знаменитый писатель с самоотвержением отказался от самого себя, от блестящей колоритности, свойственной его таланту, и написал рассказ языком заурядным, каким писал для детей покойный Ушинский и другие опытные педагоги». (В действительности язык Толстого в его «Азбуке» ни в малой степени не походит на язык «опытных педагогов» того времени, в том числе Ушинского, язык которого Толстой подверг резкой критике в статье 1862 года «Об общественной деятельности на поприще народного образования».) Рассказ Толстого, по мнению Авсеенки, «не имеет никакого литературного значения», а основная идея его окажет вредное влияние на нравственное и умственное развитие учеников и простого человека, для которого, собственно, и предназначается
99
этот рассказ. Рецензент недоволен тем, что сюжет рассказа Толстого взят «из отжившей практики прежнего суда». При новом суде, по мнению рецензента, с чем никак не согласился бы Толстой, подобных ошибок быть не может. Рассказ Толстого проникнут «отчаянием в правде, фаталистической покорностью судьбе», а книги «для народного и школьного чтения» должны быть проникнуты другими мыслями и чувствами. Народу нужно внушать, что в его несчастьях виноват он сам: собственные его (Авсеенко для приличия говорит: «наши») «леность, невежество, нерадение и порочность». Не найдя в рассказе Толстого таких пошлых внушений народному читателю, имевших целью заглушить растущее сознание творимой над народом неправды, великосветский романист решительно осудил рассказ Толстого.
По-видимому, именно эти рецензии вызвали со стороны Толстого в письме к Страхову от 6 июня 1872 года раздраженное замечание о том, что своими рассказами из «Азбуки», помещенными в журналах, он «дал повод рассуждать о себе умникам журналистам».
Зато очень порадовала его анонимная критическая статья о рассказе «Кавказский пленник», появившаяся в журнале «Всемирная иллюстрация» и присланная ему Страховым86.
«Новый рассказ графа Л. Н. Толстого, — прочел Лев Николаевич в этой статье, — представляет собою в нашей литературе явление, выходящее из ряда вон. «Кавказским пленником» окончательно разрешается вопрос о том, как следует писать для народа, т. е. таковой вопрос, который доныне еще не разрешен и на Западе, несмотря на бесчисленное множество более или менее удачных попыток его разрешения... Граф Л. Н. Толстой не признает необходимости каких бы то ни было подделок под простонародный говор, но в то же время явно высказывается за необходимость особого слова в рассказах, предназначенных для простолюдинов. Над этою последнею задачею он, очевидно, трудился много, обдумывал ее глубоко, и теперь выступает перед публикой с результатами своих трудов и соображений.
«Кавказский пленник» написан совершенно особым, новым языком. Простота изложения поставлена в нем на первом плане. Нет ни одного лишнего слова, ни одной стилистической прикрасы, ни одного проблеска тех субъективных особенностей творчества, без которых немыслимо ни одно литературное произведение талантливого писателя, написанное для обыкновенной публики. Невольно изумляешься этой невероятной, небывалой сдержанности, этому аскетически строгому исполнению
100
взятой на себя задачи рассказать народу интересные для него события «не мудрствуя лукаво». Это — подвиг, который, пожалуй, окажется не под силу ни одному из прочих корифеев нашей современной литературы.
Художественная простота рассказа, — писал далее автор статьи, — в «Кавказском пленнике» доведена до апогея. Дальше идти некуда, и перед этою величественною красотою совершенно исчезают и стушевываются самые талантливые попытки в том же роде западных писателей. Известные народные рассказы Эркмана и Шатриана делаются просто жалкими и приторными; даже «La mâre au Diable» и «François Le Champi» Жорж Занд кажутся искусственными. Каждое слово, каждая фраза «Кавказского пленника» будут непременно понятны для тех читателей, для которых он написан, и в то же время поражают читателя образованного своею прелестью и образностью... Невольно изумляешься самоотвержению, с которым гр. Л. Н. Толстой отказался в своем новом произведении от всех обычных приемов своего творчества, всегда столь обаятельно действующих на читателей. Этот атлет литературы выступает ныне перед нами, отбросив в сторону то надежное оружие, которым он до сих пор привык побеждать — и все-таки выходит из боя триумфатором, оставляя зрителей в полном недоумении насчет тех новых средств, которыми он одержал победу...
Если вся книга, которую собирается вскоре издать для сельских школ гр. Л. Н. Толстой, состоит из рассказов, написанных тем же пошибом, как «Кавказский пленник», то книга эта станет совершенно особо в нашей литературе. Присяжные педагоги, может быть, и найдут ее, по некоторым причинам, неудобною для той цели, для которой она предназначается, но зато никто и никогда не в состоянии будет отнять у нее значение образца того, как следует писать для народа, а это — такая заслуга, которой одной уже было бы достаточно для того, чтобы упрочить за именем гр. Л. Н. Толстого одно из самых видных почетных мест в истории нашей литературы».
Прочитав эту статью, Толстой писал Н. Н. Страхову 2 июля 1872 года: «Очень благодарен за Иллюстрацию. К стыду своему, признаюсь, что она меня очень порадовала. Я так готовился, что никто не поймет, что принимаю это как сюрприз»87.
XVI
Кампанию против «Азбуки» начал П. Н. Полевой, сын Николая Полевого, бывший профессор литературы в Варшавском университете, автор ряда статей, а впоследствии и книги «История русской литературы»88.
101
Для Полевого Толстой — «известный и всеми уважаемый автор», «блестящий романист», но «Азбука» Толстого, по словам критика, обманула ожидания его почитателей. Высказав скептическое отношение к слишком быстрому, по его мнению, сроку, в течение которого учащиеся, по утверждению Толстого, выучиваются читать и писать по его методе, Полевой переходит к замечаниям для учителя, помещенным в первой книге «Азбуки». Задорно-полемическое заявление Толстого о том, что «ученик, верящий, что земля стоит на воде и рыбах, судит более здраво, чем тот, который верит, что земля вертится, но не умеет этого понять и объяснить», смысл которого Полевой не сумел понять, приводит критика в полное недоумение, и он восклицает: «Дальше этого, кажется, нельзя идти».
Считая, что после такого дикого, на его взгляд, заявления Толстого не стоит больше заниматься его наставлениями «Для учителя», Полевой переходит к критике материалов для чтения, помещенных в «Азбуке». Как историка литературы его больше всего интересуют статьи исторического содержания, с которых он и начинает разбор. Оказывается, что Толстой «положительно избегал всего исторического в настоящем смысле слова, а поместил в своей книге только сказочки, имеющие некоторый исторический облик».
Критик обращается к отделу, сообщающему научные сведения из области естествознания, и находит, что этот отдел представляет собою «явление оригинальное и странное». Все статьи этого отдела будто бы проникнуты мыслью о том, что «природа устроена на пользу человека». Народный язык и художественный способ изложения толстовских статей по естествознанию возмущают педанта профессора. Превосходный язык «Азбуки» кажется ему каким-то «орловско-калужским» наречием; фраза: «Из себя магнит похож на железо» — его коробит.
Из всех материалов для чтения, помещенных в «Азбуке», Полевой считает достойным таланта Толстого только три рассказа: «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Кавказский пленник» и «Охота пуще неволи», да еще несколько рассказов из жизни животных и несколько «очерков из простонародного и детского быта».
Подводя итог своему разбору «Азбуки», Полевой говорит, что «особенно неприятным» кажется ему то, что автор «не только пренебрегает всем, что успела выработать за последнее время педагогия, но даже относится с некоторым снисходительным сожалением к тем, которые этою наукою занимаются. Ему хочется создать какую-то свою новую методу... Он горячо принимается за дело, собирает, громоздит материал, строит, составляет, стараясь во что бы то ни стало построить и составить совсем не так, как строили до него, и в результате выходит какая-то
102
действительно довольно оригинальная смесь материала, но только не имеющая ничего общего ни с какою постройкой».
Вся рецензия Полевого написана без малейшего недоброжелательства к автору разбираемой книги. Привыкнув к установившемуся в то время типу учебных книг для чтения, он просто не понял новизны и своеобразия толстовской «Азбуки».
Иным характером отличалась рецензия, появившаяся в распространенном либеральном журнале «Вестник Европы»89. Автором рецензии, по всей вероятности, был знакомый Толстого, бывший преподаватель тульской гимназии Е. Л. Марков, против которого Толстым в 1862 году была написана статья «Прогресс и определение образования». Вся рецензия написана в издевательском тоне по отношению к Толстому и к его книге, которая иронически называется «четырехактной мистерией для возвращения любознательности молодежи».
По мнению рецензента, если «Азбука» предназначается для народных школ, то большинство материала, в ней помещенного, «и странно и смешно». «Азбука» «бьет шибко на мораль, которая до оскомины приелась в фабрикациях иезуитского пошиба плаксивой сантиментальности». Автор «Азбуки» «сажает школьника на прадедовскую зубристику слогов». Только пословицы «бесспорно составляют самую утешительную, практическую, истинно полезную, но крайне гомеопатическую долю многословного и разнородного сочинения». К «самодельным нравственным рассказам» присоединены пословицы, по мнению рецензента, не связанные с ними по смыслу. Упражнения на знаки препинания далеко не полны, а в некоторых случаях постановка значков препинания «огульно ошибочна». Изучение славянской азбуки «с вставками вразброд некоторых славянских букв, пока все они не истощатся», «только и может произвести путаницу и бестолковие». Вообще же включение в «Азбуку» славянского отдела произошло у Толстого из желания «удовлетворить славянофильству». Статьи научного отдела «вскользь и далеко не удовлетворительно исчерпывают весь круг естествознания». Резко отозвавшись о сказках как материале, не пригодном для детского чтения в воспитательном отношении (выдержка приведена выше), рецензент признает «действительную целесообразность» немногих «здравых» рассказов, помещенных в «Азбуке» и «взятых из действительной жизни, как «Солдаткино житье», «Булька», «Аксенов» («Бог правду видит, да не скоро скажет»), «Кавказский пленник».
В заключительной части рецензии автор относит Толстого к числу тех писателей, которые «всего более хлопочут об оригинальничании: им во что бы то ни стало хочется всецело провести собственное мировоззрение, нередко из рук вон какое
103
узенькое и тщедушное. Для достижения этой заветной мысли они неустанно фабрикуют бесчисленные статьи собственного, домашнего, нетребовательного изделия», или берут «хорошие иностранные книжечки, без устали черпают в них, переделывают, коверкают, окуцывают, разжижают, т. е. неузнаваемо перерабатывают».
По мнению рецензента, лучше было бы Толстому не писать ничего своего, а составить хрестоматию из русских песен и былин, из летописей, из «наших образцовых писателей: Гоголя, Тургенева, Аксакова, Решетникова, Успенских, Марко Вовчка и многих других, более или менее удачно схватывавших заветную жизнь народа и всего общества». Статьи по естествознанию тоже писать не нужно, потому что существует «много переводных иностранных превосходных книжек», нужно только уметь выбрать из них то, что нужно. «Ну, а уж если авторское себялюбие чересчур щекочет», то «можно в пазах вклеить и свои думы и извороты, предлагая их вполне терпению или суду общества».
Таким наставлением автору «Детства» и «Войны и мира» пустозвонный либеральный журналист закончил свой недобросовестный отзыв о замечательном произведении Толстого.
Рецензия «Вестника Европы» вызвала следующий возмущенный отклик со стороны Н. Н. Страхова: «В прошлом году гр. Л. Н. Толстой издал свою «Азбуку». Эта «Азбука» — собственно не азбука, хотя в ней есть и алфавит и склады и пр.; это скорее детская хрестоматия, величиною в пятьдесят печатных листов. Половина этой хрестоматии состоит из произведений самого составителя, или совершенно оригинальных, или заимствованных, но переделанных так, что часто они имеют весьма мало общего с оригиналом. По намерению автора, это — маленькие художественные произведения, которые назначаются для детей только потому, что по своей простоте должны быть доступны всем возрастам.
На эту книгу очень вооружился «Вестник Европы». Одни из главнейших упреков состоит — в чем бы вы думали? В том, ка́к мог Л. Н. Толстой возыметь претензию сам сочинять! «Вестник Европы» говорит об этом с негодованием, с горечью...
Может ли быть что-нибудь забавнее? Такого писателя, как Л. Н. Толстой, упрекают в том, зачем он фабрикует статьи собственного изделия! Ему ставят в вину, зачем он предается самопроизводительности и думает обойтись своими жалкими домашними средствами!..
Но это не только забавно, а и грустно. Каковы же должны быть понятия у тех, которые это печатают, и у тех, которые это преспокойно читают! Неужели же возможно такое мнение, что, например, Решетников или Глеб Успенский — образцовые писатели, а Л. Н. Толстой не только не образцовый, но не должен
104
сметь и думать соваться к образцовым с рассказами собственного изделия? Нам кажется, подобные мнения свидетельствуют о густой тьме, в которой бродят наши просветители»90.
Церковная газета «Современность» в анонимной рецензии одобрительно отозвалась об упражнениях в русском чтении, входящих в «Азбуку», о подборе отрывков по славянскому чтению и о некоторых рассказах, но обрушилась на Толстого за слуховой способ обучения грамоте и его метод преподавания арифметики. В Германии, писала газета, «обучение арифметике, наравне с обучением родному языку и другим предметам, с конца прошлого столетия подверглось радикальным изменениям». В том, что следует без рассуждений применять немецкие способы обучения в русских народных школах, газета ни минуты не сомневалась. «По современному методу, — имея в виду метод немецкого педагога Грубе, писала газета, — занятия арифметикой должны происходить таким образом: в первый год изучаются или первые десять чисел или первые двадцать; во второй — от двадцати до ста; в третий — от ста до высших разрядов нумерации». Так, по мнению «Современности», следует обучать и русских крестьянских детей. Церковная газета не могла допустить, чтобы Толстой не был знаком с этими последними открытиями немецкой педагогики, и с бурсацкой грубостью объявляла, что несогласие Толстого целый год обучать крестьянских детей числам от единицы до десяти и т. д. объясняется только тем, что, «как, по пословице, у всякого барона, так и у всякого графа — своя фантазия»91.
Рецензент педагогического журнала «Народная школа» Ф. Резенер, последователь позитивной философии Огюста Конта, как противник «мифологического способа мышления» упрекал Толстого за «легендарный характер» некоторых рассказов, который, по словам рецензента, «очень любезен автору», а также за то, что «прелестный по изложению» рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет» будто бы «доведен до полной негодности для детского чтения тем фатализмом», которым он проникнут, и за «бессистемность» и «ненаучность» в статьях по физике и естествознанию. Признавая все-таки, что помещенные в «Азбуке» статьи для чтения, «лишенные выдержанной системы, составлены, однако, в литературном отношении очень хорошо», а «некоторые из них хороши и по своему содержанию», рецензент считает, что книгу Толстого можно рекомендовать для школьных библиотек «ради этих немногих статей и ради превосходного языка»92.
105
Иначе отнесся к книге Толстого другой педагогический журнал — «Детский сад».
Рецензент «Детского сада», не одобряя предлагаемого Толстым метода обучения грамоте, отозвался одобрительно о его способе обучения славянской азбуке и объяснения первых четерых действий арифметики. Рецензент высказал удовлетворение также и тем, что в «книге графа Толстого вы не встретите тех наводящих тошноту искажений песталоцциевского метода, которыми наводняют детскую литературу разные бездарности или вследствие непонимания смысла его, или просто с менее невинной целью — наживы, благо составлять подобные уроки для чтения не стоит ни малейшего напряжения мысли». Автор восхищается рассказами «Азбуки». Эти рассказы «очень просты, живы и естественны»; они написаны «с тем мастерством, которое отличает все, что пишет граф Л. Н. Толстой». Достоинством рассказов Толстого является и то, что они «не суют навязчиво детскому пониманию ту или иную истину морали или то или другое научное сведение, но они наводят детей на эти истины и понятия, что всего важнее». Толстой «предоставляет детям делать выводы самим, он ничем не стесняет самостоятельности их суждения... но пробуждает в них желание узнать, почему это так»93.
Почти полностью высказался в пользу Толстого анонимный рецензент журнала «Гражданин», в котором близкое участие принимал Н. Н. Страхов, а позднее и Достоевский. По мнению рецензента, «Азбука» — «несомненно полезная книга, строго обдуманная и представляющая, говоря вообще, прекрасный выбор для первоначального чтения и упражнений». Достоинство книги рецензент видел прежде всего в том, что автору удалось избежать «преувеличенной методичности, переходящей в этом случае в безжизненный формализм». В то же время нельзя сказать, чтобы автор «Азбуки» совершенно пренебрегал методикой. Сделав несколько замечаний частного характера о содержании и некоторых деталях книги, рецензент закончил статью словами: «В труде графа Толстого мы можем приветствовать одно из самых ценных явлений в нашей учебной литературе»94.
XVII
Прочитав отзыв Полевого об «Азбуке», Толстой 17 декабря 1872 года писал Страхову: «Азбука не идет95, и ее разбранили
106
в «Петербургских ведомостях»; но меня почти не интересует, я так уверен, что я памятник воздвиг этой Азбукой»96.
Та же спокойная уверенность в полезности «Азбуки» чувствуется и в следующих словах автора об этой книге из письма к А. А. Толстой, написанном в конце января 1873 года: «Я же положил на нее труда и любви больше, чем на всё, что я делал, и знаю, что это — одно дело моей жизни важное. Ее оценят лет через десять те дети, которые по ней выучатся»97.
С. А. Толстая 16 января 1873 года записывает в тетради «Мои записи разные для справок»:
«Замысел мой я не выполнила и не записывала... главное, как был занят ум Левочки. Он составил четыре детские книги, занимался с уверенностью, гордостью и твердым убеждением, что дело его и полезно и хорошо. Азбука эта имеет страшный неуспех, который ему очень неприятен и особенно смутил и сердил его сначала. К счастью, это не мешает ему заниматься. Вчера он говорил: „Если б мой роман потерпел такой неуспех, я бы легко поверил и помирился, что он нехорош. А это я вполне убежден, что «Азбука» моя есть необыкновенно хороша и ее не поняли“»98.
Отзыв «Вестника Европы» об «Азбуке» произвел на Толстого тяжелое впечатление. 1 марта 1873 года он писал Страхову: «У брата прочел в «Вестнике Европы» об Азбуке и, признаюсь, как ни совестно, почувствовал оскорбление и уныние»99.
Он принялся за ответ на отзывы об «Азбуке».
«1 ноября 1872 года изданы мною четыре книги для учащихся под заглавием Азбука, — писал Толстой. — Я был так твердо уверен в том, что эти книги отвечают настоятельнейшей необходимости русского народа, что не счел нужным предпосылать книге какие бы то ни было объяснения о значении книги и рассуждения о полезности ее и о том, почему и из чего она составлена, так же, как <не> считает нужным хлебник, предлагая хлеб голодным людям, объяснять то, что хлеб надо есть, кладя его в рот, и что хлеб замешан из муки, затем пропечен в печи и т. п.
Но я ошибся, забыв, что успех книг для учащихся не зависит, как успех книг для обученных, от добро́ты книги, но от того еще — дадут или не дадут книгу для учащихся в руки учащимся;
107
и в продолжение трех месяцев, прошедших со дня выхода книги, я убедился, что учащие не хотят дать моей книги учащимся.
В газетах и журналах я нашел три враждебные отзыва о моей книге. И на письмо мое к министру народного просвещения я, противно самым элементарным правилам учтивости, не получил даже ответа».
Здесь Толстой упоминает о написанном им в ноябре 1872 г. письме министру народного просвещения графу Дмитрию Андреевичу Толстому, в котором он просил министра «обратить личное внимание» на его «Азбуку» и «если она хороша, содействовать ее распространению» в народных, уездных и военных училищах и низших классах гимназий100.
«В газетах и журналах, — продолжал Толстой, — какие-то неизвестные мне (неизвестные по педагогике и литературе) господа в два почерка пера обработали <как говорят> мою книгу, очевидно пробежав только книгу, которая стоила мне годов труда и теоретического и практического изучения и изучения, выбора, переделки и приготовления матерьяла. Останавливаться серьезно на этих отзывах нельзя, несмотря на то, что, признаюсь откровенно, они возмущали меня. Довольно сказать, что эти господа <сплеча> осуждают книгу, ни при одном осуждении не указывая, почему они осуждают ее, и осуждая за то, чего в ней нет, или доказывая свое осуждение так, что ничего не понимаешь. Довольно сказать, что один из них [Полевой], говоря о моей методе обучения чтению, выписывает мои слова, что ученик после десяти повторенных складов наслух сам начинает складывать, и спрашивает: «каким это чудом?» Тогда как справедливость моих слов основана на четырнадцатилетнем опыте, и первый опыт над учеником может подтвердить это...
Потом один из них... говорит, что я показал свое невежество в славянском языке теми упражнениями в этом языке, которые я поместил, — не показывая, в чем это невежество, тогда как я знаю, что особенно занимался этим отделом и воспользовался всеми указаниями, которые мне могли дать лучшие авторитеты науки. Потом говорит, что все написано языком тульско-калужского наречия, т. е. дурным языком, и в пример того выставляет слова: водить червей. Почему неизвестный господин полагает, что он более имеет <вкуса и> знания и искусства владения русским языком, чем я, он не доказывает, и как надо выразить по-русски: водить червей, или пчел, или овец, он не говорит.
Другой критик [«Вестника Европы»] в особенности, вероятно, слышав и полюбив слова о том, что в детских книгах
108
нехороша мораль, все время упрекает меня в кисло-сладенькой самодельной морали, тогда как очевидно, что самое резкое отличие моей книги от всех других состоит в том, что морали никакой нельзя найти в моей книге. Это до такой степени справедливо, что, переводя басни Эзопа, я, хотя и с сожалением, выпустил все заканчивающие поучения. Этот же критик говорит, что все знаки препинания поставлены огульно ошибочно. Но почему — не говорит. Читаешь и не веришь своим глазам. Неужели в книге, стоившей мне 14 лет работы и тысячи рублей денег, я не мог справиться у гимназиста о том, как ставятся знаки препинания. Но журналистов ничто не останавливает. Выписаны: «Маленькая собачка кусалась, но не могла и прогрызть сапога. Бодливой корове бог рог не дает». Потом: «Ученику дали книгу. Он сказал: трудно, дали другую, он сказал: скучно. Дали бабе холст, говорит: толст; дали потоне, говорит: дай боле». И журналист пишет: «Есть ли возможность соединить рассказ с пословицей?» Этот же журналист советует мне вместо бессмысленных, по его мнению, выдержек из Геродота поместить выдержки из какого-то Решетникова и Марко Вовчка. И так все.
Третий журналист добродушно поучает меня о том, что летопись есть язык арийский, а Библия — семитический, и что я могу спросить у кого хочу, что это правда, и что поэтому лучше, [чтобы] прежде была Библия, а потом летопись. И смешно, и досадно. Почему, желал бы я знать, полагает этот журналист, что он один, как древний астролог, владеет премудрым знанием о семитическом, арийском, и что я могу справиться, почему не предполагает он, что вся его премудрость мне давно известна, но что вопрос о том, что печатать прежде и после, решен мною на других основаниях, которые может проверить каждый учитель, заставив читать и переводить летопись и Библию и заметив, что легче»101.
Последний пункт направлен против рецензии газеты «Гражданин», которая в общем не только не была враждебна Толстому, но, как сказано выше, признавала «Азбуку» «одним из самых ценных явлений» в учебной литературе. Но критик проявил свою неосведомленность в одном, совершенно частном вопросе обучения славянскому языку — в вопросе о том, с чего начинать славянское чтение: с летописей или с Библии, — и Толстой, для которого в его школьной практике и этот частный вопрос был так же важен, как и все другие, возражает этому доброжелательному критику с такой же горячностью, как и недобросовестному рецензенту «Вестника Европы».
Излив на бумаге свое негодование против несведущих и недобросовестных критиков его книги, Толстой несколько успокоился.
109
Мысль об ответе критикам была оставлена, и Толстой ограничился тем, что напечатал в «Московских ведомостях» письмо в защиту своего способа обучения грамоте. Письмо датировано 1 июня 1873 года.
В ответ на упреки критиков в том, что он будто бы не знаком или не хочет познакомиться с повсеместно принятым звуковым методом обучения грамоте, Толстой говорит: «Звуковой способ мне не только хорошо известен, но едва ли не я первый привез его и испытал в России двенадцать лет тому назад после своей поездки по Европе с целью педагогического изучения».
Но, испытавши этот метод в своей школе, Толстой, как он пишет, пришел к выводу, что метод этот «противен духу русского языка и привычкам народа», требует особо составленных для него книг, представляет огромные трудности для применения и обучение по нему трудно и продолжительно. Поэтому Толстой ввел в своей школе вместо звукового метода иной метод — слуховой. По этому методу, пишет Толстой, «способный ученик выучивается в 3—4 урока, хотя медленно, но правильно читать, а неспособный — не более как в 10 уроков».
И Толстой предлагает всем педагогам, занимающимся обучением детей грамоте, сделать опыт — произвести обучение нескольких учеников по его способу и по способу звуковому. С таким же предложением он обращается и к Московскому комитету грамотности.
Желая показать критиковавшим его педагогам, как узко понимают они задачи народной школы, уделяя так много внимания обсуждению способов обучения чтению, Толстой говорит: «Самый процесс обучения грамоте есть одно из ничтожнейших дел во всей области народного образования». Но и это дело, прибавляет он, нужно делать тем способом, которым «проще и скорее» можно достигнуть наибольших успехов102.
XVIII
Время вполне оправдало уверенность Толстого в том, что своей «Азбукой» он, как Пушкин своими произведениями, воздвиг себе «памятник нерукотворный». Прошли десятилетия — и не только «Азбука» была признана замечательным произведением, но Толстой был признан основоположником русской детской литературы.
Уже в 1881 году известный деятель народной школы профессор С. А. Рачинский писал: «Детские книги гр. Льва Толстого следует знать всякому образованному русскому человеку.
110
Ни в одной европейской литературе ничего подобного не существует... Этот великий писатель посвятил несколько лет своей жизни сельской школе, много учил в ней и многому в ней научился. Его детские книги (пригодные для детей всех сословий) — не плод художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим вниманием ко всем его практическим подробностям, с высокой простотою и смирением. Во многих своих очерках и мелких рассказах он доходит до чисто пушкинской трезвости и силы»103.
В 1887 году педагог — практик и теоретик — Д. Д. Семенов, последователь Ушинского, писал о детских учебных книгах Толстого: «Предлагаемый нашим великим писателем после азбуки первый материал для детского чтения — верх совершенства как в психологическом, так и в художественном отношении. Что за выразительность и образность языка, что за сила, сжатость, простота и вместе изящество речи, что за краткость, отрывочность и вместе содержательность и законченность каждой фразы, каждого отдельного рассказа! Какая картинность в изображениях, и притом картинность чисто русская, народная, наша собственная! В каждой мысли, в каждом рассказе есть и мораль, но мораль не выдуманная... и притом она не бросается в глаза, не надоедает детям, а скрыта в художественном образе, а потому так и просится в душу ребенка и глубоко западает в нее... Мы не раз были свидетелями, как дети, прослушав или прочитав только раз или два маленький рассказец, передавали его дословно без всяких наводящих вопросов. Только такой великий художник, мыслитель, психолог и чисто русский человек, как гр. Л. Н. Толстой, мог создать для наших русских детей столь образовательное чтение и по форме, и по содержанию, и по цели. Таковы его и следующие за «Азбукой» четыре книги для чтения»104.
В 1921 году выдающийся советский педагог А. И. Елизарова, сестра В. И. Ленина, по поводу переиздания «Книг для чтения» Толстого Государственным издательством писала:
«Всякий, кому приходилось заниматься в народных школах, с удовольствием, как старого знакомого, встречает книгу рассказов Толстого. Сколько воспоминаний связано с ними! Тех незабываемых воспоминаний, когда над этими книжками разгорались детские личики, когда от них подымались глаза, горящие интересом и восторгом перед вновь открывающимся кладезем тех знаний и наслаждений, которые дает книга. Не механическое составление слов, а целые яркие, доступные картины из
111
жизни окружающего. Не скучная учеба, когда заставляют зачем-то складывать длинные малопонятные слова и фразы, где детская мысль путается в различных причастиях и «которых», не зная, направо или налево их отнести, а своим языком рассказанная повесть как о том, что окружает, так и о новом интересном... Они дышат безыскусственной поэзией народной речи, над которой с чисто материнской чуткостью прошла гениальная рука нашего великого мастера слова. Рассказы эти, не менее чем все остальные его произведения, должны войти в сокровищницу нашего слова. Давая ощущение счастья, как всякое истинно художественное произведение для того круга, для которого они назначены, они своей безыскусственной прелестью приохочивают к чтению, к сознательному чтению с самого начала. В этом их главное и великое достоинство, их незаменимость и непревзойденность в нашей школе, в руках наших начинающих учиться детишек...»105
Приведем некоторые отзывы других советских педагогов, литературоведов и писателей о значении детских рассказов Толстого.
«„Азбука“ Л. Н. Толстого — замечательный памятник русской педагогической литературы. Ни одна педагогическая литература других народов не имеет ничего подобного, потому что никогда не было того, чтобы гениальный писатель-художник, пользующийся мировой славою, взялся за составление учебника для начальной школы... Самый язык книги Толстого и способ передачи детям полезных сведений в занимательной форме является образцом статей этого рода, которые оказали и оказывают огромное влияние на авторов букварей и книг для классного чтения. И вообще влияние «Азбуки» Л. Н. Толстого на учебно-педагогическую литературу было огромно и не прекращается и в настоящее время... Эти книги дают такое богатство сюжетов, интересных тем, затрагивают столько вопросов и столько научных областей, как ни одна другая из существующих хрестоматий»106.
«Заслуги Толстого в области литературы для детей неизмеримо велики»107.
«Рассказы Толстого для детей по сей день являются непревзойденными образцами художественной прозы в детской литературе»108.
«Толстой — основатель прозы в русской детской литературе... Отдел природы разработан Толстым с особенным блеском...
112
Сколько раз после перепечатывались эти страницы, и до сих пор на них можно учиться тому, как говорить детям о природе... Язык этих рассуждений [на темы физики, химии, физиологии] должен быть примером того, как писать для детей учебные книги по географии и биологии. Все положения выводятся из живых примеров, ведутся в форме живой беседы учителя с учеником, построены так, что и понимаются и запоминаются»109.
«Произведения Л. Н. Толстого сыграли исключительную роль в формировании русской детской литературы эпохи 60-х годов, а начиная с 70-х годов прошлого века в основном были определяющими вехами ее развития... Роль Толстого в истории детской литературы огромна и как теоретика и как основоположника в ней реалистического, нравственно-воспитательного направления... В детской литературе нет рассказов, равных его рассказам по лаконичности формы, по колоритности образов, по динамичности сюжетов, по эмоциональности, по классическому народному языку... Толстой породил в детской литературе многообразие жанров... Он оказался родоначальником русской зообеллетристики для детей... Толстой по праву может считаться художником, утвердившим в детской литературе принцип народности... Толстой окончательно меняет облик русской детской литературы, уводя ее из барской детской в крестьянскую избу... Толстой органически слил две отрасли человеческой культуры — литературу и педагогику и гениально решил важнейшие проблемы детской литературы»110.
«Трудясь над своими детскими книгами, — писал С. Я. Маршак, — Лев Толстой решал не одну педагогическую, но и художественную задачу. Для него было делом писательской чести справиться не только с многолистной эпопеей, но и с рассказом из четырех строчек, с повестью из двадцати четырех страниц. Умение писать коротко и просто было для него проявлением и доказательством высшего мастерства. Кто из современных ему писателей нашей страны и зарубежных стран мог поспорить с ним в этом искусстве!
Сегодня, перечитывая учебные книги Толстого, мы особенно ценим в них его блистательное умение пользоваться всеми оттенками, всеми возможностями родного языка, его щедрую затрату писательского мастерства на каждые три-четыре строчки, которые превращаются под его пером в умные, трогательные и убедительные рассказы...
В «Четырех книгах для чтения» Льва Толстого вы найдете и басни в прозе, и сказки, и «рассуждения» — научные очерки
113
на самые разнообразные темы... И все это написано пером Льва Толстого, тем же пером, что написало «Войну и мир», «Детство» и «Воскресение». Не жалея своего времени и сил, великий писатель трудился над очерком для детей на тему: «Отчего потеют окна и бывает роса?»...
Но венцом «Книг для чтения», несомненно, является... знаменитая повесть о Жилине и Костылине — «Кавказский пленник».
Вряд ли можно найти во всей мировой литературе более совершенный образец маленькой повести для детей. В «Кавказском пленнике» мы находим редчайшее сочетание романтического сюжета с глубокой, поистине толстовской правдивостью и точностью в изображении обстановки и действующих лиц. «Кавказский пленник» показал всему миру, какой содержательной может быть детская повесть, напечатанная крупным шрифтом на двух десятках страниц. В ней есть приключения, столь привлекательные для юного читателя, но есть и большие чувства, оставляющие след на всю жизнь»111.
«Азбука» Толстого переведена на 71 язык народов СССР112.
Рассказы Толстого для детей в отдельных изданиях и сборниках выпускаются огромными тиражами.
«Маленькие рассказы, сказки, басни» Толстого в издательстве художественной детской литературы в Москве были выпущены в 1956 году в количестве 300 000 экземпляров, в 1958 году — в количестве 600 000 экземпляров.
В том же издательстве рассказы из «Азбуки» в 1960 году были выпущены в количестве 1 280 000 экземпляров, «Рассказы для маленьких» в 1961 году в количестве 425 000 экземпляров; сборник «Рассказы», содержащий пять рассказов Толстого, разошелся в 1958 году в количестве 1 500 000 экземпляров, сказка «Три медведя» в 1961 году — в количестве 500 000, рассказ «Птичка» в издании 1959 года — в количестве 1 500 000 экземпляров и т. д.
Эти полумиллионные и миллионные тиражи красноречивее всяких рассуждений говорят о том, что тот памятник, который создал Толстой 90 лет тому назад своими детскими книжками, и в наши дни стоит так же твердо и нерушимо.
114
Глава третья
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1873—1877 ГОДАХ
I
Внимательное чтение Толстым в 1870 году «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева привело к глубоким размышлениям по историческим вопросам и началу работы над романом о петровском времени. Записные книжки Толстого 1870 года содержат многочисленные записи его мыслей о роли народа и правительства в древней Руси, о значении преобразований Петра, о славянофилах и западниках.
В 1871 году началась усиленная работа над «Азбукой». За весь этот год ни в переписке Толстого, ни в его записных книжках нет никакого упоминания о замысле исторического романа. В феврале 1872 года, когда работа над «Азбукой» в основном была закончена, в письмах к своим друзьям Толстой делает намеки на некоторый задуманный им новый большой труд. 20 февраля он пишет Фету:
«Я кончил свои Азбуки, печатаю и принимаюсь за задушевное сочинение, которого не только в письме, но и на словах едва ли расскажу, несмотря на то, что вы тот, кому можно рассказать»1.
В тот же день Лев Николаевич писал А. А. Толстой, вспоминая свое последнее свидание с нею: «Теперь я начинаю новый большой труд, в котором будет кое-что из того, что я говорил вам, но все другое, чего я никогда и не думал... Я берусь за работу с радостью, робостью и сомнениями, как и в первый раз»2.
3 марта в столь же неопределенных выражениях извещает Толстой и Страхова о новой начатой им работе: «Азбука занимала и занимает меня, но не всего. Вот этот остаток-то и есть то, о чем не могу написать, а хотелось бы побеседовать»3.
Но работа по печатанию «Азбуки» оказалась гораздо сложнее, чем Толстой думал первоначально. На протяжении более чем полугода в его переписке нет никаких упоминаний о задуманном произведении. Только 30 сентября Толстой вновь пишет Страхову:
115
«Я все эти последние дни насилу-насилу удерживал потребность начать свою настоящую работу»4. Около 26 октября Лев Николаевич уже извещает А. А. Толстую о начале нового произведения: «В последнее время, кончив свою Азбуку, я начал писать ту большую [вещь] (я не люблю называть романом), о которой я давно мечтаю»5. С. А. Толстая также писала Т. А. Кузминской 28 октября: «Левочка уже начал новый роман и очень весел и радуется будущему своему труду».
В начале ноября Толстой пишет Фету: «Я прилаживаюсь все писать, но не могу сказать, чтобы начал»6. Слова эти надо понимать, очевидно, в том смысле, что работа начата, написано несколько начал, но автора они не удовлетворяют.
Толстой погрузился в изучение исторических материалов из времени Петра I. Но чем дольше продолжалось изучение материалов и обдумывание замысла исторического романа, тем сложнее представлялась начатая работа. До тех пор еще ни одно произведение Толстого не начиналось так трудно, с такой тратой творческих усилий.
19 ноября С. А. Толстая писала своему брату С. А. Берсу: «Левочка сидит, обложенный кучею книг, портретов, картин, и нахмуренный читает, делает отметки, записывает. По вечерам, когда дети ложатся спать, рассказывает мне свои планы и то, что он хочет писать; иногда разочаровывается, приходит в грустное отчаяние и думает, что ничего не выйдет, иногда совсем близок к тому, чтобы работать с большим увлечением; но до сих пор еще нельзя сказать, чтобы он писал, а только готовится. Выбрал он время Петра Великого»7. Своей сестре Т. А. Кузминской С. А. Толстая писала 30 ноября: «Теперь Левочка особенно усердно работает над историей Петра Великого. Собирает материал, читает, пишет, ужасно трудится и хочет писать роман из этой эпохи. Мы ведем более чем когда-либо уединенную и трудовую жизнь».
В первых числах декабря 1872 года Толстой поехал в Москву, по-видимому, главным образом за новыми историческими материалами. В архиве С. А. Толстой сохранился счет Толстому от книжного магазина И. Г. Соловьева в Москве на семь книг по истории Петра I, датированный 4 декабря 1872 года8.
В эту поездку Толстой встретился в Москве с П. Д. Голохвастовым, которого посвятил в начатую им работу. Голохвастов, обладавший большой библиотекой, составил для Толстого
116
список имеющихся у него книг по интересующей Толстого эпохе9, и предложил воспользоваться теми из них, какие понадобятся Толстому. В ответном письме от 6 декабря Толстой перечисляет из этого списка тринадцать названий книг, которые он желал бы получить.
7 декабря, возвратившись в Ясную Поляну, Лев Николаевич пишет А. А. Толстой, что он «в работе с утра до вечера»10, но не указывает, какой работой он занят.
У Толстого не прекращались сомнения в том, удастся ли ему написать задуманный роман. 17 декабря он пишет Страхову:
«Да пожелайте мне работать. До сих пор не работаю. Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут.
Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. Я не огорчусь, если ничего не выйдет»11.
Через два дня, 19 декабря, С. А. Толстая пишет С. А. Берсу: «Левочка все читает из времен Петра Великого исторические книги и очень интересуется. Записывает разные характеры, черты, быт народа и бояр, деятельность Петра и прочее. Сам он не знает, что будет из его работы»12.
12 января 1873 года опять тревожное письмо, на этот раз к П. Д. Голохвастову. Толстой благодарит за присланные книги, но вместе с тем пишет: «Я всю зиму нынешнюю нахожусь в самом тяжелом, ненормальном состоянии. Мучаюсь, волнуюсь, ужасаюсь перед представляющимся, отчаиваюсь, обнадеживаюсь и склоняюсь к тому убеждению, что ничего, кроме муки, не выйдет»13.
Однако в тот же день он пишет письмо своему знакомому В. К. Истомину, служившему в Новочеркасске, с просьбой обрисовать ему «картину того места» под Азовом, где происходили военные действия при Петре. Он хочет знать: «какие берега Дона, Мертвого Донца, Кутерьмы там — где высоко, где низко? Есть ли горы, курганы? Есть ли кусты, челига или что-нибудь подобное, какие травы? Есть ли ковыль? Есть ли камыш? Какая дичь? Да и вообще течение Дона от Хопра, какой общий характер имеет, какие берега?» Он просит назвать ему книги по
117
интересующим его вопросам и указать, «нет ли чего-нибудь... местного об азовских походах Петра?»14.
16 января Толстой, как это записано в дневнике его жены15, прочел вслух своим семейным из какого-то исторического сочинения «о свадьбах и обычаях русских времен Алексея Михайловича». Вероятно, это была книга Адама Олеария «Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах» (изд. 1870 г.).
24 января в письме к П. Д. Голохвастову Толстой вновь просит прислать ему книги о времени Петра I и высказывает свое глубокое недовольство историческими работами по данной эпохе как со стороны фактической, так и со стороны освещения исторических событий. Он пишет, что «в своем изучении времени» он дошел «до той степени..., что начинаешь вертеться в заколдованном кругу. С разных сторон повторяют одно и то же, и знаешь откуда». Освещение исторических событий в этих сочинениях всегда дается «с пошлой европейской героичной точки зрения». Здесь Толстой разумел ту ненавистную ему точку зрения, по которой все движение истории приписывается героям, царям, полководцам и т. д., а народу не отводится никакого места. Эта фальшь вызывает у Толстого «озлобление», приводящее к потере «спокойствия и внимательности, которые так нужны»16.
Через шесть дней, 30 января, Толстой жалуется Фету, что он «ужасно не в духе», и это потому, что «работа затеянная страшно трудна. Подготовке, изучению нет конца, план все увеличивается, а сил... все меньше и меньше»17.
На другой день С. А. Толстая записывает в дневнике:
«Чтение материалов продолжается. Типы один за другим возникают перед ним. Написано около десяти начал, и он все недоволен. Вчера говорил: „Машина вся готова, теперь ее привести в действие“»18.
За февраль 1873 года нет ни одного письма Толстого, касающегося его работы над романом о Петре I и его времени. В дневнике М. П. Погодина 13 февраля записано, что у него был Толстой и вел с ним «любезную беседу» о Петре I19. Кроме того, в воспоминаниях С. А. Берса напечатан следующий отрывок из письма к нему С. А. Толстой от 23 февраля: «Левочка все читает и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновения нет, а иногда говорит: недостаточно подготовлен И все больше и больше читает материалы из времен Петра Великого»20.
118
18—19 февраля Н. Н. Страхов гостил в Ясной Поляне. Толстой посвятил его в ход своей работы над романом, рассказал ему и о тех сомнениях, которые у него возникали раньше, но теперь уже не мучат его. Но 1 марта Толстой пишет Страхову: «Работа моя не двигается, да и опять нашло сомнение»21. О том же еще более определенно писал он А. А. Толстой в тот же день: «Работа моя идет дурно. Жизнь так хороша, легка и коротка, а изображение ее всегда выходит так уродливо, тяжело и длинно»22.
Н. Н. Страхов 15 марта отвечал Толстому: «Всею душою желаю, чтобы пошла наконец Ваша работа, которая так глубоко и серьезно Вас занимает (как я люблю эти Ваши волнения, и как они меня самого волнуют!). Но помните, Лев Николаевич, что если Вы и ничего не напишете, Вы все-таки останетесь творцом самого оригинального и самого глубокого произведения русской литературы. Когда русского царства не будет, новые народы будут по «Войне и миру» изучать, что за народ были русские»23.
17 марта Толстой вновь пишет Фету: «Работа моя не двигается». Он прибавляет, что еще не теряет надежды, что работа пойдет успешно, но оговаривается, что если и ничего не будет написано, то он не огорчится «уж очень». «Слава богу, есть чем жить — разумеется, не в смысле денег»24. В этих словах уже чувствуется некоторое охлаждение к начатому труду.
Между тем сведения о работе Толстого над новым историческим романом проникли в печать. 20 февраля в петербургской газете «Биржа» появилось сообщение «из достоверных источниников», что гр. Л. Н. Толстой «занят в настоящее время собиранием исторических материалов для нового романа с широко задуманным планом из времен императора Петра Великого». «Героем романа будет державный преобразователь России. До настоящего времени более двух третей материала уже собраны, а равно и написаны первые главы романа». Сообщение было перепечатано «Петербургскими ведомостями»25.
Основываясь на сообщениях газет о новом романе Толстого, Некрасов обратился к нему с просьбой предоставить этот роман «Отечественным запискам»; Катков просил дать роман в «Русский вестник». И Толстому, как писал он Страхову 25 марта, к его неудовольствию, пришлось ответить отказом на оба письма.
К сожалению, письма Некрасова и Каткова, как и ответы им Толстого, остаются нам неизвестны.
119
II
16 января 1873 года С. А. Толстая пишет в своем дневнике, что, занявшись изучением времени Петра I, Лев Николаевич «записывает в разные записные книжечки все, что может быть нужно для верного описания нравов, привычек, платья, жилья и всего, что касается обыденной жизни особенно народа и жителей вне двора и царя. А в других местах записывает все, что приходит в голову касательно типов, движения, поэтических картин и проч. Эта работа мозаичная. Он вникает до таких подробностей, что вчера вернулся с охоты особенно рано и допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах. Левочка предполагает, что они носились при длинных верхних платьях, особенно у простонародья»26.
Записи, о которых говорить здесь С. А. Толстая, сохранились; сделаны они в записной книжке и на отдельных листках. Записи в записной книжке, начинающиеся 27 ноября 1872 года и кончающиеся в феврале или марте 1873 года, немногочисленны27. Это очень краткие, большей частью отрывочные, памятные заметки, иногда понятные только одному автору, содержащие указание на факты и сведения, заимствованные из прочитанных книг, главным образом из «Подробного описания путешествия» Адама Олеария, из книги И. Е. Забелина «Домашний быт русских цариц», из дневника Иоганна Корба, из «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова, из монографии М. Ф. Поссельта «Der General und Admiral Franz Lefort» и некоторых других. Содержание записей — преимущественно подробности быта разных сословий в петровское время и лишь отчасти — политические события. Кроме того, здесь же записаны названия книг по интересующему Толстого периоду русской истории; выписана отрицательная характеристика Петра, сделанная английским епископом Бёрнетом, прикомандированным к Петру во время его путешествия в Англию в 1698 году для разъяснений относительно организации английской церкви.
Часть отдельных листков с записями к задуманному роману заключена в обложку с надписью «Бумаги Петра». Они имеют подразделения: «Петр», «Казаки», «Общее». Все сведения, сообщаемые в этих записях, взяты из XIV—XVIII томов «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (1863—1868) и из двух изданий «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыша-Каменского (1836 и 1847 годов)28.
120
Отношение Толстого к личности Петра I в первых из этих записей можно назвать вполне сочувственным29. Толстой (по Соловьеву) отмечает простоту образа жизни Петра (в Воронеже жил в горнице из двух комнат); ту же простоту жизни и привычек и нелюбовь Петра к пышности подчеркивает Толстой, читая дневник Берхгольца (ест деревянной ложкой, за столом садится на первое попавшееся место, парик надевает первый, какой подвернется под руку, ездит всегда в кабриолете, тяготится официальными приемами). Далее Толстым отмечены способность Петра к черчению и рисованию, присущий ему художественный инстинкт, проявляющийся в его письмах в обильном употреблении метафор; Толстой выписывает некоторые из них. Из-под Азова Петр писал: «Подошли к гнезду близко и шершней раздразнили. Однако и гнездо помаленьку сыплется»; взявши Нотебург (Орешек), Петр писал надзирателю артиллерии: «Правда, что зело жесток сей орех был, но счастливо разгрызли».
«Лучшим поэтическим временем» в жизни Петра Толстой считает его заграничное путешествие с Лефортом. Он отмечает факт, свидетельствующий о необыкновенной привязанности Петра к Лефорту: Петр всю дорогу шел за его гробом, а у самой могилы велел поднять крышку гроба и в последний раз поцеловал своего друга. Записывает Толстой и другой факт, показывающий способность Петра крепко привязываться к своим друзьям: когда князь Яков Долгорукий, пробывший около десяти лет в плену у шведов, неожиданно вернулся в Петербург, Петр, встретясь с ним, заплакал.
В двух случаях Толстой с полным сочувствием отмечает религиозные рассуждения и распоряжения Петра.
В 1722 году Петр написал толкование десяти заповедей Моисея, признаваемых христианской церковью. Он написал, какие грехи противны каждой заповеди, и прибавил: «Описав все грехи против заповедей, един токмо нахожу грех лицемерия или ханжества не обретающийся — для чего? Того ради, понеже заповеди суть разны, и преступления разны против каждой, сей же грех все вышеписанные в себе содержит». Так, грех против первой
121
заповеди есть «атеиство, который в ханжах есть фундаментом, ибо первое их дело сказывать видения, повеления от бога и чудеса все вымышленные; и когда сами они вымыслили, то ведают уже, что не бог то делал, но они; какая же вера в оных, а когда оной нет, то суть истинные атеисты». Толкование завершается ссылкой на Евангелие: «Христос Спаситель ничего апостолам своим бояться не велел, а сего весьма велел: блюдитеся, рече, от кваса [закваски] фарисейского, еже есть лицемерие»30.
По поводу этого разъяснения заповедей, сделанного Петром, Толстой замечает: «Объяснение заповедей гениальное»31. Совершенно понятно, почему Толстой был так восхищен приведенными строками Петра. Он ведь и сам считал лицемерие и ложь самыми тяжкими грехами.
В своем «Исследовании догматического богословия» Толстой в 1879 году писал: «Лицемерие... мне всегда представлялось самым безнравственным [делом]»32.
Толстой останавливается также на указе, изданном в апреле 1724 года, в котором Петр предлагал Синоду «краткие поучения людям сделать... также сделать книгу, где б изъяснить, что непременный закон божий, и что советы, и что предания отеческие, и что вещи средние, и что для чину и обряду сделано, и что непременное, и что по времени и случаю переменялось, дабы знать могли, что и каковой силе иметь»33.
Как царя Толстой характеризует Петра словами: «Петр делал все по совету. Но все обстоятельно». Приказ Петра 1706 года об отступлении из Гродно Толстой называет «чудесным». Очевидно, что кроме того, что он находил целесообразными подробные военные распоряжения Петра, изложенные в этом приказе, в том числе предоставление частным начальникам в сомнительных случаях действовать «по рассмотрению» или по решению «воинского совета», — Толстой обратил внимание на то, что Петр предписывал начальнику войск перед выходом из Гродно забирать у жителей, «кто они ни есть», то, «в чем нужда есть», но «без крайнего разорения», а при отступлении побросать в воду тяжелую артиллерию и все, что невозможно будет увезти, и «не смотреть ни на что, ни на лишения артиллерии, ни остаточного не жалеть, токмо людей по возможности спасать»34.
В распоряжениях Петра во время войны со шведами в 1708 году, несмотря на то, что Петр в то время был болен, Толстой видит «толковитость удивительную». Он строит догадки
122
относительно неясных ему мотивов некоторых поступков Петра. Так, о неожиданном отъезде Петра из-под Нарвы, который иностранные историки объясняли трусостью, а Соловьев — нежеланием «подвергаться опасности бесполезной», Толстой замечает: «Петр непременно обозлился на что-нибудь под Нарвой и уехал: „так вот же вам!“».
На основании изучения исторических материалов Толстой составил себе следующее общее представление о личности Петра: «Любопытство страстное в пороке, преступлении, чудесах цивилизации. До чего могут дойти? Материально только... Роковое — это страсть изведать всего до пределов. Бес ломает... Анатомировать, операции, зубы дергать. Щекотать, заставлять делать противное»35.
Из исторических событий петровского времени Толстого особенно интересовали стрелецкие и казацкие бунты. После записи о том, что казацкий старшина Лоскут «был при Стеньке лет семь», Толстой записывает себе для памяти: «Рассказ про Стеньку». Толстой выписывает мятежную речь стрельца Парфена Тимофеева: «Когда Разин бунтовал, и я с ним ходил; еще я на старости тряхну!», — и негодующую речь другого стрельца: «На Москве бояре, в Азове немцы, в воде черти, в земле черви».
Записи о стрелецких бунтах Толстой сопровождает своими замечаниями: «Должна была быть борьба Нарышкиных против стрельцов. А то откуда злоба на них?» — «Остается невыясненным, в чем состоял второй бунт стрельцов. Казнь Янова? Мало!»
Любопытно, что Толстой обращает внимание на сообщение Корба о том, что Петр, уезжая в Азов в марте 1699 года, поручил управление государством нескольким боярам. «Никто не знает — кому, и все идет», — с удовлетворением отмечает Толстой, еще в «Войне и мире» настойчиво проводивший мысль о том, что настоящая жизнь народа происходит совершенно независимо от действий и распоряжений правительства.
Имея в виду вывести в своем романе целый ряд близких Петру лиц, Толстой пытается уяснить себе прежде всего их моральный облик, а затем их политическое лицо. Жену Петра Толстой характеризует словами: «Катерина ха-ха-хи». Начальника тайной канцелярии Ушакова отличает, по мнению Толстого, «преданность слепая», он «сангвиник. Вдали от интриг. Счастливо кончил. Выведывать мастер. Грубая внешность, ловкость». Прокурор Синода Ягужинский — «пьяница, красив, ловкий, образованный». Свойства вице-президента коллегии иностранных дел Шафирова — «язык, знание, цепкость». У историка В. Н. Татищева «просторно в голове, но не ясно». Князь Б. П. Шереметев
123
— «западник». Князь Яков Долгорукий — «высокий, черноглазый, горячка, грубый». Князь Михаил Голицын — «рыцарь». Митрополит Стефан Яворский, подписывавшийся «пастушок резанский», — «желчный», «грубость не понимает»; митрополит Дмитрий Ростовский — «ученый тонкий, честный». Знаменитый протопоп Аввакум получает такую характеристику: «злой, энергичный, ...быстрая речь. На волоске шутка мрачная» и т. д.
В данных Толстым характеристиках исторических лиц находим отголоски его недавних занятий русскими былинами: некоторых деятелей он называет именами соответствующих им по характеру былинных героев. Так, князь Борис Голицын, воспитатель Петра — это Михаила Потык; фельдмаршал боярин Федор Головин — Добрыня Никитич. В других случаях Толстой сравнивает исторических деятелей с действительными людьми, знакомыми ему с детства. Так, лицемерная набожность гетмана Мазепы вызывает у него воспоминание об опекуне малолетних Толстых А. С. Воейкове36. Запись об услугах, которые Абрам Ганнибал оказывал Петру, почему-то напомнила Толстому «барство» его брата Дмитрия Николаевича.
В архиве Толстого сохранилось также большое количество разрозненных листков с записями подробностей политических событий петровского времени и многочисленных деталей тогдашнего быта, расположение зданий в Москве и Петербурге, названия и ценность монет, обиход царского двора, обстановка домов, одежда, обычаи, моды, «нравы правительства Петра» и пр. Такие подробности, как то, что у губернатора Сибири князя Голицына были золотые подковы на лошадях, а в его московском доме на Тверской были зеркальные стены и стеклянный потолок; или то, что на боярских свадьбах шеи лошадей и дуги украшались лисьими хвостами; или то, что жена Меньшикова ездила верхом, а московские боярыни чернили себе зубы, для того чтобы ярче выделялась белизна лица; или то, что Петр в ожесточении чуть не заколол мечом свою сестру Софью, которая была спасена вставшей между ними прислужницей царевны, двенадцатилетней монахиней Ефросиньей; или то, что боярыня Морозова, закованная в кандалы, перед отправлением в ссылку поцеловала свои цепи и произнесла: «Слава тебе, боже, сподобил мя еси Павловы узы возложить», — эти и сотни других подробностей были драгоценны для Толстого-художника.
Источниками, кроме указанных выше работ, Толстому служили еще: книга И. Е. Забелина «Опыты изучения русских древностей и истории», его же «Домашней быт русских царей и XVI и XVII столетиях», Дневник Христиана Вебера,
124
ганноверского резидента, прожившего в России шесть лет, «Собрание разных записок и сочинений о жизни Петра Великого» Ф. Туманского (10 томов, изданных в 1787—1788 гг.).
III
Сохранилось всего тридцать три варианта не имевших продолжения начал романа из времени Петра I.
Весь этот материал, сообразно содержанию каждого отрывка, может быть распределен на шесть последовательных исторических циклов:37 1) Семья Алексея Михайловича и происхождение Петра; 2) Переход власти от Софьи к Петру; 3) Кожуховский поход; 4) Азовский походы; 5) Разгар Великой Северной войны; 6) Конец царствования Петра.
Основываясь на содержании и внешнем виде рукописей, а также на письмах и записях Толстого, можно с уверенностью отнести к первому периоду его работы над романом о Петре I и его времени — с ноября 1872 г. по март 1873 г. — второй, третий и четвертый из названных выше циклов38.
В основу исторической части всех семи вариантов второго цикла (переход власти от Софьи к Петру) положены события, рассказанные в «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова и в дневнике Корба. Главным героем этих отрывков является князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи. Взят тот момент его жизни, когда он, бывший ранее «первым человеком в русском царстве», почувствовал, что время его могущества и власти прошло безвозвратно.
В первом варианте дается его разговор с царевной Софьей, отказывающейся уступить власть брату; в других рассказывается, как князь, отстранившись от поддержки какой-либо из борющихся сторон, проживает уединенно в своем подмосковном селе Медведкове и, наконец, едет с поклоном к Петру в Троице-Сергиеву лавру. В Медведкове оставленный всеми своими сторонниками князь Голицын размышляет о том, как произошла эта внезапная перемена его жизни.
Так как он сам долгое время был правителем, он очень хорошо знал, что «правды нет никогда в делах правительства». «Что же, — размышлял князь, — правда была в выборе Годунова, Шуйского, Владислава, Дмитрия [самозванца], Михаила [Романова]?.. Не правда была, а судьба. И рука судьбы видна была в том, что творилось». Князь Василий Васильевич знал, что есть способ узнать эту «руку судьбы»: она узнается по тому направлению, по которому идет толпа. Толпа — это та сила, посредством которой «видоизменяются правительства». С отвращением
125
вспоминает князь о своей связи с противной ему царевной Софьей.
В том варианте, где князь Голицын вместе с сыном едет на поклон к Петру, есть одна интересная психологическая подробность. Рассказывается, что князь был внешне спокоен, но сын его явно «был не в себе». «Он не мог мгновенья усидеть смирно; то он облокачивался назад на подушки за спиной... то застегивал, то расстегивал пуговицу на кафтане у шеи»39. Это напоминает одну подробность в «Короле Лире», за которую Толстой хвалил Шекспира.
«Шекспир, — писал Толстой, — сам актер и умный человек, умел не только речами, но восклицаниями, жестами, повторением слов выражать душевные состояния и изменения чувств, происходящие в действующих лицах. Так, во многих местах лица Шекспира... в середине монолога часто жестами проявляют тяжесть своего состояния (так, Лир просит расстегнуть ему пуговицу)»40.
В одном очень коротком варианте, где действует дядька Петра, князь Борис Александрович Голицын, находим фразу: «Все смешалось в царской семье»41, которая указывает на то, что вариант этот написан ранее последней редакции начала «Анны Карениной».
Из всех семи вариантов данного цикла выделяется своей формой первый вариант («Князь В. В. Голицын уже 12 лет был первый человек...»). Этот вариант написан в значительной своей части ритмической прозой. Вот пример:
Если ж Иван Алексеич по божьему гневу убогий,
надо его отстранять и меньшого поставить на царство...
И нахмурила черные брови царевна,
и ударила по столу пухлой ладонью.
«Не бывать ей царицей, мужичке,
задушу с медвежонком медведицу злую...»
Князь Василий все ждал, не вступался в смятенье…
Весы поднялись, и себя он почуял в воздухе легким.
Что перед нами не случайное совпадение а осуществление авторского замысла, доказывается тем, что на одном стихе (первом из приведенных выше) Толстым проставлены знаки долготы и краткости, а на последней странице рукописи посторонней рукой написан (очевидно, в качестве образца) первый стих «Метаморфоз» Овидия.
К третьему циклу относятся семь вариантов, действие которых происходит в сентябре 1694 года, когда Петр устроил
126
грандиозные маневры под селом Кожуховым, недалеко от Москвы. По вызову царя на маневры являются помещики и ратные люди из двадцати двух городов со своими крепостными, амуницией и лошадьми. Всего собралось около сорока тысяч человек.
Исторической основой для описания этого события послужили Толстому «Записки» окольничего И. А. Желябужского, экземпляр которых, с многочисленными отметками Толстого, сохраняется в Яснополянской библиотеке, а также «История царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова.
Один из отрывков носит название «Старое и новое». По-видимому, Толстой имел в виду изобразить в нем борьбу между сторонниками реформ Петра и приверженцами старины. В заметках к роману находим у него такую запись: «Нужен чистый враг нововведений. — Ученый».
Действие вариантов, относящихся к четвертому циклу, происходит во время Азовских походов Петра — в 1695—1696 годах. Всех вариантов данного цикла шесть42. Исторической основой для них послужили: «История царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова, «Словарь достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыша-Каменского, «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева и «Записки» И. А. Желябужского.
По переписке Толстого и по его записям в записной книжке варианты этого цикла можно отнести к январю 1873 года.
Один вариант рисует картину постройки судов в 1696 году на корабельной верфи в Воронеже, куда было «народу согнано много тысяч».
Другой отрывок, повторяющий название «Старое и новое», описывает пир у боярина Головина, на котором присутствуют Лефорт, князь Репнин и князь Голицын. По-видимому, должен был разгореться спор гостей — сторонников Петра и приверженцев старины.
Два варианта рассказывают о передвижении из Воронежа к Черкасску вниз по Дону большого царского войска. На одном корабле плывет Петр. Солдат Алексей Щепотов достает из воды шляпу, уроненную царем. Царю понравились «широкие плечи, толстые кости, красная шея и умная, смелая рожа» солдата, и он принимает его к себе на службу.
127
Наконец, последний вариант данного цикла описывает приезд в Москву двух братьев Посошковых, из которых один — самоучка, известный автор книги «О скудости и богатстве». Они едут к монаху московского Андроньевского монастыря Авраамию. Этот монах, как известно, подал Петру несколько написанных им тетрадей, в которых перечислял то, что в поведении царя соблазняет народ.
Петр изображен в трех набросках начала романа. И здесь отношение к Петру в общем благоприятное. Изображается тяготение Петра к простым людям (солдатам), его непрестанная энергичная деятельность (ходит так быстро, что, кажется, насилу удерживается, чтоб не бежать), отсутствие пышности в его образе жизни (Головин в одном из отрывков рассказывает, как Петр поехал из Москвы в Воронеж, где строились суда: «Подали возок царский. Посадил туда шута, деньщиков, сам ввалился в деньщиковы сани, пошел!»).
Но в одном из начал романа сказано, что «когда царь засмеялся», то «не стало смешно, а страшно»43. Толстой, следовательно, имел в виду в своем романе изобразить и те стороны Петра, которые делали его страшным для окружающих.
IV
Чем можно объяснить то, что Толстой, несмотря на громадную подготовительную работу, не только не закончил роман о Петре I и его времени, но даже не прдвинул сколько-нибудь значительно этот роман?
Шурин Толстого, С. А. Берс, в своих воспоминаниях рассказывает, что Толстой «говорил иногда, что трудно уловить дух того времени по отдаленности этой эпохи»44.
В 1883 году Толстой в беседе с одним посетителем сказал: «Из Петровской эпохи я не мог написать потому, что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас»45.
В 1890 году в разговоре с немецким биографом Р. Левенфельдом Толстой по поводу своей работы над романом о времени Петра говорил: «Я очень долго занимался этим предметом, все материалы я подбирал с рвением ученого и был хорошо знаком с важнейшими событиями, обычаями, одеждой и порядками того времени; однако ни один образ не рисовался живо моему воображению... Царь Петр был от меня очень далек»46.
128
С. А. Толстая в своей заметке на сделанной ею копии выписок Толстого из исторических материалов времени правления Петра I записала: «На мои вопросы, почему Лев Николаевич не продолжал этой работы, он мне говорил, что не мог в своем воображении восстановить обыденную жизнь в ту эпоху русских людей, народа, общества, двора и пр.»47.
В разговоре Толстого с Левенфельдом бросается в глаза сделанный им очень сдержанный отзыв о Петре. Он сказал, что царь Петр был ему «очень далек», между тем как к этому времени у него сложилось вполне определенное отрицательное отношение к личности и государственной деятельности Петра.
Что та трудность, о которой, по словам мемуаристов, говорил Толстой, действительно существовала и что преодоление этой трудности было для художника делом нелегким, в этом не может быть никакого сомнения. Но явилась ли эта трудность основной причиной прекращения Толстым работы над долго занимавшим его романом и не было ли другой, более существенной причины интересующего нас факта творческой биографии Толстого?
Тот же С. А. Берс в своих воспоминаниях указывает еще другую причину прекращения Толстым работы над историческим романом о времени Петра I. Толстой «говорил, — пишет С. А. Берс, — что мнение его о личности Петра I диаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сделалась ему несимпатичной. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные. Все так называемые реформы его отнюдь не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему сословия бояр за его нововведения, он основал город Петербург только для того, чтоб удалиться и быть свободнее в своей безнравственной жизни... Нововведения и реформы почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие того времени, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру I. Этим объяснял Лев Николаевич и дружбу Петра I с курфюрстом Саксонским, принадлежавшим к самым безнравственным личностям из числа коронованных особ того времени. Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отвращением к Петру I всех бояр, среди которых он не мог найти себе друзей и товарищей для разгульной жизни. Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея»48.
Из сообщения С. А. Берса явствует, что изучение исторических материалов привело Толстого к перемене его взгляда не
129
только на личность Петра, но и на всю его государственную деятельность. Он пришел к выводу, что реформы Петра вызывались не потребностями народа, а его личными целями. Именно поэтому и весь период правления Петра «сделался ему несимпатичным».
Как личность Петр вызывал негодование Толстого двумя сторонами своего характера: своей крайней жестокостью и тем, что Толстому казалось шутовством в его жизни и в его распоряжениях. Петр присутствовал при пытках и казнях. Во время пыток стрельцов, когда один из них, несмотря на продолжительную пытку огнем, упорно молчал в ответ на все вопросы, Петр сильно ударил его палкой по голове и закричал: «Говори, скот!» Петр не только присутствовал при пытках и казнях, но и сам рубил головы осужденным. Его денщик Плещеев поднимал осужденных за волосы, а царь отрубал им головы мечом.
Выписав из дневника Корба сообщение о том, что Петр приглашал полковника Гордона прийти посмотреть, как он будет рубить голову преступнику новым способом — не топором, как раньше, а мечом, и что «поймали какого-то разбойника», Толстой с негодованием восклицает: «А Петра не поймали!»49.
Казни сопровождались празднествами и попойками. Толстой выписывает из дневника Корба запись от 18 февраля 1699 года: «Казнены в Преображенском 150, а в Москве вблизи Кремля в двух местах 36 мятежников. Вечером даны были с царскою пышностию разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем потешных огней». В другом месте Толстой кратко записывает: «26 июня 1718 умер Алексей. 27[-го] празднование Полтавской битвы. Веселье. 29 — воскресенье, именины и спуск корабля и пьянство до двух часов ночи. 30-го [Алексей] похоронен».
Кровавая расправа Петра со своими противниками не только не встречала сочувствия, но вызывала ропот в народе. Из «Истории России» Соловьева Толстой выписывает толки, ходившие в то время в народе о Петре и его приближенных: «Коего дня крови не изопьют, им и хлеб не естся»50.
Толстой пытался объяснить себе вызывавшую его негодование жестокость Петра всей кипучей, никогда не прекращавшейся, прерываемой только попойками деятельностью царя. 7 ноября 1884 года Толстой писал В. Г. Черткову: «Я одно время писал о Петре I, и одно у меня было хорошо. Это объяснение характера Петра и всех его злодейств тем, что он постоянно был страстно занят — корабли, точить, путешествовать, писать указы и т. д. ...Горячечная, спешная деятельность есть всегдашняя спутница недовольства собой и, главное, людьми, это не все знают»51.
130
Что касается мнения Толстого о шутовстве как свойстве характера Петра, то это мнение проникло в печать еще при жизни Толстого. В 1874 году А. С. Суворин в статье «Литературный портрет Л. Н. Толстого», напомнив философские теории «Войны и мира», далее писал: «Если он [Толстой] напишет роман из времени Петра Великого — года два назад об этом много говорили, — эту нелюбовь к выдающимся людям мы увидим еще яснее. По рассказам людей, с которыми граф Л. Н. беседовал о Петре Великом, выходит, что этого государя он низведет в разряд скорее смешных, чем великих людей… „Народу Петр представлялся шутом, — говорил будто бы о нем граф Л. Н., — народ смеялся над ним, над его затеями и все их отвергнул“»52.
Толстой в своих записях отмечает некоторые «шутки» Петра: устраивавшийся им неоднократно ночью мнимый пожар с ударами в набат и с барабанным боем солдат, проходивших по улицам и беспокоивших население; насильственное кормление салатом и уксусом боярина Головина, не выносившего салата и уксуса, продолжавшееся до тех пор, пока тот не закашлялся и у него не потекла кровь из носа.
Из всех шутовских выдумок Петра особенно возмущало Толстого устройство «всешутейшего, всепьянейшего собора», представлявшего собой грубо-циническую пародию на церковное управление. В этом «соборе» участвовало около двухсот приближенных Петра. Потешным патриархом («князем-папой») был дядька и учитель Петра, думный дьяк Никита Зотов; остальные имели сан потешных митрополитов, епископов, архимандритов, попов, дьяконов и дьячков. Петр разыгрывал роль потешного протодьякона. Потешный патриарх носил митру, на которой был изображен Вакх, как писал в своем дневнике И. Корб, «возбуждавший своей наготой страстные желания».
На освящении дворца Лефорта в немецкой слободе, построенного Петром и посвященного Вакху, «князь-папа» благословлял собравшихся подобием креста, сделанным из двух накрест сложенных чубуков.
На праздник Рождества все это сборище вместе с царем усаживалось в 80 саней и ездило «славить Христа» по богатым купцам, именитым москвичам и немецким офицерам, со штофами водки, уложенными в ящик, сделанный наподобие массивных крышек переплетов евангелий, хранящихся в церквах, после чего в полном составе направлялось в Немецкую слободу, где происходил пир53. «Всешутейший, всепьянейший собор» просуществовал до самой смерти Петра.
131
В своих позднейших письменных и устных высказываниях о Петре Толстой никогда не забывал напоминать об этих двух наиболее отталкивавших его сторонах характера Петра: жестокости и шутовстве. В черновой редакции памфлета «Николай Палкин», написанного в 1886 году, Толстой писал: «Беснующийся зверь Петр... забавляется казнями, рубит головы пьяной неумелой рукой, не сразу отхватывая шею»54. В трактате Толстого «Царство божие внутри вас» (1891—1893), где одна за другой даны характеристики русских царей, о Петре сказано: «Пьяный сифилитик Петр со своими шутами»55. Здесь под словом «шутами» Толстой разумел именно возмущавший его своим цинизмом и пьянством «всешутейший, всепьянейший собор». В статье «Единое на потребу» (1905) в числе русских царей последних веков назван «зверски жестокий пьяный Петр, ругающийся с своей пьяной компанией над всем, что свято людям»56.
Летом 1905 года мне случилось беседовать с Толстым о романе Мережковского «Петр и Алексей». Я сказал, что в этом романе Петр представлен во всей его жестокости. Лев Николаевич на это отозвался: «По-моему, он был не то что жестокий, а просто пьяный дурак. Был он у немцев, понравилось ему, как там пьют...» Здесь Толстой под словом «дурак» разумел не то, что обычно понимается под этим словом, — глупый человек, а разумел шута в народном смысле этого слова. В Словаре Даля одно из объяснений слова «дурак» дано в таких словах: «шут, промышляющий дурью, шутовством». Отсюда — дурачиться, ломать дурака и пр.
Данное высказывание Толстого о Петре, являющееся последним из известных нам, интересно в том отношении, что в нем жестокость Петра не только не подчеркивается, но даже не признается основной чертой его характера.
Совершенно понятно, что после того, как Толстой разочаровался и в личности Петра и в его государственной деятельности, он не мог уже продолжать начатый роман.
Всего за несколько лет до этого Толстой закончил гениальную эпопею «Война и мир». Там русский народ изображен в его трудной, напряженной борьбе с французским нашествием; мы видим там и портрет народного полководца Кутузова, ставящего единственной своей целью исполнение воли народа — изгнание
132
французов из родной земли. Мы знаем, что Толстой с большим воодушевлением писал свой роман-эпопею. Но чем же он мог воодушевиться в романе о времени Петра, где он не увидал ни народа, сочувствующего реформам Петра, ни самого Петра как народного героя? Работа над этим романом при том представлении, которое сложилось у Толстого и о всем этом времени и о его типичном выразителе, царе Петре, несмотря на огромный труд, положенный Толстым на подготовку к его созданию, не могла осуществиться.
«Я ждал целый год, мучительно ждал расположения духа для писанья», — писал Толстой Страхову 17 декабря 1873 года57. Но несмотря на то, что Толстой, как писал он тому же Страхову 25 марта, «все почти рабочее время» зимы 1872—1873 годов «занимался Петром, т. е. вызывал духов из того времени»58, «расположение духа для писанья» не приходило.
«Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека, — писал Толстой в записной книжке 28 октября 1870 года. — Огонь этот жжет, греет и освещает... Настоящий поэт сам невольно и с страданьем горит и жжет других. И в этом все дело»59.
История Петра и его приближенных не могла зажечь в душе Толстого тот огонь, который был ему необходим для создания художественного произведения. И потому у него не появлялось «расположения» к работе над романом о Петре и его времени, и начатая работа была оставлена60.
Взамен нее была начата новая работа, которая сразу же очень захватила Толстого.
V
19 марта 1873 года С. А. Толстая записывает в дневнике:
«Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи. И странно он на это напал. Сережа все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете [Т. А. Ергольской] вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись идти вниз, отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Левочка взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил:
133
«Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Потом он перечитывал вслух мне о старине, как помещики жили и ездили по дорогам61, и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под влиянием Пушкина стал писать. Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой»62.
В тот же день С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого».
Написанное С. А. Толстой в дневнике и в письме к сестре подтверждается письмом Толстого к Страхову от 25 марта 1873 года. Здесь Толстой писал: «С неделю тому назад Сережа, старший сын, стал читать «Юрия Милославского» — с восторгом. Я нашел, что рано, прочел с ним, потом жена принесла с низу «Повести Белкина», думая найти что-нибудь для Сережи, но, разумеется, нашла, что рано. Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда (кажется 7-й раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не восхищался: «Выстрел», «Египетские ночи», «Капитанская дочка»!!! И там есть отрывок «Гости собирались на дачу». Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать...»63
В другом письме к Страхову от 11 мая Толстой писал, что занят романом, который «пришел» ему «невольно и благодаря божественному Пушкину», которого он «случайно взял в руки и с новым восторгом перечел всего»64.
В печати со слов какого-то близкого к Толстому лица были напечатаны подробности о словах, сказанных Толстым при чтении пушкинского отрывка. Сообщалось, что взявши в руки «случайно» том прозы Пушкина в издании Анненкова, Толстой «машинально раскрыл его и, пробежав первую строчку («Гости съезжались на дачу»), невольно продолжал чтение. Тут в комнату вошел кто-то. «Вот прелесть-то! — сказал Лев Николаевич. — Вот как надо писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу»65. Полагаем, что лицом, сообщившим автору статьи
134
эти сведения, был старший сын Толстого Сергей Львович. В 1908 году, просматривая второй том «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым, Сергей Львович, исправляя сказанное Бирюковым, записал: «Не помню, чтобы я читал Пушкина „Гости съезжались на дачу“, Но помню, как Лев Николаевич говорил: „Вот как надо писать“»66.
За двадцать лет до этого, 1 ноября 1853 года, Толстой, перечитав «Капитанскую дочку», записал в дневнике, что проза Пушкина уже устарела — «не слогом, но манерой изложения», что в новом направлении литературы «интерес подробностей чувства» преобладает над «интересом самых событий», что поэтому «повести Пушкина голы как-то»67. Это было написано тогда, когда Толстой, еще только автор «Детства», «Набега» и «Записок маркера», складывался как замечательный мастер раскрытия «диалектики души». Естественно, что в период своего творческого становления Толстой-художник особенное значение придавал этой стороне своего дарования.
Теперь, через двадцать лет, после создания гениальной эпопеи-романа «Война и мир», в творческом сознании и в художественной практике великого писателя заняли подобающее им место как «интерес подробностей чувства», так и интерес изображения событий. Этим была вызвана перемена его отношения к прозе Пушкина.
VI
Роман, который начал писать Толстой, — тот самый, сюжет которого он рассказал своей жене еще 23 февраля 1870 года68. Более трех лет продолжалось созревание замысла. Одно трагическое происшествие, случившееся в окрестностях Ясной Поляны, оказало некоторое влияние на развитие сюжета романа.
8 января 1872 года в «Тульских губернских ведомостях» появилось следующее сообщение: «4 сего января в 7 ч. вечера неизвестная молодая женщина, прилично одетая, прибыв на ст. Ясенки Московско-Курской ж. д. в Крапивенском уезде, подошла к рельсам и во время прохода товарного поезда № 77, перекрестясь, бросилась на рельсы под поезд, которым была перерезана пополам. О происшествии этом производится дознание».
Вскоре выяснилось, что женщина, покончившая с собою, — Анна Степановна Пирогова, проживавшая в доме помещика Бибикова, владельца имения Телятинки, в трех верстах от Ясной Поляны. Бибиков был вдов; Анна Степановна была его экономкой и сожительницей. И Толстой, и его жена бывали у Бибикова; они хорошо знали и Анну Степановну. По словам
135
С. А. Толстой, Анна Степановна была «высокая полная женщина с русским типом и лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная». Причина самоубийства заключалась в том, что Бибиков объявил ей, что оставляет ее и женится на гувернантке своего сына. Она поехала к родным в Тулу. Через несколько дней с небольшим узелком, в котором была только перемена белья, она приехала на ближайшую к Телятинкам железнодорожную станцию Ясенки (ныне Щекино). Отсюда она с ямщиком отправила Бибикову письмо. Бибиков письма не принял, а в нем было написано: «Вы мой убийца, будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы. Если хотите меня видеть, вы можете увидать мое тело на рельсах в Ясенках». Труп ее привезли в ясенковские казармы; Толстой ездил смотреть, как ее анатомировали. «Впечатление было ужасное и запало ему глубоко», — пишет С. А. Толстая. Она же утверждает, что самоубийство Анны Пироговой «навело» Толстого «на мысль» о финале его романа и дало имя героине69 (хотя в первой редакции «Анны Карениной» героиня носила имя Татьяны).
Новый роман, начатый 18 марта, 25 марта был уже начерно закончен.
Толстой чувствовал себя счастливым, особенно после измучивших его продолжавшихся пять месяцев бесплодных попыток писать исторический роман. Он спешит в тот же день «под великим секретом» сообщить об этом крупном событии в своей творческой жизни другу и горячему поклоннику его таланта — Н. Н. Страхову. Он пишет, что начал новое произведение под влиянием отрывка Пушкина «Гости съезжались на дачу». «Стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен и который будет готов, если бог даст здоровья, через две недели и который ничего общего не имеет со всем тем, над чем я бился целый год».
Толстой намерен, если ему удастся кончить начатый роман, напечатать его отдельной книжкой и просит Страхова держать корректуры70.
Письмо еще не было отправлено, когда Толстой увидел необходимость переработки начатого романа. Он нашел «преждевременным» сообщать Страхову о новом романе, и письмо осталось неотправленным.
Через пять дней, 30 марта, в письме к П. Д. Голохвастову Толстой благодарил его за присланные книги и далее писал: «Я работаю, но совсем не то, что хотел»71. Этой неопределенной
136
фразы, намекающей на начало работы над новым романом, было достаточно для того, чтобы письмо к Голохвастову постигла та же участь, что и письмо к Страхову 25 марта: оно не было послано по назначению.
Только около 7 апреля Толстой счел возможным рассказать Страхову, что не послал ему написанного письма потому, что сообщал в нем «о себе кое-что, что было преждевременно». И теперь, не объясняя, над чем он работает, Толстой пишет: «Исполняю возложенную на меня по какому-то высочайшему повелению обязанность — мучаюсь и нахожу в этом мучении всю, не радость, но цель жизни»72.
Вероятно, в тот же день Толстой написал и Голохвастову, так же как и Страхову, объясняя ему, что не послал ранее написанного письма лишь потому, что в нем было «кое-что такое, что, обдумавши», он «решил лучше не писать». Далее Толстой вновь писал о «благодетельном влиянии», какое оказало на него перечитывание «Повестей Белкина»73.
В середине апреля Толстой писал Т. А. Кузминской: «Я очень занят работой»74. И Софья Андреевна 17 апреля отметила в своем дневнике: «Левочка пишет свой роман, и идет дело хорошо»75.
Только 11 мая Толстой счел возможным сообщить Страхову (одному ему) о том, что он пишет роман, «не имеющий ничего общего с Петром I». «Роман этот, — писал Толстой, — именно роман, первый в моей жизни, очень взял меня за душу. Я им увлечен весь».
Никаких других подробностей о начатом романе Толстой не сообщал и все же просил Страхова «никому не говорить» о том, что он пишет76.
Страхов ответил 17 мая:
«Какое чудесное письмо, бесценный Лев Николаевич! Почему-то я все думал, что Вам пишется, но такой радостной вести, что у Вас вчерне готов целый роман, не ожидал. Буду теперь ждать, буду заранее утешаться мыслью, что наверное
опять гармонией упьясь,
Над вымыслом слезами обольюсь...»77
Но вскоре два обстоятельства выбили Толстого из рабочей колеи.
3 мая умерла пятилетняя Даша, племянница жены Толстого, старшая дочь А. М. и Т. А. Кузминских, любимица и родителей
137
и Толстых. Смерть ее, как писал Толстой В. А. Иславину 31 мая, «живо напомнила» ему возможность такой же потери в его собственной семье78.
Получив известие о смерти Даши, Толстой написал письмо ее матери, стараясь подкрепить ее душевно и не дать впасть в уныние и отчаяние. Он писал, что в таком горе «одна религия может утешить». «В смерти близкого существа, — писал он далее, — особенно такого прелестного существа, как ребенок и как этот ребенок, есть удивительная, хотя и печальная прелесть. Зачем жить и умирать ребенку? Это — страшная загадка. И для меня одно есть объяснение. Ей лучше. Как ни обыкновенны эти слова, они всегда новы и глубоки, если их понимать. И нам лучше, и мы должны делаться лучше после этих горестей. Я прошел через это... Главное — без ропота, а с мыслью, что нам нельзя понять, что́ мы и зачем, и только смиряться надо»79.
Он советует Татьяне Андреевне прочесть 130-й псалом, выучить его наизусть и читать каждый день.
Однако вскоре после этого, 31 мая, Толстой пишет брату Т. А. Кузминской А. А. Берсу письмо, показывающее, что он не всегда с таким спокойствием и покорностью высшей воле относился к смерти детей, с каким он писал об этом свояченице. В письме к Берсу он пишет: «И грустно, и жалко родителей и ее, и страшно, за что, зачем это на свете? Соня долго не могла опомниться, и теперь наши необходимые сборы в Самару помогли ей подняться. Нет лучшего спасения от горя, как забота»80.
Второе обстоятельство, нарушившее спокойное течение жизни в Ясной Поляне, было повторение в имении несчастья, происшедшего прошлым летом: молодой бык (не тот, что раньше) забодал пастуха, который его отвязывал. Несмотря на уход и лечение, пастух на третий день умер. «Эта непонятная случайность, — писал Толстой Страхову 31 мая, — ужасно поразила меня. Я 45 живу и никогда не слыхал случаев смерти от быков. И надо же, чтоб в одном году два человека были убиты. Не могу отделаться от чувства виновности и грусти».
Кроме всего этого, с половины мая начались сборы к поездке всей семьи в Самару, которые также отвлекали Толстого от работы.
«Роман мой тоже лежит, и уж теряю надежду кончить его к осени», — писал Толстой Страхову в том же письме 31 мая81.
2 июня Толстые всей семьей двинулись в самарский хутор.
138
VII
В начале мая 1873 года Толстой был в Москве и заключил условие с типографией на новое издание его сочинений в восьми томах.
Толстой решил издавать сам, без посредства какого-либо издателя. В это издание должно было войти все, что входило в издание 1864 года, и, кроме того, «Война и мир», некоторые материалы из «Азбуки» и некоторые педагогические статьи из «Ясной Поляны», не вошедшие в издание 1864 года.
Толстой в то время переживал период резко критического отношения к «Войне и миру». В письме к А. А. Толстой, написанном, вероятно, в начале февраля, упомянув о том, что ему было приятно узнать из ее письма, что она читает «Войну и мир», Толстой далее пишет: «Не думайте, чтоб я неискренно говорил, — мне «Война и мир» теперь отвратительна вся. Мне на днях пришлось заглянуть в нее для решения вопроса о том, исправить ли для нового издания, и не могу вам выразить чувство раскаянья, стыда, которое я испытал, переглядывая многие места! Чувство вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что кроме этого нет ничего».
Это ошеломляющее признание получает некоторое объяснение в следующем абзаце того же письма. Толстой просит Александру Андреевну не смотреть его «Азбуку», так как она никогда не учила маленьких детей, стоит далеко от народа и потому ничего не увидит в его книге. «Я же, — пишет Толстой, — положил на нее труда и любви больше, чем на всё, что я делал, и знаю, что это — одно дело моей жизни важное»82.
Толстой, следовательно, смотрит на «Войну и мир» глазами автора и читателей «Азбуки», и «Война и мир» бесконечно далека ему.
В письме к Страхову от 25 марта находим то же критическое, но гораздо более сдержанное суждение о гениальной эпопее.
Рассказав Страхову, что он начал приготовлять «Войну и мир» ко второму изданию и «вымарывать лишнее», Толстой просит Страхова «проглядеть три последние тома» и указать, что «надо изменить». «Я боюсь трогать, — пишет Толстой, — потому, что столько нехорошего на мои глаза, что хочется как будто вновь писать по этой подмалевке»83.
И в письме к Страхову от 22 июня вновь суждение о «Войне и мире», еще более резкое: «„Война и мир“... мне очень редко
139
нравилась, когда я перечитывал ее, а большей частью возбуждала досаду и стыд»84.
Как ни резки эти последние отзывы Толстого о том его творении, которому он с величайшим увлечением посвятил семь лет непрерывного труда, в них все-таки нет ни «отвращения», ни «оргии». Резкие суждения о своих произведениях — и в тот период, когда он еще работал над ними, и по окончании работы — у Толстого, как известно, далеко не редки.
Толстой решил поместить «Войну и мир» в новом издании в значительно измененном виде. Он решил все разговоры, которые действующие лица ведут на французском языке, за самыми редкими исключениями, дать только по-русски. Он сам значительно отредактировал переводы на русский язык, исключив прежние, помещенные в сносках, сухие и иногда даже неправильные переводы. Во-вторых, Толстой решил все авторские рассуждения удалить из основного текста и часть их дать в приложении, а часть исключить совсем. Удалены были из основного текста все философско-исторические рассуждения, из которых многие имели весьма существенное значение для понимания миросозерцания автора.
Так, была совершенно исключена первая глава первой части III тома (по четырехтомному изданию), излагающая отрицательное отношение автора к войне, его взгляды на роль в истории вождей и народных масс, его признание бесчисленности причин исторических событий и неизбежности фатализма в объяснении некоторых исторических фактов, его взгляд на соотношение личных и общих целей в мировой истории и на предопределение. Далее, были совершенно исключены: начало первой главы второй части III тома о предопределенности событий 1812 года, конец главы XXXVIII той же части, содержащий характеристику Наполеона, первая глава третьей части III тома о том, что «для изучения законов истории мы должны оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные бесконечно малые элементы, которые руководят массами».
Были сохранены полностью философско-исторические рассуждения эпилога, которые, однако, далеко не покрывали всего содержания удаленных глав основного текста.
Нельзя не видеть того, что отсутствие исключенных Толстым глав не давало читателю возможности составить ясное представление о философско-исторических воззрениях автора.
Военно-исторические рассуждения автора были оставлены; они вошли в приложение к четвертому тому под общим заглавием «Статьи о кампании двенадцатого года», причем каждая статья имела свое особое название.
140
Нет сомнения, что замена в тексте «Войны и мира» французского языка русскими переводами и исключение или вынесение в приложение философских и военно-исторических рассуждений были произведены Толстым под влиянием критических статей о «Войне и мире», появившихся в печати и упрекавших Толстого как за изобилие французского текста, так и за философские рассуждения, которые многими критиками признавались ошибочными. Относительно философских рассуждений Толстой не соглашался с критиками, но принял компромиссное решение — удалить их из текста романа. Все эти изменения делались с большой поспешностью (чтобы не задерживать отправки томов в типографию) и, кроме того, не вполне уверенно, а иногда даже — скрепя сердце. 22 июня Толстой писал Страхову: «Уничтожение французского иногда мне было жалко, но в общем, мне кажется, лучше без французского. Рассуждения военные, исторические и философские, мне кажется, вынесенные из романа, облегчили его и не лишены интереса отдельно»85.
Кроме этих изменений, в тексте всех шести томов издания «Войны и мира» 1868—1869 годов автором были сделаны многочисленные как стилистические, так и смысловые исправления; некоторые из них имеют существенное значение. Так, в пятой главе пятого тома романа о причине пожара Москвы было сказано: «не разрушить, не сжечь пустые дома не в духе русского народа». Теперь эта фраза заменяется следующим текстом: «большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть».
Все произведение было разделено на четыре тома (вместо шести), уничтожено деление томов на части и проведена сплошная нумерация всех глав на протяжении каждого тома.
Первые три тома были приготовлены Толстым еще в Ясной Поляне до отъезда в Самару; три последние были просмотрены уже в Самаре и 22 июня отправлены Страхову86.
В письме, посланном одновременно, Толстой просил Страхова просмотреть его исправления, уничтожить те из них, которые он признает «дурными», и, кроме того, исправить то, что самому Страхову «известно и заметно за дурное».
В ответном письме, до нас не дошедшем, Страхов указывал какие-то рассуждения (вероятно, в эпилоге), которые он признавал излишними. Толстой отвечал 4 сентября, что дает
141
полномочие уничтожить все, что покажется «лишним, противоречивым, неясным». Но далее Толстой делал характерную оговорку: «Даю вам это полномочие и благодарю за предпринимаемый труд, но, признаюсь, жалею. Мне кажется (я наверно заблуждаюсь), что там нет ничего лишнего»87.
Около 20 сентября Страхов писал Толстому, что в тексте «Войны и мира» им сделано «множество мелких исправлений», но вычеркнул он всего в двух местах по две-три строки «там, где надобность была совершенно очевидна». Кроме того, Страхов сделал два существенных замечания относительно двух глав статьи «Вопросы истории» (так была названа вынесенная в приложение вторая часть эпилога). Он находил, что рассуждение о власти длинно и неясно, а сравнение общественных переворотов с переворотом в астрономии, произведенным Коперником, проводимое в параграфе 12, неверно и излишне. При этом Страхов воспользовался случаем почтительно попенять «бесценному Льву Николаевичу» (так он обращался к Толстому в письмах) за то, что он недостаточно высоко ценит свое творение, к которому Страхов относился с благоговением. Он писал: «Мне все кажется, что Вы плохо цените «Войну и мир»; там ведь есть множество вещей бесподобных, никем до Вас не сказанных, да и Вы сами уже этого самого не напишете. Что это произведение бессмертное — дам голову на отсечение»88.
Толстой отвечал Страхову 23 сентября. Он выражал сожаление, что Страхов не выкинул или не сократил параграфа о власти, который, как помнилось Толстому, ему самому казался «длинным и нескладным», и обещал в тот же день написать в типографию, чтобы выкинули параграф 12. Однако или письмо не было написано, или не дошло до типографии, но в издании 1873 года параграф 12 остался на своем месте и перепечатывался во всех дальнейших изданиях.
VIII
22 июня Толстой писал Страхову с своего самарского хутора: «Мы живем в самарской степи, слава богу, хорошо, несмотря на жару, засуху и болезни детей, несерьезные, которые только тревожат нас. Здешняя первобытность природы и народа, с которым мы близки здесь, действуют хорошо и на жену и детей»89.
Засуха, о которой писал Толстой в этом письме, продолжалась все лето. Во второй половине июля стало очевидно, что весь урожай погиб; надвигался голод. Размеры предстоящего народного бедствия еще более увеличивались вследствие того, что это был уже третий подряд неурожайный год.
142
Между тем вновь назначенный самарский губернатор Климов, как писал Толстой Страхову 4 сентября, «только принял губернию и нашел, что голод в народе есть неприличное явление для губернатора, принявшего губернию, и не только не хлопотал о пособии, но с азартом требовал в нынешнем году сбора всех недоимок»90.
Толстой оказывал помощь наиболее нуждающимся крестьянам ближних деревень. Когда А. С. Пругавин через восемь лет, в 1881 году, посетил Бузулукский уезд, в котором находилось имение Толстого, он слышал от местных крестьян много рассказов о «сердечной заботливости», которую проявлял Толстой, живя среди них во время голодовки 1873 года, как он «лично обходил наиболее нуждающиеся крестьянские дворы, с каким вниманием входил в их интересы и нужды, как он помогал беднякам, снабжал их хлебом и деньгами, давал средства на покупку лошадей и т. п.»91.
Но, разумеется, этого Толстому было мало.
Ему хотелось обратить внимание общества на надвигающееся народное бедствие и организовать в больших размерах помощь пострадавшему населению. Жена, как писал он Страхову 4 сентября, «порадовала» его «живым и искренним сочувствием к народу».
Чтобы его не заподозрили в тенденциозном подборе фактов, особенно те люди, которых «так много из нас» и которые, «к несчастью и стыду своему», «так любят говорить..., что бедствия никакого особенного нет, что все происходит только оттого, что крестьяне не работают, а пьянствуют», — он решил написать в газеты письмо о положении самарских крестьян. Желая точнее определить размеры угрожающего народу бедствия, Толстой объехал ближайшую округу в три стороны, по семидесяти верст в каждую, — и везде увидал голые поля. В ближайшей к нему деревне Гавриловке он сделал опись каждого десятого двора (всего 23 дворов) по следующим показателям: количество едоков, количество работников, число скота, размер посевной площади и собранного или ожидаемого урожая, количество прошлогоднего хлеба и сумма долгов. Были указаны также особенности хозяйственной жизни каждого двора и примерная сумма, необходимая каждому двору для того, чтобы прокормиться до нового урожая. Описи были засвидетельствованы подписями священника, старосты и писаря.
Сделанную им опись Толстой полностью включил в письмо, направленное им в редакцию «Московских ведомостей».
Крестьянин, писал Толстой, «вообще кажется спокоен, как и обыкновенно; так что для человека, который бы поверхностно
143
взглянул теперь на народ, рассыпанный по степи дощипывать по колоску чуть видную от земли, кое-где взошедшую пшеницу, увидел бы здоровый, всегда веселый рабочий народ, услыхал бы песни и кое-когда и смех, тому бы странно даже показалось, что в среде этого народа совершается одно из ужаснейших бедствий. Но бедствие это существует, и признаки его слишком явны».
Толстой убежден, что неурожай нынешнего года «должен довести до нищеты и голода почти 9/10 всего населения» Самарской губернии. И Толстой призывает «всех русских к поданию помощи пострадавшему народу».
Отправив это письмо (и с ним вместе 100 рублей как первое пожертвование) в редакцию «Московских ведомостей», Толстой, кроме того, написал письма некоторым своим друзьям, прося их продвинуть дело помощи голодающим. А. А. Толстой он писал:
«Я написал в газеты, с свойственным мне неумением писать статьи, очень холодное, неуклюжее письмо и от страха полемики представил дело менее страшным, чем оно есть... Я не люблю писать жалостливо, но я 45 лет живу на свете и ничего подобного не видал и не думал, чтобы могло быть. Когда же живо представишь себе, что будет зимою, то волос дыбом становится... Особенно поразительно и жалко для того, кто умеет понимать эту терпеливость и скромность страдания русского человека — спокойствие, покорность. Нет хорошей пищи — так и нечего жаловаться. Умрет — воля божия. Точно не овцы, но добрые, сильные волы выпахивают свою борозду. Упадут — их оттащат; другие потянут... Людей простых, хороших, здоровых физически и нравственно, когда они страдают от лишений, жалко всем существом, — совестно и больно быть человеком, глядя на их страдания»92.
Письмо Толстого было опубликовано в «Московских ведомостях» 17 августа со следующей заметкой от редакции:
«Помещая сегодня в нашей газете письмо графа Л. Н. Толстого, мы полагаем, что нет надобности обращать на него внимание читателей. Оно говорит само за себя, и говорит так сильно, что всякое слово в дополнение могло бы только ослабить производимое им впечатление. В этом рассказе, столь поразительном в своей простоте и проникающем до сердцевины вещей, всякий узнает автора «Войны и мира»... Известно, как граф Толстой умеет и прозревать правду и трезво передавать ее. Не ограничиваясь общей характеристикой, он приводит нас к изнемогающим от нужды людям и отворяет перед нами их жилища, где уже почувствовалось приближение голода. Составленная им подворная ведомость говорит красноречивее всего. Что можно сказать».
144
Письмо Толстого вызвало многочисленные отклики в печати.
Петербургская газета «Новости» перепечатала письмо полностью под заглавием «Заявление автора „Воины и мира“»93.
«С.-Петербургские ведомости» в номере от 22 августа посвятили передовую статью самарскому голоду, основываясь исключительно на письме Толстого, «в осязательных и ярких красках изображающем бедственное положение Самарской губернии» и «не оставляющем никакого сомнения в том, что трехлетний неурожай подготовил в текущем году голод»94.
«Биржевые ведомости», цитируя письмо Толстого, в котором он «не напирает на декоративную сторону этого тяжелого экономического и социального бедствия, а скромно кладет свои краски, и тем не менее картина, рисуемая им, выходит очень мрачной», старались обратить «общественное внимание» на голод в Самарской губернии, предлагая все меры помощи осуществлять «не сепаративно, а в совокупности»95.
Письмо Толстого явилось если не первым, то во всяком случае одним из первых опытов статистического описания русской пореформенной деревни, оно говорило неоспоримым языком цифр и потому-то и производило такое сильное действие.
Газета «Голос» в статье «Провинциальное обозрение» писала: «За последнюю неделю резко выделилось между всеми корреспонденциями, стекающимися в столичные газеты из разных концов России, письмо гр. Льва Толстого... Самая сильная часть картины, набросанная мастерской рукой, составляет опись каждого десятого двора, сделанная гр. Толстым. Такого приема я не встречал при описании положений, почему-нибудь подходящих к описанному в самарском письме. Это уж целая история или, лучше, сборник отдельных историй каждой десятой семьи за трехлетний период, очень маленьких историй очень маленьких людей за очень маленький период. Но пиши целый том с миллионом восклицательных знаков, текстов и афоризмов — и все-таки не сравнишься с неотразимой убедительностью этой „подворной описи“...»96.
Газета «Гражданин», выходившая в 1873 году под редакцией Достоевского, цитируя статью «Голоса», задавала вопрос: «Что же это за прием, который пробудил общество, много раз уже читавшее о голоде в Самарской губернии и тем не менее никак не откликавшееся на него? Опись, занимающая половину письма, и составляет этот поражающий прием». Ее могло составить либо лицо официальное, либо «человек совсем близкий»,
145
на которого крестьяне смотрят «Как на самого себя или как на доверенного собрата». Этой взаимной близостью между голодающими и составителем письма и объясняет автор силу производимого им впечатления97.
Журнал «Дело», говоря во «Внутреннем обозрении» о голоде в Самарской губернии, перепечатал значительную часть письма Толстого98.
Эмигрантский журнал «Вперед», издававшийся в Женеве П. Л. Лавровым, в статье «По поводу самарского голода» писал: «В августе появились в «Московских ведомостях» письмо из Самары нашего известного романиста графа Л. Толстого, где он приводил примеры с определенными числами, с именами, высчитывал число едоков в семьях, количество необходимого продовольствия, его полное отсутствие, долги, давящие на крестьянина... Газета Каткова и подпись графа пробудили внимание. Сомневаться было более нельзя»99.
Письмо Толстого вызвало усиленный приток пожертвований в пользу голодающих со стороны частных лиц и множество писем в редакцию с разными проектами о том, как лучше и целесообразнее организовать помощь голодающему населению. В Петербурге, Казани, Риге образовались специальные временные комитеты по сбору пожертвований для Самарской губернии. 18 сентября 1873 г. в Самарскую губернскую земскую управу поступило первое пожертвование в 2300 рублей от Московской университетской типографии, находившейся в аренде у М. Н. Каткова. Затем пожертвования полились со всех сторон, возрастая с каждым месяцем. Большое участие в этом деле приняла А. А. Толстая. Если верен рассказ С. А. Толстой немецкому биографу Толстого Р. Левенфельду о том, что было сделано пожертвование императрицей100, то это произошло, несомненно, благодаря А. А. Толстой и, разумеется, очень усилило приток денежной помощи. Всего частных пожертвований было получено до 1867000 рублей деньгами и хлебом до 21000 пудов101. Распоряжалась делом помощи, вероятно, губернская земская управа.
Помощь, по призыву Толстого оказанная жертвователями, спасла самарских крестьян от гибели. Побывав в Самаре летом
146
следующего, 1874 года, Толстой 15 августа писал А. А. Толстой: «Бедствие было бы ужасное, если бы тогда так дружно не помогли тамошнему народу. И я видел и узнал, что, хотя и не без греха прошло это дело раздачи, все-таки помощь была действительная и в большей части случаев умная»102.
Даже на правительство письмо Толстого оказало некоторое воздействие. Еще 25 августа министр внутренних дел предписал губернаторам производить принудительное взыскание недоимок, но уже 19 сентября появилось распоряжение министерства финансов о прекращении всех принудительных мер103.
Письмо о самарском голоде было первым публичным выступлением Толстого, раскрывающим с полной очевидностью бедственность положения русского крестьянства в пореформенный период. Оно положило начало многим другим, еще более сильным выступлениям Толстого по данному вопросу в восьмидесятые и девяностые годы.
IX
23 августа Толстые вернулись из Самары в Ясную Поляну.
В Самаре Толстой не брался за «Анну Каренину», но подготовка к работе, обдумывание сюжета, накапливание художественных образов непрерывно продолжались. 24 августа Толстой писал Страхову: «Переправляю и отделываю теперь тот роман, про который писал вам, и в самом легком, нестрогом стиле. Я хотел пошалить этим романом — и теперь не могу не окончить его... Я..., как запертая мельница, набрал воды. Только бы бог дал в дело употребить набранные силы»104.
23 сентября Толстой писал Фету: «Я начинаю писать, то есть, скорее, кончаю начатый роман»105. В тот же день он писал Страхову: «Я в своей работе очень подвинулся, но едва ли кончу раньше зимы — декабря или около того. Как живописцу нужно света для окончательной отделки, так и мне нужно внутреннего света, которого всегда чувствую недостаток осенью. При том же всё сговорилось, чтобы меня отвлекать: знакомства, охота, заседание суда в октябре, и я присяжным; и еще живописец Крамской, который пишет мой портрет по поручению Третьякова»106.
П. М. Третьяков, задумавший поместить в свою картинную галерею ряд портретов наиболее известных русских писателей, еще в 1869 году, зная дружбу Толстого с Фетом, обратился к Фету с просьбой уговорить Толстого разрешить написать его
147
портрет для помещения в галерею. Фет написал Толстому, но письмо его неизвестно. Толстой ответил Фету 10 мая 1869 года: «О Третьякове — не знаю, никого не хочется»107.
Не получая от Толстого определенного ответа, Фет 28 июня пишет Третьякову: «Я писал Л. Н. Толстому о Вашем предложении. На это он ответил сомнительно и нерешительно, а когда я его просил сказать положительно да или нет, то по сие время не получал ответа... Когда увижу Толстого, добьюсь ответа и тотчас же передам его Вам»108.
Через некоторое время Фет вновь напоминает Толстому о просьбе Третьякова. И это письмо Фета неизвестно, но известен следующий ответ ему Толстого от 21 октября 1869 года:
«Насчет портрета я прямо говорил и говорю: нет. Если это вам неприятно, то прошу прощенья. Есть какое-то чувство, сильнее рассужденья, которое мне говорит, что это не годится»109.
Получив это письмо, Фет сейчас же (25 октября) пишет Третьякову:
«Как мы хорошо сделали, что до получения положительного ответа от Толстого ничего не предприняли по предмету снятия портрета. В полученном сегодня письме он положительно отказывается от этой мысли»110.
Между тем картинная галерея П. М. Третьякова непрерывно пополнялась все новыми и новыми портретами русских писателей. Появились портреты знаменитостей того времени: Тургенева, Достоевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, писанные по заказу Третьякова. Портрет Толстого Третьяков не надеялся уже получить, хотя по-прежнему желал его иметь.
Помогло случайное обстоятельство.
Летом 1873 года лучший портретист того времени И. Н. Крамской поселился на даче близ станции Козлова Засека Московско-Курской железной дороги, в десяти верстах от Тулы. Вскоре он узнал, что в пяти верстах от Козловой Засеки в своем имении Ясная Поляна проживает упорный и непокладистый граф Лев Толстой. Не теряя времени, он решил попытать счастья — попробовать лично поговорить с Толстым — не удастся ли все-таки так или иначе убедить его разрешить написать его портрет.
Приехав в Ясную Поляну, Крамской узнал, что Толстой в отъезде и вернется только в конце августа.
Крамской поспешил уведомить Третьякова о своем намерении. Обрадованный Третьяков 8 августа пишет Крамскому: «Сама судьба благоволит нашему предприятию, я только думал — «как бы хорошо Ивану Николаевичу проехать в Ясную
148
Поляну», а вы уже там! Дай бог Вам успеть! Хотя мало надежды имею, но прошу Вас, сделайте одолжение для меня, употребите все Ваше могущество, чтобы добыть этот портрет»111.
5 сентября Крамской вновь поехал в Ясную Поляну. Узнав от прислуги, что граф куда-то отлучился, Крамской пошел его разыскивать. Увидав в сарае работника, рубившего дрова, Крамской обратился к нему с вопросом:
— Не знаешь ли, голубчик, где Лев Николаевич?
— А вам он зачем? Это я и есть.
— Я — художник Крамской, приехал просить разрешения сделать ваш портрет для Третьяковской галереи.
— Этого не нужно, но я рад вас видеть. Я вас знаю. Пойдемте ко мне112.
Беседа была продолжительна. Подробности ее Крамской в тот же день сообщил Третьякову:
«Граф Лев Николаевич Толстой приехал, я с ним видался и завтра начну портрет. Описывать Вам мое с ним свиданье я не стану, слишком долго, — разговор продолжался слишком два часа, четыре раза я возвращался к портрету, и все безуспешно. Никакие просьбы и аргументы на него не действовали. Наконец, я начал делать уступки всевозможные и дошел в этом до крайних пределов. Одним из последних аргументов с моей стороны был следующий: «Я слишком уважаю причины, по которым ваше сиятельство отказывается в сеансах, чтобы дальше настаивать, и, разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет, но ведь портрет Ваш должен быть и будет в галерее». — «Как так? — «Очень просто. Я, разумеется, его не напишу, и никто из моих современников, но лет через 30, 40, 50 он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно». Он задумался, но все-таки отказал, хотя нерешительно. Чтобы, наконец, кончить, я начал ему делать уступки и дошел до следующих условий, на которые он и согласился: во-первых, портрет будет написан, и если почему-нибудь он ему не понравится, будет уничтожен, затем, время поступления его в галерею Вашу будет зависеть от воли графа, хотя и считается собственностью Вашею. Последнее обстоятельство было настолько уже безобидно для него, что он как бы сконфузился даже и должен был согласиться. А затем оказалось из дальнейшего разговора, что он бы хотел иметь портрет и для своих детей, только не знал, как это сделать, и спрашивал о копии и о согласии наконец впоследствии сделать ее, то есть копию, которую и отдать Вам. Чтобы не дать ему сделать отступление, я поспешил ему доказать, что
149
копии точной нечего и думать получить, хотя бы и от автора, а что единственный исход из этого — это написать с натуры два раза совершенно самостоятельно, и уже от него будет зависеть, который оставить ему у себя и который поступит к Вам. На этом мы расстались и порешили начать сеансы завтра, т. е. в четверг... Не знаю, что выйдет, но постараюсь, написать его мне хочется»113.
Рассказ Крамского подтверждается письмом Толстого к Страхову от 23 сентября: «Уж давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня особенно тем, что говорит: всё равно ваш портрет будет, но скверный. Это бы еще меня не убедило, но убедила жена сделать не копию, а другой портрет для нее»114.
Крамской имел репутацию блестящего портретиста, обладающего способностью писать портреты, замечательно сходные с оригиналом. В своей статье о Крамском В. В. Стасов писал: «...нечего говорить о сходстве — оно всегда было в портретах Крамского просто поразительно»115.
Уже 14 сентября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской:
«У нас теперь всякий день бывает художник живописец Крамской и пишет два Левочкиных портрета масляными красками... Пишутся оба сразу и замечательно похожи, смотреть страшно даже».
На другой день, 15 сентября, Крамской писал П. М. Третьякову, что после третьего сеанса и Толстой и его жена «были довольны портретом»116.
Крамской глубоко заинтересовал Толстого своей оригинальной и симпатичной личностью.
Хорошо знавший Крамского сотрудник «Современника» и «Отечественных записок» поэт и литературный критик П. О. Ковалевский находил, что лицо Крамского «сосредоточенною проницательностью и некоторою суровостью напоминало лицо графа Л. Н. Толстого»117.
Во время сеансов велись беседы на самые разнообразные темы.
С. А. Толстая 4 и 5 октября записывает в дневнике, что Лев Николаевич «теперь отделывает, изменяет и продолжает роман», что Крамской «немного мешает» Толстому заниматься;
150
«зато споры и разговоры об искусстве всякий день»118. Письма Толстого к Страхову и Фету от 23 сентября говорят о том, что его беседы с Крамским не ограничивались вопросами искусства. «Для меня же он, — писал Толстой Страхову про Крамского, — интересен как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художнической натуре... Я же во время сидений обращаю его из петербургской в христианскую веру и, кажется, успешно»119. (Под «новейшим петербургским направлением» Толстой разумел направление радикальных журналов того времени — «Отечественных записок» и «Дела».)
Иногда во время сеансов Толстой вместо беседы писал «Анну Каренину»120.
Впоследствии (в 1885 году) Толстой вспоминал следующий свой разговор с Крамским по окончании его работы над портретами:
«Я помню, когда Крамской окончил мои портреты, был ужасно доволен и выставил их вот здесь в зале, прося меня самого выбрать, какой лучше. Я отвечал пошлостью, что не знаю своего лица. Он сказал: «Неправда, всякий лучше всех знает свое лицо». И в самом деле, в этом случае в человеке есть какая-то внутренняя интуиция — он знает свое лицо»121.
На Крамского беседы с Толстым производили глубочайшее впечатление. 23 февраля 1874 года он писал И. Е. Репину:
«А граф Толстой, которого я писал, интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии. На гения смахивает»122.
Крамской уехал из Козловой Засеки, вероятно, 13 октября. Один портрет, предназначавшийся для картинной галереи П. М. Третьякова, он увез с собой в Петербург, чтобы еще доработать некоторые детали; другой был оставлен в Ясной Поляне, где находится и в настоящее время. Уезжая, Крамской выразил желание, чтобы написанный им портрет Толстого был экспонирован на выставке, но Толстой решительно воспротивился этому.
151
23 февраля 1874 года Крамской уже извещал П. М. Третьякова, что портрет Толстого ему послан.
Судя по письму Крамского к Толстому от 29 января 1885 года, он еще раз виделся с Толстым в 1875 году. Нам ничего не известно об этой встрече. В этом письме Крамской так вспоминал о впечатлении, произведенном на него Толстым при первом знакомстве:
«Вы были тогда уже человеком с характером сложившимся, с прочным и широким образованием, большим опытом (талант пропускаю, как величину всем известную и определенную), с умом и миросозерцанием совершенно самостоятельным и оригинальным: до такой степени самостоятельным, что я помню очень хорошо, какое впечатление вы делали на меня, и помню удовольствие в первый раз от встречи с человеком, у которого все детальные суждения крепко связаны с общими положениями, как радиусы с центром. О чем бы речь ни шла, ваше суждение поражало своеобразностью точки зрения. Сначала это производило впечатление парадокса, но чем дальше я знакомился, тем все больше и больше открывал центральные пункты, и под конец я перед собою увидел в первый раз такое явление: развитие, культуру и цельный характер без рефлексов. Так казалось. Один пункт оказался для меня за чертой Вашего круга. В разговоре однажды Вы обнаружили следующий взгляд на Христа, что «его учение и он сам есть не более, как исторический момент общего развития человечества». Очевидно, для Вас личный вопрос был порешен...»123.
Крамской был очень доволен нарисованным им портретом Толстого. Он говорил П. О. Ковалевскому: «Я редко бываю доволен, да почти никогда-таки не бываю доволен своими работами, а эта мне понравилась»124. 27 февраля 1885 года Крамской писал А. С. Суворину: «Конечно, портрет Толстого разительный, и если бы Вы его видели хотя раз, то Вам бы было даже смешно; притом он взят энергично и написан скоро, с огнем, так сказать»125.
Необычайное сходство портрета Толстого с оригиналом отмечалось всеми видевшими портрет и знавшими Толстого.
152
Тургеневу, который видел портрет в мастерской художника в 1874 году, он очень понравился126. А. С. Суворин писал тогда же: «Я видел графа Л. Н. Толстого в последний раз десять лет тому назад, но узнал тотчас же — совсем живой он сидит»127.
Те, кто никогда раньше не видал Толстого, видя его в первый раз, узнавали по портрету Крамского. И. Е. Репин, познакомившийся с Толстым 7 октября 1880 года, на другой день писал В. В. Стасову: «Портрет Крамского страшно похож. Несмотря на то, что Толстой постарел с тех пор, что у него отросла огромная борода, что лицо его в ту минуту было все в тени, я все-таки в одну секунду увидел, что это он самый!..»128
Портрет, написанный И. Н. Крамским, был первым живописным портретом Толстого; он же, несомненно, является и лучшим из всех его портретов. И. Е. Репин, впервые увидавший портрет Толстого работы Крамского в мастерской художника, 10 октября 1876 года писал В. В. Стасову: «Портрет графа Л. Толстого Крамского чудесный; может стоять рядом с лучшим Вандиком»129.
В. В. Стасов в 1887 году писал: «Все те высокие и своеобразные элементы, которые образуют личность графа Толстого: оригинальность, глубина ума, феноменальная сила творческого дара, доброта, простота, непреклонность воли, — все это с великим талантом нарисовано Крамским на лице графа Толстого»130.
X
6 ноября 1873 года Толстой делает интересную запись в дневнике.
Он вспоминает, как он смолоду, стал «преждевременно анализировать все и немилостиво разрушать». Он боялся, что это разрушение приведет к тому, что у него «ничего не останется целого». Теперь он уже давно не разрушает, а целого осталось у него: «любовь к одной женщине, дети и всякое отношение к ним, наука, искусство — настоящее, без соображений величия» (т. е. не ради славы, а ради внутреннего удовлетворения); далее, охота, любовь «к деревне, порою к севру...»131. Он ставит
153
многоточие и приходит к заключению: «Это ужасно много. У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и 1/100 того»132.
В семейной жизни Толстых в ноябре 1873 года произошло тяжелое событие: после двухдневных страданий умер младший сын Петя, которому исполнилось только год и четыре месяца; «его задушило горло, — писал Толстой брату Сергею Николаевичу 10 ноября, — то, что они называют круп»133. Это была первая смерть в семье Толстых за одиннадцать лет. «Если бы выбирать одного из нас восьмерых, — писал Толстой Фету 18 ноября, — эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское — это удивительное высшее проявление божества на земле — не рассуждает, и жена очень горюет»134. Но и сам Толстой, как писал он А. М. Кузминскому 18 ноября, только постепенно привыкал к той «пустоте», которую оставил после себя в доме этот «крикливый ребенок, для отца еще не имеющий никакой прелести»135.
В том же письме к Фету, в котором Толстой извещал его о смерти сына, он писал, что у него теперь прибавилось «одно из лучших, радостнейших занятий — это уроки с детьми математики и греческого».
Дети Толстых обучались дома: первыми их учителями были отец — по математике, греческому и латинскому языкам, и мать — по русскому и французскому языкам. Отношение детей к отцу и к матери как к педагогам было неодинаково. Илья Львович Толстой рассказывает: «С мама можно было иногда посматривать в окно, можно задавать посторонние вопросы, можно было делать стеклянные глаза и ничего не понимать, — но с папа было не то, — с ним надо было напрягать все свои силы и не развлекаться ни минутки. Он учил прекрасно, ясно и интересно, но, как и в верховой езде, он шел крупной рысью все время и надо было за ним успевать во что бы то ни стало. Вероятно, благодаря его разумному началу, я, вообще плохой ученик, всегда шел по математике прекрасно и математику любил».
Греческим языком под руководством отца Илюша Толстой начал заниматься, когда ему было тринадцать лет. «Он объяснил мне азбуку, — рассказывает И. Л. Толстой, — и сразу заставил читать «Анабазис» [Ксенофонта]. Сначала было трудно. Я сидел с стеклянными глазами, иногда принимался реветь, но кончилось тем, что я все-таки понял, что надо, и научился. Так же я научился и латыни. Когда в 1881 году я держал вступительный экзамен в классической гимназии Поливанова, я
154
удивил всех учителей тем, что, не зная совсем грамматики, я читал и переводил классиков гораздо лучше, чем требовалось. В этом я вижу доказательство того, что своеобразная система преподавания отца была правильна»136.
В том же ноябре 1873 года Толстой начал читать с детьми в подлиннике научно-фантастические романы Жюля Верна. Были прочитаны: «Дети капитана Гранта», «80 000 верст под водою», «Путешествие на луну», «Три русских и три англичанина», «Путешествие вокруг света в 80 дней». Роман «Путешествие вокруг света в 80 дней» не имел иллюстраций, и Толстой сам взялся его иллюстрировать.
«Каждый день, — рассказывает И. Л. Толстой, — он приготовлял к вечеру подходящие рисунки пером, и они были настолько интересны, что нравились нам гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных книгах... Мы с нетерпением ждали вечера и все кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку»137.
Чтение романов Жюля Верна вновь вызвало у Толстого усиленный интерес к физическим проблемам, которые особенно занимали его в период работы над «Азбукой». Он читает книги по физике и в дневниковых записях от 17 и 18 ноября, 2 и 28 декабря 1873 года, а также в письмах к Страхову от 17 и 30 ноября и 13 декабря записывает свои соображения об отношении между понятием массы и законом тяготения, о «замене понятия тяготения понятием тепла» и других физических проблемах.
XI
14 ноября 1873 года в «Московских ведомостях» появилось объявление о выходе третьего издания сочинений Л. Н. Толстого в восьми частях. Издание было напечатано в количестве 3600 экземпляров и продавалось по 12 рублей. В объявлении было указано, что роман «Война и мир» напечатан в этом издании «в исправленном виде».
На выход издания откликнулся только один орган — «Московские ведомости»138. Рецензент, называя Толстого «одним из любимейших авторов», писал: «Теперь, когда граф Толстой достиг полной зрелости таланта, особенно занимательно и
155
поучительно прочесть все его сочинения, начиная с «Детства». Граф Толстой представляет один из редких примеров писателя, все предыдущие сочинения которого служат как бы предварительными работами, эскизами его большого сочинения: что раздельно и отрывочно является в его прежних произведениях, то в «Войне и мире» находится в полном, ясном и отчетливом виде».
Касаясь далее авторских исправлений «Войны и мира» в новом издании, рецензент находит их «гораздо важнее, чем они могут показаться с первого взгляда». «Граф Толстой, — пишет рецензент, — вычеркнул все те разговоры на французском языке, кои без ущерба колориту могли быть переданы на русском; главное — выключил все рассуждения о военном искусстве и все взгляды на историю вообще и некоторые события 12-го года соединил под общим названием «Мысли о войне 12-го года». Какого бы кто ни был мнения об этих рассуждениях и взглядах, всякий, наверное, согласится, что они лишним бременем лежали на романе и насильственно отрывали читателя от художественного рассказа».
То, что новое издание сочинений Толстого вызвало только один отзыв в печати и притом в газете консервативного направления, очень показательно. Очевидно, неблагоприятные отзывы в печати о философско-исторических рассуждениях автора, помещенных в последних томах «Войны и мира», а также и об «Азбуке» оказали воздействие на критиков и журналистов того времени.
Молчание прессы не помешало, однако, нормальному по тому времени распространению издания. Из сохранившихся в архиве Толстого счетов книгопродавца И. Г. Соловьева, у которого был склад издания, видно, что к 9 ноября 1874 года, т. е. почти через год, у него оставалось 2576 экземпляров, — следовательно, за год было продано более тысячи экземпляров. А в 1878 году, как писал Толстой Страхову 6 мая того же года, на складе оставалось только 800 экземпляров, и в 1880 году было предпринято новое издание собрания сочинений Толстого.
Интересна судьба исправленного Толстым текста «Войны и мира» в издании 1873 года. Этот текст без всяких изменений был перепечатан дважды — в четвертом, а затем в шестом изданиях сочинений Толстого, вышедших в 1880 и 1886 годах. Пятое издание, вышедшее в 1886 году, вновь возвращало текст «Войны и мира» ко второму изданию романа, вышедшему в 1868— 1869 годах. Здесь был восстановлен французский язык с подстрочными переводами и историко-философские рассуждения помещены в основном тексте. Из издания 1873 года было удержано только деление романа на четыре, а не на шесть томов. Исправления текста, сделанные автором в издании 1873 года, и текст издания 1886 года не вошли.
156
Издание 1886 года было предпринято не самим Толстым, а его женой. Возвращение к тексту второго издания «Войны и мира» сделано было С. А. Толстой, по-видимому, по предложению Н. Н. Страхова, принимавшего участие в издании 1886 года (его рукой написан план всего издания).
В своей статье о «Войне и мире», написанной в 1870 году, Страхов выражал несочувствие внедрению в текст романа философско-исторических рассуждений. Но в половине 80-х годов мнение Страхова о философских рассуждениях автора «Войны и мира» изменилось. В письме от 27 июля 1887 года Страхов уведомлял Толстого, что перечитывает «Войну и мир», прибавляя: «Если бы я теперь писал свою статью об Вас, то написал бы иначе. Я не видел тогда, что Вы уже тогда выступали мыслителем и нравоучителем с полным мировоззрением, — так точно, как выступаете теперь»139.
Ниоткуда не видно, чтобы Страхов сочувствовал уничтожению французского языка в «Войне и мире». В своих статьях о романе он не повторил тех упреков за излишнее употребление французского языка, какие делали Толстому другие критики.
Но от кого бы ни исходило предложение о возвращении текста «Войны и мира» к изданию 1868—1869 годов, — все, что мы знаем об отношении С. А. Толстой к прежним художественным произведениям Льва Николаевича, делает для нас несомненным, что она обращалась к нему за одобрением вносимых изменений. Толстой, очевидно, выразил согласие. Из записок бывшего учителя детей Толстых И. М. Ивакина мы узнаем, что Толстой читал некоторые корректуры нового издания «Войны и мира», хотя и не внес в них никаких исправлений.
Естественно является вопрос: какой же текст «Войны и мира» должно признать каноническим? Казалось бы, таким текстом следует считать издание 1873 года — последнее исправленное автором. Разумеется, переиздание «Войны и мира» по тексту 1873 года — последнему правленному автором — не может вызвать никаких возражений. Однако нельзя не видеть, что издание 1873 года не вполне выражает замысел автора.
Французский язык действующих лиц «Войны и мира» Толстой в процессе работы над романом считал выражением «характера того времени», как он заявил об этом в статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“».
Далее — исключение целых глав, содержащих историко-философские рассуждения автора, как было сказано выше, привело к тому, что читатель не получал полного представления о философско-исторических воззрениях Толстого. Кроме того, в некоторых случаях, вследствие исключения вступительных глав, делался не вполне ясным смысл следующего за ними художественного текста.
157
По-видимому, следует признать правильным то решение данного вопроса, к которому пришли редакторы второго тиража 9—12 томов Полного собрания сочинений Толстого140. В этом издании был сохранен, согласно со вторым изданием «Войны и мира» 1868—1869 годов, французский язык и все философско-исторические рассуждения автора вновь появились в соответствующих главах основного текста. В объяснение принципов, положенных в основу этого издания, редакторы М. А. Цявловский и Г. А. Волков писали в предисловии: «Философские и исторические рассуждения в „Войне и мире“ являются неотъемлемой составной частью романа. Художественные образы романа — живая, яркая иллюстрация к ним. Поэтому исключение философских рассуждений к отдельным главам и отнесение рассуждений в приложение нарушает композицию и жанр „Войны и мира“... Французский язык — неотъемлемый бытовой аксессуар высшего сословия начала XIX века. При исключении из текста „Войны и мира“ французского языка потеряют в своей жизненности многие художественные образы романа».
В то же время в текст романа в этом издании были внесены все творческие исправления автора, сделанные в издании 1873 года.
Едва ли можно прийти к какому-либо иному решению данного вопроса.
XII
7 декабря 1873 года Отделение русского языка и словесности Академии наук избрало Толстого своим членом-корреспондентом; это избрание было утверждено на общем собрании Академии в тот же день141.
Высказывалось предположение, что Толстой был избран в члены-корреспонденты Академии наук не столько как автор «Войны и мира», последние томы которой вышли еще в 1869 году, сколько как автор появившейся в 1872 году «Азбуки». Высказавший это предположение В. И. Срезневский на основании протоколов заседаний Академии наук сообщает, что 12 января 1873 года его отец, академик Измаил Иванович Срезневский, профессор-славист, в заседании II Отделения Академии назвал «Азбуку» Толстого «замечательным явлением современной литературы»142. По мнению В. И. Срезневского, это сообщение
158
оказало влияние на избрание Толстого. В. И. Срезневский считал, что его предположение подтверждается официальным письмом Толстому непременного секретаря Академии наук К. С. Веселовского, в котором было сказано, что Отделение языка и словесности избрало Толстого членом-корреспондентом из уважения к его «ученым» (а не литературным) трудам.
Полный текст уведомления К. С. Веселовского, датированного 6 февраля 1874 года, следующий:
«Милостивый государь граф Лев Николаевич.
Императорская Академия наук, желая выразить свое глубокое уважение к Вашим ученым трудам, избрала Ваше сиятельство в свои члены-корреспонденты по Отделению русского языка и словесности. Уведомляя Вас о сем, имею честь при сем препроводить диплом на означенное звание.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности».
Избрание в члены-корреспонденты, как писал Толстой Страхову почти через месяц после получения уведомления — 6 марта 1874 года, «польстило» ему, «несмотря на то, что Пушкин не был членом, а Пыпин — член»143. (Относительно Пушкина Толстой был не вполне прав, так как хотя Пушкин и не был членом Академии наук, но он был членом Российской Академии, вошедшей в 1841 году в состав Академии наук в качестве Отделения русского языка и словесности.)
Еще через месяц, 11 апреля, Толстой, наконец, собрался написать на имя академика Веселовского благодарность избравшим его академикам:
«Я получил от вас извещение об избрании меня в члены-корреспонденты Академии наук и диплом на это звание. Прошу покорно передать высокоуважаемому собранию, удостоившему меня этой чести, мою глубокую признательность»144.
XIII
Смерть сына на некоторое время лишила Толстого спокойствия, нужного для работы. До этого его работа над «Анной Карениной» быстро подвигалась вперед.
Правда, 16 октября Софья Андреевна писала сестре, что роман «совсем заброшен»; но это была временная остановка. Она была вызвана тем, что, как сообщала Софья Андреевна Т. А. Кузминской, в Ясную Поляну приехали на неделю около двенадцати учителей народных школ для обсуждения предлагаемого Толстым способа обучения грамоте. После их отъезда Толстой вновь усердно занялся работой над романом. 17 ноября он
159
извещал Страхова, что уже готовы к печати семь листов романа, «и остальное все перемято в тесто», так что он уже думает о печатании. Первый том может быть готов в декабре145.
Перерыв в работе продолжался около месяца. Лишь 13 декабря Толстой смог написать Страхову, что его работа над романом «на днях только пошла хорошо в ход»146. 19 декабря Софья Андреевна сообщала сестре, что Лев Николаевич «много пишет»; 9 января 1874 года она писала ей же, что «очень много» переписывает роман Льва Николаевича, который «все двигается». 6 февраля Софья Андреевна вновь пишет, что продолжает усиленно переписывать роман Льва Николаевича, который он «по своей всегдашней привычке перемарывает без конца».
13 февраля Толстой пишет Страхову, что он «много работает», и поясняет процесс своей работы над романом таким сравнением: «Я не могу иначе нарисовать круга, как сведя его и потом поправляя неправильности при начале. И теперь я только что свожу круг и поправляю, поправляю...» Далее Толстой прибавлял, что никогда еще с ним не бывало того, чтобы он «написал так много, никому ничего не читая и даже не рассказывая», и ему теперь «ужасно хочется прочесть». Но он не позволяет себе этого, потому что «это подлость, и сам себя надуваешь. Устал работать — переделывать, отделывать дочиста, и хочется, чтобы кто-нибудь похвалил и можно бы не работать больше». Он не знает, «будет ли хорошо» то, что он пишет; редко он видит написанное «в таком свете», чтобы ему «все нравилось», и так он уже «устал переделывать», что решил отдать роман в набор в том виде, в каком он написан147.
2 марта Толстой приехал в Москву и сдал в набор первую часть (около семи листов) «Анны Карениной». Вопреки тому, что он писал Страхову, он прочитал вслух несколько глав романа Е. Ф. Тютчевой и Ю. Ф. Самарину. «Я выбрал их обоих, — писал Толстой Страхову 6 марта, — как людей очень холодных, умных и тонких». Несмотря на то, что, как ему показалось, чтение «впечатления произвело мало», он «от этого не только не разлюбил» своего романа, «но еще с большим рвением принялся доделывать и переделывать». Он надеется, что «будет хорошо, но не понравится и успеха не будет иметь, потому что очень просто»148.
От напряженной работы над романом Толстого отвлекли педагогические занятия, которыми он неожиданно увлекся с прежней силой.
Как сказано было выше, еще 1 июня 1873 года Толстой отправил в редакцию «Московских ведомостей» письмо о звуковом
160
способе обучения грамоте, где рекомендовал свой метод обучения грамоте, названий им слуховым, по которому «ученики выучиваются грамоте гораздо скорее, чем по всякому другому», и предлагал Московскому комитету грамотности «сделать опыт обучения нескольких учеников по тому и другому способу».
23 октября 1873 года в заседании Московского комитета грамотности председатель И. Н. Шатилов объявил, что граф Л. Н. Толстой обратился в Комитет с предложением проверить на опыте его способ обучения грамоте, причем, как сказано в протоколе заседания, «граф Л. Н. Толстой заявил И. Н. Шатилову, что этот опыт обучения он желал бы произвести в присутствии гг. членов Комитета, с целью определения, насколько его способ обучения прост, удобопонятен и насколько быстрее посредством этого способа обучения можно выучиться читать». Председатель просил членов высказаться по поводу предложения Толстого.
Начались оживленные прения. Противники толстовского способа обучения, сторонники способа звукового, во главе с известным педагогом Д. И. Тихомировым, говорили, что Комитет не должен принимать предложения Толстого, потому что, как выразился Д. И. Тихомиров, «10-дневный опыт никого не может убедить в пригодности способа, ибо если все убеждены, что теоретические основания способа обучения неверны, то самые блестящие результаты, достигнутые производителем опыта, изобретателем способа, покажут только то, что в его руках он может быть очень хорош». Другой сторонник звукового метода, Н. П. Малинин, присоединился к мнению Д. И. Тихомирова и прибавил, что «Комитет не должен и входить в рассмотрение способа графа Л. Н. Толстого, так как этот способ, говоря определенно и уверенно, не может найти себе сторонников в Комитете» и «не может считаться новостью, так как это давно известно и давно брошено». Однако многие из присутствовавших не согласились с мнением сторонников звукового метода, и большинством семи против четырех было принято предложение Л. Н. Толстого «произвести опыт обучения неграмотных детей по его способу и просить при этом графа Л. Н. Толстого дать объяснение его способу в одном из заседаний Комитета»149.
XIV
Заседание Комитета, на которое Толстой был приглашен дать объяснение своего способа обучения грамоте, было назначено на 15 января 1874 года. Оно отличалось необычайным для заседаний Комитета многолюдством: присутствовал 31 член Комитета
161
и 65 посторонних посетителей (обыкновенно на заседаниях Комитета бывало не более 15—20 человек); в просторном зале не хватило места — стояли в дверях и сидели на подоконниках. Был приглашен стенограф.
Председатель И. Н. Шатилов попросил Толстого объяснить сущность его системы обучения грамоте. Толстой ответил, что он изложил основы своего способа в «Азбуке», но так как он там не мог изложить всех подробностей, то он желал бы, чтобы те члены Комитета, которым что-нибудь неясно, высказали свои мнения.
Отвечая на вопросы присутствующих, Толстой между прочим сказал, что одно из преимуществ его способа обучения грамоте в том, что дети по этому способу быстро выучиваются читать. Сторонник звукового способа Д. И. Тихомиров заявил, что скорость обучения — дело второстепенное. Гораздо важнее развитие детей, достигаемое сознательной работой при обучении грамоте по звуковому методу.
На это Толстой возразил, что обязанность учителя в том, чтобы удовлетворять желаниям народа, а народ желает, чтобы его дети как можно скорее были обучены чтению и письму. «А о развитии, — сказал Толстой, — родители не просят, за это жалованья не платят, следовательно, учитель и не имеет никакого права развивать учеников... Я не считаю себя вправе давать какое-нибудь развитие, потому что всякое развитие предполагает собою известное направление».
На вопрос, как он ведет обучение грамоте, Толстой ответил: «Я прежде всего чертил на стене углем или мелом огромные буквы, хворостиной указывал на букву и называл ее, а дети повторяли. Таким образом, я в один урок проходил всю азбуку, и уже на другой день все дети знали ее без ошибок».
Толстой подробно ответил своим оппонентам, почему он считает звуковой способ неприемлемым в русской школе. «Когда восьми-двенадцатилетние ученики приходят в школу, — говорил он, — то вы начинаете свои занятия с ними обращением их внимания на то, что содержится в комнате, что их окружает. Вы их спрашиваете о таких предметах, которые им уже давно знакомы, а потому на такого рода вопросы вам ответит и самый неумный ученик. Затем вы говорите, что начинаете свои занятия с бесед, но я их считаю положительно вредными, так как для того, чтобы беседа не была скучной, от учителя требуется гениальность; дальше вы даете детям слово ау, заставляете назвать и спрашиваете, что слышно в начале этого слова и что в конце. А этого-то слова собственно они и не поймут... Далее вы переходите к целому ряду упражнений и бесед, но все эти беседы только одурачат ребенка, оттолкнут его и возбудят недоверие родителей к учащим, потому что они видят, что ребенок их учится, а все-таки ничего не знает. И вот, наконец, через три
162
недели ребенок приходит домой и на вопрос родителей: что ты выучил? что знаешь? — ребенок отвечает: „звук у“».
На дальнейшие объяснения Д. И. Тихомировым преимуществ звукового метода Толстой ответил: «Я остаюсь при своем мнении, потому что во всем том, что было высказано, я не нахожу доказательств, говорящих в пользу звукового метода. Замечу еще, что мой способ есть способ народа русского, я ему выучился у народа... Я допускаю в народной школе только математику и грамматику, так как, преподавая эти предметы, я могу избежать всякого направления».
Учитель, по мнению Толстого, должен только отвечать на требования народа, на что сторонник звукового метода М. А. Протопопов возразил, что «невозможно приноравливаться к невеждам».
В защиту метода Толстого выступили только председатель Московского комитета грамотности И. Н. Шатилов и директор Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии Ф. Н. Королев, который заявил, что метод Толстого имеет преимущество перед звуковым, потому что он доступен для всякого, хотя бы «немудреного» педагога.
Выступая публично, Толстой, как всегда, стеснялся и чувствовал себя неловко; по словам корреспондента «Русских ведомостей», он говорил «нескладно, апатично, с частыми остановками»150. Сам же Толстой в тот же день писал жене о своем выступлении: «Я не сердился, и Дьяков и другие говорят, что я говорил хорошо»151.
В заключение прений председатель заявил, что к окончательному выводу можно прийти только «после опыта о преимуществах того или другого метода». Собрание постановило: просить графа дать несколько образцовых уроков. Для производства уроков была выбрана школа на фабрике С. В. Ганешина на Девичьем поле. Производство опыта было назначено на 16 и 17 января. Члены Комитета приглашались присутствовать при опыте, а по окончании его — при обсуждении результатов опыта.
Толстой не ожидал многого от этих уроков. «Пользы, боюсь, не будет, — писал он жене в том же письме, — т. е. никого не убедишь, слишком глупы и упорны».
16-го Толстой не пришел в школу по болезни и дал один только урок 17 января.
Собрана была группа неграмотных рабочих. Толстой приступил к обучению их грамоте по своему способу. Он писал на доске мелом буквы русского алфавита, называл их и заставлял учеников повторять, затем объяснял ученикам складывание звуков
163
в слоги. «Кроме трудности и новизны дела, и вся обстановка урока не благоприятствовала занятиям: присутствие посторонних лиц, духота в тесной и закрытой комнате развлекали и утомляли учеников. И с учеников и с учителя пот катился градом. Толстой не мог дольше продолжать урок. Примерный урок остался неубедительным»152.
Присутствовавшие на уроке члены Комитета грамотности тут же, в помещении фабриканта, устроили экстраординарное заседание, на котором постановили: сделать сравнительный опыт обучения грамоте по методу Л. Н. Толстого и по звуковому методу. Опыт произвести так: подобрать известное количество неграмотных детей и, разделив их на две равные по возрастам и по способностям группы, в одной вести обучение по звуковому методу, в другой — по методу Толстого153. Преподавателем по звуковому способу был выбран М. А. Протопопов; Толстой поручил вести занятия по своему способу учителю яснополянской школы 1860-х годов П. В. Морозову.
Во все продолжение опыта Толстой переписывался с Морозовым, давая ему самые подробные указания, подбадривал его, требовал, чтобы он как можно чаще и подробнее извещал его о ходе занятий и об успехах учеников и присылал образцы их сочинений и диктовки, вызывал к себе в Ясную Поляну, чтобы обо всем переговорить, сам ездил в Москву, чтобы побывать в школе и сделать учителю нужные указания.
Ученье продолжалось семь недель.
16 марта в заседании Комитета грамотности выбрана была экзаменационная комиссия из шести членов. 6 апреля комиссия в присутствии Толстого произвела экзамены ученикам обеих групп, а на следующий день подвергла обсуждению результаты экзамена. Большинство членов комиссии (пять человек), состоявшее из сторонников звукового метода, пришло к заключению, что ученики Протопопова и в чтении, и в письме, и в счете оказались выше учеников Морозова. Председатель подал отдельное мнение. Признав превосходство группы Протопопова, комиссия не вынесла, однако, постановления о преимуществе звукового метода над методом Толстого. Впоследствии один из членов комиссии, Д. И. Тихомиров, в своих воспоминаниях так формулировал результаты экзамена: «Успехи учеников той и другой группы оказались более или менее одинаковыми — при некотором перевесе на сторону звуковой группы»154.
164
13 апреля состоялось экстраординарное заседание Комитета для обсуждения результатов опыта. На заседании этом присутствовал и Толстой, на этот раз подробно изложивший основания своего способа обучения и преимущества его перед способом звуковым. Что же касается произведенного опыта обучения по тому и другому способу, то, по мнению Толстого, «при устройстве школ было сделано много ошибок, которые и сделали то, что экзамен ничего не решил». Он подробно указал эти ошибки.
Толстой вновь резко напал на звуковой метод, по которому в деле обучения грамоте главное внимание обращается на развитие ученика. Под развитием, говорил Толстой, сторонниками звукового метода «подразумевается сообщение детям сведений о предметах, которые им известны. Например, что деревья растут, а рыбы плавают, что вода мокрая и т. д. Все педагоги наши — Ушинский, Бунаков и другие — единогласно настаивают на том, что главная часть времени должна быть занята беседами этого рода... Для детей нет скучнее и мучительнее уроков, как эти уроки развития».
«Очень может быть, — сказал далее Толстой, — я даже уверен, что звуковой способ преподавания будет продолжаться еще очень долго, но я думаю, что чем скорее мы откажемся от этого способа, тем будет лучше, так как он только может задерживать дело народного образования».
В заключение Толстой опять повторил, что предлагаемый им способ не им выдуман, а взят от народа. «Мы здесь только говорим, спорим, — сказал Толстой, — а кто прав и виноват, судья в этом народ — те самые крестьяне, которые платят нам и нанимают нас, чтобы мы им работали». Заседание закончилось словами председателя: «Мы произвели опыт, но он оказался недостаточным, чтобы высказать окончательное мнение относительно преимуществ того или другого метода, а потому я предлагаю этот вопрос оставить открытым».
Предложение председателя было принято, и вопрос был признан оставшимся открытым155.
XV
Неудача с демонстрированием его способа обучения грамоте не только не обескуражила Толстого, но, напротив, усилила его энергию в борьбе за предложенный им способ обучения.
Кроме того, он решил вынести свой спор с педагогами за пределы Комитета грамотности и перенести его на страницы текущей печати. Он пишет письма Страхову, Некрасову и Суворину
165
с просьбой поддержать его в печати в его борьбе с педагогами немецкой школы.
Страхову Толстой писал 19 апреля, что в Комитете грамотности он «натолкнулся на такую грандиозную стачку тупоумия, что не мог спокойно пройти мимо». «Люди, ничего не знающие, бездарные, не знающие даже того народа, который они взялись образовывать, забрали в руки всё дело народного образования и что делают — волос дыбом становится»156.
А. С. Суворину Толстой, вспоминая его сотрудничество в «Ясной Поляне», в письме, отправленном, вероятно, в один день с письмом к Страхову, писал, что, занявшись в Московском комитете грамотности разъяснением своего способа обучения грамоте, он, «к удивлению и ужасу своему, увидал, что то педантически-тупоумное немецкое отношение к делу народного образования», с которым он боролся в «Ясной Поляне», «за последние пятнадцать лет пустило корни и спокойно процветает, и что дело это не только не пошло вперед, но значительно стало хуже, чем было». Но Толстой надеется, что своим выступлением он «расковырял немного этот муравейник тупоумия». Он полагает, что если Суворин «пробежит» протоколы заседаний Комитета, ему легко будет восстановить в своей памяти основные положения «Ясной Поляны», от которых Толстой и теперь «ни на шаг не отступил». И он просит Суворина в газете, в которой он участвует («С.-Петербургские ведомости»), «противодействовать легкомысленному отношению к этому делу», обещая со своей стороны «отплатить» всем, чем может157.
Письмо к Некрасову до сих пор не найдено, но содержание его известно из воспоминаний Н. К. Михайловского. Толстой просил редакцию «Отечественных записок» высказаться по поводу его споров с московскими педагогами, выражая, как пишет Михайловский, «лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю»158.
Суворин ничего не ответил на письмо Толстого, так как протокол заседания Комитета грамотности 13 апреля, который Толстой предлагал ему «пробежать», появился в печати только в сентябре и ноябре 1874 года.
Страхов ответил очень скоро письмом, в котором отговаривал Толстого вступать в борьбу с педагогами. Он писал: «То, что Вы пишете о педагогах, глубоко верно. Вы попали в мир, с которым я знаком достаточно, хотя всегда от него устранялся, видя в нем одно пустомельство... Мне глубоко противны все эти люди, которые с непонятным жаром толкуют о том, чего не понимают.
166
И вот Вы затеваете бороться с этой гадостью. Я прямо скажу, что мне за Вас неприятно. Сочувствую Вам вполне, буду следить с живейшим интересом и уверен, что Вы успеете высказать чудесные вещи. Но подумайте, Лев Николаевич, — ведь их несметное полчище; ведь они тупы и рьяны; ведь за них станет вся наша прогрессивная печать. Мне грустно будет, если Ваши силы и Ваше время будет тратиться на разбор и отражение всякой грязи, если какой-нибудь вздор будет Вас занимать и будет на Вас действовать сильнее, чем он того стоит.
...Мне представляется дело большою битвою, на которую можно потратить сил столько, сколько угодно. Если Вы будете сражаться и до конца Вашей жизни, то все-таки очень мало уменьшите число и силу Ваших противников»159.
В редакции «Отечественных записок» «неожиданное», как выражается Михайловский, письмо Толстого «возбудило большой интерес». Сам по себе вопрос о приемах обучения грамоте мало интересовал Некрасова, но он рассчитывал, благодаря помещению сочувственной статьи о педагогических взглядах Толстого, легче получить от него впоследствии какое-нибудь художественное произведение. Но так как в составе редакции «Отечественных записок» не было специалиста-педагога, решили предложить самому Толстому высказаться по спорным вопросам на страницах «Отечественных записок» — «он, дескать (вспоминает Михайловский), достаточно крупная и притом вне партий стоящая фигура, чтобы отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действия»160.
Письмо Страхова с советом отказаться от борьбы с педагогами не оказало на Толстого никакого действия. 10 мая он уведомлял Страхова, что, так как стенограмма заседания Комитета грамотности 13 апреля до сих пор не представлена, председатель Комитета И. Н. Шатилов просил его написать то, что было им сказано в заседании. «Я стал писать, — сообщал Толстой, — и, разумеется, написал другое» — «статью, в виде своей педагогической proffession de foi», т. е. исповеди. Толстой предупреждает, чтобы Страхов не ждал от статьи «чего-нибудь хорошего и умного. Тут настоящего ума и поместить некуда. Всё это так низменно и мелко, но меня это забрало заживо». И далее Толстой пишет: «Ошибаюсь я или нет, но я твердо убежден, что я могу дело народного образования поставить на такую ногу, на которой оно не стоит и не стояло нигде в Европе, и что для этого ничего не нужно, кроме того, чтобы кто не любит и не знает этого дела, не брался за него. — Я пошел здесь в двух уездах —
167
Чернском и Крапивенском — в члены училищного совета и надеюсь повести это дело в больших размерах»161.
Увлечение педагогикой сопровождалось охлаждением к начатому роману. «Роман мой лежит, — писал Толстой Страхову в том же письме. — Типография Каткова медлит — по месяцу один лист; а я и рад... Откровенно скажу, мне он теперь совсем не нравится». Однако Толстой тут же прибавляет, что ему интересно будет прочесть Страхову несколько глав из своего романа и узнать его мнение.
Уже 20 мая Толстой уведомляет Страхова, что его «довольно длинная» статья о народном образовании готова. Он спрашивает у Страхова совета, куда поместить эту статью. Ему хотелось бы напечатать ее в «Отечественных записках», так как это «самый распространенный журнал», но он, как это ни странно, сомневается, не будет ли это «неприлично»162.
Ответ Страхова на это письмо неизвестен, но Н. К. Михайловский в своих воспоминаниях рассказывает, что на предложение редакции «Отечественных записок» напечатать в журнале свою статью Толстой ответил согласием, однако продолжал настаивать на том, чтобы редакция журнала предварительно высказалась по предметам его спора с педагогами. Ознакомиться с данным вопросом взялся член редакции «Отечественных записок» Н. К. Михайловский.
В письме к Страхову, написанном в начале июня, Толстой уведомлял его, что он приостановил печатание своего романа. «Не могу думать о том писаньи теперь», — прибавлял он. В том же письме он сообщал, что кончил статью «О народном образовании» и что ему «кажется, что кое-что удалось сказать ясно и верно»163.
XVI
20 июня 1874 года скончалась любимая «тетенька» Толстого, его воспитательница Татьяна Александровна Ергольская, игравшая важную роль в его жизни, особенно во время его молодости, до отъезда из Севастополя.
«Смерть ее, — писал Толстой Фету 24 июня, — была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно поразительным событием»164. «Она была чудесное существо..., — писал Лев Николаевич А. А. Толстой 23 июня. — Она 50 лет жила тут и не только зла, но неприятного не сделала никому... Я с ней жил всю свою жизнь. И мне жутко без нее»165. «Когда она была живым
168
трупом, — писал Толстой сестре 15 августа, — последние годы, мы невольно удалялись ее; но когда пришла смерть, как лицо ее мертвой просветлилось и просияло, так и воспоминание о ней, и ее недостает — а для меня это разорвалась одна из важных связей с прошедшим»166.
В начале июля в Ясную Поляну приехал на несколько дней Н. Н. Страхов. Толстой к тому времени еще больше охладел к «Анне Карениной». «Я... перестал печатать свой роман, — писал он А. А. Толстой 23 июня, — и хочу бросить его, так он мне не нравится»167. Но Страхов, прочитав начало романа в корректурах и окончание в рукописи, пришел в восторг, и восторг свой не только высказал Толстому на словах, но и изложил в письме по отъезде из Ясной Поляны.
«Ваш роман, — писал Страхов Толстому 23 июля, — не выходит у меня из головы. Каждый раз, что бы Вы ни написали, меня поражает удивительная свежесть, совершенная оригинальность, как будто из одного периода литературы я вдруг перескочил в другой. Вы справедливо заметили, что в иных местах Ваш роман напоминает «Войну и мир»; но это только там, где сходны предметы; как только предмет другой, то он является в новом свете, еще невиданном, небывалом в литературе. Развитие страсти Карениной — диво дивное. Не так полно, мне кажется, у Вас изображено (да многие части и не написаны) отношение света к этому событию. Свет радуется (какая удивительная черта!), соблазн соблазняет его; но является реакция, отчасти фальшивая, лицемерная, отчасти искренняя, глубокая. Я не знаю хорошенько, что у Вас тут будет, не смею и думать — самому развивать тему; но тут должно быть что-нибудь очень интересное, очень глубокое; на эту точку все обратят внимание и будут требовать от Вас решения, приговора.
Что касается до меня, то внутренняя история страсти — главное дело и все объясняет. Анна убивает себя с эгоистическою мыслью, служа все той же своей страсти; это неизбежный исход, логический вывод из того направления, которое взято с самого начала. Ах, как это сильно, как неотразимо ясно!
Все взято у Вас с очень высокой точки зрения — это чувствуется в каждом слове, в каждой подробности, и этого Вы, вероятно, не цените, как должно, а, может быть, не замечаете. Ужасно противно читать у Тургенева подобные светские истории, например, в «Дыме». Так и чувствуешь, что у него нет точки опоры, что он осуждает что-то второстепенное, а не главное... Вы в полном смысле слова обязаны напечатать Ваш роман, чтобы разом истребить всю эту и подобную фальшь...
А для Боборыкиных, Крестовских и иных подобных романистов
169
это будет полезнейшим и может быть плодотворным уроком. А читать Вас будут с жадностию непомерною, — помилуйте, какой предмет!
Всею душою желаю Вам бодрости и силы»168.
Еще прежде получения этого письма Толстой, ободренный восторженным отношением Страхова к его роману, взялся было за пересмотр набранных глав (было набрано всего пять листов, содержащих I—XXX главы «Анны Карениной»). «Но то, что напечатано и набрано, — писал Толстой Страхову 27 июля, — мне так не понравилось, что я окончательно решил уничтожить напечатанные листы и переделать всё начало, относящееся до Левина и Вронского. И они будут те же, но будут лучше. Надеюсь с осени взяться за эту работу и кончить»169.
П. Д. Голохвастову Толстой 29 июля еще в гораздо более резких выражениях писал о начатом романе: «На днях у меня был Страхов, пристрастил меня было к моему роману, но я взял и бросил. Ужасно противно и гадко»170.
XVII
30 июля Толстой вместе со старшим сыном уехал в самарское имение «посмотреть, что родилось, и свести счеты». Вернулся около 14 августа.
В Самаре он окончательно приготовил к печати статью «О народном образовании». Вернувшись в Ясную Поляну, он 15 августа уведомил Некрасова, что его «педагогическая статья» готова, что он желает напечатать ее в «Отечественных записках» при условии получения гонорара по 150 рублей за лист и помещения статьи «в осенних номерах — сентябрьском или октябрьском». Вместе с тем Толстой благодарил редакцию «Отечественных записок» за готовность помочь ему в его «борьбе с педагогами» и заканчивал письмо словами: «Я твердо уверен, что если бы редакция обратила серьезное внимание на этот вопрос, то она стала бы на совершенно сходную со мной точку зрения»171.
Некрасов без промедления ответил Толстому согласием на все его условия. Он писал:
«Потрудитесь прислать Вашу статью, я напечатаю ее (может быть, если успеется) в 9 № «Отечественных записок», а не то в 10-м, не позже. По 150 р. платить согласен (и при этом замечу, что за роман Ваш или повесть редакция может заплатить и дороже). Корректуры пошлю, к кому укажете»172.
170
30 августа статья «О народном образовании» была отослана в редакцию «Отечественных записок». В письме, посланном Некрасову одновременно со статьей, Толстой повторял: «Я уверен, что редакция «Отечественных записок» не разойдется со мной во взгляде, который я излагаю в своей статье, и только желаю, чтобы публика хоть в самой малой доле признала ту важность, которую я приписываю этому делу». «Несмотря на то, что я так давно разошелся с «Современником», — писал Толстой тогда же, — мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с вами очень много хороших молодых воспоминании»173.
Желая как можно скорее видеть свою статью в печати, Толстой в том же письме давал редакции «Отечественных записок» полномочие выбрасывать из его статьи все, что будет признано опасным в цензурном отношении174.
Некрасов сдержал свое обещание — статья появилась в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1874 год175.
Статья написана в форме письма к председателю Комитета грамотности и начинается с указания тех ошибок, которые, по мнению Толстого, были сделаны при устройстве Комитетом опыта обучения грамоте по его методу и по методу звуковому. Затем автор переходит к критике все более и более распространявшегося в то время так называемого «наглядного способа» обучения. Он берет учебные руководства двух самых известных в то время педагогов: Н. Ф. Бунакова («Уроки чтения», «Родной язык как предмет обучения») и В. А. Евтушевского («Методика арифметики»). Толстой взял для разбора именно эти руководства «как сочинения новые, соединяющие в себе все выводы немецкой педагогики, назначенные для руководства учителей в народных школах и избранные сторонниками звукового способа как руководства в их школах».
Толстой находит, что способ этот, состоящий в подробном рассмотрении тех предметов, которые у детей перед глазами и которые они и без того хорошо знают, как, например, пол, потолок, печка, внешний вид домашних животных и проч., а в арифметике — по способу немецкого педагога Грубе в течение всего первого года обучения (120 уроков) изучение чисел от 1 до 10, которые дети, приходя в школу, уже знают, — что такой способ вовсе не ведет к «развитию» детей, которое сторонники «наглядного обучения» ставят своей задачей, а вызывает в детях лишь скуку и отвращение. Такое «наглядное обучение» русских
171
крестьянских детей «не нужно, чуждо, совестно». Вследствие этого произошло «то жалкое и часто смешное положение, в котором находится школьное дело. Силы тратятся напрасно: народ, в настоящую минуту жаждующий образования, как иссохшая трава жаждет воды, готовый принять его, просящий его, — вместо хлеба получает камень».
«Единственные прочные основы педагогии есть только две: 1) определение критерия того, чему нужно учить, и 2) критерия того, как нужно учить».
Педагогика не только не дает ответа на эти основные вопросы, но и не затрагивает их. Вместо того чтобы самим найти наилучшие способы обучения, новые русские педагоги просто «избрали приемы обучения ближайших соседей наших, немцев, во-первых, потому, что мы всегда особенно склонны подражать немцам; во-вторых, потому, что это был способ самый сложный и хитрый, а уж если брать чужое, то, разумеется, самое последнее, модное и хитрое; а, в-третьих, в особенности потому, что эти приемы были более всего противоположны нашим старым приемам».
Толстой обвиняет «передовых» «педагогов («тех, которые пишут руководства и предписывают правила») в том, что в их среде «существует полное незнание и нежелание знать народ и его требования». «Педагоги немецкой школы, — пишет он, — и не подозревают той сметливости, того настоящего жизненного развития, того отвращения от всякой фальши, той готовой насмешки над всем фальшивым, которые так присущи русскому крестьянскому мальчику, — и только потому так смело (как я сам видел) под огнем 40 пар умных детских глаз на посмешище им выделывают свои штуки».
В противоположность тому, что Бунаков в своей книге назвал школьников — детей русских крестьян — «маленькими дикарями», которым нужно разъяснять, что значат слова «вправо», «влево», «вверх», «вниз», «рядом», «подле», «около», «вперед», «назад», «вблизи», «вдали», «пред», «над», «под», «скоро», «медленно», «тихо», «громко» и т. п., — Толстой в своей статье называет крестьянских детей-школьников «маленькими мужичками». «Я нашел в них, — пишет Толстой, — те самые черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого, которыми вообще отличается русский мужик».
В способе «наглядного обучения» учителей невольно подкупает и то, что «большую часть времени по этой методе учитель учит тому, что дети знают, да, кроме того, учит по руководству, и ему легко. И бессознательно, по врожденной человеческой слабости, учитель дорожит этой легкостью».
Новый педагог, как и старый учитель церковной школы, полагает, что он «твердо и несомненно знает, чему и как нужно
172
обучать, и что свое знание не почерпает из требований народа и из опыта, но раз навсегда теоретически решил, что именно тому и так нужно учить и так учит». И так как новая немецкая школа, так же как и церковная школа, «учит, не спрашиваясь о том, что интересно знать ученику, а учит тому, что по убеждению учителя кажется нужным», то «школа эта может основываться только на принуждении». В новой школе, так же как и в старой, «царствует постоянный внешний порядок, и дети находятся под постоянным страхом и могут быть руководимы только при величайшей строгости».
Покончив с критикой педагогов «немецкой школы», Толстой переходит к изложению своих взглядов на цели и методы обучения. Он повторяет мысль, высказаную им за двенадцать лет до этого в «Ясной Поляне»: «Единственый критериум педагогии есть свобода, единственный метод есть опыт».
Признав свободу «единственным критерием педагогии», Толстой утверждает, что «в народной школе право определять то, чему надо учиться, с какой бы стороны мы ни рассматривали этот вопрос, принадлежит народу, т. е. или самим ученикам, или родителям, посылающим детей в школу. И потому ответ на вопрос, чему учить детей в народной школе, мы можем получить только от народа». Требования же народа от школы очень определенны, «знание русской и славянской грамоты и счета». Таким образом, «если допустить критериумом того, чему учить, свободу, то программа народных училищ до тех пор, пока народ не заявил новых требований, ясно и твердо определяется».
Так же легко и просто, при признании свободы, разрешается и вопрос о том, как учить. Вопрос этот решается так: «Чем с меньшим принуждением учатся дети, тем метод лучше; чем с большим, тем хуже». «Тот прием, который при своем введении в школу не требует усиления дисциплины, хорош; тот же, который требует большой строгости, наверное дурен».
В заключение своей статьи Толстой переходит к вопросу об административной стороне школьного дела — распределении и устройстве школ. Он говорит, что решение и этого вопроса должно быть всецело предоставлено самому народу. Вопросы о школьном помещении, о распределении времени учения, о распределении школ по местностям, о выборе и вознаграждении учителей — все это должно решаться самим народом, который всегда сумеет решить эти вопросы так, как для него лучше и удобнее. «Нужно предоставить народу свободу устраивать свои школы, как он хочет, и вмешиваться в самое дело устройства школ как можно меньше».
Статья заканчивается разработанным в подробностях проектом устройства достаточного числа дешевых школ, удовлетворяющих потребности народа в образовании и доступных его средствам.
173
В этом проекте Толстой исходил из положения, что в деле народного образования необходимы простота и дешевизна во всем — и в методах обучения, и в учебных пособиях, и в обстановке, и в педагогическом персонале. «Земство, — писал Толстой, — не должно брезгать, как это делается теперь, дешевыми учителями в 2, 3, 4, 5 рублей в месяц и помещениями в курных избах или переходными помещениями по дворам. Земство должно помнить, что первообраз училища, тот идеал, к которому должно стремиться, не есть каменный дом, железом крытый, с досками и партами, какие мы видим в образцовых училищах, а та самая изба, в которой мужик живет, с теми лавками и столами, на которых он обедает, и не учитель в сюртуке и учительница в шиньоне, а учитель в кафтане и рубахе, или [учительница в] паневе и платке на голове, и не с сотней учеников, а с пятью, шестью до десяти».
Вместо двадцати школ, открытых Крапивенским земством, Толстой предлагал устроить 4000 школ с учителями, получающими от 15 до 140 рублей в год за семь месяцев учебного времени. В каждом земстве должно быть лицо, с образованием не ниже среднего, заведующее школами, контролирующее учителей и помогающее им в их занятиях176.
Статья заканчивается словами:
«Народ, главное заинтересованное лицо и судья, ...твердо знает, что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно, — и как к стене горох будут попытки по-немецки образовывать, направлять и учить его».
———
Толстой был доволен своей статьей.
Видя, что делом народного образования руководят люди, не знающие народа и не желающие считаться с его требованиями, он чувствовал нравственную потребность указать обществу и педагогам «немецкой школы» на бесполезность и вред для дела народного образования их приемов обучения.
«Я воевал с немецкой педагогией, — писал Толстой 29 февраля 1876 года детскому писателю Е. В. Львову, — именно потому, что я большую часть жизни посвятил на это дело, что я знаю, как думает народ и народный ребенок, и знаю, как говорить с ним; и это знание не слетело мне с неба оттого, что
174
у меня талант ...а оттого, что я и любовью и трудом приобрел это знание»177.
Толстому было радостно узнать, что и Некрасов, и другие члены редакции «Отечественных записок» также отнеслись сочувственно к его статье. Некрасов писал ему 12 октября 1874 года: «Статью Вашу я напечатал, и, выждав несколько времени, пишу Вам, что все наши сотрудники отзываются о ней с сочувствием и единодушными похвалами... Мне Ваша статья очень по душе... Я очень доволен, — писал Некрасов в заключение своего письма, — что украсил журнал и хорошею статьею и Вашим именем»178.
6 марта 1875 года Толстой писал Страхову, что на его статью «О народном образовании» есть спрос — двое его знакомых видели в Москве списки с этой статьи. Поэтому Толстой желал бы видеть свою статью в отдельном издании179.
Страхов и сам думал об отдельном издании статьи «О народном образовании» и в письме к Толстому, до нас не дошедшем сообщал, что намерен предложить издание статьи журналу «Гражданин», в котором он сам сотрудничал.
Толстой в том же письме ответил Страхову, что «фирма „Гражданина“» ему «не нравится» (редактор «Гражданина» В. П. Мещерский защищал в своем журнале интересы дворянства), однако предоставлял Страхову решить вопрос об издании статьи как ему заблагорассудится. Страхов все-таки выбрал «Гражданин», и ему удалось устроить издание статьи Толстого в виде отдельного приложения к этому журналу.
В № 11 «Гражданин» за 1875 год редакция в следующих выражениях оповестила своих читателей о предстоящей перепечатке статьи Толстого: «Сообщаем читателям приятное известие. Мы получили от графа Льва Николаевича Толстого позволение перепечатать целиком его замечательную статью «О народном образовании», помещенную в прошлом году в «Отечественных записках». Печатанье этой статьи отдельным приложением начнется с № 12»180
Статья была напечатана в № 12 и 13 журнала «Гражданин» и затем появилась в виде отдельных оттисков в количестве 600 экземпляров.
XVIII
Статья «О народном образовании» при своем появлении произвела большой шум как в печати, так и в обществе. Просто, горячо и увлекательно написанная, напечатанная в авторитетном
175
и уважаемом журнале, она заставила задуматься над педагогическими вопросами даже таких людей, которые раньше никогда над ними не думали. «Многие родители, — писал Н. К. Михайловский в декабре 1874 года, — начинают задумываться, хорошо ли они делали, что так уж доверились господам педагогам; многие люди, никогда не занимавшиеся педагогией, получили к ней некоторый интерес и читают вещи, на которые они прежде не обращали никакого внимания»181.
«Статья эта, — писал редактор журнала «Семья и школа», — привлекла общественное внимание к школе, пробудила и спавших членов русского общества вообще и дремлющих педагогов в особенности»182.
«Трудно было, — писал в 1875 году «Педагогический листок», — показаться куда-либо, не рискуя в сотый раз наткнуться на порядком надоевший уже вопрос: «А вы за кого? за Толстого или за Евтушевского»»183.
Редакция журнала «Семья и школа» в декабрьской книжке 1874 года заявила, что она «получает по поводу статьи гр. Л. Н. Толстого «О народном образовании» так много заявлений и статей от лиц, близко стоящих к народной школе, что печатать их все она положительно не может по недостатку места».
По свидетельству В. А. Евтушевского, под влиянием статьи Толстого в обществе появилось «резкое порицание всего нового направления педагогики»184. В школах началось гонение на учебники Бунакова и Евтушевского; учителя разделились на «звуковиков» и «толстовиков».
Все патентованные педагоги, прямо против которых была направлена статья Толстого, отнеслись к ней, как и следовало ожидать, с крайним раздражением.
Первым высказался печатно «знаменитый педагог, читающий лекции всем учителям России», как назвал его Толстой в заседании Комитета грамотности, Н. Ф. Бунаков, чувствовавший себя оскорбленным статьей Толстого. В котором письме в редакцию «Семьи и школы» Бунаков заявил, что статья Толстого — «это — сплошное сцепление лжи, голословных приговоров и суждений свысока»; что «в статье его, посвященной народному образованию, скорее выражается громадное себялюбие, нежели народолюбие»; что он «намеренно искажает смысл той теории обучения, которая гр. Толстому не нравится, чужих
176
слов, принадлежащих авторам, которых он не одобряет»; что «вера в свою непогрешимость обуяла его до последней крайности»185.
Вслед за «Семьей и школой» вступила и «Народная школа», журнал, одобренный Министерством народного просвещения. Редактор журнала Ф. Н. Медников писал, что статья Толстого, «будучи несостоятельна во всех без исключения своих положениях... своею крайнею бесцеремонностью и бойкостью, своим мнимым авторитетом вводит в заблуждение лиц, мало знакомых с педагогическими условиями нашего образования; она служит ловким орудием ретроградам...; она, наконец, является новым тормозом к дальнейшему развитию нашего народного образования... Статья эта дает пищу невежеству, поселяет недоверие к науке... Автор ровно ничего не понимает в философских терминах. Гр. Толстой просто морочит всех и думает народностью прикрыть свои отсталые педагогические мечтания». В особенную вину Толстому автор ставил то, что он «не признает никаких авторитетов» и что «в его труде вы не найдете ни одного имени, которое он привел бы в оправдание своих странных положений».
«Появись статья, — писал далее Медников, — не за подписью графа Толстого, как всем известного писателя, и притом не в «Отечественных записках», журнале весьма известном и распространенном, а в каком-нибудь более скромном органе печати, она не только не обратила бы никакого внимания, а была бы еще отнесена к числу непоследовательных, лишенных логических оснований, странных, эксцентричных, бьющих на искусственную оригинальность, скажем более — таких, под которой не подписался бы ни один из постоянных сотрудников „Отечественных записок“»186.
Затем выступили против Толстого: Д. И. Тихомиров, в громадной статье (76 страниц) уверявший читателей в «огульной несостоятельности» статьи «О народном образовании»187; С. Бобровская, выразившая сожаление, что «наш любимый романист ...берется за дело, очевидно, ему совершенно незнакомое и своею странною, легкомысленною выходкой против серьезных и плодотворных трудов русских деятелей на поприще народного образования сам помрачает ореол своей литературной славы»188; Л. И. Поливанов — назвавший Толстого «вдохновенным»
177
педагогом-практиком, но «бессильным педагогом-теоретиком» («его дидактические теории смешны, — писал Поливанов, — и возмутительны те приемы, коими он их отстаивает; в них он является поверхностным, противоречивым и несправедливым»)189; автор «Руководства к арифметике» В. Воленс, взявшийся разобрать «Арифметику» Толстого и заявивший, что «обучение по книге гр. Толстого будет неминуемо иметь следствием отупение учащихся»190, и другие. Но всех превзошел автор двух «Книг для обучения чтению», Е. Гасабов, выпустивший отдельной брошюрой «Письмо» Толстому по поводу его статьи, в котором, обращаясь к Толстому, говорил: «Fiasco, которое вы потерпели с вашей «Азбукой», привело вас в крайнее раздражение... и вы, чтобы поправить дело, домогаетесь конкурсов, читаете речи в Комитете грамотности и, наконец, разражаетесь статьей, в которой ... выходите из себя и стараетесь доказать, что вы единственный народный педагог»191.
Сдержаннее всех высказался в печати известный автор методик арифметики и арифметических задачников В. А. Евтушевский. Несмотря на то, что Толстой в своей статье подверг самой резкой критике его приемы обучения арифметике, он в своем «Ответе» на статью Толстого, нападая на его «Арифметику» и отстаивая свои приемы обучения арифметике по способу Грубе, все-таки имел смелость признать, что «в отрицательной части статьи нельзя во многом не согласиться с автором. Он действительно хорошо подметил и остроумно, хотя несколько преувеличенно, указал злоупотребления новейшими способами обучения детей»192.
Только маловлиятельный журнал для народных учителей «Грамотей» принял сторону Толстого в одном специальном, затронутом им вопросе о «наглядном обучении». «Графу Толстому, — писал этот журнал, — его поэтическое чутье подсказало, что что-то неладно в этом «наглядном обучении»... Он и высказал это откровенно»193.
В. А. Евтушевский, чувствовавший себя лично оскорбленным статьей «О народном образовании», решил публично ответить Толстому. 19 октября 1874 года он выступил в заседании Петербургского педагогического общества перед многолюдным
178
собранием с обширным докладом, в котором, язвительно издеваясь над руководством Толстого, пытался доказать, что «знаменитый литератор и всеми уважаемый человек» взялся не за свое дело, и закончил свой разбор словами крыловской басни: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник».
По окончании доклада Евтушевского совершенно неожиданно для него выступил очень известный в то время в петербургских учебных кругах педагог Александр Николаевич Страннолюбский194. Он заявил, что, по его мнению, «в методе Толстого есть строгая и обдуманная система, и вся ошибка Толстого заключается именно в том, что он не выяснил этих своих оснований; но они становятся совершенно ясными, если внимательно просмотреть все те упражнения, которые он предлагает. Если бы дано было время, можно бы было доказать, что во многих случаях, где в прослушанном реферате приемы Толстого представляются даже нелепыми, есть очень высокий смысл».
Время это было дано Страннолюбскому на следующих заседаниях Педагогического общества — 2 и 16 ноября и 7 декабря 1874 года195. Свой ответ Евтушевскому А. Н. Страннолюбский начал с того, что «статья гр. Толстого не только не заключает в себе ничего нелепого и достойного осмеяния, но представляет оригинальный и довольно замечательный в своем роде курс, проникнутый в существенных своих подробностях весьма последовательно проведенной системою». Курс Толстого, говорил далее Страннолюбский, «вполне заслуживает дальнейшей разработки в частностях в духе той общей идеи, которая положена в его основание».
Опровергая одно за другим все неодобрительные замечания Евтушевского об «Арифметике», Страннолюбский вместе с тем указывал «положительные достоинства курса гр. Толстого» как в общем плане, так и в частностях. Так, он признал «весьма замечательной особенностью» толстовского руководства то, что
179
«сложение и вычитание он проходит одновременно»; толстовский взгляд на происхождение дроби нашел «весьма оригинальным и по справедливости заслуживающим внимания»; введение римского счета назвал приемом, цель которого «совершенно очевидна и заслуживает одобрения». Коснувшись же вопроса об определении арифметических действий, Страйнолюбский произнес даже следующее: «Ответ на вопрос, кого из двух методиков — графа ли Толстого или г. Евтушевского считать более правильно и более философски относящимся к этому предмету, т. е. к определениям арифметических действий, мне кажется, ясен. Ясно, что преимущество надо признать за гр. Толстым». В другом частном вопросе (о приемах деления) Страннолюбский также признал преимущество метода Толстого над методом Евтушевского.
В конце своего доклада Страннолюбский оговорился, что в курсе Толстого «есть подробности такие, с которыми нельзя согласиться». Однако, закончил он, имея в виду глумления Евтушевского над «Арифметикой», «такой курс, в котором много достоинств, я не считаю возможным подвергать осмеянию или произносить о нем такой приговор, который делает его совершенно негодным»196.
В 1875 году в народническом журнале «Неделя» появилась анонимная статья «Наша научная педагогическая критика», подводившая итоги всем выступлениям профессиональных педагогов против статьи Толстого.
«Граф Толстой, — писала «Неделя», — указав на извращенность отношений современной школы к жизни, глубокий разлад в требованиях той и другой, впервые с небывалой силой протестовал против своеобразной школьной рутины, переносимой к нам исчужа, благодаря усилиям педагогов так называемой «новой школы», и впервые с особенной настойчивостью привлек внимание общества к вопросу о том, как и чему учить народ.
180
Впечатление, произведенное им на все общество, и поражение, нанесенное фальшивым нормам существующей школы, обязывали педагогов «новой школы» взять на себя защиту этих норм и, опровергнув обвинения графа Толстого, в случае их несправедливости, восстановить перед обществом свой поколебленный авторитет. И вот в целом ряде статей, размещенных в различных педагогических журналах, выступает эта защита под ферулой науки, как сама она заявляет о себе... Указания Л. Толстого на пустую и подчас бессмысленную мелочность, господствующую всецело в нашей школе, где всякий мертворожденный хлам и сор имеют огромное деморализующее и отупляющее влияние на учащихся, указания эти слишком справедливы и важны, чтобы пройти их молчанием».
Рассмотрев все статьи педагогов «новой школы», вызванные появлением статьи Толстого, автор приходит к заключению, что «наука педагогии» «в руках заведывающих ею людей ни к чему не служит и неспособна защищать себя ни единым фактом», а потому «едва ли есть какие-либо основания порицать графа Л. Толстого за его скептическое к ней отношение».
Что касается «наглядного обучения», то «и здесь также обвинение графа Толстого в бессодержательности, «бессмыслии» и безобразии приемов «новой школы» остается в полной силе».
«Таким образом, — пишет автор в заключение своей статьи, — научная критика господ педагогов, вопреки своим ожиданиям, не только не опровергла обвинений графа Л. Толстого, но, напротив, сама подтвердила главные положения, на которые он указал как на результат их бесцельного блуждания в деле народного образования»197.
XIX
Из влиятельных органов принял сторону противников Толстого один только либеральный «Вестник Европы». В нем появилась огромная (в 70 страниц) статья бывшего тульского педагога, лично посещавшего яснополянскую школу (затем директора училищ Таврической губернии) Е. Л. Маркова, не постеснявшегося в самых резких выражениях выступить по адресу смелого новатора-педагога. Марков усмотрел в статье Толстого и «логическую неясность понятий», и «постоянные, доходящие до крайнего легкомыслия противоречия самому себе в основных положениях защищаемого им дела», и пр. Марков никак не мог примириться с тем, что «определение потребностей данного времени» в деле образования Толстой доверяет «мужику», а не «избранным умам и богатому многообразному опыту педагогов-мыслителей», как это делает европейская педагогия. Общий же вывод
181
его о статье Толстого был таков: «Самое лживое учение азиатской неподвижности редко доходило до таких геркулесовых столбов ослепления, до которых довел свою основную идею гр. Толстой. Вот эта идея, если очистить ее от шелухи: „Невежество, незнание — это и есть сила, которая одна все знает, одна имеет право на все; посвящение же себя делу, заботливая подготовка к нему лишают людей здравого понятия об этом деле“»198.
Большинство общих органов печати отнеслось к статье Толстого в высшей степени сочувственно. По словам Н. К. Михайловского, «газеты всех партий, всех цветов и оттенков с небывалым единодушием стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого... На долю статьи «Отечественных записок» выпал такой громадный успех, каким едва ли может похвалиться какое бы то ни было литературное явление прошлого года»199.
Даже такие журналы и газеты, которые по тем или другим существенным вопросам педагогики и общих взглядов расходились с Толстым, — даже и эти органы выражали согласие с его критикой петербургских педагогов.
Революционер бланкист П. Н. Ткачев, выступая по поводу статьи Толстого в радикальном журнале «Дело», в статье, озаглавленной «Народ учить или у народа учиться?»200, писал: «Действительно, наша педагогическая кунсткамера изобилует очень забавными вещицами; действительно, и наши отечественные педагоги и их учителя немцы в своем педагогическом рвении доходят до геркулесовых столбов всевозможных нелепостей и бессмыслиц; действительно, они еще очень далеки от решения вопроса, как и чему учить... Даже идея наглядного обучения, за которую они ухватились с каким-то религиозным фанатизмом и которую они довели до чистейшего абсурда, даже эта идея, благодаря именно их рвению «не по разуму», начинает вызывать против себя справедливую оппозицию... В том виде, в каком оно практикуется в некоторых детских садах и элементарных школах, оно, вместо того чтобы быть орудием умственного развития, превращается в орудие притупления всех умственных способностей человека».
Вместе с тем, однако, Ткачев полагал, что при всех своих дикостях и нелепостях тогдашняя педагогика, заимствованная у немцев, исходит из верной основной мысли, что педагогия есть наука, основанная на данных антропологии, физиологии и психологии,
182
хотя в настоящее время эта наука «имеет весьма мало твердых опор в области антропологических знаний».
Другое расхождение Ткачева с Толстым состояло в том, что Ткачев полагал, что нельзя «отдавать дело воспитания народа на произвол его неясных инстинктов, желаний и предубеждений». В области воспитания детей, полагал Ткачев, «чем меньше значения будет иметь его [народа] голос, чем слабее будет его влияние, тем легче и скорее высвободится подрастающее поколение из-под ферулы ошибок, заблуждений и предрассудков поколения отживающего».
Из этих намеков ясно, что Ткачев как революционер видел задачу школы в том, чтобы она освобождала крестьянских детей от религиозных и политических предрассудков, от веры в церковное учение и в царя.
Консервативный критик В. Г. Авсеенко, так же как Ткачев, находил, что в критической части своей статьи, «там, где он подвергает разбору нынешний модный учебный метод, заимствованный у немецких педагогов», Толстой «становится на весьма солидную почву личного опыта и здравого смысла, и большая часть его замечаний отличается весьма остроумною убедительностью». Но, так же как Ткачев, хотя и по другим основаниям, Авсеенко считает, что «принцип безусловной свободы в этом деле, за который ратует граф Толстой, есть, без сомнения, принцип ложный». Государство имеет право контролировать народное обучение, особенно «в среде, где сами родители не в состоянии следить за его доброкачественностью»201.
Авсеенко, очевидно, боялся того, что в народную школу проникнут в качестве учителей нигилисты и нигилистки, и потому восставал против свободы обучения.
Либеральные «Петербургские ведомости» поместили «несколько восторженную» рецензию В. П. Буренина на статью Толстого. В. П. Буренин писал, что Толстому удалось осветить много «притязательной бессмыслицы в царстве педагогического педантизма»; что он «обличает с замечательной ясностью фальшивость и ограниченность той немецкой педагогической системы, которую стремились и стремятся установить в деле народного образования наши педагоги — копиисты тевтонской воспитательной и учебной премудрости»; что его взгляд на русскую, подражающую немецкой педагогику «есть взгляд столь же смелый, сколько самостоятельный и здоровый», и вся «критическая отрицательная сторона статьи гр. Толстого замечатальна по меткости и ясности высказываемых им суждений».
Что касается толстовского проекта устройства большого числа дешевых народных школ, то проект этот, по мнению Буренина,
183
страдает некоторой односторонностью и даже фантастичностью, но и в нем Буренин нашел много основательных и замечательных взглядов202.
А. С. Суворин в статье «Граф Л. Н. Толстой (литературный портрет)» упоминает о борьбе Толстого с педагогами «новой школы» в его статье в «Отечественных записках», которая «отрезвляющим образом должна подействовать на господ педагогов, по крайней мере на тех из них, которые еще не совсем заплесневели»203.
Н. Н. Страхов в своей статье вскрыл ошибочность представлений педагогов новой школы о процессе умственного развития ребенка, указал на важность вопросов народного образования, поднятых в статье Толстого, и закончил статью словами: «Искренняя и чуткая любовь к народу не могла не указать нашему поэту на самые правильные и естественные отношения в этом практическом жизненном вопросе»204.
В защиту мнения Толстого о необходимости полной свободы в деле народного образования выступил А. М. Скабичевский, заявивший, что свобода в этом деле, как «всякая истинная и разумная свобода во всех человеческих делах», не только не вредна, но «спасительна»205.
Самым же горячим защитником взглядов Толстого выступил Н. К. Михайловский.
Н. К. Михайловский, статью которого в «Отечественных записках» Толстой желал видеть прежде своей статьи, смог выступить по поводу педагогов «новейшей формации» только в январе 1875 года. Не будучи специалистом в области педагогики, он озаглавил свою статью «Записки профана», выступая, таким образом, от массы простых людей, незнакомых с педагогической литературой, но кровно заинтересованных в разумном обучении своих детей в школах206.
184
Михайловский прежде всего решительно отверг мнение редактора журнала «Семья и школа» Медникова, будто бы статья Толстого противоречит направлению «Отечественных записок» и будто бы, появись она в другом журнале, под нею не подписался бы ни один из постоянных сотрудников «Отечественных записок». «И с чего Медников, — писал Михайловский, — вздумал, что редакция «Отечественных записок» напечатала бы статью графа Толстого, если бы она в общем не была согласна с ее собственными взглядами?.. Статья эта отнюдь не может быть причислена к журнальному материалу, за который редакция не ответственна. Для этого она слишком резка, слишком определенна и затрагивает слишком общие и вместе с тем живые, насущные вопросы».
Перечитав много новейших работ по педагогике, Михайловский пришел к выводу о совершенной правоте Толстого в его утверждении, что вопросы, как учить и чему учить, «для педагогии как науки не существуют».
Желая познакомиться с тем, как педагоги излагают сущность звукового метода, Михайловский обратился к статье «Обучение русской грамоте», помещенной в журнале «Семья и школа» и написанной одним из самых авторитетных представителей новейшей педагогики того времени С. Миропольским. Михайловский нашел в этой статье «полный ассортимент курьезов, монстров и раритетов», образчики которых он предложил вниманию читателей. Как курьез Михайловский приводит так-же из руководства барона Н. К. Корфа «Наш друг», с указанием страницы, один из вопросов, который автор рекомендует задавать ученикам при проведении наглядного обучения: «Назови душевные свойства пиявки»!
Относительно всей вообще современной педагогической литературы Михайловский пришел к выводу, что это — «не наука и не искусство, а какая-то игрушечная лавка».
«Много лет тому назад, — писал далее Михайловский, — граф Толстой занялся педагогиею, и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогии вопросами. Это зачем? Какие основания такого-то явления? Какая цель такого-то? — вот с чем подходил граф Толстой и к самой сути педагогии, и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью».
По мнению Михайловского, Толстой поставил вопрос об образовании «очень широко и очень ясно». Он считает необходимым равномерное, но всем одинаковое образование, хотя в самой низшей ступени, а потом уже предполагает дальнейшее, опять же равномерное поднятие образования.
Толстой, по мнению Михайловского, вовсе не отрицает
185
науку педагогии; он «дает свое вполне ясное, оригинальное и весьма глубокое определение этой науки». Это определение, данное Толстым, таково: цель педагогии — изучение условий, благоприятствующих и препятствующих совпадению стремлений ученика и учителя к общей цели равенства образования. «Я не знаю, — говорил Михайловский, — определения более полного и широкого, более способного поставить педагогику на действительно научную высоту».
«Профаны, — писал Михайловский, — приносят свою благодарность графу Толстому за то, что он открыл им глаза на целый мир безобразий, которые 1) отнюдь не имеют ничего общего с наукой и 2) топча в грязь требования народа, практически бессильны привить ему просвещение».
Несколько страниц посвящает Михайловский критике статьи Маркова против Толстого, напечатанной в «Вестнике Европы». Обличив Маркова в недобросовестности, с которой он сознательно искажает педагогические взгляды Толстого, Михайловский приходит к заключению, что «сознательный и просвещенный либерализм» Маркова состоит «в полнейшей свободе перевирать чужие мысли и слова». Статья Маркова состоит из «систематически систематизированной лжи, облеченной в полную парадную форму либерализма».
Михайловский соглашался со всеми основными положениями Толстого-педагога, но не соглашался с его признанием, в силу «необходимости», права воспитания за семьей, религией и правительством. Он мирился временно с дьячками и отставными солдатами, которых Толстой допускал в качестве учителей в народных школах, находя, что «все эти учителя неоспоримо хороши тем, что дешевы и находятся под рукой».
Проект организации школьного дела, предложенный Толстым, Михайловский отказался защищать207.
После статьи Михайловского в печати не появлялось более выступлений по поводу статьи Толстого. Сам Толстой в заключение своей статьи в «Отечественных записках» заявил: «Я рад случаю высказать почти всю мою педагогическую исповедь именно потому, что занятия мои не позволяют тратить время на одну из самых праздных людских деятельностей — на полемику».
———
Прошли годы. Страсти, вызванные статьей Толстого, улеглись; благотворное влияние статьи в деле народного образования было признано третировавшими ее педагогами. Тот самый Н. Ф. Бунаков, который в 1874 году публично заявил, что в статье Толстого нет ничего, кроме лжи, в 1888 году выступил
186
печатно на защиту Толстого от обвинений его И. И. Паульсоном в «педагогическом нигилизме».
«Статья нашего гениального романиста «О народном образовании», — писал Н. Ф. Бунаков, — подействовала, так сказать, «отрезвляющим» образом на педагогов, увлекшихся немецкой методикой, забывших в своем увлечении требования народной жизни и невольно впадавших в крайности и преувеличения... До появления статьи гр. Толстого это была почти общая характеристическая слабость русских педагогов. Потому-то своим горячим протестом во имя прав народной жизни гр. Толстой принес не мало пользы народной школе»208.
В «Записках» своих, написанных в 1893 году, Бунаков прибавляет к этим словам:
«Статья гр. Л. Н. Толстого побуждала всматриваться в народную жизнь, напоминая, что не народ существует для школы, а школа для народа, всматриваться в житейские условия деятельности народной школы, в ее живые потребности; она побуждала относиться с должным уважением к правам и потребностям народной жизни и согласовать с ними дело обучения в народной школе... Я сам на себе испытал и вполне прочувствовал это «отрезвляющее» действие статьи гр. Толстого, и оно отозвалось на всех моих работах последнего времени, на всей моей деятельности 80—90 годов»209.
Другой видный сторонник звукового метода и наглядного обучения, Д. И. Тихомиров, пытавшийся доказать «огульную несостоятельность» всей статьи Толстого, впоследствии также отказался от этого мнения и признал благотворное влияние этой статьи на педагогов «новейшей формации».
«Всего более, — писал Тихомиров в 1910 году, — значительны были результаты [статьи «О народном образовании»] для педагогических кругов деятелей «новой» школы: мощный удар Л. Н. Толстого не прошел бесследно. «Новая» школа на первых порах действительно с излишком увлеклась разработкой и применением на деле новых методов и приемов школьного обучения в ущерб существу дела — воспитывающему содержанию учения. После «урока» Л. Н. Толстого школа стала отрезвляться от своих увлечений»210.
Позднейшая же критика так оценивала значение статьи Толстого:
«Статья Толстого открыла русскому обществу глаза на те слабые стороны, которые сознавались и самими русскими педагогами, — по крайней мере, наиболее просвещенными из них. В частности, отрезвляющее действие статьи Толстого коснулось
187
наглядного обучения и приемов обучения грамоте и счету... Толстовская критика не убила звукового метода, но заставила даже наиболее рьяных его сторонников признать трудность слияния звуков и необходимость усовершенствования этого метода. А это признание впоследствии вызвало поход против упражнений в звукослиянии, а потом и отрицательное отношение к звуковому методу. Наконец, в области преподавания арифметики Толстой оказался если не первым, то одним из первых противников метода Грубе, который скоро в России и в Германии был признан нерациональным и устаревшим...
Эта статья, действительно, произвела «бурю», которая много содействовала освежению русской педагогической атмосферы и освобождению русской педагогической мысли от чрезмерного подчинения немецкому влиянию»211.
XX
Отправив в «Отечественные записки» 30 августа статью «О народном образовании», Толстой почувствовал себя свободным и попробовал вновь приняться за начатый роман. В тот же день он писал Страхову: «Роман мой еще не двигается, но благодаря вам я верю, что его стоит окончить, и надеюсь это сделать нынешним годом»212.
Приехав около 9 сентября в Москву в поисках гувернера к детям, Толстой снес написанные главы в типографию. 10 сентября он уведомляет Страхова, что просил типографию прислать ему — Страхову — корректуры сданных новых глав романа. «Вы и поощряли меня печатать и кончать этот роман, вы и избавьте его от безобразий», — пишет Толстой. И тут же делает характерную оговорку: «Погода так хороша, и всяких хлопот у меня так много, что я и не смею думать о работе. Попробовал приняться, но так напутал, что должен был бросить»213.
Быть может, здесь идет речь о главах, сданных в набор, но, может быть, говорится о каком-то продолжении этих глав, которым Толстой остался до такой степени недоволен, что даже не сдал их в печать.
Страхов немедленно прочитал и отослал обратно в типографию полученный им новый (пятый) лист «Анны Карениной», проставив на нем дату — 17 сентября 1874 года.
26 сентября Толстой, уведомляя Страхова о том, что ему посланы из типографии корректуры первых четырех листов «Анны Карениной», писал: «Я расстроен и хлопотами, и детьми, при которых у меня нет теперь учителя, и здоровьем, что как на
188
чужое чье-то дело смотрю на этот роман». Однако далее Толстой оговаривается: «Впрочем, себя не знаешь». Но тут же оговорка и противоположного характера: «Да и погода очень хороша» (чтобы можно было усердно засесть за работу над романом)214.
Вскоре печатанье романа отдельным изданием было окончательно прекращено.
В течение октября и ноября 1874 года Толстой не брался за «Анну Каренину». Волна педагогической деятельности, на этот раз не теоретической, а исключительно практической: работа в качестве члена Училищного совета Крапивенской и Чернской уездных земских управ — вновь захлестнула его.
По Положениям 1864 и 1874 гг. училищные советы уездных земств должны были состоять из пяти членов, в том числе одного — от Министерства народного просвещения по назначению попечителя учебного округа, одного — от Министерства внутренних дел по назначению губернатора, одного — от епархиального ведомства по назначению архиерея и двух — от земства по выборам уездного земского собрания. Председательство в Училищном совете возлагалось на предводителя дворянства. Толстой был членом Училищного совета Крапивенского земства по выборам и, очевидно, фактически исполнял все обязанности председателя.
22 октября Толстой писал Фету, что он «завален делами школьными»215. А. А. Толстой он писал в последних числах октября: «Роман мой, действительно, начат печатанием. Но вот уж месяца четыре стоит, и я не имею времени продолжать исправлять»216.
«За роман я не берусь», — писал Толстой П. Д. Голохвастову в первых числах ноября217.
Страхову, жаждавшему увидеть в печати и прочесть продолжение «Анны Карениной», Толстой писал 4 ноября: «Виноват, что не посылаю корректур романа. Не могу и не могу за него взяться. Die Sorge [забота. Толстому вспомнилась сцена «Полночь» из второй части «Фауста», где действуют аллегорические фигуры: Нужда, Вина, Бедность, Забота] одолела меня».
Далее Толстой писал, что, пользуясь своим положением члена Училищного совета, он хочет «в больших размерах» осуществить мысль об улучшении преподавания в народной школе. Перечислив другие педагогические работы, которыми он занят, и зная, что Страхов не сочувствует его занятиям педагогикой. Толстой писал: «Вы будете бранить меня за это, но поверьте, что наш брат не может владеть собой... Я так устроен, что не
189
могу задавать себе работы, а всегда работа, какая бы то ни было, охватывает меня и влечет куда-то». И Толстой уверяет, что всякое отклонение от основного направления его жизненного пути в конце концов выводит его на ту же главную дорогу жизни. Он говорит: «Иногда, как и теперь, мне кажется, рассуждая, что совсем не туда, куда надо, меня несет, но я опытом знаю, что это только река загнулась, и мне кажется, что назад поехал, а знаю, что она вынесет, куда надо».
Но далее Толстой сообщал, что намерен предложить свой роман «Русскому вестнику» — отчасти для того, чтобы получить деньги, нужные для покупки земли, «округляющей именье», а отчасти и для того, чтобы «себя этим связать» и кончить роман218.
Крупным мероприятием в деятельности Толстого по народному образованию была рассылка Крапивенским училищным советом в половине ноября 1874 года по волостным правлениям и церковным приходам обращения, имевшего целью способствовать увеличению числа школ в уезде и поднятию в них уровня образования. Об этом мероприятии Толстой подробно рассказал в письме к деятелю Общества распространения грамотности в Нижегородской губернии А. С. Гацисскому, написанном в марте 1875 года. Из этого письма узнаем, что в своем обращении Крапивенский училищный совет предлагал всем лицам, занимающимся обучением детей, сообщить в Училищный совет о количестве обучающихся у них учеников и о получаемом вознаграждении с тем, чтобы Училищный совет мог в меру своих средств делать надбавки учителям и снабжать школы наглядными пособиями. Лицам, желающим обучать крестьянских детей, рекомендовалось устраивать школы и заявлять об этом Училищному совету для получения вознаграждения. Училищный совет обещал доставлять учителей в те школы, которые будут открыты крестьянскими обществами.
Благодаря этому обращению число школ в Крапивенском уезде за три месяца с 18 возросло до 64, а число учащихся — с 956 до 2017.
Все вновь возникшие школы были подчинены ранее занимавшимся «более или менее надежным» учителям, которые за вознаграждение были обязаны раз в неделю посещать подведомственные им школы.
Но учителей не хватало, и по предложению Толстого Училищный совет через волостные правления предложил «всем хорошо грамотным молодым крестьянам, желающим занять места учителей, заявлять о себе Училищному совету». «Мера эта, — писал Толстой А. С. Гацисскому, — превзошла все ожидания Совета. В настоящее время большое число вновь открытых школ
190
замещено учителями из молодых крестьян, оказавшимися в высшей степени ревностными, понятливыми, нравственными и постоянно совершенствующимися учителями». Этих учителей на некоторое время (иногда на несколько дней, а иногда на неделю, две, три) оставляли при яснополянской школе, где они утрами практиковались в приемах обучения грамоте, а вечерами занимались с учителем арифметикой и грамматикой219.
Толстой вновь открыл школу в своем доме.
8 ноября Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской: «Левочка свой роман продает в журнал, просит по 500 рублей за лист, и, верно, дадут. Но он не занимается, а очень пристрастился к школам и занят весь этим делом, я его почти не вижу, или он в школе, или на охоте, или внизу, в кабинете с учителями, которых он обучает, как учить».
О том же Софья Андреевна писала и брату С. А. Берсу 20 ноября: «Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, т. е. где будут образовывать учителей для народных школ, и все это его занимает с утра до вечера. Я с недоумением смотрю на все это, мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не на писание романа. И я не понимаю, до какой степени полезно это, так как вся эта деятельность распространится на маленький уголок России — Крапивенский уезд»220.
Но Толстой не обращал никакого внимания на недовольство жены и продолжал со всею страстностью своей кипучей натуры отдаваться любимому делу.
Он подыскивал учителей для школ, выписывал книги и учебные пособия, следил за успехами учеников; по его предложению Крапивенский училищный совет в октябре 1874 года разослал священникам уезда бумагу, в которой приглашал их склонять прихожан открывать школы и принимать на себя, вместе с прочими церковниками, должности учителей в этих школах.
«Образование учителей из крестьянских домохозяев» в «хороших» школах, где бы они могли заниматься практически и получать указания для своего дальнейшего самообразования, Толстой считал более полезным для дела народного образования, чем обучение в учительских семинариях, «где крестьяне утрачивают и простоту привычек и простоту приемов и языка».
Рекомендуя А. С. Гацисскому испробованный им порядок подготовки народных учителей, Толстой прибавлял, что он «был бы счастлив» содействовать Обществу распространения грамотности в Нижегородской губернии «разъяснениями, подробностями..., в особенности же указаниями того, что существует в Крапивенском уезде».
191
XXI
10 декабря 1874 года С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Роман не пишется, а из всех редакций так и сыплются письма: десять тысяч вперед и по пятьсот рублей серебром за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается».
Нам известно такое предложение относительно «Анны Карениной» только одного журнала — «Русского вестника».
(Страхов 8 ноября сообщал Толстому, что Некрасов просил его передать Толстому предложение о печатании его романа в «Отечественных записках» и даже содействовать с своей стороны, «так как Толстой, де, человек своеобычный, пожалуй заупрямится». Но Страхов, не сочувствуя направлению «Отечественных записок», не согласился уговаривать Толстого в пользу Некрасова. Вопрос о гонораре в разговоре Некрасова со Страховым не ставился221. Достоевскому за роман «Подросток» Некрасов заплатил в 1874 году по 250 рублей за печатный лист).
«А мне бог с ними, с деньгами, — писала далее С. А. Толстая в том же письме, — а просто то его дело, т. е. писание романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно; а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и притворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то недостает, — чего-то, что я любила, и это именно недостает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уважение».
11 декабря Толстой поехал в Москву. Здесь он заключил условие с Катковым о печатании «Анны Карениной» в «Русском вестнике». Он получил 10 тысяч рублей вперед за двадцать листов романа, считая по 500 рублей за печатный лист. Вероятно, тогда же Толстой отдал Каткову для набора первый лист приостановленного отдельного издания «Анны Карениной». Толстой передал свой роман в «Русский вестник» не потому, чтобы сочувствовал направлению этого журнала, а только потому, что в отношении гонорара он сошелся с «Русским вестником». Когда П. Д. Голохвастов в не дошедшем до нас письме, по-видимому, выразил Толстому свое недоумение относительно того, как статья «О народном образовании» попала в «Отечественные записки»222, Толстой в конце сентября 1874 года ответил
192
ему: «Что делать, журнала не гадкого нет, и «Отечественные записки» гадки своей гадостью, и «Русский вестник» своей, противоположной той гадости, а середины нет»223.
Но и заключив условие, Толстой не сразу принялся за просмотр и продолжение романа. Еще 23 декабря, извещая Страхова о заключении условия с «Русским вестником», Толстой оговаривался, что продолжает свои педагогические занятия и не имеет «духа приняться за роман»224. Вероятно, в тот же день он писал и А. А. Толстой: «Роман свой я обещал напечатать в «Русском вестнике», но никак не могу оторваться до сих пор от живых людей, чтобы заняться воображаемыми»225.
«Я теперь, — писал Толстой в том же письме, — весь из отвлеченной педагогики перескочил в практическое, с одной стороны, и в самое отвлеченное, с другой стороны, дело школ в нашем уезде. И полюбил опять, как 14 лет тому назад, эти тысячи ребятишек, с которыми я имею дело... Я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить. И тонет тут самое дорогое, — именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе».
Тот же взгляд на цель школы Толстой высказал в письме к С. А. Рачинскому от 5 апреля 1877 года: «Учить этих детей надо затем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором они плывут, и не спасения, — они, может быть, лучше нас приплывут, — а такое орудие, посредством которого они пристанут к нашему берегу, если хотят. Я не мог и не могу войти в школу и в сношения с мальчиками, чтобы не испытать прямо физического беспокойства, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского и как бы узнать, кому что нужно»226.
«И дело у меня идет хорошо, очень хорошо, — писал Лев Николаевич А. А. Толстой в том же письме. — Я вижу, что делаю дело, и двигаюсь вперед гораздо быстрее, чем я ожидал».
193
22 декабря министр народного просвещения граф Д. А. Толстой ответил наконец на письмо к нему Толстого от 18 апреля. Он писал, что министерство «почтет долгом рассмотреть» программу и план преподавания в народных школах, а также и план образования самих учителей для этих школ, если эти планы будут сообщены Толстым»227. Но Толстой к тому времени развернул такую широкую деятельность в школах Крапивенского уезда, что не имел никакой нужды в одобрении его программы Министерством народного просвещения. На письмо министра он не ответил.
XXII
Во второй половине декабря Толстой увлекся чтением, — а это часто бывало с ним перед новым приступом к художественной работе. Он прочел только что вышедшую тогда магистерскую диссертацию Владимира Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов», которая, как писал он Страхову 23 декабря, ему «очень понравилась». Но в работе Соловьева Толстой усмотрел один крупный недостаток — наличие «гегелевской зловредной фразеологии». «Вдруг с бух да барахты является в конце статьи какой-то дух, мне очень противный и давно знакомый». Тем не менее автор диссертации представился Толстому оригинальным и самобытным мыслителем, которых он так редко встречал в своей жизни. «Это еще один человек, — писал Толстой Страхову, — прибыл к тому малому полку русских людей, которые позволяют себе думать своим умом. Я уже насчитываю теперь пятерых таких»228. (К этим пятерым русским людям, позволяющим себе «думать своим умом», Толстой относил, кроме Соловьева, также Н. Н. Страхова, А. А. Фета, Ю. Ф. Самарина и, возможно, С. С. Урусова).
Только 4 января 1875 года Толстой отправил Каткову для нового набора исправленные следующие три листа корректур приостановленного отдельного издания «Анны Карениной».
Печатанье «Анны Карениной» началось с январского номера «Русского вестника» 1875 года. В этом номере были напечатаны первые 14 глав первой части романа.
13 февраля Н. Н. Страхов писал Толстому:
«Напишу Вам несколько строк, бесценный Лев Николаевич, чтобы известить о впечатлении, производимом „Анною Карениной“. Какое-то очарование! Я видел ученых людей, которые чуть не прыгали от восторга. Ах, как хорошо! Ах, как хорошо! Можно же так хорошо писать!»
194
И в самом деле, этот чистый, ясный, как кристалл, рассказ, в котором все видишь, как на картине, где все и верно и ново, производит вполне все то неотразимое действие, какое свойственно художеству.
Зато находятся скептики и серьезные люди, которые недоумевают и угрюмо допрашивают: «Да что же тут важного, особенного? Все самое обыкновенное. Тут описывается любовь, бал — то, что тысячу раз описано. И никакой идеи!» и пр. и пр.
Но публику вы поймали — дело кончено. Я, признаюсь, сам не думал, что эти первые главы так хороши; только перечитывая их в «Русском вестнике», я понял, как это бесподобно. Сегодня у нас в Публичной библиотеке разбиралось дело одного читателя, который поссорился из-за книжки «Русского вестника» с дежурным по зале и записал в жалобную книгу, что тот, верно, сам читает и оттого не выдает ему „Русского вестника“»229.
Второе письмо с отзывом об «Анне Карениной» было получено Толстым от его знакомого с 1861 года, профессора ботаники С. А. Рачинского, в то время уже оставившего Московский университет и целиком посвятившего себя работе в народной школе. Письмо неизвестно, но очевидно, что и это письмо содержало похвалы роману, так как в ответном письме от 21 февраля Толстой писал, что сначала, не разобрав подписи, он подумал, что письмо написал какой-то незнакомый ему, но «умный и тонко и верно чувствующий» человек, и был разочарован, разобрав подпись давно и хорошо знакомого ему автора письма230.
Фет в середине февраля писал Толстому:
«Что сказать про художественное мастерство целого? Про простую столярную работу. Какое мастерство вводить новые лица! Какое прелестное описание бала! Какой великолепный замысел сюжета! Герой Левин — это Лев Николаевич человек (не поэт), тут и В. Перфильев, и рассудительный Сухотин, и все и вся, но возведенное в перл созданья. Я хохотал, как дурак, когда Левин, с отчаяния, побежал, соскакивая, в коньках с лестницы...»231. (Фет догадывался, что прототипами Каренина и Облонского послужили его общие с Толстым знакомые: прототипом Каренина — С. М. Сухотин, а прототипом Облонского — В. С. Перфильев).
В ответе Страхову, написанном 16 февраля, Толстой признавался, что он «очень рад», что новый роман «не уронил» его репутации, и тут же прибавлял: «В успех большой я не верю. Знаю, как вам хочется, чтоб был большой успех, и он вам кажется. Да и я совершенно согласен с теми, которые не понимают, о чем тут говорить. Все так не просто (просто — это огромное и
195
трудно достигаемое достоинство, если оно есть), но низменно. Замысел такой частный. И успеха большого не может и не должно быть. Особенно первые главы, которые решительно слабы. Кроме того, и плохо отделано. Это я с болью вижу».
Далее Толстой сообщал Страхову о новом замысле: «Я задумал новую поэтическую работу, которая сильно радует, волнует меня и которая наверно будет написана, если бог даст жизни и здоровья, и для которой мне нужна моя известность».
В том же письме Толстой уведомлял Страхова о новом несчастье в их семье: младший сын, грудной Николенька, три недели тому назад «заболел мозговой болезнью» (менингит) и очень страдает. Для матери его постепенное умирание очень тяжело. Зная наверное, что ребенок не выживет, она продолжает его кормить, с тревогой ожидая или того, что он умрет, или что останется жить идиотом232.
20 февраля ребенок умер233.
В самый день похорон ребенка, 22 февраля, Толстой писал Фету в ответ на его письмо об «Анне Карениной»: «Вы хвалите Каренину, мне это очень приятно, да и, как я слышу, ее хвалят; но, наверное, никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, si succés il y a [если действительно есть успех], как я. С одной стороны, школьные дела, с другой — странное дело — сюжет нового писанья, овладевший мною именно в самое тяжелое время болезни ребенка, и самая эта болезнь и смерть»234.
Ни в письме к Страхову, ни в письме к Фету Толстой ни одним намеком не дает понять, в чем заключается тот «новый план» «поэтической работы», который «овладел» им в дни болезни и смерти ребенка. Некоторый намек на характер задуманного произведения дают слова Толстого в письме к Страхову о том, что для того, чтобы это произведение было написано, ему нужна его «известность». Каким образом известность могла оказаться нужной Толстому для того, чтобы он мог написать художественное произведение? Наиболее вероятными представляются два предположения: или у Толстого возник замысел романа из эпохи XVIII века, для которого ему нужно было получить доступ к никому в то время не доступным государственным архивам; или это было возвращение к оставленному пятнадцать лет назад роману о декабристах, для продолжения которого Толстому
196
нужны были следственные и судебные дела декабристов, также хранившиеся в государственных архивах. Как известно, в 1878—1879 годах Толстой пытался осуществить оба эти замысла.
XXIII
24 февраля 1875 года Толстой отправил в редакцию «Русского вестника» для второй книжки журнала корректуры продолжения романа. Отосланы были XV—XXVII главы первой части и I—X главы второй части «Анны Карениной».
В тот же день Толстой ответил Страхову на его письмо от 13 февраля. Он писал, что письмо Страхова «раззадорило» в нем «авторское самолюбие» и что в посылаемом им продолжении романа для второй книжки он «многим недоволен». Он перечисляет эти «слабые места»: «приезд Анны домой и дома; разговор в семье Щербацких после доктора до объяснения сестер; салон в Петербурге». Он просит Страхова: «Если попадут на эти места осуждения, то сообщите, пожалуйста»235.
Страхов ответил 21 марта. Он писал по поводу глав «Анны Карениной», напечатанных в февральской книжке «Русского вестника»: «Волнение не уменьшается; сначала я думал, что второй выпуск имеет меньший успех, но теперь думаю, что даже больший. Толки такие разнообразные, что всего не перескажешь. Упрекают Вас в цинизме, за осмотр Кити, за сцену падения; но те, кто поумнее (например, Н. Я. Данилевский), приходят в восторг (настоящий восторг) от Вашей целомудренности: выпущены все подробности соблазна и рассказ начинается с той минуты, когда уже чувствуется стыд и раскаяние. О «слабых местах», которые Вы указываете, никто и не говорит. Сегодня же вечером я слышал очень умное суждение: объективность так велика у Вас, что становится страшно за нравственный суд Ваш над лицами; в этом отношении «Война и мир» понятнее, проще — так это, конечно, и есть. Прогрессисты — Стасов, Полонский удивляются, что Анна чувствует угрызение стыда и полагают, что Вы поэтому защитник старой морали. Эти старые, седые дураки и рассердили меня и разжалобили собою. Что же делается в этих головах, и что они вынесли из жизни, если полагают, что нормальная женщина при падении ничего не должна чувствовать, кроме удовольствия? Эти именно слова мне сказал Стасов.
Продолжайте, Лев Николаевич. Вы, очевидно, не можете себе представить впечатления, которое производите. То, что для Вас просто и ясно, так что Вы боитесь наскучить, для других и ново и поразительно. Тот взгляд на вещи, с которым Вы сжились,
197
который стал Вашею натурою, есть уже большая мудрость и откровение. И самое то, что Вы высокомерно смотрите на свое произведение, придает ему удивительную строгость и глубину»236. Между тем Толстой уже значительно охладел к начатому им с таким подъемом роману, и ему нужно было делать над собою усилие, чтобы продолжать его. Страхов в письме к Толстому от 23 июля 1874 года объяснял это охлаждение стихами Пушкина из «Разговора книгопродавца с поэтом»:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит,бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье237.
16 марта Толстой пишет Н. М. Нагорнову, что ежедневно получает от Каткова телеграммы с просьбой выслать продолжение «Анны Карениной», которая ему «противна»238. Но делать было нечего: условие с «Русским вестником» было заключено, и Толстой, хотя и с усилием, принимался за работу.
22 марта С. А. Толстая писала брату А. А. Берсу: «Левочка тебе не пишет, потому что страшно спешит к третьему номеру «Русского вестника» окончить свою работу романа»239.
В мартовском номере журнала появились XI—XXVII главы второй части «Анны Карениной». Перед отсылкой Каткову этих глав Толстой 22 марта писал ему: «В присылаемых теперь главах речь идет о [пропуск в копии, — вероятно, у Толстого было написано «Петергофе»] и местностях под Петербургом, которые я плохо помню. Я боюсь, что там географические ошибки. Будьте так добры, поправьте, если они есть»240.
В апрельской книжке журнала были напечатаны XXVIII—XXXI главы второй части и I—X главы третьей части «Анны Карениной».
На этом печатанье романа прекратилось до января следующего года.
XXIV
В феврале 1875 года Толстому представился случай высказаться по очень волновавшему его в то время вопросу — о языке литературы для народа, в данном случае — о языке народного журнала.
Баронесса Е. И. Менгден, которой Толстой увлекался некоторое время в годы молодости, в письме от 5 февраля просила
198
Софью Андреевну узнать мнение Льва Николаевича о журнале для народа под названием «Русский рабочий», который предполагала издавать их общая знакомая М. Г. Пейкер. Е. И. Менгден писала, что, вопреки названию, в этом журнале ничего не будет говориться о русских рабочих, журнал будет всецело посвящен пропаганде религиозного евангелического учения лорда Рэдстока, имевшего большое распространение в аристократических салонах Петербурга.
Так как Софья Андреевна в то время была целиком поглощена уходом за тяжело больным ребенком, Толстой сам ответил на письмо Е. И. Менгден.
Совершенно не касаясь учения лорда Рэдстока, к которому он относился отрицательно, Толстой все свое письмо посвятил вопросу о том, каким должен быть, по его мнению, народный журнал. Вот что писал Толстой в этом замечательном письме:
«Я потому только мало сочувствую народному журналу, что я слишком ему сочувствую и убежден, что те, которые за него возьмутся, будут à cent mille lieues [за сто тысяч миль] от того, что нужно для народа. Мои требования, льщу себя надеждой, одинакие с требованиями народа, те, чтобы журнал был понятен, а этого-то и не будет. Понятность, доступность есть не только необходимое условие для того, чтобы народ читал охотно, но это есть, по моему убеждению, узда для того, чтобы не было в журнале глупого, неуместного и бездарного. Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам: пишите, что хотите, проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру, протестантизм, что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры из типографии; и я уверен, что кроме честного, здравого и хорошего, ничего не было бы в журнале. Я не шучу и не желаю говорить парадоксы, а твердо знаю это из опыта. Совершенно простым и понятным языком ничего дурного нельзя будет написать. Все безнравственное представится столь безобразным, что сейчас будет отброшено; всё сектаторское, протестантское ли, хлыстовское ли, явится столь ложным, если будет высказано без непонятных фраз, все мнимо-поучительное, популярно-научное, но не серьезное и большей частью ложное, чем всегда переполняются народные журналы, тоже без фраз, а выраженное понятным языком, покажется столь глупо и бедно, что тоже откинется. Если народный журнал серьезно хочет быть народным журналом, то ему надо только стараться быть понятным, и достигнуть этого нетрудно: с одной стороны, стоит только пропускать все статьи через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок. Если ни на одном слове чтецы не остановятся, не поняв, то статья прекрасна. Если же, прочтя статью, никто из них не может рассказать, про что прочли, статья никуда не годится.
199
Я истинно сочувствую народному журналу и надеюсь, что вы отчасти согласитесь со мною, и потому говорю всё это. Но знаю тоже, что 999/1000 сочтут мои слова или просто глупостью, или желанием оригинальничать; тогда как я, напротив, в издании дамами журнала для народа, дамами, и думающими и говорящими не по-русски и без желания справиться с тем, понимает ли их народ, вижу самую странную и забавную шутку. Я сказал, понятности достигнуть очень легко, с одной стороны — стоит только в рукописях читать или давать читать народу; но, с другой стороны, издавать журнал понятный очень трудно. Трудно потому, что окажется очень мало материалу. Будет беспрестанно оказываться то, что статья, признанная charmant [прелестной] в кругу редакции, как скоро она прочтется в кухне, будет признана никуда не годной, или что из 30 листов слов окажется дела 10 строчек»241.
К марту 1875 года относится первая попытка Толстого организовать издание книг для народа — точнее говоря, первые шаги для организации этого издания.
История этой попытки такова.
22 ноября 1874 года Толстой, по рекомендации П. Д. Голохвастова, обратился к знатоку житийной литературы архимандриту Леониду Кавелину с письмом, в котором изложил свои взгляды на издание для народа сборника «наилучших, наинароднейших» житий святых, выбранных из Четьи-Миней митрополита Макария и Дмитрия Ростовского, а также из древнего Патерика. Он находил желательным, чтобы «по внутреннему содержанию» книга начиналась бы с описания «более доступных простых подвигов, как мученичество», и доходила бы до жизней «более сложных, как подвиги архипастырей церкви, действующих не для одного своего спасения, а для блага общего». Что же касается языка задуманной книги, то Толстой высказывался за «удобопонятность», и «сложный язык» готов был допустить только в том случае, когда он «живописен и красив, каким он бывает часто у Дмитрия Ростовского»242.
По-видимому, к тому же времени — к ноябрю 1874 года — относится и попытка самого Толстого изложить для народного читателя одно житие, озаглавленное им «Житие и страдание мученика Юстина Философа»243.
Интересны стиль и язык этого «Жития». Толстой в изобилии пользуется народными словами и выражениями, как, например: «родитель его», «пожимши у философа», «однова прохаживаясь один», «увидал он незнамого человека» и др. И в то же время в житии находим целый ряд книжных выражений, в том
200
числе: «просветить верою», «был отдан в книжное учение», «возжелал он философии», «чтоб узнать их мудрование», «прозрел его как лихоимца» и т. д.
Толстой, по-видимому, намеренно оставлял в своем изложении эти книжные, близкие к церковно-славянскому языку выражения, употребляемые авторами житий, так как он знал, что любителям «божественного» чтения в русском народе нравился такой торжественный, выспренний тон «божественных» книжек244.
Архимандрит Леонид ответил Толстому на его письмо только 14 марта 1875 года. Выражая сочувствие мысли Толстого об издании для народа избранных житий, Леонид вместе с тем предложил другой план — издания избранных мест из памятников древнерусской литературы.
В ответном письме, написанном вскоре по получении письма Леонида, Толстой высказал полное сочувствие предложенному им плану, выражая готовность «посвятить на это дело» свои «силы, знания и средства» и способствовать основанию общества для осуществления этого издания, при условии, если Леонид возьмет на себя труд произвести извлечения из памятников древнерусской литературы и сопроводить их необходимыми пояснениями.
Тут же Толстой прибавлял, что, прочтя присланное Леонидом его исследование о сочинениях известного священника Благовещенского собора Сильвестра, он догадывается, «какие сокровища, подобных которым не имеет ни один народ, таятся в нашей древней литературе»245. Такое мнение о древней русской литературе составилось у Толстого еще в период его занятий в яснополянской школе, когда он увидел, что «летописи и все без исключения памятники древней литературы», так же как и все произведения народного творчества, читаются крестьянскими школьниками с «постоянной новой охотой»246.
Ответного письма архимандрита Леонида в архиве Толстого не имеется. По-видимому, он не решился взять на себя большой труд, предложенный Толстым, переписка его с Толстым оборвалась, и издание для народного чтения извлечений из памятников древнерусской литературы не осуществилось.
201
XXV
Напряженная работа над «Анной Карениной» не отвлекала Толстого от другого дела, которому он горячо отдавался в то время, — от занятия народными школами.
Выше уже была приведена выдержка из письма Толстого к Фету от 20 февраля 1875 года о том, что школьные дела больше интересуют его, чем судьба «Анны Карениной». Страхову Толстой писал 16 февраля, что у него есть «практическая деятельность» — «руководство 70-ю школами, которые открылись в нашем уезде и идут удивительно»247. В марте Толстой писал П. Д. Голохвастову, что он ведет «практическое дело» в уезде, «результаты которого очень хороши»248.
Занимаясь школьным делом, Толстой обратил внимание на то, что не существует ни одного учебника, в котором бы понятным крестьянским детям языком излагались основные начала грамматики русского языка. И он решил сам составить такой учебник.
Первая редакция «Грамматики для сельской школы» имеет проставленную автором перед заглавием дату: «20 апреля 1874».
В начале мая 1874 года работа над составлением грамматики вчерне была закончена. 10 мая Толстой писал Страхову: «Последнее время занимался — чем бы вы думали? Грамматикой, и составил, как мне кажется, для народных школ такое, какое нужно, руководство этимологии и синтаксиса. Т. е. составил в голове и кратких записках для себя; но уже испытываю это в своей школе, и кажется, что хорошо»249.
Затем последовал перерыв до осени.
А. А. Толстой в конце октября250, Страхову 4 ноября251, ему же 23 декабря252 Толстой сообщал о продолжении занятий по составлению грамматики. Затем, вероятно, опять последовал некоторый перерыв, и работа возобновилась только в апреле 1875 года (несколько черновых текстов «Грамматики для сельской школы» написаны на чистых листах писем, полученных Толстым и его женой в этом месяце).
«Грамматика для сельской школы» состоит из двух частей. «Как слова переменяются (Этимология)» и «Как слова соединяются (Синтаксис)». Сохранились три редакции «Этимологии» и шесть редакций «Синтаксиса», причем вторая редакция «Синтаксиса» сохранилась в семи вариантах.
202
Огромная трудность работы над «Грамматикой» состояла в том, чтобы вполне доступным крестьянским детям языком дать представление о всех частях речи, их изменениях и соединениях. Все объяснения сопровождались примерами, взятыми или из литературы, или из окружающей деревенского школьника жизни. Приведем несколько образцов данных Толстым объяснений названий частей речи и их изменений.
После небольшой басни «Лисица и лев» дается следующее объяснение названий падежей:
«Когда слово стоит без перемены: волк, лисица, мужик, то слово стоит в 1-м, именительном падеже, и чтобы помнить — спроси: как имя такому человеку, зверю, вещи или делу? и будет именительный падеж. Мужик, волк, лисица, вода, работа.
Когда имя стоит так, как он стояло в словах: от лисицы и у мужика, тогда оно стоит во 2-ом, родительном падеже, и чтобы помнить — спроси: от кого родился? или от чего сделалось? — от мужика, волка, лисицы, воды, работы.
Когда имя стоит так, как оно стоит: львице больше чести, и пришло в голову мужику, то оно стоит в дательном падеже, и чтобы помнить — спроси: кому дать? или к кому идти? — львице, лисице, мужику, к мужику, волку, воде, работе».
Различие между существительными и прилагательными поясняется следующими примерами:
«К какому слову ни прикладывай слово лев, оно все будет мужское. К какому слову ни прикладывай слово волк, оно все будет мужское. К какому слову ни прикладывай слово лисица, оно все будет женское. Но если приложить имя старый к мужескому имени, то будет старый Иван, а к женскому — старая Марья. Стало быть, лев, волк, лисица не переменяются по родам, а слово старый переменяется по родам.
Имена, которые переменяются, когда прикладываются к мужскому или женскому имени, называются прилагательными. А те, которые не переменяются по родам, называются существительные и местоимения».
«Непеременные слова» и их различия объясняются следующим образом:
«Настоящие непеременные слова есть такие, которые не говорят, а кричат. Ах, ну, ахти. Эти слова называются междометия. Эти слова всегда ставятся отдельно и с восклицательным знаком. Их немного. Ах, ай, ой, ух, эх, увы, ну и др.».
«Словечки, которые нельзя сказать отдельно, бывают двух родов. Одни такие, что если их приставить к имю, то имя переменится в падеже. Такие словечки: на, в, к, с, от, из. Эти словечки называются предлоги...
Другие словечки такие, что если их приставить к имю, то имя не переменится. Такие словечки: и, или, но, если, да. И словечки эти называются союзы».
203
Без сомнения, Толстой положил так много труда на составление «Грамматики для сельской школы» не только потому, что ему хотелось дать в руки крестьянскому мальчику хороший учебник грамматики, но также и потому, что он сам увлекся мыслью — простым, понятным языком изложить всегда его занимавшие законы языка.
Интересен состав литературных произведений, помещенных Толстым в качестве материала для изучения русской грамматики. Кроме своих рассказов и басен, частью взятых из «Азбуки», частью написанных специально для «Грамматики», Толстой воспользовался произведениями только одного русского классического поэта — Крылова. В «Грамматике» помещены три басни Крылова: «Волк на псарне», «Кот и повар» и «Лебедь, щука и рак». Между тем известно, что Толстой не раз высказывался отрицательно о языке басен Крылова, находя его искусственным.
В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862) Толстой называл язык басен Крылова «каким-то не русским, а вновь изобретенным, будто народным»253. В другой педагогической статье, написанной тогда же, «Об общественной деятельности на поприще народного образования», Толстой иронически отозвался о языке басни Крылова «Две бочки»254. В письме к Страхову от 28 января 1878 года Толстой упрекал Крылова за «фальшивое простонародничанье» и в то же время признавал, что в его баснях, как и в стихах Некрасова, заметно «настоящее присутствие золота, хотя и в малой пропорции и в не подлежащей очищению смеси»255. Позднее Толстой в разговоре резко критиковал язык басни «Кот и повар»256.
Если, несмотря на эти признаваемые им недостатки языка, Толстой поместил в свою «Грамматику для сельской школы» три басни Крылова, то, очевидно, он это сделал потому, что все-таки не нашел в русской литературе более подходящих образцов для объяснения крестьянским детям основ русской грамматики.
Несмотря на огромный труд, положенный Толстым на составление общедоступной грамматики русского языка, он не считал свою работу законченной и не отдал ее в печать. Вероятно, он предполагал впоследствии вернуться к этой работе, но его увлекли другие занятия, и «Грамматика для сельской школы» осталась недоработанной и не напечатанной при жизни автора257.
204
В письмах Толстого к Страхову от 4 ноября 1874 г.258 и от 16 февраля 1875 года259, а также в письме С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 10 декабря 1874 года упоминается еще о составлении Толстым задачника к его «Арифметике», но никаких рукописей, относящихся к этой работе, в архиве Толстого не сохранилось.
XXVI
В начале июня 1874 года, отвечая Страхову на какое-то его не дошедшее до нас письмо, Толстой писал: «Вы, как истинный друг, поняли мое самое чувствительное место и хотите мне помочь».
Далее Толстой говорит, что он находится «в чрезвычайно странном положении относительно своей педагогической деятельности». «Я знаю, что это останется одно из всего моего, но мне хочется порадоваться самому на результаты». И затем пишет, что посылает письмо к нему академика Буняковского с отзывом об «Арифметике», написанное в 1872 году260.
Упоминание о письме Буняковского дает ключ к пониманию неизвестного нам письма Страхова, на которое отвечал Толстой.
Страхов в то время был членом Ученого комитета Министерства народного просвещения; очевидно, он брался поставить перед Комитетом вопрос о рекомендации для начальных народных училищ «Азбуки» Толстого. Для этого и понадобился отзыв Буняковского об «Арифметике», входящей в состав «Азбуки».
Толстому было и грустно и досадно, что его книга для первоначального обучения и детского чтения, на которую он положил столько труда, не была допущена в народные школы. Поэтому-то так тронуло его предложение Страхова.
Страхову в значительной степени удалось достигнуть своей цели.
Толстой еще в 1873 году для лучшего распространения «Азбуки» разброшировал ее на 12 отдельных книжек в таком составе: азбука в собственном смысле слова, четыре русские и четыре славянские книги для чтения, две книги «Арифметики» и последняя книга — руководство для учителей («Общие замечания для учителя»).
Страхов представил в Ученый комитет эту разбитую на двенадцать книжек «Азбуку» Толстого, и Комитет принял постановление: одобрить для употребления в школах все русские и славянские книги для чтения, «Азбуку» (первая книжка) и
205
«Руководство для учителей» одобрить для употребления в учительских библиотеках. «Арифметика» не была одобрена ни для школ, ни для учительских библиотек.
Страхов в письме от 22 сентября сообщил Толстому решение Ученого комитета; при этом он по-прежнему настаивал на безнадежности борьбы Толстого с педагогами.
«Вывод для меня ясен, — писал он. — Все, что бы Вы ни предложили, будет отвергаться потому, что противоречит принятому и доказанному, и каждый пункт Вам уступят только с бою, то есть если Вы напишете столько же, как Бунаков, Евтушевский и т. п.»261.
То, что его «Арифметика» не была одобрена Ученым комитетом, не заставило Толстого переменить о ней свое мнение. 22 июля 1875 года, поручая своему комиссионеру Н. М. Нагорнову сделать в газетах объявление о продаже обоих изданий «Азбуки» — в одной книге и в 12 книжках, Толстой подчеркнул, что «нужнее всего» сделать объявление о продаже «Арифметики» в двух частях262.
Переизданий «Арифметики» при жизни Толстого не было.
Огорченный тем, что его азбука (первая книжка из тех двенадцати книг, на которые была разбита большая «Азбука») не была одобрена для употребления в народных школах, Толстой решил составить новую азбуку.
4 ноября Толстой писал Страхову, что намерен заняться «исправлением Азбуки для нового издания». Вскоре работа была начата и продолжалась и в декабре. «Всё занимаюсь Азбукой», — писал Толстой Страхову 23 декабря263.
В январе 1875 года работа была закончена, и книжка сдана в печать. Новая азбука так и была названа — «Новая азбука». В конце января — феврале — марте происходило чтение корректур; 12—18 мая книжка вышла в свет. В печати упрекали Толстого за дороговизну большой «Азбуки» (она стоила два рубля); Толстой решил пустить «Новую азбуку» как можно дешевле: за 14 копеек было дано 92 страницы текста, большею частью в два столбца. Для компактности издания Толстой даже не дал заглавий большинству помещенных в «Новой азбуке» маленьких рассказов.
Хотя Толстой и писал Страхову, что думал о «новом издании» своей «Азбуки», «Новая азбука» явилась не вторым изданием большой «Азбуки», а совершенно новой работой. Для «Новой азбуки» Толстым было написано более ста новых рассказов и сказок, начиная с удивительных трехстрочных рассказцев и кончая очень любимыми детьми, много раз переиздававшимися впоследствии рассказом «Филиппок» и сказкой «Три
206
медведя». Девять рассказов яснополянских ребят, включенных в «Азбуку», в «Новой азбуке» появились в переработанном виде.
В предисловии Толстой писал, что старался составить свою азбуку так, чтобы она годилась для обучения по всем способам. Материал для обучения чтению в «Новой азбуке» был расположен, как автор указывал в предисловии, в порядке «правильной постепенности от простого и легкого к сложному». Сначала даются понятные слова, произносящиеся так же, как пишутся; далее — соединения из самых простых слов, потом более сложные слова и соединения и, наконец, басни, сказки и рассказы.
Общее направление рассказов «Новой азбуки» характеризуется включенной в нее басней о белке и волке. Волк спрашивает белку: «Отчего вы, белки, так веселы? Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху все играете и прыгаете». Белка отвечает. «Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем».
Большинство органов печати встретило «Новую азбуку» очень сочувственно, неодобрительных отзывов появилось только два. Первый принадлежал постоянному антагонисту Толстого, критику «Дела» Н. В. Шелгунову, автору статьи о «Войне и мире», озаглавленной «Философия застоя», в которой за Толстым признавался только посредственный художественный талант; второй — С. Миропольскому, в 1875 году разгромленному Михайловским в статье о Толстом за его статью «Обучение русской грамоте».
«Новая азбука» Толстого, писал Шелгунов, «не больше, как старинный букварь, над которым заснет всякий ребенок». В рассказах «Новой азбуки» «вы не найдете ни одной оживляющей игривой мысли, ни иронии, ни шутки, ни смеха, ни задушевности, точно с вами беседует засохший школьный учитель. Граф Толстой дает необыкновенно сухое, не оживляющее чтение и вовсе не действует возбуждающим образом ни на внимание, ни на чувство, ни на воображение.. Ни одна мать, — патетически восклицал Шелгунов, — которая следит за правильным психическим развитием своего ребенка, не купит «Азбуки» графа Толстого, чтобы не делать путаницы в детской душе»264.
С. Миропольский в своей рецензии писал: «Прочтите «Новую азбуку» — какая сухая, тяжелая, бесцветная речь, как на всем лежит печать насильственной работы». По мнению Миропольского, отрывочные слова в «Новой азбуке» подобраны «положительно без всякой связи по смыслу и содержанию их». Далее следуют «неосмысленные, совершенно произвольно составленные
207
фразы с собственными именами — дичь невообразимая». Во всей книге рецензент нашел только четыре хороших рассказа: «Мужик нашел дорогой камень...», «Ноша», «Большая печка» «и пожалуй» (!) «Филиппок». По мнению Миропольского, «Новая азбука» не годится для школ265.
В противоположность Шелгунову и Миропольскому рецензенты, давшие положительные отзывы о «Новой азбуке», особенно подчеркивали достоинства включенных в нее малых и больших рассказов. Особенными похвалами встречен был язык книги.
«В начале книги, — писал рецензент «Учебно-воспитательной библиотеки», — автору приходится избегать длинных, многосложных слов, но даже тут нельзя заметить в языке ни малейшей натяжки: он так сжат и прост и изящен, как будто бы для автора не существовало никаких стеснений. Даже в отдельных предложениях уж есть содержательность и связь, например: «У Тани было горе. Тетя шила Тане шубу на меху. Меху было мало. Беда Тане. Зима, а шубы нету». Эти фразы короткие, будто отрывистые, но в сущности — вполне законченные рассказы... Внешняя сторона языка гр. Толстого — отсутствие придаточных предложений и союзов, а внутренняя — сжатость, меткость и выразительность... «Новая азбука» как книга для чтения, после прохождения всех звуков и букв, смело может быть рекомендована для учащих по всем способам и составляет в этом отношении драгоценное приобретение для нашей педагогической литературы»266.
«Мы делали опыт, — писали «Московские епархиальные ведомости», — давая читать статейки, помещенные в азбуке, детям до 5 лет, умеющим читать, и нашли их вполне доступными их пониманию и интересными для них. Дети, прочитав ту или другую статейку, прекрасно передавали ее содержание. Непонятного для них почти не встречается. Сверх того, дети так увлекались чтением «Новой азбуки», что нужно было останавливать их; без скуки и с интересом они читали страницу за страницею и торопили друг друга, чтобы каждому почитать новенькую книжку, в которой так все для них понятно и занимательно»267.
«„Новая азбука“, — писал рецензент газеты «Голос», — вполне удовлетворяет своему назначению; как книжка, составленная для первоначального обучения грамоте, она совершенно целесообразна и, по всей вероятности, найдет себе очень широкое применение в наших народных школах; отпечатана она прекрасно,
208
четким, крупным шрифтом, и замечательно дешева. За 14 коп. она дает матерьяла столько, сколько, как нам кажется, не дает ни одна из обращающихся азбук — а при средствах наших школ это много значит»268.
30 июня 1875 года Ученый комитет Министерства народного просвещения заслушал отзыв о «Новой азбуке» поэта А. Н. Майкова. «Граф Толстой, — писал А. Н. Майков в своем отзыве, — оказывает истинную услугу всем учащим и учащимся мастерски написанными... рассказами, понятными для детей всякого состояния... Кажется, не обинуясь можно сказать, что подобного материала для чтения не представляет ни одно из существующих руководств»269. На основании этого отзыва А. Н. Майкова Ученый комитет постановил: одобрить и рекомендовать «Новую азбуку» для всех учебных заведений, где обучение начинается с азбуки.
«Новая азбука» быстро вошла в употребление в народных школах. Уже в декабре 1875 года было отпечатано второе издание в количестве 48 тысяч экземпляров. Дальнейшие переиздания «Новой азбуки» продолжали выходить вплоть до 1910 года. Всего при жизни Толстого книжка выдержала 28 изданий. По данным 1903 года, 19, 20, 21, 22 и 23-е издания «Новой азбуки» (1894—1899) печатались в количестве 50 тысяч экземпляров, 24-е издание (1900 г.) — в количестве 100 тысяч экземпляров270.
В Полном собрании сочинений «Новая азбука» входит в состав 21-го тома. В комментариях к тому (стр. 607—623) указаны источники сказок и рассказов, включенных в «Новую азбуку»271.
Сборники отдельных коротких рассказов, входящих в состав «Новой азбуки», выпускаются большими тиражами Издательством детской художественной литературы. Так, сборник «Рассказы для маленьких детей» был издан в 1956 году в количестве 300 тысяч экземпляров, сборник «Маленькие рассказы» — в 1958 году в количестве 600 тысяч экземпляров, сборник «Для маленьких» в 1961 году — в количестве 200 тысяч
209
экземпляров, сборник «Рассказы для маленьких» в том же году — в количестве 200 тысяч экземпляров.
В октябре 1875 года вышли в свет четыре «Русские книги для чтения», составленные Толстым из материалов, входивших в состав его «Азбуки» 1872 года. Только для «Первой русской книги для чтения» ввиду меньшего объема этой книги были написаны двенадцать новых рассказов и басен. В тексте материалов, взятых из «Азбуки», Толстым были сделаны некоторые исправления, а в заглавиях некоторых рассказов произведены изменения, вызванные письмом Т. А. Кузминской к С. А. Толстой. Т. А. Кузминская писала, что обучая своих детей по «Азбуке» Толстого, она заметила, что, читая тот или другой рассказ из «Азбуки», написанный от первого лица, дети иногда недоумевают, кто передает этот рассказ. Толстой согласился с этим замечанием, и в «Первой русской книге для чтения» появились такие заголовки и подзаголовки: «Как тетушка рассказывала о том, как она выучилась шить», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза», «Как я в первый раз убил зайца. (Рассказ барина)» и др.
При жизни Толстого «Первая русская книга для чтения» выдержала 28 изданий (последнее издание — в 1909 году), «Вторая книга» — 29 изданий (последнее — в 1907 году), «Третья книга» — 25 изданий (последнее — в 1908 году) и «Четвертая книга» — 24 издания (последнее — в 1908 году).
XXVII
В апреле 1875 года Толстой приступил к составлению отчета о деятельности Училищного совета Крапивенского земства за истекший 1874—1875 учебный год. У него явилась мысль — на основании этого отчета написать статью и послать ее в те же «Отечественные записки», которые так охотно и быстро напечатали его статью «О народном образовании».
2 апреля Толстой пишет Некрасову письмо с предложением прислать для майской книжки журнала статью с изложением «некоторых соображений, наблюдений и выводов» о ходе школьного дела в Крапивенском уезде, «по содержанию и величине подобную» его ранее напечатанной статье.
В том же письме Толстой уведомлял Некрасова о выходе в ближайшее время новой, составленной им для народных школ «Азбуки» и выражал желание, чтобы редакция «Отечественных записок» оказала содействие тому, чтобы «азбука эта была рассмотрена компетентными и беспристрастными людьми, и о ней бы было сказано серьезное слово...»272.
210
Некрасов не замедлил ответом. Уже 8 апреля он писал Толстому: «Место для Вашей новой педагогической статьи будет отведено в майской книжке «Отечественных записок». В свое время постараемся исполнить и то, что Вы желаете относительно изготовляемой Вами азбуки. Статью для майской книжки доставьте не позже 25—27 апреля»273.
Но статья эта, к сожалению, не была написана Толстым. В его архиве сохранилось только начало задуманной статьи274, из которого видно, что Толстой не предполагал снабжать статью каким-нибудь введением теоретического характера, а хотел начать ее прямо с изложения практических мероприятий Крапивенского земства в области народного образования. Кроме начала, сохранился еще наскоро написанный для памяти отрывок плана некоторых частей статьи275, содержащий одному лишь автору понятные намеки на факты из области начального образования в Крапивенском уезде, а на обратной стороне листа — отрывочные заметки о школьных учебниках того времени. Отрывок заканчивался повторением излюбленной идеи Толстого о том, что народная школа обязана отвечать на потребности народа и организация школы должна быть предоставлена самому народу.
В середине апреля Толстой уведомил Некрасова, что его статья не поспеет к майской книжке «Отечественных записок». Некрасов в мае в письме, до нас не дошедшем, просил прислать статью, если она готова, и уведомлял, что в первых числах июня будет в Москве и желал бы повидаться с Толстым. Толстой тогда же ответил, что статья еще не готова, что он уведомит Некрасова, когда сможет ее прислать, и «очень рад» будет повидаться с ним в Москве276.
Но в мае 1875 года Толстой чувствовал себя слишком утомленным, чтобы приняться за обещанную статью, позднее его захватили другие работы, статья осталась ненаписанной, и сотрудничество его в «Отечественных записках» не возобновилось. Прекратилась и его переписка с Некрасовым.
XXVIII
3 мая 1875 года молодой философ В. С. Соловьев обратился к Толстому со следующим письмом:
«Милостивый государь граф Лев Николаевич!
Надеюсь, что Вас не слишком удивит следующее.
Отправляясь на долгое время за границу, я не желал бы
211
уехать, не увидав и не познакомившись с Вами. Если Вы не будете в ближайшее время в Москве, то не могу ли я к Вам теперь приехать? Если да, то будьте так добры — напишите мне к 10-му числу в Москву [следует адрес]. В надежде на свидание остаюсь с глубочайшим уважением Ваш покорнейший слуга Вл. Соловьев»277.
Ответ Толстого на письмо Соловьева неизвестен, но, по-видимому, он был благоприятным, так как приезд Соловьева в Ясную Поляну состоялся. Соловьев преподнес Толстому свою только что вышедшую книгу «Кризис западной философии» с надписью: «Графу Льву Николаевичу Толстому сей незрелый плод в ожидании лучшего». (В настоящее время книга В. С. Соловьева в составе Яснополянской библиотеки не числится).
Толстой в то время находился в состоянии напряженных духовных исканий. Это настроение сказалось на его письме к Страхову 5 мая 1875 года, в котором он писал: «Вы слишком одеваетесь объективностью и этим портите себя, для меня по крайней мере». И далее прибавлял: «Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?»278
Естественно, что при таком душевном состоянии беседа с Соловьевым об основных философских вопросах представляла для Толстого большой интерес.
«Мое знакомство с философом Соловьевым, — писал он Страхову 25 августа 1875 года, — очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи...»279.
Но умственное переутомление сильно давало себя знать, и Толстой мечтал об отдыхе. В середине мая он писал П. Д. Голохвастову: «Я всю зиму нынче был так занят, как никогда. И еще дела зимние не кончились, подступила весна с своими практическими требованиями, и я чувствую себя измученным и жду не дождусь тихого приюта в самарских степях»280.
4 июня Толстые всей семьей двинулись в самарский хутор. 5 июня приехали в Москву. Встреча с Некрасовым, на которую рассчитывал Толстой, по-видимому, не состоялась. 12 июня приехали на место.
20 июня С. А. Толстая писала Т. А. Кузмииской: «Левочка отпивается кумысом, пропасть ходит. Он здоров, загорел до черноты; конечно, ничего не пишет и проводит дни или в поле или в кибитке башкирца Мухамед Шаха... Сегодня Левочка, m-r Rey [гувернер] и дети ездили на ярмарку в Покровку. Левочка купил лошадь для скачек, очень резвую».
212
29 июня Толстой вместе с женой и тремя старшими детьми ездил на ярмарку в город Бузулук. Под Бузулуком он побывал у отшельника, жившего в скиту, в пещере, им самим вырытой. Толстой долго беседовал с отшельником.
Все два месяца, проведенные в самарском хуторе, Толстой ничего не писал. 25 июля он сообщал Страхову: «Я на траве вот уже шесть недель, и вы не можете себе представить, до какой степени одурения — приятного — я дошел. Я только с трудом могу понимать и вспоминать ту жизнь, которой я живу обыкновенно, но жить ей не могу... Пью кумыс с башкирами, покупаю лошадь, делаю скачки, выбираю землю пахать, нанимаю жать, продаю пшеницу и сплю»281.
6 августа Толстой для развлечения местного населения устроил скачки на пятьдесят верст, с призами. Был глубоко опахан круг в десять верст, который нужно было проскакать пять раз. Были заготовлены призы: бычок, ружье, серебряные закрытые часы, башкирские халаты. Были оповещены башкиры и русские из ближних деревень. К назначенному дню съехалось несколько тысяч зрителей. «Степь оживилась, — вспоминает С. Л. Толстой. — На ней, как большие грибы, выросли серые войлочные кибитки башкир, стояли рыдваны и плетушки с поднятыми кверху оглоблями, паслись лошади, горели костры и сновали конные и пешие башкирцы. Отец дал башкирцам на съедение жирного хромого жеребенка и несколько баранов; кумыс лился рекой, и башкирцы веселились, как дети, играли на курае и на горле, пели свои песни, плясали и болтали безумолку»282.
Илья Львович Толстой так описывает игру на горле:
«Это искусство очень своеобразное. Человек ложится на спину, и в глубине его горла начинает наигрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. Слушаешь и не понимаешь, откуда берутся эти мелодичные звуки, нежные и неожиданные. Очень немногие умеют играть на горле, и даже в те времена говорили, что среди башкир это искусство уже исчезало»283.
Перед началом скачек Толстой предложил желающим бороться и тянуться на палке. «На палке тянутся так: борющиеся садятся друг против друга, смыкаются подошвами, берутся оба руками за палку и стараются поднять друг друга. Отец всех перетянул, кроме толстого землянского старшины; он не мог его
213
поднять просто потому, что старшина весил не менее десяти пудов»284.
Скакали всего тридцать две лошади, из которых одна лошадь — Толстых, четыре или пять лошадей местных крестьян, остальные — башкирские. Первый приз получила башкирская лошадь, проскакавшая 50 верст в 1 час 39 минут.
Все зрители остались очень довольны.
Свое общее впечатление от жизни в самарской степи Толстой уже по возвращении в Ясную Поляну выразил в письме к Фету от 25 августа следующими словами:
«К чему занесла меня туда (в Самару) судьба — не знаю, но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было. Но что там — мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядеть, вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно»285.
Как пишет Толстой в том же письме, ему особенно интересно было видеть «совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим, первобытным».
Уезжая из Самары, Толстой купил у башкир несколько лошадей киргизской породы и привез их в Ясную Поляну.
XXIX
23 августа Толстые вернулись в Ясную Поляну. Тотчас же по возвращении Толстой вспомнил о тяготившем его незаконченном романе. 25 августа он писал Страхову: «Я не брал в руки пера два месяца и очень доволен своим летом. Берусь теперь за скучную, пошлую «Анну Каренину» и молю бога только о том, чтобы он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место — досуг, очень мне нужный — не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий. Педагогические занятия я люблю так же, но хочу сделать усилие над собой, чтобы не заниматься ими»286.
То же и почти в тех же выражениях писал Толстой 25 августа и Фету: «Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца — мыслями287, теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину с одним желанием: поскорее опростать себе место — досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить. Они слишком много берут времени»288.
214
Но Толстому не удалось сразу «бросить» педагогические занятия — его работа в качестве члена Училищного совета Крапивенского земства продолжалась, хотя и в меньших размерах. Он выписывал из Москвы учебные пособия для школ; известны три его письма, написанные в сентябре, октябре и ноябре 1875 года, к священнику Крапивенской епархии В. Баженову, в одном из которых он просил священника от имени Училищного совета «содействовать своим влиянием» открытию школ в волости и принять на себя преподавание «закона божия» в этих школах, а в другом — рекомендовал учителя в одну из новооткрытых школ289.
Что же это были за занятия, более, чем педагогические, «забирающие» Толстого, для которых, как писал он Страхову, нужен был «досуг» и которым мешала обязательная работа над «Анной Карениной»?
Ответ на этот вопрос находим в других письмах Толстого к Страхову — единственному человеку, с которым Толстой в то время делился своими самыми заветными мыслями и самыми дорогими замыслами.
Выше цитировалось письмо Толстого к Страхову от 5 мая 1875 года, где он писал, что никакие «критики, суждения, классификации» не могут сравниться «с горячим, страстным исканием смысла своей жизни». В письме от 25 августа, вспоминая посещение В. С. Соловьева в мае того же года, Толстой писал, что беседы с Соловьевым объяснили ему его «самые нужные для остатка жизни и смерти мысли», и мысли эти для него так «утешительны», что если бы он «имел время и умел», он бы «постарался» и другим передать эти мысли.
Ясно, что «более забирающие» Толстого занятия, для которых он желал бы иметь время и силы, и состояли именно в изложении для других этих «утешительных» для него мыслей о смысле жизни.
Но над ним тяготела обязательная работа — окончание романа.
26 августа С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка налаживается писать и ходит на охоту».
Работа, однако, шла вяло. 7 сентября Толстой писал Страхову: «С своим романом вожусь по утрам, но не берет, и ухожу на охоту».
В том же письме Толстой пишет Страхову, что ждет его приезда в Ясную, так как ему «столь многое нужно подвергнуть» критике Страхова, и «не пустяки, а важное»290. Это «важное» — опять те же мысли о смысле жизни, которые в то время владели Толстым.
215
Свидание со Страховым состоялось в том же сентябре и принесло Толстому глубокое удовлетворение. 26 октября он писал Страхову:
«О нашем последнем свиданьи беспрестанно вспоминаю с приятным сознанием важного и хорошего сделанного дела. Желаю только того, чтобы для вас хоть в малой мере было это свидание так же плодотворно, как — знаю, что оно будет — для меня»291.
Работа над романом по-прежнему не шла. Мешало работе также нездоровье и самого автора, и его жены и детей. В письме к брату, написанном в половине сентября, сообщив о болезни детей и жены, Толстой прибавлял: «Я тоже большую часть времени нездоров и ничего не пишу»292. 17 сентября С. А. Толстая писала сестре, что Лев Николаевич «совсем почти не занимается, все охотится и говорит, что „не идет“».
Искание смысла жизни приводило Толстого в радостное настроение, когда он находил удовлетворявшие его ответы на волнующие вопросы, иногда же становилось трудным и мучительным и приводило к унынию, отчаянию и даже полному отрицанию жизни.
Под 12 октября 1875 года в дневнике С. А. Толстой находим запись необычного содержания. Начав с того, что «слишком уединенная деревенская жизнь» делается ей «наконец несносна», что ею овладевают «унылая апатия, равнодушие ко всему», Софья Андреевна далее пишет: «Я тесно и все теснее с годами связана с Левочкой, и я чувствую, что он меня втягивает — главное он — в это тоскливое апатичное состояние. Мне больно, я не могу видеть его таким, какой он теперь. Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу ее в нем, и он сам так долго жить не может».
Софья Андреевна старается понять причину апатичного настроения Льва Николаевича. Ей кажется, что причиной является обстановка Ясной Поляны, «это страшное уединение и однообразие жизни»293. В действительности причины подавленного душевного состояния Толстого были совершенно иные.
Это не было то состояние уныния, в котором Толстой находился в период отхода от литературы в 1858—1859 годах, заменившееся бодростью и уверенностью после того, как им была найдена иная, удовлетворяющая его деятельность — работа с детьми. Это не был также ропот и даже озлобление против мирового порядка, которые испытал Толстой временно после смерти любимого брата в 1860 году; не было и то тягостное сомнение в
216
основах европейской цивилизации и пути прогресса культурного человечества, которое мучило Толстого в период его педагогических занятий в 1862 году; не было, наконец, и то состояние упадка духа, когда, по словам его жены, он жаловался на то, что для него «все кончено, умирать пора», испытанное им в 1869 году как реакция на страшное напряжение умственных сил в период работы над грандиозной эпопеей. Теперь это была утрата желания жить, полное равнодушие к жизни при совершенно благоприятных личных и семейных условиях
Это было то время в жизни Толстого, о котором он через четыре года вспоминал следующим образом: «...На меня стали находить сначала минуты отчаяния, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. Сначала находили только минуты, в жизни же отдавался прежним привычкам, но потом чаще и чаще, и потом, в то время как я писал, кончал свою книжку «Анна Каренина», отчаяние это дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать, думать о том ужасном положении, в котором я находился»294.
Как изображенный им Левин, он «истинно думал» в это время, что «пора умирать», «во всем видел только смерть или приближение к ней». «Темнота покрывала для него все»295.
«Счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться»296. Автобиографичность этих последних строк несомненна. В «Исповеди» Толстой рассказывает о том, как он, «счастливый человек», вынес из своей комнаты шнурок, где «каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни»297.
Толстой и раньше испытывал подобное душевное состояние, но лишь на короткое время.
Так, 30 января 1873 года, отвечая Фету на его «грустное» письмо от 28 января, в котором Фет сообщал, что Тютчев умирает, передавал слух, что Тургенев умер, а про себя писал, что «машина стирается» и он хочет «спокойно думать о нирване». Толстой писал:
«О нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне по крайней мере, я чувствую) она интереснее гораздо, чем жизнь, но я согласен, что сколько бы я о ней ни думал,
217
я ничего не придумаю другого, как то, что эта нирвана — ничто»298.
В конце 1873 года Толстой начинает оригинальное произведение под названием «Сказка».
Некоторое существо, от имени которого ведется рассказ, потеряв сознание, чудесным образом очутилось в городе «дюлей» («дюли» переделано из «люди»), расположенном «в неизвестной середине Африки». Существо это прожило среди «дюлей» 18 лет и успело хорошо узнать «их язык, характер, образ правления и жизни и их занятия».
«Первое, — рассказывает это необыкновенное существо, — что поразило меня в жизни Дюлей, было необыкновенная плачевность и быстротечность их жизни. Все Дюли, которых я видел, носили на себе очевиднейшие зародыши смерти и все на моих глазах с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой таяли или, если по правде сказать, гнили. Каждый день я замечал, как они морщились, калянели, выветривались, из них выпадали зубы, волоса, и они мерли; другие еще не выветривались и не сгнивали, подрезывались иногда в зародыше какой-то невидимой рукой и мерли. Но все Дюли несмотря на это очевидно были лишены способности видеть тот закон смерти, под которым они были рождены, и наблюдали очень тонко многое постороннее, но не видели того, что они не живут, а только разными путями умирают. Когда я выучился их языку, я несколько раз хотел обратить на это их внимание, но на языке их не было для того настоящих слов».
Перейдя далее к описанию жизни «дюлей», рассказчик говорит, что хотя «дюли» «подразделяют себя на много различных подразделений, каст и сословий, имеющие каждое свой отличительный знак», но все эти подразделения не существенны. Существует только одно «настоящее подразделение» среди дюлей: «Дюли работающие, то есть производящие что-нибудь новое посредством труда, и Дюли разрушающие, уничтожающие. Первые преимущественно живут в деревнях, вторые в городах». И «в противность того, что можно бы ожидать, производящие пользуются презрением, а уничтожающие — почетом, и тем большим почетом, чем больше они уничтожают». Поэтому производящие стремятся «перейти в разряд уничтожающих», вследствие чего число производящих уменьшается.
На поставленный кем-то вопрос, «которые скорее гниют», рассказчик отвечает: «Потребители». Он намерен представить описание следующих сторон жизни «дюлей»: «1) браки и семьи, 2) собственность, 3) суды, 4) администрация, 5) торговля и богатство, 6) обучение, 7) наука, 8) религия».
218
На этом оборвалось это своеобразное произведение, в котором так необычно памфлет против существующего социального строя сочетался с пессимистическим представлением о жизни, о вечных условиях человеческого бытия299. Оно роднит Толстого со Свифтом, Вольтером, Герценом (его «Доктором Круповым»).
Позднее по поводу смерти младшего сына Петра (9 ноября 1873 года) Толстой 6 марта 1874 года писал А. А. Толстой: «Если потерей любимого существа сам не приближаешься к своей смерти, не разочаровываешься в жизни, не перестаешь ее любить и ждать от нее хорошего, то эти потери должны быть невыносимы. Но если подаешься на это приближенье к своему концу, то не больно, а только важно, значительно и прекрасно. Так на меня, да и на всех, я думаю, действует смерть... Хороня Петю, я в первый раз озаботился о том, где меня положить»300.
В декабре того же года, отвечая А. А. Толстой на ее письмо, Лев Николаевич писал: «Вы говорите, что мы, как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать».
Чтобы охарактеризовать свои занятия школьным делом, которым он в то время отдавался с таким увлечением, Толстой шутя применяет к себе фразу Наполеона, произнесенную им в обращении к солдатам во время египетского похода: «С вершин этих пирамид смотрят на меня сорок веков». И тут же прибавляет: «Правда, там сидит бесенок, который подмигивает и говорит, что всё это — толчение воды, но я ему не даю, и вы не давайте ходу».
Далее, однако, Толстой делает характерную оговорку: «Впрочем, как только дело коснется живой души человеческой, и можно полюбить тех, для кого трудишься, то уже бесенку не убедить нас, что любовь — пустяки»301.
25 августа 1875 года, на третий день по возвращении из Самары, Толстой писал брату Сергею Николаевичу: «Как-то твои хозяйственные и семейные дела? Во всяком случае уж недолго и пора умирать, в чем я совершенно с тобой согласен»302.
Это было написано на третий день по возвращении из Самары — в тот самый день, когда Толстой писал Фету об урожае, о жеребцах, об ожидаемом приезде Фета в Ясную Поляну, о здоровье жены и детей, о новом гувернере, о жизни в самарских степях, об «Анне Карениной» и о других своих будущих занятиях.
Он продолжал жить тою же разнообразной жизнью, какою жил раньше, а сам про себя думал: «пора умирать».
219
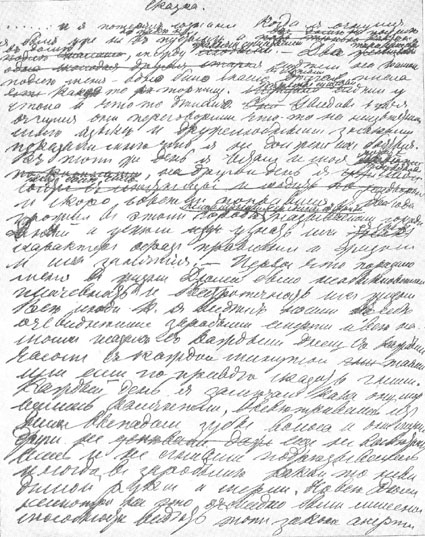
Первый лист незаконченного произведения «Сказка» (1873)
220
Стараясь определить причины того душевного состояния, какое переживал Толстой в то время, нельзя забывать о том, как сам Толстой определял эти причины. В «Исповеди» он писал: «Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно». Из дальнейшего видно, что под словами «жил дурно» Толстой разумел не какие-либо пороки, проявлявшиеся им в его личной или семейной жизни — таких не было, а неправильность своего общественного положения богатого помещика.
«Я понял, — пишет Толстой, — что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства... в которых я провел ее»303.
Толстой давно уже смутно чувствовал неправильность — с нравственной точки зрения — тех условий, в которых протекала его жизнь. «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно, и жизнь дурна», — записал он в записной книжке 27 ноября 1866 года304.
Теперь это сознание безнравственности социальных условий, в которых проходила его жизнь, привело Толстого к «отрицанию жизни и ужаснейшему отчаянию»305. Он мучительно переживал нищету окружающего его трудового народа. «Лев Николаевич грустит, что мужикам плохо», — писала Софья Андреевна сестре 1 мая 1877 года.
Разрешение терзавших его противоречий Толстой искал в религиозном понимании жизни.
XXX
26 октября 1875 года Толстой пишет Страхову, что он «начал писать» то, о чем беседовал со Страховым в его приезд в Ясную Поляну, и затем прибавляет: «Надеюсь, судя по началу, что я буду писать это долго и не издам и не разочаруюсь».
Далее Толстой пишет, что доживя до пятидести лет и он, и Страхов несомненно вынесли из жизни что-нибудь «общее», т. е. имеющее значение и важность не для них одних, а и для других. Это «общее» не есть ни церковное христианство, ни учение материалистов, и изложить это «общее» нужно теперь же, ждать некогда, уже приходит пора «отдать вверенный талант хозяину». «Это мой долг и мое влечение сердца».
И себе, и Страхову Толстой дает такое задание: «уяснить и изложить» свое «религиозное мировоззрение столь искренно и столь кратко, сколько возможно», и сделать это не ради полемики
221
с кем бы то ни было, но для того, чтобы «помочь тем, которые в том же бедственном одиночном состоянии, как и вы, но слабее вас умом и опытностью»306.
Упоминание о людях, находящихся «в том же бедственном одиночном состоянии», в каком находился ранее он сам, указывает на тяжесть пережитого Толстым душевного состояния.
Итак, первая работа религиозно-философского характера была начата Толстым во второй половине сентября — в октябре 1875 года.
Усиленный интерес к религиозному пониманию жизни начал проявляться с 1873 года.
30 января этого года в письме к Фету по поводу смерти маленького племянника Толстой впервые высказал свое отношение к религиозным обрядам. Он писал, что и он и брат во время похорон ребенка чувствовали «почти отвращение к обрядности», но позднее он понял, что церковный обряд отпевания наилучшим образом выражает «значительность и важность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием», что славянские слова молитв отзываются «тем самым метафизическим восторгом, когда задумаешься о нирване», и что «религия уже тем удивительна, что она столько веков стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое». Религия — «бессмыслица», но она очень «годится для этого дела», и «что-то в ней есть»307.
27 февраля 1874 года Толстой набрасывает на листке следующий конспективный план сочинения о религии:
«Есть язык философии, я им не буду говорить. Я буду говорить языком простым. Интерес философии общий всех, и судьи все.
Философский язык выдуман для противудействия возражению. Возражений я не боюсь. Я ищу. Я не принадлежу ни к какому лагерю. И прошу читателей не принадлежать. — Это первое условие для философии. Матерьялистам я должен возразить в предисловии. Они говорят, что кроме земной жизни ничего нет. Я должен возразить, потому что если бы это было так, то мне бы и не о чем писать. — Проживя под 50 лет, я убедился, что земная жизнь ничего не дает, и тот умный человек, который вглядится в земную жизнь серьезно, труды, страх, упреки, борьба — зачем? — род сумасшествия, тот сейчас застрелится, и Гартман и Шопенгауэр прав. Но Шопенгауэр давал чувствовать, что есть что-то, отчего он не застрелился. Вот это что-то есть задача моей книги. Чем мы живем? — Религия»308.
222
Но вопрос был неясен самому автору, и далее составления плана работа не пошла.
Работа, начатая Толстым в сентябре — октябре 1875 года, к сожалению, почти полностью утрачена. Некоторые отдельные листы копии с этой работы, сделанные яснополянским учителем, находятся в первой черновой редакции «Исповеди», написанной в 1879 году; но переписчик так плохо разбирал почерк Толстого, что оставлял пробелы в несколько строк, и смысл написанного во многих местах совершенно теряется.
К счастью, сохранилась сделанная другим переписчиком копия исправленной редакции начала статьи; она была отправлена Толстым Страхову вместе с письмом от 30 ноября 1875 года.
Толстой дает переписанному началу своей работы заглавие: «Для чего я пишу?».
Он говорит, что доживя до сорока семи лет, чувствует, что для него уже наступила старость, т. е. такое «внутреннее, душевное состояние, при котором все внешние явления мира потеряли» для него свой интерес. Ему кажется, что он знает все, «что знают люди нашего времени»; если он не знает чего-нибудь, то он полагает, что это «неизвестное знание» не откроет ему «ничего нового».
«Из внешних явлений мира я ничего не желаю... Если и есть у меня желания, как, например, вывести ту породу лошадей, которую я мечтаю вывести, затравить десять лисиц в одно поле и т. п., огромного успеха своей книге, приобрести миллион состояния, выучиться по-арабски и монгольски и т. п., то я знаю, что это — желания не настоящие, не постоянные, но что это — только остатки привычек желаний и появляющиеся в дурные минуты моего душевного состояния В те минуты, когда я имею эти желания, внутренний голос говорит уже мне, что желания эти не удовлетворят меня».
Впереди не видно ничего, кроме смерти. И это ожидание смерти «минутами» внушает «недостойный ужас».
Хочется «проникнуть тайну того, что значит та жизнь, которую я прожил, и еще большую тайну того, что ожидает меня там, в том месте, к которому я невольно стремлюсь».
Несмотря на тяжелые чувства недоумения, затем ужаса, затем отчаяния, пережитые Толстым, сознание говорило ему, что наша жизнь не может быть, по слову поэта, «пустой и глупой шуткой». Невозможно было признать бессмыслицей «жизнь разумного существа». Он понял, что не жизнь людей бессмысленна, а смысл, придаваемый им жизни, неправилен. «Рассказать о том, каким образом из состояния безнадежности и отчаяния я перешел к уяснению для себя смысла жизни, проникающего как пройденную мною часть и источник ее, так и остальную часть и конец ее, — составляет цель и содержание того, что я пишу».
223
На этом обрывается выписка, сделанная переписчиком. Продолжение статьи Толстой не отдал в переписку, «чтобы не искушать переписчика». Там, по словам Толстого, говорится «о том, как религии вполне удовлетворяют этим вопросам, но как нам невозможно с нашими знаниями верить в положения религий, потом о том, каким образом живут европейские люди без религий, тогда как религия есть необходимое условие жизни»309.
Первый набросок этой последней части статьи сохранился в архиве Толстого.
Толстой утверждает здесь, что мы уже давно не христиане», что в наше время «религиозная связь» уже не имеет той силы, какую она имела раньше. Государственная власть во многих европейских государствах основывается уже не на религии, а на голосовании; присяга на верность царю в России — «пустая формальность, ни к чему не обязывающая и никого не стесняющая»; присяга на суде постоянно нарушается; семейная связь держистся не на религии, так как введен гражданский брак; религия не руководит воспитанием детей и юношества. У магометан, в противоположность христианам, есть вера и есть основанная на вере «твердая система образования», но система эта стоит «на самой низкой ступени». У христианских народов место, которое раньше занимала религия, осталось незанятым.
По наблюдениям Толстого, среди образованных людей, которых он встречал в жизни, заметно троякое отношение к религии. Одни не верят, но считая, что религия поддерживает существующий, выгодный для них, строй, притворяются верующими, — это люди «обдуманные и коварные». «Другие откинули веру и, не встретившись еще с вопросами жизни и смерти, считают религию излишнею, — эти люди необдуманны, но правдивы». «Третьи, очень малое число, откинув религию, пришли к неразрешимым вопросам и пытаются мыслью разрешить их». Между тем религия «так же необходима для нравственной жизни, как воздух для физической жизни».
Статья осталась незаконченной310, но послужила основой для «Исповеди», начатой в 1879 году.
XXXI
Рассказав себе самому о своих исканиях, борьбе, отчаянии и определив направление, в котором он надеялся найти выход, Толстой почувствовал себя несколько успокоенным.
Он попробовал приняться за продолжение «Анны Карениной», но скоро почувствовал себя неготовым к этой работе.
224
10 октября Толстой писал М. Н. Каткову, что он теперь «одного только» желает: «как можно скорее кончить роман», но не может этого обещать, так как «продолжение зависит от не зависящей» от него «способности к работе»311.
26 октября Толстой пишет Фету:
«Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Всё кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать, недостают руки, и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава»312.
В ожидании творческого подъема Толстой усиленно занимается чтением. Он «упивается» песнями кавказских горцев, прочитанными им в сборнике, изданном в Тифлисе, в которых находит «сокровища поэтические необычайные»313. Три из этих песен он посылает Фету. Фет перелагает их в стихи и свое переложение посылает на суд Толстому314.
Вскоре после этого в семье Толстого произошли тяжелые события. Опасно заболела его жена. Был приглашен доктор из Москвы, который нашел воспаление брюшины. 30 октября Софья Андреевна преждевременно родила девочку, которую назвали Варварой и которая умерла через час. Софья Андреевна была при смерти.
В том напряженном душевном состоянии, в котором тогда находился Толстой, смерть девочки, опасения за жизнь жены и наряду с этим обычное течение повседневной жизни, требовавшее его участия и забот, этот вечный контраст жизни, не желающей знать смерти, и смерти, безжалостно разрушающей жизнь, — тот самый контраст, который он когда-то с таким эпическим спокойствием изображал в рассказе «Три смерти», теперь произвел на него впечатление настоящего ужаса, как без всякого преувеличения писал он через несколько дней Фету: «Получил ваше письмо в страшно тяжелые минуты, жена была при смерти больна воспалением брюшины, родила преждевременно тотчас же умершего ребенка. Страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета, доктора, фальшь, смерть, ужас. Ужасно тяжело
225
было»315. (Сопоставление «доктора — фальшь» объясняется следующими словами из письма Толстого к брату, написанного в тот же день: «Выписывали доктора из Москвы и тульского. И все это мучительно особенно потому, что знаешь, что это все вздор»316).
После этого Софья Андреевна болела еще около десяти дней, и Толстой чувствовал себя очень тяжело. «Ужаснее болезни жены для здорового мужа не может быть положения», — писал он П. Д. Голохвастову в середине марта 1876 года317.
Замечательно, что, как писал Толстой Страхову 9 ноября 1875 года, он «никогда с такой силой не думал» о тех вопросах, которые его занимали, как в эти тяжелые дни. Он «читал и перечитывал снова внимательно» книгу немецкого философа и психолога Вильгельма Вундта «Душа человека и животных». Впечатление, произведенное на него книгой Вундта, Толстой в том же письме к Страхову выразил словами: «Я в первый раз понял всю силу матерьялистического воззрения и два дня был совершенным матерьялистом, но зато уже в первый и последний раз»318.
Экземпляр книги Вундта «Душа человека и животных», читанный Толстым (т. I, СПб., 1865 и т. II, СПб., 1868), сохранился; на полях обоих томов целый ряд карандашных пометок Толстого, свидетельствующих о том, с каким живым интересом изучал он книгу немецкого философа. Приведу некоторые из пометок на полях второго тома319.
На стр. 1, где начинается предисловие, Толстым помечено: «Всё на логике Аристотеля. Всё заблуждение — личность. Задача психологии только объяснить эти заблуждения». На стр. 7: «Тем пагубнее был успех Гегелевской ерунды, что нефилософы, опровергая эту чушь, имели право думать, что они опровергали философию». На стр. 23 против рассуждения Вундта о том, что «впечатление, чувство, представление и мысль заставляли предположить о существовании души», вопрос Толстого: «Да что такое эти явления? Я их не знаю. Я знаю, что живу, и больше ничего». На стр. 26, против рассуждения Вундта об экспериментальном методе «в науке о душе», Толстой замечает: «Прекрасно, но зато и возьми общее людям — заметив в них одну линию, а не душу, тобой не определимую». На стр. 28, против первых строк третьей лекции Вундта: «Я начну с человеческой
226
души» — ироническое замечание Толстого: «Начну о том, чего я не знаю и не могу определить. Что такое душа?» На той же странице, против фразы автора: «Только мышление указало предметам их настоящее место», вопрос Толстого, им подчеркнутый: «Отчего?» На стр. 29, против слов: «Другие факты, например, впечатления, ощущения», вопрос Толстого: «Что такое? Где их границы?» На той же странице, против рассуждения Вундта: «Мысль есть первый предмет, который возбуждает в нас представление о душе», замечание Толстого: «Неправда — мужик». На стр. 30 словом «неправда» Толстой выражает свое несогласие с мыслью Вундта: «Только посредством мысли я убеждаюсь в своем существовании». На стр. 33, против утверждения автора: «Время можно делить на части, как всякую линию», замечание Толстого: «Сам говорит, что время есть понятие». На стр. 38: «Ни на шаг вперед». На стр. 46: «Представление и мысль, стало быть, одно и то же». На стр. 49: «Что такое внимание» и далее, против определения Вундта: «Существенные элементы мышления суть: понятия, суждения и умозаключения» — вопрос Толстого: «Кто сказал?» На стр. 50: «Что такое суждение? Логика Аристотеля есть красивая игра». На стр. 53, против утверждения Вундта: «Мы знаем только одну форму, в которой соединяются суждения, — эта форма есть умозаключение». Толстой возражает: «А я знаю много других». На стр. 54: «Все дети думают, что не умрут». На стр. 63: «Что такое познание? Почему «огонь горяч» не есть познание?» На стр. 65: «Но ты сам говоришь, что понятие есть отвлечение». На стр. 68 вопрос: «Что такое познание?» На стр. 78, против рассуждения о применении «закона сохранения силы к явлениям, происходящим при ощущении», замечание Толстого: «Остроумно, но по этому пути нет открытия законов». И т. д.
За роман Толстой по-прежнему не мог взяться. «Боже мой, — восклицал он в том же письме к Страхову от 9 ноября, — если бы кто-нибудь за меня кончил «Анну Каренину»! Невыносимо противно».
17 ноября 1875 года Толстой начинает статью, озаглавленную «О будущей жизни вне времени и пространства»320. Судя по тому, что под заглавием статьи автором было помечено: «К последующему», можно думать, что данная статья должна была составлять главу какой-то большой работы религиозно-философского содержания. Основная мысль статьи выражена в следующем положении: «Вопрос о том, когда и где начнется будущая жизнь, не имеет смысла, ибо словами „будущая загробная жизнь“ мы выражаем временно и пространственно то, что по сущности своей невременно и непространственно».
Статья не была закончена.
227
30 ноября Толстой пишет Н. Н. Страхову большое письмо, посвященное главным образом выяснению вопроса о различии между научным и философским методом, причем под философией Толстой разумеет знание, «дающее наилучшие возможные ответы на вопросы о значении человеческой жизни и смерти». На вопрос Канта, приведенный Страховым в его письме от 23 ноября, «что я должен делать?», Толстой дает следующий ответ: «Любить не себя, т. е. каждый момент сомнений» разрешать «тем, чтобы выбирать то, где я удовлетворяю любви не к себе».
В воззрениях «матерьялистов, позитивистов, прогрессистов» Толстой видит религию, но «религию неполную — религию жизни, но не религию смерти». И он делится со Страховым своим «дерзким планом»: «Изложить весь религиозный свод воззрений науки нашего времени, показать пробелы и... не отрицая ничего, пополнить эти пробелы». Он просит помощи и содействия Страхова в «критике» его «положений» и в указании нужных материалов. «Мне нужно книгу или книги или ваше изложение общего полного религиозного (по-моему, по-ихнему — научного) воззрения матерьялистов и позитивистов на мир божий». Ему «нужно знать, как определяют авторитеты науку, религию, философию»321.
XXXII
22 декабря 1875 года скончалась в Ясной Поляне в возрасте 78 лет тетушка Льва Николаевича, родная сестра его отца, Пелагея Ильинична Юшкова.
У Толстого никогда не было большой близости с Пелагеей Ильиничной. Даже тогда, когда Пелагея Ильинична была опекуншей малолетних Толстых и они жили у нее в Казани, она не пользовалась среди них авторитетом. Приехав в 1858 году из Петербурга в Ясную Поляну, Толстой 30 июля делает в дневнике следующую резкую запись относительно тетушки Юшковой: «С тетенькой Полиной мы сердиты друг на друга... Надо признаться, что она дрянь»322.
Но в том напряженном душевном состоянии, в каком находился Толстой после трех смертей в течение трех лет, смерть Пелагеи Ильиничны очень сильно подействовала на него — гораздо сильнее, чем смерть несравненно ему более близкой Т. А. Ергольской.
Через два месяца после смерти Пелагеи Ильиничны, 21 февраля 1876 года, Толстой писал брату: «Смерть тетеньки оставила во мне ужасно тяжелое воспоминание, которое не могу описать в письме»323. Через месяц, в середине марта того же года,
228
Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий. Но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней»324.
Подобно тому, как ранее, Толстой, начиная художественное произведение, писал одно за другим начала повести или романа, нащупывая то из этих начал, которое бы его вполне удовлетворило, так и теперь, задумав написать работу религиозно-философского содержания, Толстой начинает одну за другой философские статьи, которые все остаются незаконченными.
25 декабря 1875 года, через три дня после смерти тетушки Пелагеи Ильиничны, Толстым была начата статья «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни». Работа продолжалась 26 и 27 декабря325.
Основные положения этой статьи следующие.
«Знание есть предсказание, то есть отыскание тех общих законов, которым подчинено все существующее». Деление всего существующего на две различные сферы — живое и неживое, мир органический и неорганический — «всегда одинаково присуще человеку — на низшей ступени знания (для дикого), сколько и на высшей (для ученого). Без этого деления нельзя мыслить».
«Философский вопрос» заключается в определении различия «между живым и неживым». Наука изучает «законы, по которым видоизменяется все неживое и все живое». «Но даже если бы эти законы были несомненно доказаны, если бы наука шла сто веков по этому направлению, вопрос о том, что составляет различие между живым и неживым, остался бы неразрешенным».
Однако «различие это познается человеком непосредственно, потому что он чувствует себя объединенным и живым». Человек имеет «полное знание живого» «изнутри, непосредственно — знание самого себя».
«Понятие души есть понятие жизни (организма), которое мы не познаем чувствами, органами и разумом, но непосредственно познанием жизни».
«Без сознания жизни и объединения (организма) мы не только не понимали бы живого, но и ничего мертвого». «Мы знаем и можем знать вполне — не разумом — только живое. Делая же отвлечения разумом от нашего знания живого, мы находим и законы неживого».
229
«То, что познается собой непосредственно, мы называем своей жизнью, существом. То, что познается посредственно, мы называем миром». «Мы называем неживым, мертвым только то, жизнь или существование чего мы не понимаем.
Как мне кажется неживым камень, звезды, так могут казаться неживыми клеточки моего тела (камень) или кровяные шарики (звезды) микроскопическому паразиту, живущему в моем теле».
Итак, «мы имеем три рода познания: 1) знание себя, той части мира, которая объединена мною; это знание несомненное, непосредственное, не разумное [то есть постигаемое не разумом] и полное; 2) знание тех частей мира, которых объединения, подобные моему, мне понятны...; и 3) знание всего того, что производит на меня впечатление, но на место чего я не могу стать, не могу представить себе, как оно непосредственно знает себя» [то есть знание того, что считается неживым].
«Явления органического мира необъяснимы законами физики, астрономии, химии».
«Прежде всякого мышления, первое что мы знаем, <это то,> что мы живем, что мы составляем объединенную часть мира, которую мы чувствуем, как себя, и знаем иначе, чем все другое, <не умом и не опытом,> знаем несомненно. Не знаю, в какой степени точно выражение Декарта: «Я мыслю, потому я живу», но знаю, что, если я скажу: «Я знаю <несомненно одно> прежде всего себя: то, что я живу», то это не может быть не точно...
Из этого основного знания вытекает следующее знание всего также объединенного и живого... Неорганическое есть все, что мы знаем вследствие нашей способности анализировать, подразделять различные элементы нашего объединения и отвлекать их одно от другого... Понятия вещества, силы, пространства, времени, причины, следствия, числа, круга — суть только понятия, отвлеченные от сознания своего объединенного существования».
«Мертвое вещество — значит только вещество, жизни которого я не знаю».
Заканчивается статья следующим итогом: «Я не могу сказать, что [после смерти] уничтожается все, ибо остается: 1) отвлечение жизни — вещество [тело], [2)] другое отвлечение жизни — потомство, и 3) следы воздействия на других людей». «Найти возможные» — начинает Толстой какую-то фразу, но, не закончив, зачеркивает ее, и на этом обрывается статья.
XXXIII
Семейные несчастья лишали Толстого необходимого для работы спокойствия, и только 12 декабря Софья Андреевна могла написать сестре, что Лев Николаевич «начинает заниматься романом». В конце месяца работа пошла успешнее, и 25 декабря
230
Софья Андреевна уже извещает сестру, что Лев Николаевич «взялся очень усердно за „Анну Каренину“».
В первых числах января 1876 года Толстой писал Н. М. Нагорнову: «После горестей первой половины зимы теперь, слава богу, хорошо работается...» Продолжение романа для первой книжки «Русского вестника» за 1876 год уже готово326.
Н. Н. Страхов продолжал поощрять Толстого к работе над романом. Свое письмо к Толстому от 25 декабря Страхов заканчивал словами: «Что Каренина? Кончайте это чудесное произведение. По глубокому непониманию, которое обнаруживается во всех отзывах, Вы видите, как оно может быть полезно; в нем больше поучения и важности, чем Вы предполагаете. Я перечитываю Каренину и люблю ее сердечно»327. На эти строки письма Страхова Толстой в самом конце своего ответного письма от 2 января 1876 года коротко отозвался словами: «Об «Анне Карениной» ничего не пишу вам; и не буду писать. Если выйдет, вы, верно, прочтете»328.
В первой книжке «Русского вестника» за 1876 год появились главы XI—XXVIII третьей части «Анны Карениной».
Работа над романом продолжалась без перерывов. 28 января 1876 года Софья Андреевна писала сестре, что Лев Николаевич готовит продолжение «Анны Карениной» для февральской книжки «Русского вестника».
15 февраля Толстой пишет Страхову: «Я очень занят Карениной. Первая книга суха, да и, кажется, плоха. Но нынче же посылаю корректуры второй книги, и это, я знаю, что хорошо»329. (Во второй книге «Русского вестника» за 1876 год появились I—XVI главы четвертой части).
Временами Толстой снова, как и прежде, переживал мрачное настроение. Находясь в таком настроении, он 21 февраля писал брату:
«Вообще была для меня нравственно очень тяжелая зима... Умирать пора — это не правда; а правда то, что ничего более не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно. Я пишу и довольно много занимаюсь, дети хороши, но всё это не веселит нисколько». Толстой опасается, что не успеет кончить в текущем году свое «писанье», «несмотря на то, — прибавляет он, — что оно часто противно мне». Что такое душевное состояние проистекало у Толстого не от физических причин, видно из его слов в том же письме: «Я сам нынешнюю зиму здоровее прежних»330.
231
1 марта в письме к Фету Толстой опять жалуется на то, что вследствие продолжающейся болезни жены у него в доме нет «благополучия», а в нем нет «душевного спокойствия», «которое, — прибавляет Толстой, — мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоевший мне роман»331.
В начале марта С. А. Толстая, сообщая Т. А. Кузминской о выходе первых двух номеров «Русского вестника» с «Анной Карениной», пишет, что «теперь и на март уж готовится», но что Лев Николаевич «тревожится» ее нездоровьем, и это мешает ему работать.
5 марта Страхов писал Толстому: «Февральская часть «Анны Карениной» приводит всех в неистовый восторг. А январская возбудила было маленькое неудовольствие. В ней действительно есть вялость, тот недостаток, который у Вас является по временам, когда Вы пишете без особенной охоты. Но теперь — просто крик удовольствия. Вы точно кормите голодных и давно голодающих»332.
В марте работа пошла успешнее. В середине марта Лев Николаевич писал А. А. Толстой:
«Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с нею вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если хотите, то с ménagement [бережно]: она все-таки усыновлена»333.
Около того же времени Толстой писал Фету, что все мечтает «окончить роман до лета», но начинает сомневаться, удастся ли ему это334.
17 марта Софья Андреевна пишет сестре: «Левочка не разгибаясь сидит над мартовской книгой, и все не готово. Впрочем, скоро будет готово. Катков закидал телеграммами и письмами».
26 марта Фет в письме к Толстому делится своими впечатлениями от чтения напечатанных последних частей «Анны Карениной»: «Есть и в Карениной скучноватые главы. Мне скажут: «Они необходимы для связи целого». Я скажу: «Это не мое дело». — Но зато все целое и подробности, это — червонное золото. В некоторых операх есть трио без музыки: все три голоса (в Роберте) поют свое, а вместе выходит, что душа улетает на седьмое небо. Такое трио поют у постели больной Каренина, муж и Вронский. Какое содержание и какая форма! Я уверен, что Вы сами достигаете этой высоты только в минуты светлого вдохновения...
А небось, чуют они все, что этот роман есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни. От мужика до говядины
232
принца. Чуют, что над ними есть глаз, иначе вооруженный, чем их слепорожденные гляделки. То, что им кажется несомненно честным, хорошим, желательным, изящным, завидным, оказывается тупым, грубым, бессмысленным и смешным»335.
В следующем месяце Толстой вновь испытал, как это нередко бывало с ним в эти годы, сомнение в достоинствах своего романа, вызвавшее временную остановку в работе.
6 апреля С. А. Толстая писала своему дяде В. А. Иславину, что «роман «Анна Каренина» кажется, стал»336. 9 апреля Толстой пишет Страхову, что не может приняться за чтение корректур своего романа, предназначенных для апрельской книжки журнала: «Всё в них скверно и всё надо переделать и переделать». Ему кажется даже, что и напечатанные части романа также плохи, что в них нужно «все перемарать, и все бросить, и отречься», «и постараться написать что-нибудь новое, уж не такое нескладное и нитонисемное». И он просит своего друга и почитателя его таланта «показать искреннюю дружбу»: или ничего не писать про роман, или написать «только все, что в нем дурно»; и если правда то, что он слабеет, то так и написать ему.
«И не стесняйтесь мыслью, — писал далее Толстой, — что вы строгим суждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше остановиться на „Войне и мире“, чем писать „Часы“ или т. п.», — прибавлял Толстой, имея в виду только что появившуюся тогда повесть Тургенева337.
Отправив это письмо, Толстой, однако, не только не прекратил работу над «Анной Карениной», но продолжал работать с еще большим напряжением, желая как можно скорее окончить роман. 14 апреля он пишет А. А. Толстой, что не может «ничем себе позволить заниматься, кроме окончания романа», хотя и опасается, что не кончит его «раньше будущей зимы»338.
Страхов, разумеется, поспешил разубедить обожаемого им Толстого в его опасениях.
«У всякого свое горе; у Вас, поклоняемый и завидуемый Лев Николаевич, между прочим — муки рождения», — этими словами начал Страхов 15—16 апреля свой ответ Толстому на его письмо. — «Вы теряете Ваше обыкновенное хладнокровие и, кажется, желаете от меня совета — прекратить печатанье «Анны Карениной» и оставить в самом жестоком недоумении тысячи читателей, которые все ждут и все спрашивают, чем же это кончится».
Страхов старается понять причину беспощадно резкого приговора, вынесенного Толстым своему детищу. «Уж не потому ли
233
Вы пришли в уныние, что сделали несколько ошибок в описании свадьбы? Но ведь это вздор — эти ошибки... Все-таки описание венчанья со всем его воздухом и цветом является в нашей литературе в первый раз».
Исполняя желание Толстого, Страхов далее пишет: «Ну хорошо — я буду Вам критиковать Ваш роман. Главный недостаток — холодность писания, так сказать холодный тон рассказа... В целом во всем течении рассказа мне слышна холодность. Но ведь это только мне, человеку, который, читая, почти слышит Ваш голос. Затем — или вследствие того — описание сильных сцен несколько сухо. После них невольно просятся на язык несколько пояснительных или размышляющих слов, а Вы обрываете, не давая тех понижающихся и затихающих звуков, которыми обыкновенно оканчивается финал в музыке. Далее — места смешные не довольно веселы, но зато если рассмешат, то рассмешат ужасно.
Я за Вами слежу и вижу всю неохоту, всю борьбу, с которою Вы, великий мастер, делаете эту работу; и все-таки выходит то, что должно выйти от великого мастера: все верно, все живо, все глубоко. Вронский для Вас всего труднее, Облонский всего легче, а фигура Вронского все-таки безукоризненна... Самоубийство Вронского, его свидание с Карениной — как хорошо и сильно! Один Ваш иностранный принц наделал здесь фурору, и эти две страницы годились бы на целую повесть...»
«Ваш роман, — писал затем Страхов, — поражает своею недоступною для массы правдою и глубиною... «Война и мир» в моих глазах (я уверен и в Ваших) растет с каждым годом; я уверен, что то же случится и с «Анной Карениной», и что долго-долго потом читатели будут вспоминать о времени, когда они так нетерпеливо ждали книжек «Русского вестника», как я не могу забыть времени появления «Войны и мира»... Что у Вас будто бы падает сила — этого-то я не боюсь; но что Вы оттянете конец романа — это, пожалуй, от Вас станется»339.
В ответном письме Толстой 23 апреля писал Н. Н. Страхову, что его суждение об «Анне Карениной» верно, но «выражает не все», что «хотел сказать» автор. «Если же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, с начала... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя,
234
а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения...»
Далее, касаясь задач художественной критики, Толстой писал: «Для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».
Толстой признал справедливость предположений Страхова, что «Война и мир» «растет» в его глазах. «Мне странно и радостно, — писал он, — когда мне что-нибудь напомнят из нее... но странно, я помню из нее очень немного мест, остальное забываю».
Переходя к последним напечатанным главам «Анны Карениной», Толстой писал, что ему «очень обидно», что он сделал ошибки в сцене венчания Кити с Левиным, — «тем более, — прибавлял он, — что я люблю эту главу». Опасается также ошибок «по специальности» (в вопросах живописи) в главах, предназначенных для № 4 «Русского вестника» (главы VII—XIX пятой части). Надеется скоро закончить «Анну Каренину», хотя обычная летняя «физическая невозможность писать» может сделать то, что он будет «не в силах» кончить роман340.
Страхов был восхищен этим письмом Толстого.
«То, что Вы говорите о критике, — писал он Толстому 8 мая, — бесподобно; то, что об искусстве — удивительно. Я должен сознаться, что до сих пор не понимал ясно Вашего отвращения к критике и даже приписывал Вашему творчеству несвойственный ему характер, именно — примесь к нему отвлеченной мысли, хотя вполне покоряемой творчеством... Простите за ошибку. Ваше письмо для меня драгоценнейшее откровение в этом отношении. Это речь истинного художника, формула творчества во всей его силе и чистоте»341.
XXXIV
Н. Н. Страхов, которому Толстой неоднократно писал о своих исканиях веры, несмотря на то или именно потому, что он был сын священника и воспитанник церковной школы, был человек неверующий, и религия была для него только предметом изучения. Другой друг Толстого, Фет, был также совершенно чужд религиозных переживаний. Верующими из друзей Толстого были только С. С. Урусов и А. А. Толстая; с ними только и мог Толстой делиться своими религиозными исканиями.
235
И Урусову 21 февраля и А. А. Толстой в середине марта 1876 года Лев Николаевич писал, что испытывает «чувство зависти к той высоте и спокойствию», которыми обладают верующие342.
А. А. Толстой он писал еще, что к вере он может прийти не путем размышления, но «только чудом». «Чем больше я буду думать, тем меньше могу верить».
«Что я думаю беспрестанно, — писал он, — о вопросах значения жизни и смерти, и думаю как только можно думать серьезно, — это несомненно. Что я желаю всеми силами души получить разрешение мучающим меня вопросам и не нахожу их в философии, — это тоже несомненно; но чтобы я мог поверить — мне кажется невозможно».
А. А. Толстая вполне терпимо отнеслась к религиозным исканиям и сомнениям своего дорогого Льва, надеясь на то, что, быть может, он в конце концов придет к вере. Не так отнесся С. С. Урусов. Еще недавно считал он себя учеником Толстого в вопросах философии истории; теперь сомнения Толстого в истинности православной веры вызвали у Урусова чувство возмущения и негодования. В сохранившихся письмах Урусова к Толстому упоминаются пять писем, полученных им от Толстого в 1876 году, и два письма, полученные в 1878 году; все эти письма были уничтожены Урусовым в порыве религиозного фанатизма.
В письме от 28 марта 1876 года А. А. Толстая писала, что она не знает определенно, во что верит Лев Николаевич. Отвечая на это письмо, Толстой писал ей 14 апреля: «Вы говорите, что не знаете, во что я верую. Странно и страшно сказать: ни во что из того, чему учит нас религия, а вместе с тем, я не только ненавижу и презираю неверие, но не вижу никакой возможности жить без веры, и еще меньше возможности умереть. И я строю себе понемножку свои верования, но они все, хотя и тверды, но очень неопределенны и неутешительны. Когда ум спрашивает, они отвечают хорошо; но когда сердце болит и просит ответа, то нет поддержки и утешения»343.
В тот же день, когда Толстой писал это письмо, он написал также «философское» письмо Н. Н. Страхову, дающее представление о тех «верованиях», которые складывались у него в то время344.
236
Толстой отвечает на письмо Страхова от 8 апреля, написанное по прочтении посланной ему Толстым статьи «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни». Эта статья не удовлетворила Страхова; рассуждения Толстого, в ней изложенные, он нашел давно известными.
«Ваше письмо, — писал Страхов 8 апреля, — есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Они точно так же начинали от себя, от cogito — ergo sum [я мыслю, следовательно — существую], от я, от сознания, воли и отсюда выводили понятие об остальном существующем. Ваше изложение этого хода мыслей представляет только бо̀льшую общность и конкретность — великие достоинства. «Прежде всего я знаю, что я живу; главный вопрос философии есть: что такое жизнь? что такое смерть? не решив этого вопроса, нельзя говорить о мертвом не только как об основании живого, но и вообще как о чем-то существующем...» Но это все-таки то, что я называю субъективизмом. К чему мы должны прийти, делая себя меркою существующего? К тому, чтобы признать все существующее однородным с нами и нам подобными. Исходная точка здесь определяет все дальнейшее, и мы, беспрестанно стремясь к выходу, никогда не найдем его. Что мы положили с начала, то самое вынесли при конце. Ибо мы желаем — скажу прямо — чего-нибудь от нас совершенно отличного и для нас непостижимого и только соприкасающегося с нами. Путем субъективизма мы никогда не дойдем ни до чего подобного, ни до чего иррационального».
Подобно тому, как ранее Страхов неоднократно писал Толстому, что он ставит его художественные произведения выше, его педагогических статей, так и теперь он пишет Толстому, что ставит его художественные произведения несравненно выше его философских рассуждений.
«Я жду от Вас откровений, — писал Страхов, — как те откровения, которые нашел у Вас в такой силе и множестве в Ваших поэтических произведениях... Таинственные силы, управляющие людской жизнью, Вам видимы. И по своей натуре Вы смотрите на них с той высоты, на которую могут возвести человека лишь высшие философские и религиозные созерцания. Но Вы пытаетесь, сверх того, подвергнуть их анализу, привести Ваш взгляд в формулы обыкновенного знания. Я заранее уверен, что результаты, которые Вы получите, будут во сто раз беднее содержания Ваших поэтических созерцаний. Посудите, например, могу ли я, глядя на жизнь, разлитую в Ваших произведениях,
237
не ставить их бесконечно выше того, что толкует о жизни Шопенгауэр или Гегель, или кто Вам угодно»345.
Рассуждения Страхова были совершенно справедливы, но он забывал, что Толстой усиленно размышлял над основными вопросами человеческого бытия прежде всего не для того, чтобы передавать другим результаты своих размышлений, а для того, чтобы дать себе самому ясные ответы на мучившие его вопросы. Это совершенно очевидно из письма Толстого к А. А. Толстой от 14 апреля 1876 года, где он писал: «Летом же буду заниматься теми философскими и религиозными работами, которые у меня начаты не для печатания, но для себя»346.
В своем ответном письме от 14 апреля Толстой не согласился со Страховым и продолжал отстаивать ту точку зрения, какую излагал в своей статье.
Жизнь, — писал он, — есть «отъединение части, любящей себя, — от остального». «Человек знает только живое. Поэтому для живущего доступно только живое, подобное ему; все же, представляющееся ему мертвым, есть живое, недоступное ему. Оно-то и есть непостижимое и не только соприкасающееся, но обнимающее его».
Все «бесконечно существующее есть живое, не имеющее себе пределов, т. е. объединяющее, любящее всё, как самого себя». «Бог — живой — любовь — есть необходимый вывод разума и вместе с тем бессмыслица, противная разуму». «Из бесчисленного количества людей и других существ составляется, вероятно, одно целое живое, жизнь которого нам недоступна, как недоступна жизнь всего организма клеточке». «Я не могу понять бога, к которому я пришел, отыскивая смысл своей жизни»; но «само устройство моего разума побуждает меня к тому, чтобы стремиться понимать его». «Пределов его я не могу понять, но сущность его мне несомненно известна, потому что она есть то самое, что составляет мою жизнь — любовь (во мне ко всему тому, что объединено мною) в нем к тому, что объединено им, ко всему. И каждый человек ...невольно чувствует... что он любим, что он есть средство, часть и вместе цель».
«Боюсь, — писал Толстой в заключении письма, — что вы, покачав головой, пожалеете, что я тронут рассудком. Может быть, но очень приятно тронут».
Это письмо Толстого понравилось Страхову. «Меня растрогали Ваши мысли, — писал он Толстому в конце апреля. — Вместо того ужаса перед жизнью, который так хорошо выражает Шопенгауэр, вместо той возможности страдания и гибели, которою мы окружены со всех сторон и каждую минуту, Вы
238
видите в мире бога живого и чувствуете его любовь. Теперь мне ясна Ваша мысль, и, сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие философские системы».
Но Страхова смущает то, что по Толстому «высшее благо есть душевная красота, то есть благо совершенно субъективное». «Ведь это значит, — недоумевает Страхов, — отречься от искания всякого блага вне меня, признать, что нет такого блага...» Окончание письма Страхова не сохранилось347.
Самого Толстого философия, изложенная в письме к Страхову, удовлетворяла, по-видимому, недолго. В «Анне Карениной» рассказывается, что Левин «одно время, читая Шопенгауэра... подставил на место его воли — любовь, и эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его; но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее, и оказалась кисейною, не греющею одеждой»348.
29 апреля Толстой ответил на письмо Фета от 8 марта, в котором его поразили слова: «Было одно время так плохо, что хотел просить вас приехать посмотреть, как я уйду». Толстой писал:
«Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы думали, что близко. Я то же сделаю, когда соберусь туда, если буду в силах думать. Нам с вами не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены; но мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а вы и редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану — в беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. А люди житейские — попы и т. п., сколько они ни говори о боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, — именно того бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного...
Бог Саваоф с сыном, бог попов есть такой же маленький и уродливый, невозможный бог (и еще гораздо более невозможный), чем для попов был бы бог мух, которого бы мухи себе воображали огромной мухой, озабоченной только благополучием и исправлением мух».
239
«Вы больны, — писал далее Толстой, — и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде».
«А впрочем, — вдруг неожиданно заканчивает Толстой свое письмо стихами Беранже:
Mourir vient de soi-même.
N’en ayons point souci.
Bien vivre est le problème
Qu’il faut résoudre ici.
[Смерть придет сама собой. Это не наша забота. Хорошо прожить — вот задача, которую надо разрешить здесь].
И даже иначе нельзя»349.
XXXV
Страхов продолжал писать Толстому восторженные письма по поводу новых глав «Анны Карениной», появлявшихся в «Русском вестнике». 8 мая он писал:
«Последнюю, апрельскую часть я по обыкновению прочитал два раза сряду. Мне кажется, что вообще в последних трех книжках Вы вошли в полную Вашу силу. Какая оригинальность! Описание свадьбы, исповеди, смерти, посещения художника, первой ревности, — все эти и множество других вещей, до того обыкновенных, что высокоумные романисты пренебрегают ими и все ищут чего-нибудь почуднее и поважнее, — эти предметы, очевидно, описаны Вами в первый раз и до Ваших описаний существовали только в рассказах каких-нибудь очень простых и очень добрых людей, и вот теперь озарено полным светом художества»350.
Толстого радовали и ободряли письма Страхова. «Получил ваши два письма, дорогой Николай Николаевич, — писал он Страхову 18 мая, — и задыхался от радостного волнения, читая их»351.
С наступлением весны и затем лета условия жизни Толстого изменились: усилились хозяйственные заботы; в Ясной Поляне появилось много гостей — родственников и знакомых. Эта перемена после напряженной умственной жизни в истекшую зиму казалась сначала Толстому странной и непривычной. 12 мая он писал Фету: «У нас началась весенняя, летняя жизнь, и полон дом гостей и суеты. Эта летняя жизнь для меня точно как сон; кое-что, кое-что остается из моей реальной зимней жизни,
240
но больше какие-то видения, то приятные, то неприятные, из какого-то бестолкового, не руководимого здравым рассудком мира»352.
Но через некоторое время Толстой привык к новым летним условиям яснополянской жизни и уже не тяготился ими. 8 июня он писал Страхову: «Пришло лето прекрасное, и я любуюсь и гуляю и не могу понять, как я писал зимою»353. В тот же день он писал Фету: «Нынешнее лето на меня почему-то особенно сильно действует, и, если бы я был вы, я всё бы писал стихи. Очень все красиво нынешний год»354.
В середине июля в Ясной Поляне побывал Н. Н. Страхов, с которым Толстой, как писал он Фету 21 июля, «нафилософствовался до усталости»355.
30 июля Толстой, как писал он на другой день Страхову, «попробовал заниматься», т. е. продолжать «Анну Каренину». Он решил «заставить себя работать»356; однако сведений о продолжении работы над романом мы не имеем.
В августе Толстой сделал две поездки. С 12 по 16 августа он провел у Фета, у которого покупал лошадей для своего будущего конского завода. Этот завод он намеревался устроить на самарском хуторе. С 29 по 31 августа Толстой вместе с женой провел у Д. А. Дьякова в его имении Черемошня на свадьбе его дочери.
3 сентября Толстой вместе с племянником Николаем Валерьяновичем Толстым, сыном сестры, которому в то время было 25 лет, выехал из Ясной Поляны по железной дороге в Москву и затем в Нижний Новгород. 4 сентября из Нижнего Новгорода выехали на пароходе в Самару.
Толстой всегда очень интересовался своими спутниками. На этот раз вместе с ним ехал купец Деев, торговавший с Туркестаном, владелец 100 тысяч десятин земли и конского завода в 1500 голов лошадей, один из арендаторов елецких казенных копей. Толстому было интересно с ним беседовать.
Вообще же окружавшее его на пароходе общество оказалось, к огорчению Толстого, «скучнейшее» и «безвкуснейшее», как писал он жене 7 сентября.
5 сентября приплыли в Казань, где переночевали в гостинице, так как нужно было пересесть на другой пароход.
«Казань возбуждает во мне своими воспоминаниями неприятную грусть», — писал Толстой в тот же день жене. У него не было желания побывать у кого-нибудь из прежних казанских знакомых, и он весь вечер не выходил из номера гостиницы,
241
проведя время в разговорах с Деевым. «Писать как будто очень хочется», — сообщал Толстой жене в том же письме357.
Из Самары, куда прибыли 7 сентября, Толстой в тот же день по железной дороге выехал в Оренбург. Целью поездки в Оренбург была покупка лошадей для предполагавшегося конского завода.
В Оренбурге Толстому было «очень интересно», как телеграфировал он жене 12 сентября358.
Оренбург, писал историк местного края А. Алекторов, «по облику наполовину европейский, наполовину азиатский город... Русское население его, в летнее время особенно, теряется в разношерстном сброде народов Азии — киргиз, татар, башкир, хивинцев, бухарцев, в меньшинстве проживающих в Оренбурге, постоянно и в большинстве наезжающих в него летом с среднеазиатскими товарами. Это обилие разнообразных азиатских типов, пестрота и оригинальность азиатских костюмов, беспрерывные караваны верблюдов, почти исключительно всаднический способ передвижения и не на одних лошадях и верблюдах, нередко на ишаках и коровах, азиатская речь, сопровождаемая ревом верблюдов, — все это вместе взятое представляет весьма любопытное и подчас курьезное зрелище для всех приезжавших в Оренбург из внутренних местностей России...
Но этим и ограничивается вся прелесть оренбургской жизни; во всех других отношениях она не имеет ничего более или менее привлекательного. Все площади и большинство улиц немощеные, вследствие чего при господствующей здесь сухости воздуха и при песчаном грунте с каждым небольшим ветром весь город окутывается непроницаемым облакам пыли...
Внешние условия оренбургской жизни прозаичны и непривлекательны. Несмотря, однако, на это, жизнь кипит в нем ключом. Я не говорю здесь о жизни умственной или жизни общественной, она в застое, до невозможности вялая, отталкивающая. Оренбург — преимущественно город торговли; ежедневно в нем совершаются сотни крупных торговых операций, сделок и т. п. Обозы на волах с кожами, шерстью и другим степным сырьем, караваны с хлопком беспрерывно тянутся по оренбургским улицам, направляясь частию к станции железной дороги, частию заворачивая в ворота купеческих домов. Несмотря на убийственную жару, наводящую лень и апатию, здесь все бойко двигаются, суетятся, хлопочут»359.
Толстой побывал у оренбургского генерал-губернатора Н. А. Крыжановского, своего товарища по севастопольской
242
обороне, у которого ему, как Софья Андреевна 1 октября писала сестре, было «очень приятно»; был также у купца Деева, который почему-то очень полюбил его и подарил ему тигровую шкуру; сделал по указаниям Деева несколько поездок на конские заводы, расположенные вблизи Оренбурга. Не виданные им до того оренбургские степи поразили его своей особой красотой. «Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованные быстрые ноги башкирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на заду сидел сторожевой зверок, предупреждавший об опасности пронзительным свистом, и скрывался в нору». Так в 1906 году описывал Толстой в рассказе «За что?» переезд Мигурских из Уральска в Саратов.
Лошади были закуплены, и 20 сентября Толстой через Сызрань, Моршанск, Тулу приехал в Ясную Поляну. Поездка его оказалась «очень хороша», «очень интересна», «чудесна», как по приезде писал он Страхову и Фету, хотя он и «устал ужасно»360.
Закупленные в Оренбурге лошади были отправлены в самарский хутор. Толстой предполагал произвести слияние культурных кровей английских и русских рысистых со степными башкирскими, киргизскими и калмыцкими. Завод разросся до четырехсот голов, «но пошли голодные года, лошади стали падать, и в 1880 годах это дело как-то растаяло незаметно»361.
XXXVI
Возвратившись из поездки в Оренбург, Толстой, как писал он Страхову 12 ноября, надеялся приняться за «Анну Каренину», окончить «давящую» его работу и взяться за новую362. Но ожидания его не сбылись.
Конец сентября, весь октябрь и первая половина ноября прошли в бездействии. 10 октября Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской, что Лев Николаевич «за писание свое еще не взялся..., много читает и гуляет, и думает, и собирается писать».
«Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах», — писал Толстой Страхову в том же письме 12 ноября.
Мрачное настроение Толстого еще усиливалось тревожной политической обстановкой, складывавшейся в стране.
243
В 1875 году произошло восстание славян против турецкого владычества в Боснии и Герцеговине. В 1876 году в Болгарии была сделана попытка восстания, жестоко подавленная турецким правительством. В июне того же года Сербия и Черногория объявили войну Турции. В Москве и в Петербурге образовались Славянские комитеты во главе с И. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, В. И. Ламанским, А. Д. Блудовой, которые усиленно пропагандировали добровольческое движение в пользу восставших славян; консервативная печать (Катков в «Московских ведомостях») поддерживала движение. Сотни лиц изъявили желание принять личное участие в борьбе с турками и отправиться в Сербию в качестве добровольцев.
Толстой считал шумиху вокруг добровольческого движения чуждой народу, искусственно созданной лицами, стремящимися играть роль в политических событиях. 27 сентября 1876 года он писал Фету, что во время поездки в Самару и Оренбург «отдохнул от всей этой сербской бессмыслицы»; «но теперь, — писал Толстой далее, — опять только и слышу и не могу даже сказать, что ничего не понимаю, — понимаю, что все это слабо и глупо»363.
В воздухе пахло войной.
В начале ноября Толстой ездил в Москву исключительно с целью проверить слухи об угрожающей войне. По возвращении он писал Фету 12 ноября: «Все это волнует меня очень... Мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история, как дама, какая-нибудь Аксакова [Анна Федоровна Аксакова, жена И. С. Аксакова, дочь Ф. И. Тютчева] с своим мизерным тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине»364.
Мрачное настроение лишало Толстого возможности работать, и эта праздность была ему очень тяжела. «Что мне суждено судьбой — не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней, а уважение к ней дается мне только известного рода трудом, — мучительно», — писал Толстой Страхову 12 ноября.
Стремясь понять причины своей почти двухмесячной умственной бездеятельности, Толстой тогда же писал Страхову,
244
что это «или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы»365.
Последнее предположение оказалось справедливо.
18 ноября Толстой спешит сообщить Страхову, что он «немножко ожил», перестал «презирать себя» и льстит себя «гордой надеждой», что на него «нашло» художественное творчество366.
20 ноября С. А. Толстая записывает в дневнике:
«Всю осень он [Лев Николаевич] говорил: «Мой ум спит», и вдруг, неделю тому назад, точно что расцвело в нем: он стал весело работать и доволен своими силами и трудом. Сегодня, не пивши еще кофе, молча сел за стол и писал, писал более часу, переделывая главу Алексея Александровича в отношении Лидии Ивановны и приезд Анны в Петербург». (Говорится о XXII и XXIII главах пятой части «Анны Карениной»).
На другой день, 21 ноября, С. А. Толстая записывает:
«Подошел и говорит мне: «Как это скучно — писать». Я спрашиваю: «Что?» Он говорит: «Да вот я написал, что Вронский и Анна остановились в одном и том же номере, а это нельзя, им непременно надо остановиться в Петербурге, по крайней мере, в разных этажах. Ну и, понимаешь, из этого вытекает то, что сцены, разговоры и приезд разных лиц к ним будет врозь, и надо переделывать»367.
Работа успешно продолжалась всю вторую половину ноября и первую половину декабря. «Я, слава богу, работаю уже несколько времени и потому — спокоен духом», — писал Толстой Страхову 6 декабря; и Фету в тот же день: «Я понемножку начал писать и доволен своей судьбой»368. Около того же времени Толстой писал брату: «Писанье идет у меня успешно. Я долго не мог наладиться, а теперь пошло, и это очень радостное чувство»369.
9 декабря С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «„Анну Каренину“ мы пишем наконец-то по-настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, каждый день прибавляет по новой главе. Я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат готовые листки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфировал третьего дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки».
По-видимому, к этому периоду работы над «Анной Карениной» относится позднейшее воспоминание Толстого, записанное писателем С. Я. Елпатьевским. 25 июня 1902 года С. Я. Елпатьевский
245
провожал Толстого, уезжавшего из Крыма; они сидели на палубе на канатах, сложенных на носу парохода.
«Лев Николаевич расспрашивал меня о деле, которым в то время я много занимался, — об устройстве в Крыму приезжих бедных туберкулезных людей — и горячо высказывал свое сочувствие этому делу и вдруг неожиданно спросил: «Сколько вам лет?» Я ответил, что сорок восемь. К моему удивлению, лицо его сразу сделалось серьезным, даже суровым, он взглянул на меня исподлобья пронизывающим и — я не могу найти другого выражения — завистливым взглядом и, отвернувшись, угрюмо выговорил: «Сорок восемь!.. Самое лучшее время моей работы... Никогда так не работал».
Он перестал любоваться Ялтой, долго молчал и потом тихо выговорил — должно быть, больше себе, чем мне:
— «Анну Каренину» писал...»370.
XXXVII
Около 12 декабря 1876 года Толстой приехал в Москву, чтобы передать Каткову рукопись продолжения пятой части «Анны Карениной».
В это пребывание Толстого в Москве произошло его знакомство с П. И. Чайковским.
Как вспоминал впоследствии Чайковский в письме к Н. Ф. фон Мекк от 19 февраля 1879 года, Толстой приехал в Московскую консерваторию и сказал директору Н. Г. Рубинштейну, с которым был знаком, что не уедет до тех пор, пока Чайковский не сойдет вниз и не познакомится с ним. Когда Чайковский пришел, Толстой сказал ему: «Я хочу с вами поближе сойтись, мне хочется с вами толковать про музыку». «И тут же, после первого рукопожатия, — писал Чайковский, — он изложил мне свои музыкальные взгляды. По его мнению, Бетховен бездарен. С этого началось»371.
Чайковский был ошеломлен этим задорным, вызывающим и потому совершенно неточным изложением Толстым своего взгляда на Бетховена.
После этого Толстой несколько раз был у Чайковского и провел у него два вечера. 23 декабря Чайковский писал А. Давыдовой: «На днях здесь провел несколько времени граф Л. Н. Толстой. Он у меня был несколько раз, провел два целых вечера. Я ужасно польщен и горд интересом, который ему
246
внушаю, и с своей стороны, вполне очарован его идеальной личностью»372.
25 декабря Чайковский писал С. И. Танееву: «Последнее время я очень часто виделся и близко познакомился с писателем графом Л. Н. Толстым. Прелестная личность и очень любящая музыку»373.
Вспоминая знакомство с Толстым, Чайковский 30 августа 1877 года писал Н. Ф. фон Мекк: «Нынешнею зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем графом Л. Н. Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину»374.
Из письма Чайковского к тому же адресату от 28 сентября 1883 года видно, что в один из вечеров, проведенных Толстым у Чайковского, Толстой отстаивал мнение об искусственности оперного рода музыки; Чайковский соглашался с ним. Ничего не зная об этом разговоре, Н. Ф. Мекк в том письме, на которое отвечал Чайковский, высказывала свои суждения об опере, аналогичные с мнениями Толстого. Чайковский писал ей: «Ваш взгляд на несостоятельность театральной музыки, по-видимому, несколько парадоксальный, мне нравится. Точно так же, как Вы, смотрит на оперу Лев Толстой, который очень советовал мне бросить погоню за театральными успехами. Человек..., подобно Толстому проведший долгие годы безвыездно в деревне, занимаясь исключительно делами семейными, литературой и школьными делами, должен живее другого чувствовать всю фальшивость и лживость оперной формы. Да и я, когда пишу оперу, чувствую себя стесненным и несвободным»375.
Чайковский подарил Толстому ноты нескольких своих композиций, в том числе «Бурю» и «Зимние грезы». «Бурю» Чайковский лично исполнил в присутствии Толстого376. По словам С. Л. Толстого, «Зимние грезы» нравились Льву Николаевичу больше других пьес Чайковского377.
247
По просьбе Чайковского Н. Г. Рубинштейн устроил в Консерватории музыкальный вечер для одного Толстого, на котором между прочим исполнялись камерные и вокальные произведения Чайковского. На Толстого особенно сильное впечатление произвело Andante cantabile из De-dur’ного квартета Чайковского. 1 июля 1886 года Чайковский записал в своем дневнике: «Может быть, ни разу в жизни я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л. Н. Толстой, слушая Andante моего первого квартета и сидя рядом со мною, залился слезами»378.
После концерта был ужин.
На Толстого все участники концерта произвели самое приятное впечатление. По возвращении около 18 декабря в Ясную Поляну он писал Чайковскому: «И какой милый Рубинштейн!.. Он мне очень понравился. Да и все эти жрецы высшего в мире искусства, заседавшие за пирогом, оставили мне такое чистое и серьезное впечатление».
«А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, — писал далее Толстой, — я не могу вспомнить без содрогания... И это мое последнее пребыванье в Москве останется для меня одним из лучших воспоминаний. Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер».
По-видимому, в один из вечеров, проведенных Толстым у Чайковского, разговор зашел о русских народных песнях. Толстой рекомендовал Чайковскому какой-то сборник русских народных былин и песен с записью мотивов. Вероятно, это был известный сборник Кирши Данилова, вышедший впервые в 1804 году. Вернувшись в Ясную Поляну, Толстой вместе с письмом послал Чайковскому этот сборник, предлагая ему обработать напечатанные в нем песни «в моцарто-гайденовском роде, а не в бетховено-шумано-берлиозо-искусственном, ищущем неожиданного роде».
Толстой писал далее, что он многого «не договорил» с Чайковским — «даже ничего не сказал из того, что хотел». Это потому, что «некогда было»: «я наслаждался».
В заключение письма Толстой писал: «Вещи ваши еще не смотрел, но, когда примусь, буду — нужно ли вам или не нужно — писать свои суждения и смело, потому что я полюбил ваш талант»379.
Чайковский ответил Толстому 24 декабря. Он писал, что народные песни и былины в присланном Толстым сборнике «записаны рукой неумелой и носят на себе разве лишь одни следы своей первобытной красоты». Вспоминая музыкальный вечер в
248
Консерватории, Чайковский писал: «Как я рад, что вечер в Консерватории оставил в вас хорошее воспоминание! Наши квартетисты играли в этот вечер как никогда. Вы можете из этого вывести заключение, что пара ушей такого великого художника, как вы, способны воодушевить артистов в сто раз больше, чем десятки тысяч ушей публики. Вы один из тех писателей, которые заставляют любить не только свои сочинения, но и самих себя. Видно было, что играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека»380.
Но Толстой, увлекшись другими занятиями, так и не собрался написать Чайковскому «свои суждения» о его музыкальных произведениях, и переписка его с Чайковским не возобновлялась. Личных встреч Толстого с Чайковским также больше не было.
XXXVIII
На рождественские и новогодние праздники в канун 1877 года в Ясную Поляну по обыкновению съехалось много родных и знакомых.
В числе гостей был молодой студент Московского университета Н. И. Шатилов, сын знакомого Толстого, председателя Московского комитета грамотности и образцового сельского хозяина И. Н. Шатилова. В своих позднейших воспоминаниях Н. И. Шатилов рассказывает: «Графу тогда было, вероятно, лет 47 или 48, он был высокого роста, худощавый, широкоплечий и с хорошо развитыми мышцами человек. Что больше всего привлекало в его наружности, так это выразительные, глубоко сидящие под густыми бровями, темноголубые глаза, в которых отражались все испытываемые им впечатления; при спокойном состоянии выражение их было задумчивое и доброе. Хотя тогда граф и не увлекался еще теми идеями, которые стал проповедовать впоследствии, но уже и тогда он жил очень просто и обыкновенно ходил в серой суконной блузе, подпоясанной ремнем. При разговорах граф любил расспрашивать своих собеседников и узнавать их взгляды на различные вопросы. В нем была заметна большая наблюдательность, и он интересовался даже разными мелкими деталями. Так, я помню, что он расспрашивал меня, из каких классов общества происходят некоторые выдающиеся художники... Мне думается, что в то время он больше заставлял говорить своих собеседников, чем говорил сам».
Н. И. Шатилов очень живо описывает появление в яснополянском доме «толпы ряженых дворовых людей и рабочих. Граф и графиня приняли их ласково и просто. Ряженые плясали, выкидывали всякие коленца и веселились, как у себя дома,
249
безо всякого стеснения..., хозяева шутили с ними и смеялись их остротам и прибауткам. Графу, очевидно, нравилось их веселье»381.
В декабрьской книжке «Русского вестника» за 1876 год появились XX—XXIX главы пятой части «Анны Карениной». По поводу этих глав Страхов 3 января 1877 года писал Толстому: «Редко я испытывал такое наслаждение, так хорошо смеялся и плакал. Свидание Карениной с сыном — что за диво! И затем наплыв страсти и пробуждение дурных инстинктов — все удивительно. Лидия Ивановна — как это знакомо и как это совершенно ново! Были строчки, которые заставляли меня вздрагивать и поворачиваться — так поражала их правда и глубина. Но описание Большого театра неверно; Вы смешали тут и Михайловский, и Александринский»382.
13 января А. А. Толстая писала Толстому о впечатлении, произведенном «Анной Карениной» в Петербурге: «Все утонули в упоении этих последних глав... Всякая глава «Анны Карениной» подымала все общество на дыбы, и не было конца толкам, восторгам, и пересудам, и спорам, как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком»383.
16 января Страхов еще раз писал Толстому о своем впечатлении от последних глав «Анны Карениной»:
«Что касается до «Анны Карениной», то должен сообщить Вам, что здесь — общий восторг. Я все раздумывал, не подкуплен ли я своим хорошим расположением духа и любовью к Вам; но слышу со всех сторон, что мое впечатление — необычайной свежести и силы этого отрывка — повторяется у всех. Стасов говорит, что не одобряет содержания романа, но что тут сила изображения, скульптурность, как он выражается, такова, что Тургенев в подметки не годится... Даже передовые педагоги находят, что в изображении Сережи заключаются важные указания для теории воспитания и обучения.
Наоборот «Новь» шлепнулась самым жестоким образом»384.
Толстой после рождественских и новогодних праздников вновь усердно принялся за работу над романом. «Пишу, доканчивая свою «Анну Каренину», и мечтаю о новом», — писал он брату 10 января385. Страхову Толстой писал 12 января, что он еще не вошел вполне «в состояние веселой работы», но ему кажется, что состояние это «скоро придет» и, если ничто не помешает, он надеется кончить роман «в один период работы». На
250
письмо Страхова от 3 января Толстой отозвался словами: «Вы знаете нашу братью писателей и знали, как порадует меня ваше одобрительное письмо, главное, как оно ободрило меня»386.
Во второй половине января работа вполне наладилась.
26 января Толстой писал Страхову, что уже отослал корректуры «на январскую книжку» «Русского вестника» (главы I—XII шестой части романа). Однако он тут же прибавлял, что «запнулся на февральской книжке» и «мысленно» только выбирается «из этого запнутия». В том же письме Толстой писал Страхову, чо «успех последнего отрывка» (последних глав пятой части, напечатанных в декабрьской книжке «Русского вестника») «порадовал» его. «Я никак этого не ждал, — писал Толстой, — и, право, удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать сплеча, что попало, а делаю какой-то самому мне почти непонятный выбор»387.
В начале февраля Страхов писал Толстому по поводу глав «Анны Карениной», появившихся в январской книжке «Русского вестника»: «А знаете ли — ни одна часть Карениной не имела такого успеха, как эта. Ваши поклонники тут не плакали и не восторгались, но и не находили слов, чтобы выразить всю тонкую прелесть и мастерство этих идиллических сцен... Успех действительно невероятный, сумасшедший. Так читали только Пушкина и Гоголя, набрасываясь на каждую их страницу и пренебрегая все, что писано другими»388.
Между тем в конце января продолжительная напряженная умственная работа привела Толстого к сильным головным болям и приливам крови к голове. Болезненное состояние продолжалось весь февраль, и Толстой с трудом поправил корректуры конца шестой части «Анны Карениной» (главы XIII—XXIX), предназначавшиеся для февральской книжки журнала.
В конце февраля Толстой поехал в Москву сдать в редакцию журнала корректуры романа и посоветоваться с уважаемым им знаменитым врачом-терапевтом Г. А. Захарьиным. Захарьин прописал ему пиявки на спину в своем присутствии389.
Вернувшись в Ясную Поляну 1 марта, Толстой, несмотря на продолжавшиеся приливы к голове, вновь усиленно принялся за работу над романом.
251
XXXIX
Еще 12 ноября 1876 года Толстой писал Страхову, что ему хочется поскорее кончить работу над «Анной Карениной» и «взяться за новое»390. Затем 10 января 1877 года он писал брату, что доканчивает роман и мечтает «о новом»391. Страхову 12 января Толстой пишет, что надеется скоро кончить роман и «опростать место для новой работы, которая все более и более просится»392. Ему же Толстой пишет 26 января: «Очень хочется поскорее кончить [«Анну Каренину»] и начать новое»393.
Ни в одном из этих писем Толстой не дает никакого намека на то, что за «новый» замысел, который уже в течение нескольких месяцев «просится» на бумагу. К счастью, мы имеем запись в дневнике С. А. Толстой 3 марта 1877 года, проливающую свет на упоминания в письмах Толстого о новом замысле. Запись эта важна еще и потому, что сообщает суждения Толстого о том, в чем он сам, автор, видел «главную, основную мысль» и «Войны и мира» и «Анны Карениной».
Софья Андреевна записывает:
«Вчера Лев Николаевич подошел к столу, указал на тетрадь своего писанья и сказал: «Ах, скорей, скорей бы кончить этот роман (т. е. «Анну Каренину») и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль. Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей». И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.».
Далее Софья Андреевна рассказывает, что когда они жили летом 1876 года в самарском хуторе и поехали однажды в гости к казакам, дорогой они встретили «целый обоз» переселенцев — «дети, старики, все веселые». Оказалось, что они едут «на новые места» из Воронежской губернии. «Это очень взволновало тогда и заинтересовало Льва Николаевича». Потом на железной дороге ему рассказали о другом случае переселения. Более ста тамбовских крестьян поехали в Сибирь. Когда они проехали значительное расстояние и у них осталось уже мало хлеба и совсем не было денег, они поселились на земле, принадлежавшей киргизам, посеяли здесь хлеб, убрали его, обмолотили и пошли дальше. На следующий год повторилось то же самое.
252
Наконец, они пришли на границу с Китаем. Там они и поселились на брошенной китайцами и манчжурами земле. «Хотя земля китайцев, но ее стали считать русскою, и теперь она, несомненно, завоевана не войною, не кровопролитием, а этой русской земледельческой силой русского мужика. Манчжуры на них иногда нападают, но русские сделали крепость и защищаются».
«И вот мысль будущего произведения, — пишет С. А. Толстая в заключение своей записи, — как поняла ее я, а кругом этой мысли группируются факты, типы, еще неясные, даже ему самому»394.
В «Анне Карениной» Толстой дважды мимоходом упоминает об этом своем взгляде на назначение русского народа. «Русский народ, — говорит он, — имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства...» И в другой раз: Левин «продолжал излагать свою мысль, состоящую в том, что русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю... По его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке»395.
Таким образом, Толстого вновь привлек к себе эпический замысел, главным героем которого должен был быть русский народ. Но он не мог в то время отдаться исполнению этого замысла и только в следующем, 1878 году пытался осуществить его в новых началах незаконченного романа «Декабристы».
Теперь же он был целиком поглощен работой над окончанием «Анны Карениной». 6 марта он писал Страхову: «Я очень был и есмь занят». Мешают «приливы к голове». «А писать очень хочется и, сколько есть сил, пишу». В письме к Фету от 12 марта Толстой жаловался на то, что «голова болит и мешает работать, что особенно досадно потому, что работа не только приходит, но пришла к концу. Остается только эпилог» (так Толстой называл в то время последнюю часть романа). «И он очень занимает меня»396.
Страхов продолжал радовать Толстого своими письмами по поводу появившихся в «Русском вестнике» новых глав «Анны Карениной». 10 марта он писал:
«Когда подумаю о том, что вышло из «Анны Карениной», то не могу надивиться. Да, это великое произведение, роман во вкусе Диккенса и Бальзака, далеко превосходящий все их романы. Ту часть, которая в феврале, я уже прочитал, и она меня защемила невыразимо. Она поразила и всех тех, которые жалуются на пустоту сюжета, — чувствуют (например, Стасов), что близится трагедия, неотвратимая, роковая... При этом
253
страсть во всей ее силе, с ее всепобеждающими радостями и с той бездной, которая под ними... Боже мой! Да отчего же этого никто и никогда еще не писал? Ведь все это правда, и самая простая, вечная правда»397.
Фет также время от времени сообщал Толстому свои впечатления от новых глав «Анны Карениной». 11 марта 1877 года по поводу поездки Долли к Анне (часть шестая, главы XVI—XXIV) он писал: «И лошади сборные, и кофточка чиненая, и стыдно, и не стыдно, и хорошо, и дурно. — Это до того тонко и верно, что сам Беневенуто Челлини бы позавидовал».
16 марта он же писал по поводу картины дворянских выборов: «Что за прелесть выборы и какая подавляющая сатира!»
12 апреля относительно глав «Анны Карениной», напечатанных в мартовском номере «Русского вестника» (I—XV седьмой части), Фет писал: «Не говорю о мастерстве подробностей — руки болтаются [опьяневший Левин (часть седьмая, глава VIII) чувствовал, что у него при ходьбе особенно правильно и легко болтаются руки], ламповое стекло чистит [сказано о лакее доктора, к которому приехал Левин по случаю начавшихся у Кити родов. Левина изумили «внимательность к стеклам и равнодушие к совершавшемуся» у него событию, — там же, гл. XIV], портрет [Анны] и веются красоты, прекрасно влюбился в Каренину, и — нехорошо, и жена резко ударяет на все это.
Но какая художницкая дерзость — описание родов. Ведь этого никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат об реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть»398.
Фет имел в виду XX главу пятой части «Анны Карениной», где рассказывается, что дважды в жизни Левин пережил такие события, которые «одинаково были вне всех обычных условий жизни, но были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее... Одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которую он никогда и не понимал прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею». Эти два события для Левина были смерть брата Николая и роды Кити.
Глава, описывающая смерть брата Левина, имела в глазах автора особенное значение. Это единственная глава всего романа, которой автор дал отдельное заглавие — «Смерть». Здесь Толстой, смотревший на смерть как на «высочайший момент жизни»399, «старался выразить», как писал он Фету 29 апреля
254
1876 года, «многое» из того, что он сам думал об этом предмете400.
Несомненно, Толстой намеренно заставляет Левина переживать одно за другим эти два события, «выходившие из всех обычных условий жизни».
«Не успела на его [Левина] глазах совершиться одна тайна смерти, остававшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни. Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность».
Этими словами Толстой закончил главу, описывающую смерть Николая Левина.
В конце марта головные боли ослабели и вместе с тем усилилась напряженность работы. «Голова моя лучше теперь, — писал Толстой Фету 23 марта, — но насколько она лучше, настолько я больше работаю». «Март, начало апреля — самые мои рабочие месяцы, — писал он далее, — и я всё продолжаю быть в заблуждении, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что через месяц мне будет совестно это вспоминать»401.
В письме к Страхову, написанном, вероятно, в один день с письмом к Фету, Толстой также писал, что работа над окончанием романа «все более занимает» его; он считает, что кончил роман, надеется в апрельской книжке «Русского вестника» напечатать последнее и просит суда Страхова. «Для меня, — писал Толстой, — такая радость всегда ваши письма и особенно теперь, когда я в каждом жду и нахожу суждение — и всегда слишком пристрастное к моему писанью, которое всё больше и больше занимает меня»402.
В конце марта Страхов прислал Толстому две хвалебных статьи об «Анне Карениной», напечатанных в газете «Голос»: Е. Л. Маркова под заглавием «Тургенев и Толстой в основных мотивах своего творчества» и другую, подписанную псевдонимом «IV» и озаглавленную «Литературная летопись». 5 апреля Толстой известил Страхова, что обе статьи он «сжег, не читая», так как «боялся того расстройства, какое это может произвести» в нем, т. е. боялся нарушения того спокойного, сосредоточенного настроения, какое нужно ему было для продолжения работы. «А я очень был занят и теперь тоже. Я всё, всё кончил, только нужно поправить», — сообщал далее Толстой403.
4 апреля Страхов писал:
«Только вчера прочитал мартовскую «Анну Каренину», бесценный Лев Николаевич, и опять, не только с обыкновенной
255
жадностью, со слезами и со вскакиваниями с места, но и с каким-то новым впечатлением. Роды — я их ждал и предчувствовал — такая же картина, как ночь перед предложением, свадьба, смерть Николая, — одна из тех простых и бессмертных вещей, после которых невольно спрашиваешь себя: как же этого никто до сих пор не написал?.. И кажется, что вы не только берете новые сюжеты, но и исчерпываете их... Но чего я не предчувствовал и что мне показалось еще более новым — это пьяный Левин. Что за невообразимая тонкость!»404.
22 апреля Толстой ответил Страхову на это письмо: «Боюсь и не люблю критик и еще больше — похвал, но не ваших. Они приводят меня в восторг и поддерживают силы к работе»405.
21 апреля Страхов писал Толстому: «Толки об «Анне Карениной» также дают мне немало пищи и радости. Нападения ужасно яры, особенно потому, что нападающие сами не понимают, что их раздражает, а только чувствуют, что что-то их хлещет и обижает. Большинство читает «с удовольствием» и признает в Вас «большой талант». Но беспрестанно попадаются настоящие читатели, которые себя не помнят от восторга и только охают. Одна старая дева, Коптева, бывшая красавица и нигилистка, начитаннейшая и передовейшая, говорила мне, что это «первый роман в свете», что, конечно, справедливо»406.
2 мая вышел в свет четвертый номер «Русского вестника» с главами XVI—XXX седьмой части «Анны Карениной».
7 мая Страхов сообщал Толстому:
«О выходе каждой части Карениной в газетах извещают так же поспешно и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка. И так же врут». «Я знаю одно: совершилось великое событие в русской литературе, явилось новое великое произведение»407.
Наконец, по поводу последних глав седьмой части, напечатанных в апрельской книжке «Русского вестника», Страхов 18 мая писал Толстому: «Последняя часть «Анны Карениной» произвела особенно сильное впечатление, настоящий взрыв. Достоевский машет руками и называет Вас богом искусства. Это меня удивило и порадовало — он так упрямо восставал против Вас. Стасов написал под псевдонимом статью в «Новом времени», в которой провозглашает Вас великим писателем, наравне с Гоголем и Шекспиром, и пророчит Вам вечную славу... Выходит, что другие хвалят Вас не меньше моего»408.
256
XL
Как известно, в последней части «Анны Карениной», которую Толстой в письмах называл «эпилогом», описаны религиозные и философские искания Левина, в основу которых были положены такие же искания самого Толстого.
В последний период работы над «Анной Карениной» философские вопросы мало интересовали Толстого; в это время он не писал никаких философских статей и в письмах к друзьям не затрагивал философских вопросов.
«Я давно не был так равнодушен к философским вопросам, как нынешний год, и льщу себя надеждой, что это хорошо для меня», — писал Толстой Страхову 26 января 1877 года409.
Только 5 апреля Толстой мог написать тому же адресату, что «к весне» он «начинает думать» и теперь особенно оценил высказанную Страховым в его статьях о спиритизме «мысль о разоблачении мнимого познания»410.
Религиозные сомнения, по-видимому, также мало беспокоили Толстого в это время, и в письмах к друзьям он не затрагивал религиозных вопросов.
Но когда А. А. Толстая в письме от 27 января коснулась отношения Толстого к религии, он в первых числах февраля счел нужным ей ответить, что для него «вопрос религии такой же вопрос, как для утопающего вопрос о том, за что ему ухватиться, чтобы спастись от неминуемой гибели, которую он чувствует всем существом своим». «И религия, — писал Толстой, — уже года два для меня представляется этой возможностью спасения». Но хотя он и убежден в том, что «без религии жить нельзя», верить он «не может»411.
В предыдущем письме (от 24 января) к тому же адресату Толстой соглашался с ее утверждением, что «наша любовь и все дела любви никогда не умрут». «Это я подписываю обеими руками и в это верю всей душой», — писал Толстой. Узнав «всю ту силу и глубину любви, которая живет в нас, и почувствовав это, нельзя не верить в бога и в то, что он есть любовь», — писал он далее412.
3 марта С. А. Толстая записывает в дневнике слова Льва Николаевича, что он «не мог бы жить долго в той страшной борьбе религиозной, в какой находился эти последние два года, и теперь надеется, что близко то время, когда он сделается вполне религиозным человеком»413.
В письме к Фету от 14 апреля Толстой впервые посвящает его в свои религиозные искания. Прочитав в письме Фета (оно
257
неизвестно) какие-то мысли «о сущности божества», Толстой пишет ему: «Вы в первый раз говорите мне о божестве — боге. А я давно уж, не переставая, думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать. Не только можно, но должно. Во все века лучшие, т. е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем так же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти как»414.
Тут же Толстой рекомендует Фету (как раньше А. А. Толстой) «Мысли» Паскаля — религиозного писателя XVII века, который больше всех других удовлетворял его. А. А. Толстой он писал 20 марта 1876 года относительно «Мыслей» Паскаля: «Какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю лучше жития»415.
Однако ни философские, ни религиозные искания в данный период жизни Толстого не были так остры и мучительны, как раньше. В письме к Страхову от 22 мая Толстой порадовался тому, что Страхов, как писал он, чувствовал себя духовно крепче. Толстой прибавлял: «Я про себя тоже могу сказать, что чувствую себя крепче»416. По-видимому, это надо понимать в том смысле, что Толстой приблизился к вере, как об этом можно судить по эпилогу «Анны Карениной».
XLI
14 апреля Толстой пишет Фету, что «конец» его романа уже набран и он читает корректуры; он надеется «праздновать свое освобождение и конец работы около 28 апреля»417.
15 апреля Софья Андреевна сообщает сестре, что Лев Николаевич пишет «эпилог» к «Анне Карениной».
22 апреля Толстой уже писал Страхову, что не отосланных в редакцию рукописей у него более нет. Корректуры одни уже отосланы, другие еще не присланы, и он испытывает особенное душевное состояние: «И грустно, и одиноко, но свободно»418
Однако чтение корректур затянулось, и еще 10 мая Толстой писал Фету, что он «все привязан к своей работе»419.
22 мая Толстой пишет Страхову, что он дважды прочитал корректуры последней части «Анны Карениной» и ожидает третьей корректуры420.
Но эта последняя часть «Анны Карениной» не появилась в «Русском вестнике». Оказалось, что Катков не разделял выраженных и ней Толстым взглядов на добровольческое движение в пользу восставших сербов и стал просить Толстого некоторые
258
места смягчить, а другие совершенно выпустить. Это несогласие Каткова с его взглядами для Толстого не было неожиданным. «Я осуждаю именно таких людей, как он», — писал он Страхову 22 мая.
Как известно, Толстой в «Анне Карениной» устами старого князя Щербацкого осуждал журналистов типа Каткова, призывавших к войне с Турцией: «Я только бы одно условие поставил... Alphonse Karr прекрасно это писал перед войной с Пруссией. „Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну, — в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!“»421.
Толстой не пошел ни на какие уступки, отобрал у «Русского вестника» рукопись и, по совету Страхова, выпустил последнюю часть романа отдельным изданием. 9 июля Ф. Рис, владелец типографии, где печаталось издание, привез Толстому только что отпечатанный экземпляр книжки. Катков в № 5 «Русского вестника» напечатал следующую заметку «От редакции». «В предыдущей книжке под романом „Анна Каренина“ выставлено: „Окончание следует“. Но со смертью героини собственно роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».
10 июня Т. А. Кузминская, гостившая в Ясной Поляне, писала своему мужу А. М. Кузминскому, что «заметка» «Русского вестника» «страшно взбесила» Толстого, и он «пишет объяснение очень остроумно, колко», которое намерен послать в газету «Новое время». Но на другой день Т. А. Кузминская сообщила мужу, что Толстой «позлился три дня... и потом решил, что смиренномудрие — главное» и не отослал письма в газету. Н. Н. Страхов 16 августа писал Толстому: «Я видел, как Вы приняли первую выходку Каткова, как взволновались и потом прогнали от себя дурное чувство. Очень мне это понравилось»422.
Софья Андреевна, сообщала далее Т. А. Кузминская в том же письме, «написала от себя объяснение, почему не печатается в „Русском вестнике“ и, подписавшись „Одна из читательниц“, отправила в одну из петербургских газет». «Мы все одобряли, и Левочка остался доволен»423.
Письмо С. А. Толстой за подписью «Г. С. ***» (Графиня София) появилось в № 463 газеты «Новое время» за 1877 год.
259
В своем письме С. А. Толстая заимствовала несколько строк из черновиков письма Толстого в ту же газету424. Вот текст письма С. А. Толстой:
«М[илостивый] Г[осударь], позвольте заявить чрез вашу газету следующее: «В майской книжке „Русского вестника“ на странице 472-й находится заметка относительно непоявления в этой книжке последних глав романа „Анна Каренина“, и вот ее содержание: [приводится текст заметки «Русского вестника»]. Зная из самых верных источников настоящую причину непоявления в „Русском вестнике“ последних глав романа „Анна Каренина“, считаю долгом довести до сведения публики всю истину:
Роман не кончился со смертью героини, а конец его был уже набран для „Русского вестника“ и готовился к печати, но не напечатан только потому, что автор не согласился исключить из него, по желанию редакции, некоторые места, редакция же, со своей стороны, не согласилась печатать без выпуска, хотя автор предлагал редакции сделать всякие оговорки, какие бы она нашла нужным.
Так как я считаю весьма неудовлетворительным лаконическое изложение не приобретенного, но прочтенного редакцией конца романа, то в утешение всем нам, читательницам и читателям, могу сообщить из самых верных источников, что последние главы печатаются отдельной книжкой и появятся в самом непродолжительном времени».
Около 10 июня 1877 года Страхов приехал в Ясную Поляну. Он подал Толстому мысль просмотреть «Анну Каренину», чтобы приготовить ее для отдельного издания, причем первый просмотр брал на себя. Толстой согласился. О совместной с Толстым работе по подготовке издания «Анны Карениной» Страхов оставил воспоминания, датированные 18 сентября 1880 года. Эти воспоминания представляют большую ценность как документ, характеризующий приемы работы Толстого над своими произведениями. Страхов писал:
«Я взялся прочитывать наперед, исправлять пунктуацию и явные ошибки и указывать Льву Николаевичу на места, которые почему-либо казались мне требующими поправок, — преимущественно, даже почти исключительно, неправильности языка и неясности. Таким образом, сперва я читал и наносил свои поправки, а потом Лев Николаевич. Так дело шло до половины романа, но потом Лев Николаевич, все больше и больше увлекаясь работой, перегнал меня, и я исправлял после него, да и прежде всегда просматривал его поправки, чтобы убедиться, понял ли я их и так ли работаю, потому что мне предстояло держать корректуру.
260
Утром, вдоволь наговорившись за кофеем (его подавали в полдень на террасе), мы расходились, и каждый принимался за работу. Я работал в кабинете, внизу. Было условлено, что за час или за полчаса до обеда (5 часов) мы должны отправляться гулять, чтобы освежиться и нагулять аппетит. Как ни приятна была мне работа, но я, по свойственной мне внимательности, обыкновенно не пропускал срока и, изготовившись на прогулку, принимался звать Льва Николаевича, он же почти всегда медлил, и иногда его было трудно оторвать от работы. В таких случаях следы напряжения сказывались очень ясно: был заметен легкий прилив крови к голове, Лев Николаевич был рассеян и ел за обедом очень мало.
Так мы работали каждый день больше месяца.
Этот упорный труд приносил свои плоды. Как я ни любил роман в его первоначальном виде, я довольно скоро убедился, что поправки Льва Николаевича всегда делались с удивительным мастерством, что они проясняли и углубляли черты, казавшиеся и без того ясными, и всегда были строго в духе и тоне целого. По поводу моих поправок, касавшихся почти только языка, я заметил еще особенность, которая хотя не была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетильного стихотворца. А вообще — как много он думает, как много работает головою, — этому я всегда удивлялся, это поражало меня как новость при каждой встрече, и только этим обилием души и ума объясняется сила его произведений»425.
Страхов уехал, не дождавшись окончания исправления Толстым «Анны Карениной» для отдельного издания. 10 июля Толстой извещал его, что надеется «дня через три» закончить свою работу426.
Отдельное издание «Анны Карениной» вышло в свет в январе 1878 года. Корректуру этого издания держал Страхов.
261
Глава четвертая
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
РОМАНА «АННА КАРЕНИНА»
(1873—1877)
I
Творческая история «Анны Карениной» очень несходна с творческой историей «Войны и мира».
Начиная эпопею «Война и мир», Толстой первое время колебался в установлении того исторического рубежа, с которого должно было начаться произведение. Как известно, он думал начать его и с 1812, и с 1811, 1808, 1807 года, пока наконец не остановился окончательно на 1805 годе. Сообразно с изменением времени начала произведения изменялся и его сюжет.
Ничего подобного этим колебаниям не происходило с Толстым при начале работы над будущей «Анной Карениной». Уже первый набросок романа, написанный еще в значительной своей части в конспективном виде, содержал в основных чертах всю историю жизни главной героини — будущей Анны Карениной — с момента ее встречи с будущим Вронским1.
Первый набросок будущей «Анны Карениной»2, не имеющий заглавия, но уже разделенный на двенадцать небольших глав, начинается картиной званого вечера у дамы высшего света (она не названа), на который съезжаются гости после первого представления оперы «Дон Жуан».
262
На первых же страницах дается характеристика общего тона разговоров, которыми занято светское общество: «Разговор не умолкает... Разумеется, говорят зло, иначе и не могло бы это быть предметом веселого и умного разговора». Мишенью злословия служат важный сановник Михаил Михайлович Ставрович и его жена Татьяна Сергеевна — будущие муж и жена Каренины. Говорят о неверности жены Ставровича, которой муж, как кажется, не замечает.
Входит ее брат, которого зовут Леонид Дмитриевич (фамилия не названа); отчества брата и сестры не согласованы. Его имя указывает на то, что первым прототипом будущего Стивы Облонского послужил муж племянницы Толстого Елизаветы Валерьяновны — Леонид Дмитриевич Оболенский. В Леониде Дмитриевиче заметны уже некоторые черты будущего Степана Аркадьевича, — говорится о покоряющей «искренней, веселой улыбке» его «открытого красивого лица».
Входят Ставровичи. Она «в желтом с черным кружевом платье, в венке и обнаженная больше всех».
«Было вместе что-то вызывающее, дерзкое в ее одежде и быстрой походке и что-то простое и смирное в ее красивом румяном лице».
Муж ее производит жалкое впечатление. Он не говорит, а «мямлит», и что говорит, то говорит не вовремя.
Входит Иван Балашов, будущий Вронский, «черный и грубый» мужчина, плешивый несмотря на свои двадцать пять лет. «Его невысокая коренастая фигурка всегда обращала на себя внимание, хотел или не хотел он этого». Между ним и женой Ставровича происходит интимный разговор.
Хозяйка видит «разгоревшееся лицо» Ставрович и, понимая всю «неприличность их уединенного разговора», идет к столу, за которым они сидят, за нею подходят другие, «и вышло незаметно». И автор уже от себя и, конечно, не для печати саркастически замечает по поводу утонченнейших светских приличий: «Можно было на час сходить, и вышло бы хорошо».
Ставрович, видя свою жену оживленно разговаривающей с Балашовым, уже «знал, что сущность несчастия совершилась», а его жена после того вечера не получила ни одного приглашения на балы и вечера большого света.
В следующей главе, действие которой происходит через три месяца после первой, к Михаилу Михайловичу на дачу приходят директор (не сказано — чего) и его друг доктор. Они уже знают о постигшем Ставровича несчастье, но относятся к нему по-разному: директор злорадствует, что хотя Ставрович «имеет доклады у государя» и получил орден Владимира, «зато в семейной жизни он упал так низко»; доктор ужасается тому, «как ужасно устроила судьба жизнь такого золотого человека», послав ему «дьявольское навождение — женитьбу».
263
В следующей, третьей, главе рассказывается о приготовлениях Балашова к скачке. Приходит его старший брат только для того, чтобы сказать, что «тот, при ком» он состоял (первоначально было: «при дворе одно лицо») недоволен тем, что Иван компрометирует Татьяну Ставрович. Но Балашов прекращает разговор, заявив, что ему все равно, «что думают там», и что в этих делах «люди, а не червяки» не слушают никого.
В следующей, четвертой, главе Балашов перед скачкой идет к Ставрович и находит ее унылой и несчастной. Она объявляет, что беременна; он уговаривает ее бросить мужа. Она отказывается, говоря, что муж «ничего не знает и не понимает. Он глуп и зол». Но Балашов знает, что эта неправда. «Ах, если бы он был глуп и зол. А он умен и добр», — думает Балашов.
Пятая глава довольно подробно описывает скачки и падение Балашова. Больше внимания, чем в окончательном тексте, уделяется поэтическому изображению состояния лошади Балашова во время скачки («Так, нужно наддать, — как будто сказала Тани. — О, еще много могу». Еще ровнее, плавнее, неслышнее стали ее усилия». И т. д.).
В шестой главе рассказывается о приезде жены Ставровича домой после скачек и свидания ее с Балашовым. «Она вбежала прямая, румяная и опять, больше, чем когда-нибудь, с тем дьявольским блеском в глазах, с тем блеском, который говорил, что, хотя в душе то чувство, которое она имела, преступленье, нет и нет ничего, что бы остановило».
Она застала мужа разговаривающим с его сестрой и «поняла мгновенно, что говорили о ней». «Враждебное блеснуло в ее взгляде, в ней, в доброй, ни одной искры жалости к этим двум прекрасным (она знала это) и несчастным от нее двум людям...
И как бы радуясь и гордясь своей способностью (неизвестной доселе) лжи», она вызывающе объявляет мужу, что, по слухам, Балашов «очень убился».
Оставшись один с женой, Ставрович спрашивает ее, не имеет ли она сказать ему что-нибудь «особенное». Она отвечает, что нет, и у нее было «то же сияющее, счастливое, спокойное, дьявольское лицо, выражение, которое, очевидно, не имело корней в разуме, в душе», а только в страсти, которой она была охвачена. Однако, когда муж в тот же вечер уезжает в Петербург, он знает, что оставшись одна, его жена «страдала ужасно».
Дальнейшие четыре главы намечены только в виде следующего краткого плана:
«VII. О беременности. Он глуп, насмешливость.
VIII. Михаил Михайлович в Москве. Леонид Дмитрич затащил обедать.
Его жена. Разговор о неверности мужа. Дети похожи на отца.
264
IX. В вагоне разговор с нигилистом.
X. Роды, прощает».
В двух последних главах рассказывается о дальнейшей судьбе главных героев начатого романа.
Ставрович дает развод и становится посмешищем света. Жена его уезжает к Балашову. Балашов выходит в отставку и живет то за границей, то в Москве, то в Петербурге. «Их обоих свет притягивал, как ночных бабочек». Но те, от кого им хотелось получить признание, не признавали их; к ним ездили и принимали их только «свободно мыслящие люди дурного тона», и это «не только не радовало их, но огорчало». Дети (их было двое) росли в одиночестве.
«Что же оставалось в этой связи, названной браком?.. Оставались голые животные отношения, и других не было и быть не могло». Она «дрожала потерять его», видела, что он «тяготился жизнью».
Однажды, когда Балашов был в театре, а Ставрович сидела одна и ждала его, «мучаясь ревностью», она, «перебирая всю свою жизнь», «вдруг ясно увидела, что она погубила двух людей, добрых, хороших». Неожиданно приходит Ставрович. Он говорит ей, что знает, что она несчастна, и что есть только одно средство спасения — религия. «Живите для других, забудьте себя... для детей, для него, и вы будете счастливы».
Приезжает Балашов. Появление мужа раздражает его. Происходит сцена. Она говорит: «Ну постой, ты не будешь дольше мучиться». Уходит в свою комнату, пишет записку: «Будь счастлив. Я сумасшедшая», — и исчезает из дома.
«Через день нашли под рельсами [сначала было: «в Неве»] ее тело».
Балашов уезжает в Ташкент, т. е. поступает в войска, участвовавшие в походе на Хиву. Это указывает на время действия романа — Хивинский поход происходил в 1873 году. Есть в первой редакции романа еще и другое указание на время действия: в ней упоминается шведская певица Христина Нильсон, с 1870 года гастролировавшая в столицах Европы, в том числе в Петербурге и Москве. В следующей редакции, находим еще более определенное указание: гости в салоне разговаривают об итальянской певице Карлотте Патти, гастроли которой в Москве и Петербурге начались в 1873 году.
Данная редакция, по-видимому, и есть тот первый набросок будущей «Анны Карениной», который Толстой начал 18 марта 1873 года под впечатлением чтения отрывка Пушкина «Гости съезжались на дачу графини»3.
265
Анализируя первый набросок романа, приходим к следующим выводам.
1. Весь интерес начатого романа, по мысли автора, сосредоточен на отношениях между Ставрович, ее мужем и Балашовым.
2. Ставрович, будущий Каренин, характеризуется автором только с положительной стороны, хотя в свете он и кажется смешным.
3. Татьяна Ставрович характеризуется автором противоречивыми чертами: в ней есть и что-то «вызывающее и дерзкое», и что-то «простое и смирное». Увлеченная страстью, она видит в своем муже только отрицательные свойства, но в спокойном состоянии признает его и добрым и несчастным.
4. В наброске едва намечен характер брата Ставрович, будущего Стивы Облонского; жена его только мельком упоминается в разговоре с ним хозяйки гостиной.
5. Автор дает понять свое отношение к описываемой им драме в семье Ставровича: поведение жены, изменяющей мужу, это — «дьявольское навождение», поступок, не имеющий корней «в разуме, в душе», а только в охватившей ее страсти; она сама сознает, что совершает «преступление», но не может совладать с собою. Она знает, что причиняет страдания мужу и его сестре, но это не останавливает ее; ранее неизвестная ей способность ко лжи даже как бы радует ее.
6. Левина, его братьев и всей семьи Щербацких в этой редакции нет вовсе.
7. Высший свет изображен сатирически.
8. Данный набросок будущего большого романа создан особым приемом: автор кратко, частью конспективно написал все произведение в целом. Таким методом не писалось ранее ни одно крупное произведение Толстого, включая и «Войну и мир». 13 февраля 1874 года в письме к Страхову, упомянув о том, что он «очень занят» романом, Толстой далее писал об этом своем приеме: «Я не могу иначе нарисовать круга, как сведя его и потом поправляя неправильности при начале»4.
Рукописи первой и других начальных редакций будущей «Анны Карениной» испещрены на полях многочисленными авторскими заметками для памяти, кратко указывающими те сцены, характеристики, отдельные художественные образы, которые во время работы появлялись в творческом сознании Толстого и которые он предполагал развить в дальнейшем. Иногда эти планы получали осуществление в той же самой рукописи через несколько страниц, иногда — в следующих главах или в следующих редакциях.
266
II
Смотря на первый набросок будущего романа только как на программу того, что предстояло выполнить, Толстой не отдал его в переписку, а приступил к новому началу, которому дал название «Молодец баба»5.
Заново пишется картина званого вечера у княгини — теперь она названа Врасской, причем усиливается сатирический элемент в характеристиках собравшихся гостей: одна из дам, графиня, не снимает перчатку потому, что «рука ее некрасива»; «те, о которых злословят» гости — «друзья хозяйки и должны приехать нынешний вечер», и т. д.
Будущий Облонский получает здесь имя Степан Аркадьевич, а его сестру зовут теперь Анастасия (Нана) Аркадьевна. Иван Балашов первой редакции носит фамилию Гагин. Он обладает «так редко встречающимися в свете приемами скромности, учтивости, совершенного спокойствия и достоинства».
Нана — некрасива, но привлекательна «добродушием улыбки». Ее муж Алексей Александрович Каренин (Михаил Михайлович Ставрович первой редакции), вопреки характеристике его в окончательном тексте, имеет «для света несчастие носить на своем лице слишком ясно вывеску сердечной доброты и невинности», за что в свете его считали «ученым чудаком или дурачком, смотря по степени ума тех, кто судил о нем».
В описание вечера у княгини Врасской вносится новый штрих, опять указывающий на связь романа с современной жизнью: у Каренина происходит разговор с генералом о только что введенном тогда (в 1871 году) классическом образовании.
Закончив описание вечера, Толстой, прежде чем вернуться к продолжению романа, пишет план начатого произведения6. По этому плану роман должен был состоять из четырех частей, по шести глав в каждой части. План развивает и дополняет основные моменты сюжета, намеченные в первой редакции. Каренин здесь по-прежнему кроткий христианин, убежденный в том, что надо нести крест. Он дает жене развод по заповеди: когда ударят по щеке, подставь другую.
Набросав план, Толстой возвращается к продолжению романа7.
267
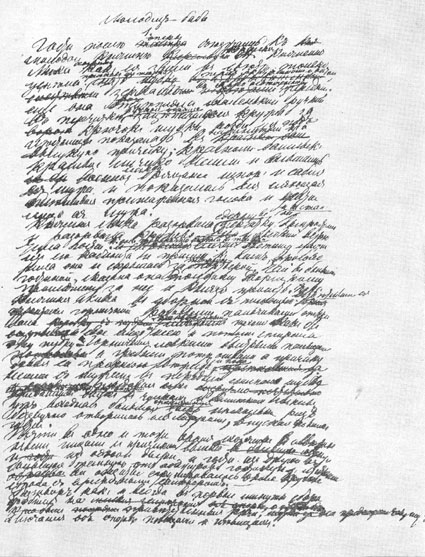
Первый лист второй черновой редакции «Анны Карениной»
(«Молодец баба») (1873)
268
Описывается перемена, происшедшая в Анастасии со времени ее встречи с Гагиным и приезда из Москвы. Алексей Александрович все чаще видал в ее лице «страшное выражение — света, яркости и мелкоты». Он не находил «ту искреннюю, умную, кроткую» жену, которую он знал раньше. «Она становилась упорно, нарочно мелочна, поверхностна, насмешлива, логична, холодна, весела и ужасна» для него. «Это был дьявол, который овладевал ее душою. И никакие средства не могли разбить этого настроения» Здесь уж не от себя (как в первой редакции) говорит автор о «дьяволе», овладевшем душою Нана, а заставляет ее мужа произносить эти слова.
После вечера у княгини Врасской, на котором все общество в уединенном разговоре Карениной с Гагиным увидело «что-то неприятно грубое, неприличное, стыдное», Алексей Александрович, вернувшись домой раньше жены, решил, что ему необходимо объясниться с нею и «решить свою и ее судьбу». Он не мог лечь спать до приезда жены и прождал ее до третьего часа. Ему вспоминалось «это преображенное, мелкое, веселое и ужасное выражение лица, и он понимал, что действительно случилось что-то неожиданное и страшное».
Когда Анастасия явилась, Алексей Александрович попытался вразумить ее, указать ей на нравственную опасность, которой она подвергает себя. «Жизнь наша, — говорил он, — связана, и связана не людьми, а богом. Разорвать эту связь может только преступление... В тебя вселился дух зла и искушает тебя, завладел тобой... Женщина, преступившая закон, погибнет, и погибель ее ужасна». Он говорил с усилием над собой, удерживая «выражение отчаяния», со слезами в голосе. Но он чувствовал, что «то дьявольское навождение, которое было в ней, непронзимо ничем».
Объяснение ни к чему не привело. Анастасия делает вид, что не понимает, о чем он говорит.
Ночью она не может заснуть и шепчет, обращаясь к спящему мужу:
«Нет, уж поздно, голубчик, поздно». «И ей весело было то, что уже было поздно, и она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела».
Этот гениальный психологический штрих, так восхищавший Чехова (в темноте видела блеск своих глаз), без существенных изменений дошел до окончательного текста.
После этого между Анастасией Аркадьевной и ее мужем установились странные отношения8. Они при посторонних говорили друг другу «ты», но старались избегать друг друга.
269
«Все — и знакомые и прислуга — могли догадываться и догадывались об отношениях между супругами, но не имели права знать». Гагин часто обедал у Карениных и все вечера до поздней ночи проводил у Анастасии Аркадьевны. «Встречаясь в свете и на крыльце, Алексей Александрович и Гагин кланялись друг другу, не глядя в глаза, но никогда не произносили ни одного слова. Жизнь эта была мучительна для обоих». Но Анастасия Аркадьевна, как казалось, не тяготилась своим положением и не видела необходимости что-нибудь предпринять.
Однажды вечером Гагин у подъезда столкнулся с выходившим из дома Карениным. «Медленно, стуча калошами, спускалась худая, немного больше обыкновенного сгорбленная фигура Алексея Александровича». Увидав Гагина, он «насильно улыбнулся и поднял пухлую руку к шляпе», но уронил перчатку, «заторопился, нагнулся к перчатке, споткнулся и справился, загремев калошами».
Гагин с ужасом подумал, что было бы, если бы Алексей Александрович вызвал его на дуэль. «Ужасно было хоть не стрелять, но поставить под выстрел и с пистолетом в руке человека с этими глазами». И он решает: «Нет, это не может так продолжаться. Это должно кончиться».
Он застает Нана за вязанием одеяла для их будущего ребенка. Она смотрит на него, как смотрят беременные женщины: «сияющим, грустным и счастливым взглядом». Хотя он всегда встречал со стороны Нана отпор, когда пытался говорить о своем положении в отношении Алексея Александровича, он решил вновь заговорить об этом. Он сказал: «Мое положение, право, тяжело ужасно... Я чувствую себя виноватым [зачеркнуто: вором], чем я никогда себя не чувствовал. Совесть — не слова. Она мучает меня... [зачеркнуто: Ты говоришь, что это ложь и фальшь. Но я не вижу этого, я вижу беззащитную овцу, которая подставила шею, и мне ужасно рубить эту шею] ...Я только прошу о том, чтобы уничтожить эту недостойную ложь, в которой мы живем... Я мучаюсь и страдаю, ты тоже, он тоже».
Но на эти слова Гагина Нана «с злобной усмешкой» отвечала: «Он! Нет, он доволен». Для Нана вопрос, поднятый Гагиным, не существовал. Она думала: «Разве в нашем положении, где мы играем не жизнью, а больше чем жизнью... может быть что-нибудь тяжело и неприятно?.. Для меня моя жизнь, моя честь, мой сын, мой будущий ребенок, — все погибло, и погибло уже давно...»
И Нана рассказывает Гагину страшный сон, который она видела: взъерошенный маленький мужик копошился в мешке и приговаривал какие-то французские слова. Гагин слушает ее с ужасом, потому что сам он в тот же день, всего несколько часов
270
тому назад, видел подобный сон. Сцена эта почти дословно вошла в окончательный текст романа9.
«С этих пор Гагин не пытался более изменять существующего положения и со страхом ждал родов».
Автор перешел, было, к следующей главе, но, написав только первые строки: «Несколько недель перед родами Алексей Александрович, по поручению государя, уехал на ревизию», оставил эту редакцию.
III
Написав еще один вариант того же начала романа с вечера у княгини Бетси10, Толстой отложил все написанное и решил начать роман по-другому. Он решил раздвинуть рамки произведения, углубить его содержание. До сих пор все содержание начатого романа ограничивалось историей женщины из высшего света, «потерявшей себя», которую автор иронически назвал «молодец баба». Теперь у Толстого является мысль противопоставить истории женщины, исключительно увлеченной страстью и этим погубившей себя, историю спокойного, счастливого и разумного брака. Нужно было ввести в роман новые лица — представителей такого брака.
Толстой пишет новое начало романа, открывающееся словами: «Старушка княгиня Марья Давыдовна Гагина, приехав с сыном в свой московский дом...»11.
Это новое начало не было озаглавлено; вместо заглавия были поставлены только буквы NN. Это означало, что прежнее название отброшено (вероятно, потому, что Толстой счел неуместным давать своему роману ироническое заглавие), а новое еще не было найдено. По всей вероятности, буквы NN, как обычно, должны были означать имя — в данном случае имя главной героини романа, которое пока не определилось окончательно и в поисках которого Толстой еще колебался.
Теперь роман начинается с того, что у Гагина, приехавшего вместе с матерью в Москву, останавливается приехавший из деревни его старый приятель Константин Нерадов, который привез на сельскохозяйственную выставку своих телят. Это «стройный, широкий атлет с лохматой русой головой и редкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотрящими из широкого толстоносого лица». Он живет в деревне и пишет работу, в которой ставит себе задачей «разрабатывать русскую мысль». Портрет Нерадова чуть-чуть очерчен, но все же в нем выступают некоторые черты сходства с будущим Левиным и с автором романа.
271
Оба приятеля — и Гагин и Нерадов — влюблены в княжну Кити Щербацкую. Гагин намерен сделать ей предложение, о чем Нерадов не догадывается, а Гагин не догадывается о том, что Нерадов так же, как и он, любит Кити. Предстояла, очевидно, какая-то борьба и столкновение между соперниками, но Толстой оставил этот вариант незаконченным и приступил к работе над новым началом.
Он решил еще больше расширить содержание начатого произведения.
Эта новая, по счету четвертая, редакция12 имеет заглавие: «Анна Каренина. Роман». Насколько раньше Толстой решительно выступал против того, чтобы «Войну и мир» называть романом, настолько же теперь он спешит заявить читателю, что его новое произведение — именно роман, «первый роман» в его жизни, как писал он Страхову 11 мая 1873 года13.
Роман снабжен загадочным эпиграфом: «Отмщение Мое». Это изречение Толстой впервые узнал из книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление», которую он читал в подлиннике14. У Шопенгауэра это библейское изречение приведено в немецком переводе: «Meine ist die Rache»; Толстой сам перевел его на русский язык — отсюда и разница приведенного им текста от канонического русского перевода Библии. Не зная, откуда взято данное изречение, Толстой, как это записано им на странице черновых записей к роману, предположил, что автором его является Соломон15. Не будучи, однако, уверен в справедливости своего предположения, Толстой поместил это изречение в качестве эпиграфа к своему роману без ссылки на автора.
Смысл эпиграфа раскроется только в самом конце произведения.
Новое начало романа было написано Толстым 27 марта 1873 года или в ближайшие после этого дни16.
Теперь роман начат с рассказа о пробуждении Степана Аркадьевича Алабина после того как накануне он пережил тяжелую сцену с женой, открывшей его неверность.
272
Содержание главы довольно близко к окончательному тексту: здесь тот же будущий Стива Облонский, тот же камердинер Матвей с его философским «образуется»17, та же девочка Таня, любимица отца, то же пока неудачное, но подающее надежду объяснение с женой, та же кроткая Долли, вся погруженная в заботы о своей многочисленной семье. Степан Аркадьевич как начальник государственного учреждения характеризуется такими словами: «Степан Аркадьич... был добр, прост, мягок с подчиненными и просителями и толков, ясен, нетороплив в исполнении дела».
Не заходя в присутствие, Степан Аркадьевич едет на вокзал встречать сестру, приехавшую из Петербурга. На вокзале он встречается со своим знакомым, молодым гвардейцем Алексеем Гагиным, проводившим отпуск в Москве18. Гагин описан как «молодой красивый юноша», обращающий на себя внимание «своей красивой, самоуверенной, элегантной и счастливой фигурой». Во всех его чертах и движениях «было еще с детства очевидно нетронутое веселье жизни и свежесть». Он говорил «ни громким, ни тихим голосом, спрашивая и не дожидаясь ответа, не дослушивая того, что ему говорили, перебивая в середине речи, очевидно не обращая ни малейшего внимания на то, что сотни посторонних глаз видят и ушей слышат его».
Такая характеристика Гагина явно не соответствовала той роли, которую ему предстояло играть в романе, и Толстой зачеркивает все описание встречи Степана Аркадьевича с Гагиным и пишет его заново. В следующем описании19 «конногвардейский поручик князь Гагин» называется красавцем, но уже не имеет никаких признаков детской наивности.
Сестра Алабина здесь впервые названа Анной Аркадьевной Карениной. Сказано, что Гагин и Каренина обменялись «внимательными взглядами», что Гагин любовался «на ее быстрые движения, на прекрасное лицо и добрую веселую улыбку», что он думал про нее: «какая странная и милая», — и только.
К этой главе присоединена была ранее написанная и теперь исправленная глава (третья редакция) о Гагине и Ордынцеве, как назван здесь Нерадов, причем Гагину, рассказывавшему Ордынцеву про встречу им своей матери на вокзале, приписаны
273
такие слова: «Знаешь, я там [т. е. на вокзале] встретил сестру Алабина, она замечательно мила». И далее еще раз: «А знаешь, Каренина необыкновенно мила. Ты ее знаешь?»
Но впечатление, произведенное на него Карениной, нисколько не заставляет Гагина отказываться от намерения сделать предложение княжне Кити Щербацкой, за которой, как сказано в первом описании его встречи с Карениной, Гагин «так пристально ухаживал», что «каждый день ожидалось объявление об их обручении».
На этом, однако, новое начало романа было прервано. Толстой решил ярче и полнее очертить образ Ордынцева, чем это было сделано в данном отрывке.
На обороте одного из листов этой рукописи Толстым были написаны следующие заметки, указывающие на противоположность характеров Степана Аркадьевича и Ордынцева: «Один — Степан Аркадьевич — не вникает в смысл жизни и спит; другой — Ордынцев — ищет добра, устройства». Это противопоставление развито в новом начале романа20.
Здесь впервые Толстой употребил понятие «смысл жизни», которому впоследствии было суждено играть такую выдающуюся роль в его мировоззрении.
IV
Пятая редакция имеет то же заглавие — «Анна Каренина», тот же подзаголовок — «роман», тот же эпиграф — «Отмщение Мое». Но, кроме этого общего эпиграфа ко всему произведению, первая часть новой редакции снабжается еще отдельным эпиграфом, принадлежащим самому автору: «Женитьба для одних — труднейшее и важнейшее дело жизни, для других — легкое увеселение». «Семейная мысль» начатого романа точно и определенно выражена в этом эпиграфе.
Действие открывается в Зоологическом саду, где происходит выставка скота. Степан Аркадьевич встречается здесь со своим приятелем Константином Ордынцевым, «высоким черным молодцом» «с поразительным выражением силы, свежести и энергии»; он привел на выставку телку и быка. Позднее Кити Щербацкая дает Ордынцеву такую характеристику: «Нигде не кончил курс, но умен, поэтичен и музыкален, и пишет, и хозяин; и вечно то одно, то другое. Но он так мил и такая чистота в нем».
Ордынцев уже слышал о происшествии в семье Алабина и о том, что жена Алабина решила оставить его и уехать к матери.
Сказано далее, что «человек чистой и строгой нравственности», Ордынцев, давно знавший Алабина, «несмотря на совершенно противуположные ему безнравственные привычки
274
Алабина, любил его, как и все, кто знал Алабина, любили его». Но известие о «гадкой истории» Алабина и встреча его под руку с дамой, не внушавшей уважения, заставили Ордынцева, «сделав усилие над собой, сухо отвернуться» от Алабина. Но Алабин не желает понимать душевное состояние своего приятеля и усиленно приглашает его вечером к себе, а затем с «виноватой улыбкой» рассказывает про свой поступок, в ответ на что Ордынцев излагает ему свои взгляды на брак: «По мне брак, разрушенный неверностью с той или с другой стороны... брак разрушенный не может быть починен».
На этом приятели расстаются.
Ордынцев, как и в предыдущей редакции, влюблен в сестру жены Алабина Екатерину Александровну, или Кити. «Уже давно женщины действовали на него так, что он или чувствовал к ним восторги, ничем не оправдываемые, или отвращение и ужас». Он мечтал о том, что его семейная жизнь будет совсем не похожа на все те жизни, какие он знал: И Кити Щербацкая была «та самая особенная» женщина, какая нужна для его «особенной жизни».
Вернувшись к себе в номер гостиницы, он вспомнил ее «прелестное белокурое кроткое лицо и, главное, глаза, которые вопросительно-выжидательно смотрели на него, это благородство осанки и искренность, доброту выраженья», «ее улыбки при разговоре с ним, те улыбки, которые говорили, что она знает его любовь и радуется ей».
Он сказал себе, что сегодня должна решиться его судьба, и вечером отправился в Хлебный переулок, где жили Щербацкие.
«Никогда после Ордынцев не забыл этого полчаса, который он шел по слабо освещенным улицам, с сердцем, замиравшим от страха и ожидания огромной радости, не забыл этой размягченности душевной, как будто наружу ничем не закрыто было его сердце, — с такой силой отзывались в нем все впечатления. Переход через Никитскую из Газетного и темный Кисловский переулок и слепая стена монастыря, мимо которой, свистя, что-то нес мальчик, и извозчик ехал ему навстречу в санях, почему-то навсегда остался ему в памяти. Ему прелестна была и веселость мальчика, и прелестен вид движущейся лошади с санями, бросающей тень на стену, и прелестна мысль монастыря, тишины и доживания жизни среди шумной, кишащей сложными интересами Москвы и прелестнее всего его любовь к себе, к жизни, к ней и способность понимания и наслаждения всем прекрасным в жизни»21.
Вся эта превосходная глава, имеющая, по-видимому, автобиографический характер, не вошла в окончательную редакцию, — вероятно, исключительно ради сокращения текста.
275
Далее рассказывается, что у Щербацких Ордынцева постигла полная неудача. Он застал у Щербацких Гагина, который теперь назван Удашевым, и сразу заметил, что Кити оказывает Удашеву особенное внимание. Его это сильно взволновало, и он вступил в резкий спор, сначала с гостьей, графиней Нордстон, которая была ему «очень неприятна», затем — с Удашевым, «высказывая смело и безаппеляционно свои всем противуположные мнения». И его резкость и озлобленность скоро сделались тяжелы всем присутствующим.
«С чувством боли и стыда» он уехал. Оставшись один в номере, он стал мучительно думать. «Отчего, отчего я всем противен, тяжел? Не они виноваты, но я». Но затем он приходит к мысли: «Нет, я не виноват. Виновата мерзость среды». Он разумел под «средой» таких представителей великосветского общества, как ненавистная графиня Нордстон. (Фраза эта тут же зачеркивается.) «Он представлял себе его, Удашева, счастливого, доброго, наивного и умного». И он снова думает: «Что-нибудь во мне не так».
Выход был один: скорее возвращаться в деревню.
На другое утро он уехал из Москвы и, приехав к себе, погрузился целиком в хозяйственные заботы, отношения с народом, занятия школами и работу над сочинением по политической экономии. Этим закончился рассказ об Ордынцеве в данной редакции.
В некоторых случаях, когда Толстой брал себя самого в качестве прототипа для своих персонажей, в обрисовке этих персонажей, при всей серьезности отношения к ним автора, он местами впадал в иронический тон. Этот иронический тон заметен в обрисовке образа Николеньки Иртеньева в «Отрочестве» и «Юности». Тот же иронический тон чувствуется и в данном варианте «Анны Карениной» по отношению к Ордынцеву.
Так, на выставке в Зоологическом саду, объясняя купцу свою теорию выведения скота, основанную на новейших научных исследованиях, Ордынцев «хотя и невольно, но очень заметно» «старался внушить купцу, что дело о коровах и способе вывода знает один он — Ордынцев, а что все, и в том числе купец, глупы и ничего не понимают». Говорил он «хотя и умно и хорошо, но многословно и дерзко». Но дерзость эта проистекала только оттого, что Ордынцев «так очевидно страстно был увлечен тем, что говорил», и купец, понимая его состояние, нисколько не обиделся на него за тон разговора.
Далее, описывая споры Ордынцева с Удашевым и графиней Нордстон, автор употребляет такие выражения. Ордынцев «расходился», Ордынцев «еще больше окрысился». Быть может, Толстому весело было вспомнить себя, свои горячие споры с петербургскими писателями, происходившие тогда, когда он по возрасту был почти ровесник Ордынцеву, которому минуло
276
26 лет (Толстому, приехавшему из Севастополя в Петербург, было 27 лет).
В следующих редакциях данной главы автор отказался от этого слишком бросающегося в глаза иронического тона в описании поведения Левина на вечере у Щербацких.
V
После отъезда Ордынцева в деревню в пятой редакции описала попытка примирительного разговора Степана Аркадьевича с женой, затем, как и в предыдущей редакции, — встреча Степаном Аркадьевичем на вокзале сестры Анны Аркадьевны и встреча Удашевым своей матери.
Удашев и Анна, которые раньше виделись только мельком, сразу, через улыбки и взгляды, почувствовали себя близкими друг другу. Анна, увидев брата, улыбнулась ему, но «улыбка ее освещала и жгла» Удашева. Для Удашева «в даме этой не было ничего необыкновенного, она была просто одета, но что-то приковывало к ней внимание». Анна тоже увидела «что-то особенное» в Удашеве, ее «поразила приятно» вся его фигура.
Далее описывается смерть неизвестного человека под колесами вагона (сначала это молодой человек в пальто с собачьим воротником, который сам бросился на рельсы; затем мужик, который чистил снег). Это видят и Степан Аркадьевич, и Удашев, и Анна. «Бледность, строгость разлились по ее прелестному лицу».
Это ужасное событие произвело на Анну и на Удашева неожиданное действие.
«Странно, несмотря на силу впечатления от этой смерти, а может быть, и вследствие ее, совсем другое чувство, независимое, чувство симпатии и близости промелькнуло в глазах у обоих». Но Анна, кроме того, увидела в этом несчастье «дурной знак». «Она была молчалива и грустна половину дороги».
По приезде к брату Анна ведет примиряющий разговор с невесткой. Этот разговор так удался Толстому, что без существенных изменений дошел до окончательного текста. Образ Анны дан здесь совсем иным, чем в предыдущих редакциях; здесь она очень привлекательная женщина. «Свет глаз, простой, искренний, не улыбающийся, но любящий взгляд» преодолевает холодность Долли, а «лицо Анны выражало такое страданье, сочувствие, что Долли смягчилась». Слушая Долли, Анна «прямо отдалась голосу сердца», и «сердце ее прямо и готово отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки». Степан Аркадьевич, «несмотря на то, что она ласкова была с ним, был невыносимо противен ей». Девочка Долли так полюбила Анну, что смотрит на нее, «любуясь и улыбаясь».
Невольно является вопрос: чем можно объяснить такое изменение нравственного облика главной героини, произведенное
277
автором? И сам собою напрашивается ответ: эта перемена явилась следствием того, что самый замысел романа претерпел какие-то изменения.
Далее описывается бал у московского генерал-губернатора, на который приехала сестра Долли, Кити, успевшая «влюбиться» в Анну22. На этом балу был также и Удашев, считавшийся женихом Кити. Но во время бала Кити с ужасом увидела, что Удашев танцевал исключительно с Анной, и Анна оказывала ему особенное внимание; в глазах у них Кити увидела что-то такое, «что говорило о том, что между ними уже было прошедшее неясное, но сильное».
И в Анне Кити увидела нечто новое, чего не видела в ней раньше. Когда Анна «равнодушно отвернулась от вопросительного взгляда Кити», Кити «сказала себе»: «Что-то чуждое, бесовское и прелестное было в ней». В ее оживлении она увидела «что-то ужасно жестокое». Здесь то «дьявольское», что появилось в Анне после встречи с Балашовым — Гагиным — Удашевым, то, о чем в первой редакции было сказано от лица автора, и то, что во второй редакции виделось ее мужу, теперь бросается в глаза даже юной, неопытной Кити.
Когда Анна уезжала, Удашев «встретился с ней глазами, и она почувствовала, что между ним и ею уже было прошедшее, длинное, сложное, которого не было». На вопрос Удашева, едет ли она завтра, Анна отвечала утвердительно, «с неудержимым дрожащим блеском глаз и улыбкой взглянув на него».
Дальнейшее рассказывается автором уже конспективно.
Ночью в вагоне, в одном купе с Анной едет больная старушка. У Анны нервы натянуты: «Воздуха! Дышать, дышать!» Она выходит на крылечко и сталкивается с незнакомым человеком.
«Она посторонилась пройти, но он к ней:
— Не нужно ли вам чего? — с низким поклоном.
— Как вы! — и она побледнела. — Вы зачем едете?
— Чтоб быть с вами.
— Не говорите этого, это гадко, дурно для вас, для меня.
О, если это что-нибудь для вас.
Она задыхалась от волнения.
— Зачем? Кто вам позволил говорить мне это?
— Я не имею права, но моя жизнь не моя, а ваша, и навсегда.
Она закрыла лицо руками и шла в вагон. Всю ночь она не спала, старушка сердилась; колеблющийся свет, тряска, свист, стук остановки и буря, беснующаяся на дворе»23.
На этом оборвалась данная редакция начала будущей «Анны Карениной».
278
VI
Выше уже было приведено письмо Толстого к Страхову от 25 марта 1873 года, в котором Толстой извещал своего друга и восторженного поклонника его таланта о том, что им вчерне написан «роман, очень живой, горячий и законченный», который он надеется обработать через две недели.
Раньше Толстой только одну свою небольшую вещицу назвал «горячей» — главу из повести «Альберт», написанную им в 1857 году в гостинице в городе Ефремове, куда он ездил на конскую ярмарку. (В этой главе описывалась юношеская любовь рассказчика24).
Но это письмо к Страхову не было отправлено по назначению, потому что, как писал Толстой тому же адресату 7 апреля, он нашел «преждевременным» сообщать ему о своем новом произведении, «и так и вышло», — прибавлял Толстой в том же письме.
Что же именно «вышло»?
«Вышло», очевидно, то, что у Толстого явились новые замыслы относительно начатого романа, и он не мог считать роман законченным хотя бы вчерне и никому не желал ничего о нем сообщать.
О том, в чем состояли эти замыслы, дает представление новый план всего романа. По этому плану роман предполагался в пяти частях и каждая часть должна была содержать десять глав. Вот этот план25.
1 часть
1 гл. Степан Аркадьич встает и объясняется с женой.
2 гл. Степан Аркадьич видится с Ордынцевым. Ордынцев исполнен жизни. Куча предприятий.
3 гл. В Зоологическом саду Ордынцев с быком и коньки с Кити.
4 гл. Обед <и объяснения о женитьбе> втроем. Степан Аркадьич заезжает <домой> к теще, примирение. Я виноват, что хотите?
5 гл. <Вечер у Щербацких. Ордынцев наврал, напутал.>
6 гл. <И уехал в деревню.>
7 гл. <Примирение с Долли.>
8 гл. Приезд Анны Карениной. На железной дороге.
9 гл. Всех обвораживает.
10 гл. Бал у губернатора и отъезд в Петербург с Удашевым.
279
<2 часть>
1 гл. Вечер в Петербурге весною.
2 гл. Лживое объяснение с мужем.
3 гл. Положение мужа в свете.
4 гл. <В артели Удашев и свидание.> — Покос, баба, путаница.
5 гл. <Скачки, падение.> — Соседи. Сближение <и поездки на скачки.>
6 гл. <Свидание с ним.> — <Удашев в артели. Спасенье.>
7 гл. <Признание мужу.> — <Скачки, падение. Поездка в Петербург.> Удашев, Степан Аркадьич.
8 гл. <Покос, баба, народ, путаница.> — <Свиданье с ней.> Скачки, падение.
9 гл. <Соседи К., сближение, баба.> — <Признанье мужу.> Свидание с ним.
10 гл. <Спасенье, сближенье.> — Признанье мужу.
3 часть
1 гл. В Петербурге [Удашев] встречает мужа. Объяснение между любовниками.
2 гл. Алексей Александрович в Москву.
3 гл. Адвокат.
4 гл. Духовник.
5 гл. Алексей Александрович с Долли.
6 гл. Обед.
7 гл. Телеграмма и отъезд в Петербург.
8 гл. Роды.
9 гл. Кротость Алексея Александровича.
10 гл. Возобновило любовь.
4 часть
<1 гл. Брак Ордынцева с Кити. Степан Аркадьич посаженный отец.>
2 гл. Степан Аркадьич устраивает развод.
3 гл. Любовники объясняют[ся] и о том же.
4 гл. Брак Удашева с Анной.
5 гл. Жизнь Алексея Александровича в Петербурге.
<6 гл.> Как жил Ордынцев.
<7 гл.> Варит варенье, разговор...
<8 гл.> Приезд Степана Аркадьича и охота.
<9 гл.> Поездка Долли.
<10 гл.> Сцена между Кити и Ордынцевым и между Удашевым и Анной.
280
5 часть
1 гл. Алексей Александрович живет с сыном.
2 гл. Встреча с женой на Невском.
3 гл. Удашевы, их среда и жизнь.
4 гл. Театр — и [не разобрано одно слово] на большой [?] сцене.
5 гл. Смерть ребенка в Москве.
6 гл. Нигилисты, любовь Грабе.
7 гл. Объяснение с матерью и отчаяние от [не разобрано одно слово].
8 гл. <Кити живет [в Москве] хочет ми[рить].>
9 гл. Узнает о мнимой неверности и бросается.
10 гл. Степан Аркадьич рыдает.
Эпилог.
Эпилог, очевидно, должен был рассказать о событиях после смерти Анны.
Что касается внутренней борьбы и исканий Левина, составляющих главное содержание последней — восьмой — части по окончательному тексту, то, очевидно, у Толстого в то время не было и мысли о таком завершении романа. Это и понятно, так как в основу описания внутреннего кризиса, пережитого Левиным, Толстой положил то, что было пережито им самим в эпоху его внутреннего кризиса, который в период создания первых редакций «Анны Карениной» только еще начинался.
По всей вероятности, план был составлен тогда, когда многие, а может быть, и большинство намеченных в нем глав были уже написаны.
VII
11 мая 1873 года Толстой известил Страхова о том, что он «начерно кончил» роман, которым был занят больше месяца. Черновые рукописи большинства глав, соответствующих новому плану, сохранились в архиве Толстого. Расположив эти рукописи соответственно приведенному плану, получим представление о первой полной редакции «Анны Карениной» в том виде, как она сложилась в творческом сознании автора в 1873 году еще до сдачи романа в печать.
Из этого плана видим прежде всего, что Толстой вновь вернулся к прежнему началу романа — описанию пробуждения Степана Аркадьевича и разговору его с женой. Этим сценам Толстой, по-видимому, придавал большое значение; с этих глав он окончательно решил начать роман; их он переделывал четыре раза. Именно эти главы как начало романа Толстой впервые отдал в переписку; все остальные начала в переписку не отдавались
281
и остались в черновом виде. Тема этих глав — несчастье в семье Алабиных (в будущем — Облонских) — не выпадает из основного замысла романа и не является побочной темой. Она со своей стороны раскрывает ту же «семейную мысль», которая, по признанию автора, была положена им в основу романа.
Новая редакция первых глав26 имеет тот же подзаголовок «роман» и тот же общий эпиграф «Отмщение Мое», но частный эпиграф («Женитьба для одних...») отсутствует. Позднее этот эпиграф в измененном виде вошел в состав XXVII главы первой части романа по окончательному тексту, где в характеристике Левина сказано: «Его понятия о женитьбе... не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье».
В новых редакциях первой главы Толстой особенно старался подчеркнуть моральную, с его точки зрения, высоту Долли. Характерная подробность: вспоминая свой разговор с женой, когда она впервые узнала про его неверность, Степан Аркадьевич видел ее лицо, «исполненное выражением ненависти, но, несмотря на желание выразить ненависть, выражающее» только одно «страшное страдание».
Можно думать, что прототипом Долли послужила любимая племянница Толстого Варвара Валерьяновна, по мужу Нагорнова, напоминавшая Долли своим характером, хотя ей не приходилось переживать тех семейных несчастий, какие выпали на долю героини Толстого.
Для нравов той среды высшей бюрократии, в которой вращался Степан Аркадьевич, характерна его попытка оправдать свое поведение соображением о том, что «никто (при этом он вспоминал своих сверстников знакомых) и не может подумать, чтобы можно жить иначе». Выход из затруднительного положения Степан Аркадьевич находит в том, чтобы «жить потребностью дня, а там видно будет». «И как сладкий крепкий сон не оставлял Степана Аркадьича, несмотря ни на какие нравственные потрясения, так и сон жизни дневной, увлечение привычным житейским движением, независимым от душевного состояния, и это увлечение сном жизни никогда не оставляло его»27. Эта метафора («сон жизни») неоднократно повторяется в следующей главе той же редакции: «сон жизни, опьяняя, охватил его», «Степан Аркадьевич уж находился в полном заблуждении сна жизни», «во сне жизни он был тем, чем его родила мать».
Далее в рукописи согласно с планом следует описание отъезда
282
Степана Аркадьевича в учреждение («присутствие»), начальником которого он состоял. Дается характеристика Степана Аркадьевича, имеющая целью объяснить, благодаря каким качествам он заслужил «общее уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело». Качества эти состояли, «кроме мягкости и веселого дружелюбия, с которыми он относился ко всем людям, преимущественно в полной беспристрастности и совершенной либеральности, состоящей не в том, чтобы строже судить сильных и богатых, чем слабых и бедных, но в том, чтобы совершенно ровно и одинаково относиться к обоим»28.
В следующей редакции либерализм Степана Аркадьевича характеризуется уже без той полемики с современным направлением, с какой он дан в первой редакции. Здесь сказано, что «главный дар» Степана Аркадьевича (он называется здесь князь Мишута) состоял в «полнейшей природной либеральности», выражавшейся в том, что он «совершенно ровно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были»29. Наконец, в окончательном тексте романа сказано, что одно из качеств Степана Аркадьевича состояло «в совершенной либеральности — не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были»30.
Выше уже было сказано, что прототипом для Стивы Облонского, судя по тому, что в первых рукописях «Анны Карениной» этот персонаж носил имя Леонид Дмитриевич, послужил муж племянницы Толстого Елизаветы Валерьяновны, князь Леонид Дмитриевич Оболенский (отсюда и фамилия — Облонский). Такого же мнения придерживался и Сергей Львович Толстой, который в статье «Об отражении жизни в „Анне Карениной“ писал: «Наружность Леонида Дмитриевича Оболенского была похожа на наружность Степана Аркадьевича — довольно большой рост, белокурая борода, широкие плечи; его добродушие, склонность к приятному препровождению времени напоминают Облонского»31.
Но еще более сходства у Степана Аркадьевича с другим лицом, другом молодости Толстого — Василием Степановичем Перфильевым.
В. С. Перфильев был женат на троюродной сестре Толстого, дочери Толстого-Американца, Прасковье Федоровне. Отсюда его знакомство с Толстым. Перфильев, как и Облонский у Левина,
283
был посаженным отцом на свадьбе Толстого. Он занимал ряд административных должностей: в 1870—1874 годах был московским вице-губернатором, а в 1878—1887 годах — московским губернатором.
Еще Фет в феврале 1875 года писал Толстому, что среди героев «Анны Карениной» он узнал В. Перфильева32. Т. А. Кузминская пишет в своих воспоминаниях: «Я помню, когда вышел роман «Анна Каренина», в Москве распространился слух, что Степан Аркадьевич Облонский очень напоминает типом своим В. С. Перфильева. Этот слух дошел до ушей самого Василия Степановича. Лев Николаевич не опровергал этого слуха»33.
Правитель канцелярии Перфильева в бытность его московским губернатором В. К. Истомин рассказывает в своих воспоминаниях: «В „Анне Карениной“, по общему признанию всех его знакомых, Перфильев был выведен под именем Стивы Облонского. Василию Степановичу это не нравилось, отрицал это и сам Лев Николаевич. Но некоторые черты характера были так изумительно схвачены, что не допускали сомнения. Конечно, Стива Облонский не был фотографическим портретом, но, несомненно, заключал в себе черты Василия Степановича»34.
Сергей Львович Толстой склонялся к мысли, что Стива Облонский — «тип собирательный». У Перфильева общее с Облонским было: «склонность к удовольствиям и комфорту, добродушие, некоторый либерализм, благовоспитанность и так называемая порядочность. Но такие черты были свойственны и другим представителям высшего круга дворянства, привыкшим к роскоши, разорявшимся и по необходимости поступавшим на службу»35.
В «присутствие» к Степану Аркадьевичу приходит его старый друг, Константин Ордынцев (в окончательном тексте — Константин Левин). Ордынцев сразу начинает высказывать свой взгляд на служебную деятельность Степана Аркадьевича. Он говорит, что «если бы ничего этого не было [т. е. не было бы никаких «присутствий»], никакой разницы не было», что «настоящая жизнь и движение не здесь, а у нас в глуши». Перед этим Степан Аркадьевич говорил Ордынцеву, что знает его
284
«отвращение ко всему административно-служебно-государственно — и так далее», хотя и представляет его своим сослуживцам как мирового судью и земского деятеля.
Повидавшись со Степаном Аркадьевичем, Ордынцев идет в Зоологический сад, где катается на коньках и видится с Кити; затем обедает в ресторане со Степаном Аркадьевичем. Обед происходит вдвоем, а не втроем, как было намечено в плане (трудно сказать, кого третьего имел в виду автор).
При описании обеда мимоходом, в одном из зачеркнутых мест дается характеристика Степана Аркадьевича еще более сочувственная, чем та, которая дана была раньше. Сказано: «За то-то и любили все Степана Аркадьича, что он с людьми думал только о том, как бы им быть приятным», что он был «нежным, добрым и милым человеком»36.
Разговор между Ордынцевым и Степаном Аркадьевичем касается исключительно намерения Ордынцева сделать предложение Кити. Тема неверности в браке, являющаяся предметом их разговора в последующих редакциях, здесь еще не затрагивается.
Следующий раздел той же главы — «Степан Аркадьич заезжает домой к теще, примирение» — ни в то время, ни позднее не был написан, а последние главы первой части — о том, как на вечере у Щербацких Ордынцев «наврал, напутал и уехал в деревню», как у Степана Аркадьевича произошло примирение с женой, как приехала Анна, которая «всех обвораживает», как Анна танцует на балу у губернатора, затем уезжает в Петербург и встречается в вагоне с Удашевым, — ко времени составления плана уже находились в рукописях и нужно было только разработать и отделать их.
VIII
Вторая часть романа по новому плану должна была начаться главою, описывающей «вечер в Петербурге весною», — тот самый званый вечер у княгини Бетси, с описания которого был начат роман в двух первых редакциях. Для этой главы, так же как для следующих глав, описывающих «лживое объяснение с мужем» и «положение мужа в свете», Толстой мог воспользоваться тем, что уже было сделано ранее.
Первая глава второй части романа в некоторых черновых рукописях была озаглавлена «Дьявол»37. Это заглавие, как и все другие (кроме одного) названия глав романа, не дошло до окончательного текста. В окончательном тексте о «бесе», завладевшем душою Анны, упоминается только в описании размышлений Кити при виде Анны, танцующей на балу.
285
В четвертой главе («Покос, баба, путаница») главным действующим лицом является Ордынцев — Левин. Эта глава — черновая редакция замечательного описания сенокоса, косьбы Левина с мужиками и последующих его мечтаний о перемене жизни. Все следующие главы второй части, рассказывающие о скачках, падении Удашева, признании Анны мужу, были уже написаны ранее.
Третья часть должна была начаться с уже написанной сцены встречи Каренина с Удашевым у подъезда дома, после чего Каренин решает, что так продолжаться не может и необходим развод. Все последующие девять глав третьей части, рассказывающие о пребывании Каренина в Москве, возвращении его в Петербург, родах Анны, примирении Алексея Александровича с Удашевым, были написаны заново38.
Здесь рассказывается, что Алексей Александрович устроил себе в министерстве назначение на ревизии по губерниям и уехал в Москву, рассчитывая вернуться в Петербург после родов жены, беременной от Удашева. В Москве он прежде всего обратился к адвокату, чтобы узнать подробности совершения развода, а затем отправился к духовнику, чтобы получить от него указание, как ему следует поступить в этом деле согласно с правилами церкви. «Подробности, рассказанные адвокатом, ужаснули его». Духовник в ответ на его вопрос, как ему поступить в отношении жены и сына, не дал никакого ответа и сказал только, что «надо нести крест». «Но как нести его — было неизвестно».
Встретившийся с ним накануне Степан Аркадьевич пригласил его обедать. Алексей Александрович «был в таком унылом и убитом расположении духа», что ему хотелось остаться «одному с самим собой». И он решил зайти к Алабиным и под каким-нибудь предлогом отказаться от обеда.
Он отправился пешком на Пресню, где во флигеле «в пустынном переулке» жили Алабины. Обстановка жизни Алабиных — «грязная неплотная давно некрашенная дверь», «бедная чистота передней», — все подтверждало то, что знал Алексей Александрович об этой семье: «беззаботность, мотовство мужа и рабочая напряженная жизнь матери». Здесь Толстой, надо думать, воспроизводил обстановку жизни первого прототипа Степана Аркадьевича — Леонида Дмитриевича Оболенского.
В ожидании обеда между Алексеем Александровичем и женой Алабина Долли происходит задушевный разговор. Видя ее погруженной в семейные заботы, Алексей Александрович откровенно рассказывает ей о своем семейном положении. Едва только он дал ей понять что хочет поделиться с ней тем, что его
286
мучает, как «лицо ее выразило готовность понять всякое горе, какое бы ни было оно, и попытаться помочь ему».
Алексей Александрович рассказывает подробности своего несчастья. Ему представляются только два выхода из создавшегося положения: или развод, или смерть. Но Дарья Александровна отвергает развод: «Она будет ничьей женой. Она погибнет. Муж обязан спасти жену». Нужно простить.
Разговор с Дарьей Александровной несколько успокоил Алексея Александровича, и он остался обедать.
За обедом были посторонние: черный молодой сельский житель Равский (или Ровский), появлявшийся иногда в петербургском свете и известный Алексею Александровичу «своими хотя умными, но резкими суждениями» обо всем; племянник хозяина, «сосредоточенный и мудреный студент», окончивший курс, и сестра хозяйки, красавица Кити. Возник разговор о последнем романе Дюма-сына «L’homme — femme» («Мужчина — женщина»), вышедшем в 1872 году, и о вызванной им во французской литературе полемике.
В этом романе проводится взгляд на брак как на божественное установление, конечной целью своей имеющее усовершенствование человеческой жизни на основе высоконравственных идеалов. Мужчина в браке является как бы выразителем божественной воли, ответственным за судьбу женщины; женщина — только орудие в руках мужчины, отражение его творческой силы. Женщину, изменившую своему мужу, мужчина должен стараться исправить. Если же это окажется невозможным, такую женщину следует убить39.
Равский защищает точку зрения Дюма. Он говорит, что женщину, изменившую мужу, нужно убить. «И это мнение так шло к его атлетической фигуре, черным глазам и зловещему их блеску, что невольно верилось, что он говорил то, что думал».
Студент, который в дальнейшем носит фамилию Юрьев или Юрков40, защищает права женщин на свободу любви и получение высшего образования. Алексей Александрович слушает того и другого и находит, что оба они толкуют о том, «чего не
287
знают, не испытали», т. е. не испытали тех трудностей, которые возникают в семейной жизни.
Равский, не докончив спора, уходит в соседнюю комнату, где красавица Кити, которую он любит, играет на рояле. Образ Кити Щербацкой здесь только слегка намечен. О ней говорится только то, что у нее «прелестные волосы и шея» и что ее лицо иногда может принять «царское холодное выражение».
Фамилия Равский слишком созвучна с фамилией друга Толстого Ивана Ивановича Раевского, его знакомого с 1859 года41, чтобы не явилась мысль о том, что именно Раевский послужил прототипом Равского. Предположение это подтверждается несомненным сходством между образом Равского и особенностями личности И. И. Раевского. В романе о Равском устами Каренина сказано, что он «очень и очень замечательный человек», обладающий «истинным умом и обширным образованием», что у него «стальные мышцы», что он усиленно занимается гимнастикой. В 1891 году в некрологе И. И. Раевского Толстой писал: «В нем было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровье, свежесть, молодечество, необыкновенная физическая сила, прекрасное многостороннее образование». Далее упоминается о занятиях Раевского гимнастикой42.
Было высказано мнение, что Равский «представляет собою, несомненно, вариант Левина»43, но мнение это справедливо только отчасти. Между Равским и Левиным действительно есть некоторое сходство, но есть и большие различия. Сказано, что перед обедом Равский перекрестился «с аффектацией»; с другой стороны, автор отмечает, как указано было выше, «зловещий блеск в глазах» Равского, когда он защищал точку зрения Дюма в его романе. Все это не похоже на Левина. Кроме того, Равскому от лица Каренина, с которым в данном случае соглашается и сам автор, дается такая высокая характеристика, которою Толстой никогда не наделил бы Левина, имея в виду несомненную автобиографичность этого образа.
Равский — не двойник Ордынцева — Левина. Это совершенно самостоятельный персонаж44.
Замысел этой главы относится еще ко времени создания первой редакции будущей «Анны Карениной». Выше был приведен
288
план ненаписанных четырех глав, которые должны были войти в состав первой редакции, причем содержание восьмой главы, как уже было сказано, намечалось словами: «Михаил Михайлович в Москве. Леонид Дмитрич затащил обедать. Его жена. Разговор о неверности мужа. Дети похожи на отца». Однако глава эта, как и три предшествующие ей главы, в то время еще не была написана. Она была написана позднее, что видно не только из того, что Михаил Михайлович в ней называется Алексеем Александровичем, а Леонид Дмитриевич — Степаном Аркадьевичем, но и из того, что Долли в разговоре с Алексеем Александровичем упоминает об измене мужа и о приезде Анны в Москву. Следовательно, эта глава была написана не ранее первой главы четвертой редакции романа. Вполне возможно, что образ Равского сложился у Толстого еще тогда, когда в его творческом сознании не зарождался образ Нерадова — Ордынцева — Левина. Быть может, именно Равский (Раевский), который любит Кити, по первоначальному замыслу автора, должен был представить образец идеального брака — роль, которая по окончательному тексту была выполнена Левиным.
Уже в следующей редакции картины обеда у Облонских45 Толстой, сохранив спор о женском вопросе, исключил разговор о романе Дюма. Вместе со спором о книге Дюма исчез из романа и Равский, поддерживавший точку зрения французского романиста46.
Далее в данной редакции, как и в окончательном тексте, Каренин получает телеграмму от ожидающей смерти жены, умоляющей приехать, и уезжает в Петербург.
Сцена, изображающая примирение Каренина с Удашевым у постели умирающей жены, которой, несомненно, Толстой придавал большое значение и писал ее, быть может, «со слезами на глазах», была написана сразу и без существенных изменений дошла до окончательного текста.
IX
Содержание двух последних глав третьей части намечено в плане в следующих словах: «Кротость Алексея Александровича», «Возобновило любовь». Эти главы в то время были написаны
289
кратко; по содержанию своему они очень далеки от окончательного текста. Здесь читаем:
«С этой поры кротость, спокойствие, заботливость о больной, о детях и ясность отношений со всеми были таковы, что никого не удивляла роль Алексея Александровича: ни доктора, ни акушерку, ни людей [прислугу], ни друзей, ни знакомых. С точки зрения света.
Любовник был тут всегда, и муж был здесь, и муж заботился о том, чтобы любовнику была постель, когда он оставался ночевать. Видевшие это удивлялись и ужасались тому положению, в которое поставил себя Алексей Александрович, но, видя его, находили это простым и естественным»47.
Через несколько дней Удашев уехал на месяц, как предложил Алексей Александрович, но через месяц вернулся и целые дни проводил у Анны.
Содержание первой главы четвертой части по намеченному плану: женитьба Ордынцева на Кити, Степан Аркадьевич — посаженный отец на их свадьбе. Далее действие переносится в Петербург, и главные лица опять Каренин, Анна и Удашев.
С выздоровлением от перенесенной болезни в душе Анны вновь с прежней силой заговорила страсть. Жить с Алексеем Александровичем стало невыносимо. Степан Аркадьевич уговаривает зятя дать развод, и Алексей Александрович соглашается. «...Как ни ужасны были для него ложные унижения, через которые он должен был пройти», он «принял на себя постыдные улики прелюбодеяния»48.
Через месяц Удашев и Анна повенчались в ее имении, за двести верст от Москвы, а «Алексей Александрович с воспоминанием всего перенесенного позора продолжал свою обычную служебную общественную жизнь вместе с сыном в Петербурге»49.
Содержание пятой главы четвертой части помечено в плане словами: «Жизнь Алексея Александровича в Петербурге»50. Семейный быт его был разрушен, хотя жизнь продолжалась в тех же формах, как и раньше. Он «становился все несчастнее и несчастнее». Он очень изменился внутренне: «из сильного, определенного и доброго» сделался «слабый и неясный и злой». В глазах окружающих он был смешон и возбуждал в них презрение. «Все было хорошо у сына, чисто, аккуратно, обдуманно, но не было той живой атмосферы, которая была при матери». Рисуется сцена — Алексей Александрович в детской у сына в
290
день его рождения — зародыш гениальной сцены свидания Анны с сыном в окончательном тексте.
Действие последних пяти глав четвертой части происходит в имении Ордынцева, женившегося на Кити Щербацкой51.
Рассказывается о затруднениях, испытанных Ордынцевым в первый год семейной жизни, когда постоянно «чувствовалась натянутость, как бы подергиванье в ту или другую сторону той цепи, которой они были связаны». Эти затруднения проистекали из того, что «он не знал, что все дела людские ничто в сравнении с делом супружества, понимаемым, как он понимал его».
Автор пользуется случаем еще раз повторить ту восторженную характеристику Долли, которая выражала и его собственное отношение к этому персонажу. Сказано, что после женитьбы Ордынцев впервые «через очки своей жены» увидел женскую половину мира и прежде всего сестру жены. «Он узнал ужасы неверности, пьянства, мотовства, грубости Степана Аркадьича, и Долли в ее настоящем свете из простой, доброй и какой-то забитой, незначительной женщины выросла в героиню, в прелестную женщину... и он испытывал к ней, кроме любви, набожное чувство уважения...»
Далее рисуется картина тихой деревенской жизни семьи Ордынцевых, когда на террасе, за варкой варенья, сошлись старушка тетушка, Кити, Долли, их мать и сестра Ордынцева, вдова Мария Николаевна с двумя девочками, живущая в своем имении Пирогове. Этот последний персонаж не появляется уже в следующей редакции, так как слишком очевиден был его прототип — сестра автора.
Кити рассказывает с увлечением о том, как Ордынцев сделал ей предложение во время поездки к их общим знакомым (а не в гостиной их дома начальными буквами слов, написанными мелком на карточном столе, как в окончательной редакции романа).
На другой день Ордынцев идет на охоту с приехавшим к нему в гости Степаном Аркадьевичем, а Долли отправляется к Удашевым, жившим недалеко в его богатом имении.
Прерывая художественный рассказ, автор поясняет от себя, что в обстановке дома, во всех постройках и в хозяйстве Удашева заметна была «некрасивая новая роскошь», свойственная или «быстро из ничего разбогатевшим людям», или же людям «развратным, вышедшим из условий честной жизни». «Источник этой некрасивой роскоши» — «желание наполнить пустоту жизни, пустоту, образовавшуюся или от неимения общественной среды, или от потери среды бывшего общества». В данном случае
291
действовала вторая причина: потеря Удашевым и Анной той светской среды, к которой они принадлежали.
Эта роскошь обстановки особенно поразила Долли в детской. «Ее [Долли] детская была чистая, но не элегантная, и она слишком высоко ценила святыню детской, чтоб украшать ее. Украшения казались ей святотатством».
В разговоре с Долли Анна уверяет ее, что она счастлива, и, кроме того, говорит, что для нее главное — муж, а не дети, и что она всех детей готова отдать за мужа, чего Долли никак не может понять.
По плану последняя глава четвертой части должна была содержать описание «сцены» между Кити и Ордынцевым и между Удашевым и Анной. «Сцена» между Ордынцевым и Кити была вызвана тем, что Кити пошла навстречу Долли, возвращавшейся от Анны, — как вообразил Ордынцев, с целью увидеть Удашева, который должен был поехать провожать Долли. «Сцена» привела к объяснению, которое «долго шло и кончилось слезами, и любовь больше прежней. Утром за чаем, веселые, добрые оба».
«Сцена» между Удашевым и Анной была вызвана сознанием фальши их положения в обществе. Услышав от Удашева, что он едет в Москву по делам, Анна с раздражением упрекает его в том, что он относится к ней как к любовнице, к которой «приезжают, когда нужно, и опять уезжают». Удашев успокаивает ее. Анна заявляет ему, что не может жить в деревне и что необходимо ехать в Петербург, на что он отвечает: «Что ты велишь, то мы сделаем». «Она замолчала, а он тяжело вздохнул и стал готовить новый план жизни, но все было неясно и страшно».
Последняя, пятая часть романа по предположенному плану должна была начаться двумя главами, посвященными Алексею Александровичу: «Алексей Александрович живет с сыном» и «Встреча с женой на Невском»52. В день рождения сына Алексей Александрович идет пешком в игрушечную лавку покупать игрушки. Он пошел, чтобы прогуляться в хорошую погоду, но его бессознательной целью было увидеть Анну, приехавшую в Петербург. «...Его, как бабочку к огню, тянуло к ней... Он знал, что встреча будет мучительна для нее и для него; но его тянуло».
И они действительно встретились на Невском. «Она шла, сияя глазами из-под ресниц и улыбкой. Она потолстела, она блестящее была, чем прежде». Произошла «неловкость, мучительная с обеих сторон, и оба прошли мимо друг друга».
Все остальные восемь глав последней части должны были быть посвящены исключительно Удашеву и Анне.
292
«Удашевы, их среда и друзья» — таково содержание третьей главы53. Анна и Удашев второй месяц жили в Петербурге, но «находились в тяжелом положении». С матерью Удашев разорвал отношения; свет принимал его, но не принимал ее. Они едут в театр на первое представление «Дон-Жуана» с Патти. «Театр был полон цветом петербургского общества». Анна «блестела красотой и весельем»; «прелестное добродушие с ее особенной грацией поражало всех». Но в антракте, когда Анна, встретив знакомую чету Карлович, кивнула им головой, Карлович не ответила на ее поклон. «Анна все видела, все поняла, но это как бы возбудило ее, она не положила оружия, и, вернувшись в ложу, она стала еще веселее и блестящее. Толпа стояла у рампы. Она смеялась, бинокли смотрели на нее. Удашев... увидав бинокли дам, блестящее лицо Анны, мужчин против нее, вспомнил такие же ложи дам голых с веерами... Да, это становилось похоже на то, и он и она знали это».
После этого Анна перестала ездить в свет и уговорила Удашева уехать в Москву.
Таково содержание четвертой главы последней части романа по намеченному плану.
X
Предполагавшееся содержание следующей, пятой главы — «Смерть ребенка в Москве». Эта глава ни в то время, ни позднее не была написана — автор отказался от этого эпизода.
Следующая глава характеризует среду, которая окружала Удашевых в Москве. Анна не ездила в свет, но она «построила другую высоту — либерализма, с которой бы презирать свое падение...». У нее бывают нигилисты, но Удашеву претит их общество. Кроме нигилистов, ездит офицер Грабе, влюбленный в Анну. Происходит резкая сцена между Удашевым и Анной.
Анна едет к матери Удашева с целью объясниться с нею. Дрожащим голосом она говорит: «Прошедшее мое чисто. Я увидела вашего сына и полюбила, я люблю его так, что готова отдать жизнь».
Она умоляет мать простить сына и становится перед нею на колени. Но та грубо оскорбляет ее: «Матушка, нельзя ли без сцен».
«Вы можете, — продолжала Анна, — приняв, признав его, сделать его счастье (о себе не говорю), счастье детей, внучат. Через вас признают. Иначе он погибнет».
На эти слова мать грубо отвечает: «Ну, я вам скажу. Вы бросили мужа, свертели голову жениху и хотели женить его, спутать мальчишку; он несчастлив без матери, он горд, и он любит Кити и теперь. Если вы любите его, бросьте его. Он будет счастлив...
293
Вы умели бросить первого. Вы сделали несчастье человека и убьете его до конца».
Содержание восьмой главы пятой части обозначено в плане словами: «Кити живет [в Москве] и хочет ми» — слово не дописано, по всей вероятности — «мирить». Эта глава не была написана, да, очевидно, и не могла быть написана, потому что миссия, возлагавшаяся в ней на Кити, совершенно противоречила ее характеру, так как Кити считала Анну «дурной женщиной».
Разговор с матерью Удашева произвел на Анну потрясающее действие. «Надо бросить все, выйти из всего», — думала она.
Вечером приехали либералы, Анна приказала не принимать их. Ночью она не может заснуть и лежит с открытыми глазами. Удашев приехал, но не пожелал ее видеть и лег в кабинете.
«Боже мой, что делать? — продолжала она мучительно думать. — Прежде тот же вопрос. Тогда я говорила: если бы он — Алексей Александрович — умер. Да, а теперь зачем ему, доброму, хорошему, умереть несчастному. Кому умереть? Да, мне... Да, и Грабе дьявол, и его [Удашева] счастье, и стыд и позор Алексея Александровича, — все спасается моей смертью, да, и я не гадка, а жалка, и прекрасна, да, жалка и прекрасна делаюсь».
Она зарыдала сухим рыданьем, вскочила, написала письмо Долли, поручая ей дочь. «Да и дочери лучше, да, прекрасно. Но как? Как? Все равно. Кончено. Надо уехать». Она оделась, взяла мешок и перемену белья чистую, кошелек и вышла из дома». Попался извозчик, она велела везти себя на железную дорогу. «Светало. «Да, я уеду и там... Ах, если бы он догнал меня». Приехала на вокзал, прошла на платформу и в окне проезжавшего поезда увидела Грабе, ехавшего куда-то.
«Нельзя. Но как же я умру?» В это время сотряслась земля, подходил товарный поезд. Звезды, трепеща, выходили над горизонтом. «Как? Как?» Она быстрым легким шагом спустилась. Прошел локомотив, машинист посмотрел на нее. Большое колесо ворочало рычагом. Она смотрела под рельсы. «Туда. Да, туда. Кончено навек». Первый, второй только стал подходить. Она перекрестилась, нагнулась и упала на колени поперек рельсов. Свеча, при которой она читала книгу, исполненную тревог, счастья, горя, свеча затрещала, стемнела, стала меркнуть, вспыхнула, но темно, и потухла»54.
На другой день Кити ждала Удашева (она «взялась устроить примирение света с Анной»), когда муж прибежал к ней с рассказом о самоубийстве Анны. «Ужас, ребенок, потребность жизни и успокоение».
Этими словами заканчивается первый конспективный набросок сцены самоубийства Анны. Слова эти относятся уже не к
294
Анне, а к Кити: она чувствовала ужас при мысли о гибели Анны, но в то же время, ожидая ребенка, испытывала «потребность жизни», и это давало ей «успокоение».
XI
Изучение первой черновой редакции «Анны Карениной», соответствующей намеченному плану, позволяет прийти к следующим выводам.
1) Содержание романа, как и в отброшенных началах, по-прежнему состоит почти исключительно в раскрытии одной темы — «семейная мысль».
2) Единственная тема, не укладывающаяся в рамки «семейной мысли», хотя, конечно, связанная с нею, — это обличение и сатирическое изображение светского общества, которое находим в картине вечера у княгини Бетси, в описании отношения общества к Каренину и Анне, в изображении матери Вронского с ее холодной жестокостью.
3) Основная сюжетная линия развивается почти в полном соответствии с окончательным текстом первых семи частей.
4) Главное отличие сюжета романа в данной редакции от окончательного текста состоит в том, что Каренин дает Анне развод, что не имеет места в окончательном тексте.
5) Некоторые характеры главных действующих лиц в данной редакции определились вполне в соответствии с окончательным текстом романа. Таковы характеры Алабина (Облонского), Долли, Кити, старой княгини Щербацкой.
6) Другие характеры, как Ордынцев — Левин, хотя и намечены в своих основных чертах, но в дальнейшей работе над романом приобретут новые, значительно обогащающие их чертами. Это в некоторой степени относится и к образу Вронского.
7) Образ Каренина в данной редакции значительно отличается от того, каким он будет представлен в окончательном тексте. Здесь Каренин, так же как и в первых двух набросках, добрый, слабый человек, старающийся по-христиански относиться к жене, хотя иногда и испытывающий к ней враждебное чувство. Каренин как высший сановник, формалист, бюрократ здесь еще не нарисован.
8) Образ Анны изменен сравнительно с прежними вариантами. По-прежнему главный интерес ее жизни и главный двигатель ее поступков — увлечение страстью, но вместе с тем это человек большого сердца, чуткий к страданиям окружающих. Даже самоубийство ее получает нравственный характер: она уходит из жизни, чтобы распутать тот сложный клубок противоречий, в котором запуталась ее жизнь и жизнь Каренина и Вронского. Раньше желавшая смерти своему мужу, Анна теперь решает, что не ему, «доброму, хорошему», а ей нужно умереть.
295
И умирает она в приподнятом настроении, с мыслью о том, что она «не гадка, а жалка и прекрасна». Ясно, что автор оправдывает свою героиню в ее самоубийстве, подобно тому как за двадцать лет до этого он также оправдал кончающего самоубийством героя «Записок маркера» Нехлюдова.
Толстой вообще в этот период жизни считал самоубийство в известных случаях не только допустимым, но и вполне нравственным поступком. 23 сентября 1873 года — в год работы над первыми редакциями «Анны Карениной» — Толстой писал Страхову: «Вертер застрелился, и Комаров, и гимназист, которому труден латинский урок. Одно значительно и величественно, другое мерзко и жалко55.
Замечателен финал «Анны Карениной» в данной редакции. Идея неуничтожаемости жизни, победы жизни над смертью уже в то время вполне владела Толстым. Этой идеей проникнуты и «Война и мир», и его детские рассказы, а еще раньше — рассказ «Три смерти». Точно так же и эту редакцию «Анны Карениной» Толстой пожелал закончить торжеством жизни над смертью: Кити, узнав о самоубийстве Анны, испытывает ужас, но успокаивается, чувствуя в себе зарождение новой жизни.
XII
После того как была закончена первая пространная редакция «Анны Карениной», Толстой уже не делал попыток создавать новую полную, с начала до конца, редакцию своего романа, — он приступил к последовательной переработке отдельных частей и глав. Так продолжалось до самого окончания печатания романа в «Русском вестнике».
Вопрос о печатании «Анны Карениной» возник, как сказано выше, в январе 1874 года. В этом месяце Толстой ведет переговоры с типографией о печатании романа, а 2 марта того же года привозит в Москву и сдает в типографию первую часть. Наборная рукопись первой части «Анны Карениной» сохранилась в архиве Толстого; сохранился и ряд черновых рукописей первой части, предшествовавших наборной.
В наборной рукописи первые главы первой части имели заглавия: «Семейная ссора», «Два приятеля», «Предложение», «Встреча на железной дороге», «Примирительница», «Бал», «Деревня», «Ночь в вагоне». Но в окончательном тексте все заглавия были отброшены.
Подготовляя рукопись к печати, Толстой изменил заглавие произведения: прежнее заглавие — «Анна Каренина» — было зачеркнуто и заменено новым: «Два брака. Роман». В той же рукописи эпиграф романа («Отмщение Мое»), заимствованный
296
автором из немецкого перевода, был заменен каноническим библейским текстом в церковнославянском переводе: «Мне отмщение. Аз воздам»56. В этой же рукописи Степан Аркадьевич получает фамилию — князь Облонский (переделано из Оболенский). Но в следующей рукописи прежнее заглавие «Анна Каренина» восстанавливается, и уже окончательно.
В этой рукописи рукою Толстого, кроме общего эпиграфа ко всему роману, приписан эпиграф к первой части: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Под этим эпиграфом дается подпись инициалов имени и отчества автора — «Л. Н.», которая, однако, тут же зачеркивается и заменяется буквами NN. Впоследствии и буквы NN были зачеркнуты, и сентенция введена в роман как его начало.
Подготовляя роман к печати, Толстой дает Ордынцеву фамилию Ленин57 и затем окончательно — Левин.
Откуда возникли эти фамилии героя Толстого? Не образовалась ли фамилия Ленин путем усечения буквы «о» в фамилии Оленин — героя «Казаков»? Что касается фамилии «Левин», то она образовалась или путем изменения одной буквы в прежней фамилии — Ленин, или же была произведена от имени автора — Лев или Лёва. В таком случае надо произносить — Левин. Сам Толстой, следуя народному произношению, выговаривал свое имя — «Лёв»; так же произносили его имя жена Софья Андреевна, сын Сергей Львович и В. Г. Чертков. По словам К. Н. Леонтьева («Книга и революция», 1921, 8—9, стр. 120), Толстой произносил фамилию героя своего романа — Левин. Однако, принимая во внимание иностранное происхождение имени «Лев» и широкое распространение этого имени в европейских странах (Leo, Léon, Leone), можно считать допустимым и произношение Левин (без ё). Многие друзья Толстого, как Н. Н. Страхов, П. И. Бирюков, И. И. Горбунов-Посадов, называли его Лев Николаевич, а не Лёв Николаевич.
———
Чем дальше подвигалась работа по подготовке к печати следующих частей «Анны Карениной», тем все более и более увеличивалось число исправлений и дополнений, вносимых автором. Почти целиком была написана заново седьмая часть; много исправлений было внесено также в пятую и шестую части романа. Эпилог (восьмая часть) был весь с начала до конца написан заново.
Переработка отдельных глав и частей «Анны Карениной» состояла в расширении сюжета произведения, в углублении психологического анализа, в дальнейшем развитии характеров, в постановке
297
новых, преимущественно социальных тем, в более широком показе русской жизни того времени, в художественной отделке. Была раскрыта роль персонажей романа в конкретной исторической обстановке русской жизни 1870-х годов. Каренин, Облонский, Левин и другие лица, которые раньше были охарактеризованы автором только с психологической стороны, со стороны их природных душевных качеств, теперь получили оценки как общественные деятели, сторонники тех или иных общественно-политических взглядов, которыми они руководятся в своей жизни. Кроме того, автором в окончательном тексте была дана широкая картина той общественно-политической среды, в которой живут и действуют его герои.
В процессе переработки был введен в роман ряд новых действующих лиц и рассказаны новые эпизоды, не входившие в состав черновых редакций.
Одно уже перечисление новых лиц, действующих в романе, и новых эпизодов, в нем изображенных, дает представление о расширении его содержания по сравнению с первоначальными редакциями.
Следующие новые лица появились в романе по мере развития действия: брат Левина Николай и его подруга Маша; единоутробный брат Сергей Иванович Кознышев; придворная дама графиня Лидия Ивановна; деревенский купец Рябинин; баронесса Шталь и ее воспитанница Варенька; художник Петров и его жена; светские дамы и мужчины, знакомые Анны; молодой генерал, князь Серпуховской; богатый мужик и его семейство; либеральный помещик Свияжский; несколько окрестных помещиков-консерваторов; предводители дворянства Снетков и Неведовский; иностранный принц, приехавший в Петербург; приятель Вронского Голенищев; художник Михайлов и его жена; дворянин Васенька Весловский; профессор Катавасов; петербургский ученый Метров; свояк Левина князь Львов и другие.
Следующие (наиболее значительные) новые эпизоды появились в наборной рукописи и в окончательной редакции: Левин у брата Сергея Ивановича и у другого брата, Николая, в гостинице; болезнь Кити и отъезд Щербацких за границу; Левин и Облонский на охоте; продажа Облонским леса купцу Рябинину; сближение Кити с Варенькой и разочарование в ней; Левин в деревне у Долли; свидание Вронского с Анной в саду на загородной даче; заседание комиссии 2 июня и успех Каренина; попытка Левина вести хозяйство на новых началах; Левин у богатого мужика по дороге к Свияжскому; разговор Левина с помещиками-консерваторами о состоянии их хозяйств; приезд к Левину брата Николая; Вронский с иностранным принцем в Петербурге; попытка самоубийства Вронского; заграничное путешествие Анны и Вронского; свадьба Левина и обряд венчания; встречи Вронского с Голенищевым и художником Михайловым;
298
поездка Левина и Кити к Николаю Левину, его болезнь и смерть; Каренин на приеме во дворце; прекращение служебного движения Каренина; занятия Сережи Каренина с отцом и учителем; свидание Анны с сыном; Сергей Иванович и Варенька; приезд к Левину Облонского и Васеньки Весловского; поездка на охоту; поездка Долли в имение Вронского и ее разговор с Анной; дворянские губернские выборы в городе Кашине; жизнь Левина в Москве; Левин у свояка, князя Львова; Левин и Облонский у Анны; роды Кити; Облонский в Петербурге у Каренина и на медиумическом сеансе у графини Лидии Ивановны; подробное описание душевного состояния Анны перед самоубийством; добровольческое движение в пользу сербов и отношение к нему автора; состояние Вронского после самоубийства Анны; религиозные искания Левина и найденный им выход.
Все изменения и дополнения текста, вставки целых новых глав привели к тому, что роман, в первоначальной редакции бывший почти исключительно семейно-психологическим, в окончательной редакции превратился в роман социально-психологический, не только глубочайшим образом раскрывающий «диалектику души» изображенных в нем лиц, но и дающий яркую картину жизни различных слоев русского общества в 70-х годах прошлого столетия.
Содержание романа до такой степени обогатилось по сравнению с первоначальными редакциями, что Н. Н. Страхов, знавший «Анну Каренину» еще в редакции 1874 года, с полным основанием мог написать автору 10 марта 1877 года, когда печатание «Анны Карениной» в «Русском вестнике» уже подходило к концу: «Когда подумаю о том, что вышло из «Анны Карениной», то не могу надивиться»58.
XIII
Еще в своем кавказском дневнике Толстой, касаясь вопроса о различных типах литературных произведений, записал 24 октября 1853 года:
«...Бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд или несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается»59.
Не все художественные произведения Толстого писались согласно этому принципу. В «Войне и мире» и позднее в «Воскресении» читатель постоянно слышит голос автора, прямо оценивающего изображаемые им события.
299
Из всего написанного Толстым «Анна Каренина» наиболее подходит к типу «приятных» литературных произведений. Нельзя сказать, чтобы в «Анне Карениной» совершенно не чувствовалось авторской оценки героев романа и их поступков, но оценка эта сведена здесь к минимуму.
О том, что именно таков был художественный метод Толстого при создании «Анны Карениной», имеется свидетельство самого автора. В июле 1877 года, т. е. вскоре после окончания подготовки к печати отдельного издания «Анны Карениной», Толстой в беседе со студентом А. Д. Оболенским задал ему вопрос: на чьей стороне был он, автор, в описании исповеди Левина и разговора его со священником — на стороне Левина или на стороне священника? И Толстой прибавил при этом: «Я этот рассказ четыре раза переделывал, и все мне казалось, что заметно, на чьей я сам стороне. А заметил я, что впечатление всякая вещь, всякий рассказ производит только тогда, когда нельзя разобрать, кому сочувствует автор. И вот надо было все так написать, чтобы этого не было заметно»60.
В построении своего романа Толстой руководился принципом, о котором много лет спустя писал в предисловии к сочинениям Мопассана: «Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо... Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»61.
С этой особенностью художественного метода Толстого связана интересная переписка, возникшая сразу после выхода в свет отдельного издания «Анны Карениной» между Толстым и его старым знакомым, бывшим профессором физиологии растений в Московском университете, С. А. Рачинским.
6 января 1878 года Рачинский писал Толстому. «Два слова об „Анне Карениной“. Это, бесспорно, лучшее Ваше произведение. Последняя часть произвела впечатление охлаждающее — не потому, чтобы она была слабее других (напротив, она исполнена глубины и тонкости), но по коренному недостатку в построении всего романа. В нем нет архитектуры. В нем развиваются рядом — и развиваются великолепно — две темы, ничем не связанные. Как обрадовался я знакомству Левина с Анною Карениной. Согласитесь, что это один из лучших эпизодов романа. Тут представлялся случай связать все нити рассказа и обеспечить
300
за ним целостный финал. Но Вы не захотели — бог с Вами. «Анна Каренина» все-таки остается лучшим из современных романов, а Вы — первым из современных писателей»62.
Сделанный Рачинским упрек в недостатке связи между центральными темами романа — темой Анны с Карениным и Вронским, с одной стороны, и темой Левина и Кити — с другой, очевидно, сильно задел Толстого за живое. Он отвечал 27 января:
«Суждение ваше об „Анне Карениной“, мне кажется, неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи... Боюсь, что, пробежав роман, вы не заметили его внутреннего содержания... Если вы уже хотите говорить о недостатке связи, то я не могу не сказать — верно вы ее не там ищете, или мы иначе понимаем связь; но то, что я разумею под связью, то самое, что для меня делало это дело значительным, — эта связь там есть — посмотрите, вы найдете»63.
Рачинский отвечал 5 февраля 1878 года: «Я не думал отрицать внутренней связи между двумя параллельными рассказами, составляющими Ваш роман. Но более чем связь, это — полное единство, ибо развиваются две стороны одной и той же мысли. Упрек мой относился именно к архитектуре внешней, которой я дорожу по свойственному мне в делах искусства староверству. Я не считаю единство фабулы простою ficelle [веревочкой], но могучим средством для воплощения единства мысли. Может быть, весь этот разговор празден. Быть может, в произведении такой силы, как «Анна Каренина», и фабула не делается, а зарождается»64.
Рачинский, стало быть, понял, что под «связью» Толстой разумел единство авторского замысла, выражающееся в основной мысли, которой проникнуто все произведение. Но ему хотелось бы, чтобы эта основная мысль была выражена более привычным для читателя образом и прежде всего — в разговоре между представителями каждой из двух основных «тем» романа: Левиным и Анной. Однако такой способ выяснения читателю замысла автора и основной мысли произведения показался бы Толстому слишком мелким и элементарным. Он, напротив, был доволен тем, что предоставлял читателю самому доискиваться основной идеи романа, выраженной во всей совокупности художественных образов, образующих цельное художественное произведение65.
301
XIV
В чем же заключается «самобытное нравственное отношение» автора к изображаемому им предмету в романе «Анна Каренина»? На этот вопрос сам Толстой 3 марта 1877 года дал следующий ответ, записанный его женой: «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так... в „Анне Карениной“ я люблю мысль семейную...»66.
Эта главная «мысль» романа нигде не высказана непосредственно от лица самого автора; она выражена художественно, в образах. Чтобы отыскать и правильно понять эту «семейную мысль» произведения, надо разобраться во всем «лабиринте сцеплений», составляющих роман, в тех разнообразных переживаниях как главных, так и второстепенных и даже эпизодических героев, в которых автор воплотил свой замысел. Нужно, кроме того, обратить внимание на все те замечания автора, в которых он прямо или косвенно высказывает свое отношение к поступкам изображаемых им лиц. Таких замечаний не так много, но они все-таки есть.
Анна и Левин — центральные герои романа. Проследим прежде всего, как выражена «семейная мысль» в образе Анны, в истории ее семейной жизни и любви. Для этого вспомним главные сцены романа, изображающие отношения Анны к Каренину и к Вронскому.
Анна Каренина — несомненно тип собирательный. Невозможно указать какие-либо определенные прототипы как для внешнего портрета Анны, так и для ее психологического облика67.
Мы очень мало знаем о первых восьми годах замужней жизни Анны до ее встречи с Вронским. Однако все, что автор считал нужным сообщить нам об этом периоде ее жизни, все это рисует ее с положительной стороны.
Мы узнаем со слов автора, что Анна — честная, правдивая натура, которой чужда всякая ложь; что она «умела сживаться
302
со всеми», что она страстно любит своего единственного семилетнего сына и боится разлучаться с ним даже на несколько дней (впрочем, автор оговаривается, что роль «матери, живущей для сына», которую Анна взяла на себя последние годы, была «отчасти искренняя, хотя и много преувеличенная» ею)68.
Далее мы знаем, что Анна всегда была добра с прислугой. Швейцар Капитоныч, которого камердинер Каренина Корней бранил за то, что он впустил Анну Аркадьевну к сыну в день его рождения, отвечал камердинеру, что он «десять лет служил да кроме милости ничего не видал».
Но после встречи с Вронским в Анне начинают проявляться иные свойства.
Уже на балу в Москве, всего через несколько дней после встречи с Вронским на вокзале железной дороги, когда Анна оживленно танцует с ним мазурку, Кити, считавшаяся тогда почти невестой Вронского, «сказала себе», что в ней есть «что-то чуждое, бесовское и прелестное» («прелестное» в смысле прельщающее, обольстительное)69.
«Чуждое» заметила Кити в Анне потому, что когда она, чувствуя себя «раздавленной» кокетством Анны с Вронским, с «выражением отчаяния» взглянула на Анну, та только отвернулась и весело заговорила с дамой. А всего только за несколько дней до этого Кити была «влюблена» в Анну, и Анна знала это.
С другой стороны, тогда же в Москве Анна в беседе с Долли по поводу измены ее мужа проявляет такое горячее участие в постигшем невестку горе, выказывает такую душевную чуткость и так способствует примирению супругов, что Долли навсегда сохранила благодарную память о моральной поддержке, которую она получила от Анны в самый тяжелый период своей жизни.
Неожиданно проснувшееся чувство любви раскрывает Анне глаза на характер ее отношений к мужу, а также на душевные качества окружающих ее людей.
Еще на вокзале, когда ее вдруг поразили «хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы» встречавшего ее нелюбимого мужа, она испытала неприятное чувство. Это чувство проистекало из смутного сознания какого-то притворства в отношениях к мужу. Она и раньше испытывала это чувство, но прежде она не замечала его, теперь же «ясно и больно сознала его».
Приехавшую к ней придворную даму, графиню Лидию Ивановну, друга ее мужа, Анна тоже «как будто в первый раз увидела со всеми ее недостатками». «В самом деле смешно, — думала Анна, — ее цель добродетель, она христианка, а она все сердится, и все у нее враги, и все враги по христианству и добродетели».
303
Графиня Лидия Ивановна была членом существовавшего в то время в высшем свете кружка «старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин». Раньше Анна имела друзей в этом круге, но по возвращении из Москвы ей показалось, что «и она и все они притворяются». Ей сделалось «скучно и неловко» в этом обществе, и она старалась сколько возможно отдаляться от него.
Как будто то глубокое, искреннее чувство, которое вполне овладело Анной, раскрыло в ней способность ясно видеть всю ложь и фальшь в жизни окружающих ее людей — в их словах и поступках. И эту способность Анна сохранила до конца своей жизни — до дня своей гибели.
Но это же овладевшее Анной чувство поставило ее самое в совершенно ложное и фальшивое положение — в необходимость лгать и притворяться перед мужем.
Когда Анна вернулась домой с вечера у княгини Бетси Тверской, на котором Вронский много и горячо говорил ей о своей любви, муж пробует объясниться с нею, но Анна искусно разыгрывает роль женщины, совершенно не понимающей, о чем ей говорят. «Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее».
Так повторялось несколько раз. Каждый раз, когда муж пытался заговорить с нею об ее поведении, он наталкивался на «непроницаемую стену какого-то веселого недоумения». Ею завладел «дух зла и обмана».
Первое сближение Вронского с Анной, «то, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия», — вызвало в Анне совсем не те чувства, каких она ожидала.
«Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения». «Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить... Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда».
Когда они расставались, «она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса перед этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточными словами». Но и после она не находила слов, «которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств».
Она лишилась спокойствия. «Каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас, и она отгоняла от себя эти мысли».
304
По ночам ее преследовали кошмары. Ей снилось, что и Каренин и Вронский — оба ее мужья, и она просыпалась с ужасом. Эта глава «Анны Карениной» послужила поводом к интересной переписке между Толстым и Катковым (письмо Каткова не сохранилось). Катков, по-видимому, просил Толстого что-то переделать в этой главе, находя «яркий реализм» главы не вполне благопристойным с точки зрения читателей «Русского вестника». На письмо Каткова Толстой в середине февраля 1875 года ответил отказом. Он писал: «В последней главе не могу ничего тронуть. Яркий реализм, как вы говорите, есть единственнное орудие, так как ни пафос, ни рассуждения я не могу употреблять. И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если оно ложно, то всё ложно»70.
XV
До сближения с Вронским Анна могла находить некоторые достоинства в своем муже. Так, когда она по приезде из Москвы рассказала ему об измене Степана Аркадьевича и Каренин по этому поводу заметил: «Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя он и твой брат», «Анна улыбнулась. Она поняла, что он сказал это именно затем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее».
Но после сближения с Вронским отношение Анны к мужу резко изменяется. Те «длинные уши», которые неожиданно для себя заметила Анна у мужа на вокзале по приезде из Москвы, теперь неимоверно выросли и вызвали, как это обычно бывает в подобных случаях, чувство полного сначала физического, а потом и нравственного отвращения.
Когда после объявления Вронскому о своей беременности Анна заговорила с ним о муже, «злой свет зажегся в ее за минуту перед этим нежных глазах». «Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, — прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была пред ним виновата»71.
Здесь автор не только вскрывает ту причину, вследствие которой Анна, вступив в связь с Вронским, «не прощала ничего» своему мужу, но и высказывает в первый раз свое отношение к ее поступку.
305
В противоположность Анне автор считает Каренина человеком «кротким» и «смирным» от природы72, но это человек с преобладанием рассудка над чувством, о чем говорит даже его фамилия. По словам С. Л. Толстого, фамилия «Каренин» была произведена автором «Анны Карениной» от греческого слова «каренон» — голова73.
Установлены два бесспорных прототипа образа Каренина. Один из них — «рассудительный Сухотин» — был назван еще Фетом в письме к Толстому, написанном в феврале 1875 года. Сергей Михайлович Сухотин (1818—1886), знакомый Толстого еще с кавказского периода его жизни, в 1874—1880 годах был вице-президентом Московской дворцовой конторы. Он был женат на сестре друга Толстого Д. А. Дьякова, Марии Алексеевне Дьяковой, с которой развелся в 1868 году. У Толстого еще в 1865 году явилась мысль изобразить Сухотина в художественном произведении. В записи дневника 30 сентября 1865 года в перечне «характеров», которые Толстой намеревался воплотить в художественных образах, значится: «Сухотин — ограниченность успеха»74.
Второй бесспорный прототип Каренина — свояк Толстого Александр Михайлович Кузминский (1845—1917), занимавший ряд видных должностей по судебному ведомству. Общие черты Каренина с Кузминским: «корректность, исполнительность, формализм, полусерьезный иронический тон в разговорах и письмах с женой, с обращением на «вы»75.
Готовясь к первому объяснению с женой после того вечера у княгини Бетси Тверской, на котором она вела продолжительный уединенный разговор с Вронским, Каренин решил указать ей на опасность, которой она подвергала себя, — и только. Что касается ее чувства, того, что делалось в ее душе, Алексей Александрович думал, что это — «дело ее совести и подлежит религии». И он почувствовал «облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство».
Но насмешливое отношение Анны к его словам спутало весь план его речи, и он сказал совсем не то, что задумал. Он сказал только, что «есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно».
306
Услыхав это, Анна подумала: «Ему все равно. Но в обществе заметили, и это тревожит его». Но в действительности было не так. После всех попыток объяснения с женой, на которые Анна отвечала только легкой насмешкой, Каренин «в глубине своей души, никогда не высказывая этого самому себе и не имея на то никаких не только доказательств, но и подозрений, знал несомненно, что он был обманутый муж, и был от этого глубоко несчастлив».
С своей стороны, Анна, женщина, для которой любовь «перевесила все блага жизни», страдала оттого, что ей приходилось скрывать свою любовь, лгать и притворяться. «В глубине души она считала свое положение ложным, несчастным и всею душой желала изменить его». Вронский не раз замечал в Анне «чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи». «Она прежде была несчастлива, но горда и спокойна, а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого», — думал Вронский.
Анна не исполнила поставленного ей мужем условия — не принимать у себя «этого человека», и один раз Вронский, получивший записку от Анны, на лестнице встретился с Карениным, отправлявшимся на заседание.
На слова Вронского, что он не понимает, как Каренин, который, очевидно, страдает, может после признания жены продолжать жить с нею в одном доме, как он не вызовет его на дуэль, Анна отвечает: «Он совершенно доволен... Разве я не знаю его, эту ложь, которою он весь пропитан?.. Он ничего не понимает, не чувствует... Это не мужчина, не человек, это кукла! Никто не знает, но я знаю... Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний...»
Между тем Каренин, вернувшись с заседания, всю ночь не мог заснуть от овладевшего им чувства гнева и решил объясниться с женой.
Утром он вошел к ней, как только узнал, что она встала. «Анна, думавшая, что она так хорошо знает своего мужа, была поражена его видом, когда он вошел к ней. Лоб его был нахмурен и глаза мрачно смотрели вперед себя, избегая ее взгляда; рот был твердо и презрительно сжат. В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твердость, каких жена никогда не видала в нем».
Разговор сразу принял бурный характер. Каренин говорил резко и жестко, Анна назвала его обращение с ней подлостью. Он отвечал, что «подлость — это бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа». Анна «чувствовала всю справедливость его слов» и сказала только: «Это непорядочно — бить лежачего». На это Каренин отвечал: «Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам
307
неинтересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле... педе... пелестрадал».
Анне в первый раз на мгновение стало жалко мужа. «Но что ж она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала».
Толстой был очень доволен употребленным им в этой главе художественным приемом изображения человека, который в избытке нахлынувших на него чувств путается в словах и не может их правильно произнести.
Сначала Толстой предполагал заставить Каренина произнести «плишел» вместо «пришел». В черновых заметках к «Анне Карениной» записано: «Алексей Александрович объясняется и говорит «плишел», и [Анне] хочется смеяться и жалко». Эта заметка сопровождается авторской оценкой: «Распроважно»76.
XVI
Граф Алексей Кириллович Вронский77 — человек с «очень добрым сердцем», который почти никогда не сердится. У него мужественное, благородное лицо; обычный тон его слов спокойный и твердый; у него решительный, цельный характер; он никогда не торопится и не теряет самообладания. «Если он начинал что-нибудь делать, то уже доводил делаемое до совершенства»78.
По-видимому, Вронский не знает никаких умственных интересов. В романе не упоминается ни одной прочитанной им книги; он ведет только один разговор в семье Щербацких, выходящий за пределы его жизни и жизни окружающих его людей, — разговор о спиритизме.
В окончательном тексте Вронский — флигель-адъютант, типичный представитель высшего офицерства, близкого ко двору. Он вполне разделяет господствующий в этом кругу грубый и низменный взгляд на жизнь, по которому «все люди разделялись на два совершенно противоположных сорта. Один, низший сорт — пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине — стыдливою, мужчине — мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных». Другой сорт людей, к которому
308
принадлежал сам Вронский и все его друзья, это тот, в котором признавалось, что «надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться»79.
Из этих пошлых взглядов на жизнь вытекали совершенно несомненные правила, которыми следовало руководствоваться. Правила эти говорили, что «нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять, и т. д.»80.
«Правила» эти оказывали влияние и на отношения Вронского к семейной жизни. Брак и семейная жизнь не только «не представляли для него никакой прелести», но он находил, что «на муже лежит отпечаток чего-то смешного»81.
С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым, муж был только излишнее и мешающее лицо. Вся жизнь Вронского была наполнена его страстью. Честолюбие было давнишней мечтой его детства и юности, теперь же он отказался от предложенного ему почетного назначения только для того, чтобы продолжать видеться с Анной.
Важно отметить, что с того времени, как Вронский полюбил Анну и она стала для него «дороже жизни», он много изменился к лучшему. Он рассказывал Анне, что будучи прикомандирован к приехавшему в Петербург иностранному принцу (принц принадлежал к тому разряду людей, которые «все презирают, кроме животных удовольствий»), он «как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь», давно им оставленную, и неделя, проведенная с принцем, была для него очень тяжела. — «Глупая говядина», — думал он про принца. — «Неужели я такой?».
Несмотря на поглощавшую его любовь к Анне, Вронский чувствовал всю ненормальность своего положения по отношению к Анне, ее мужу и сыну. Необходимость скрывать свои отношения к Анне, лгать и обманывать была противна натуре Вронского, и он «всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться». Иногда он приходил в состояние глубокого недовольства и собой, и окружающими, и всей жизнью. На него находило беспричинное «чувство омерзения к чему-то — к Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету — он не знал хорошенько».
«Всегда и неизменно» испытывал Вронский это чувство в присутствии Сережи, при котором они оба не позволяли себе
309
говорить ничего такого, что раскрыло бы их действительные отношения. «Ребенок этот, — говорит автор, — с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать».
В отношении Вронского к Анне в то время не было полной ясности. Он не был вполне готов к тому, чтобы предложить ей оставить мужа и соединиться с ним. После того как Анна объявила ему о своей беременности, «сердце подсказало ему требование оставить мужа», о чем он и сказал ей. Но на другой день, обдумав положение, он стал склоняться к мысли, что «лучше было бы обойтись без этого».
Неделей раньше он виделся со своим товарищем по корпусу, молодым генералом Серпуховским, вернувшимся из Хивинского похода и быстро делавшим карьеру; о нем говорили как о новой восходящей звезде. (Прототипом Серпуховского, несомненно, послужил знаменитый в свое время молодой генерал М. Д. Скобелев, участник Хивинского похода 1873 года82). Серпуховской стал рассказывать Вронскому о своих планах участвовать в государственной деятельности и уговаривал его пойти по тому же пути. При этом Серпуховской старался внушить Вронскому мысль, что женщины — главный камень преткновения в деятельности человека. «Трудно любить женщину и делать что-нибудь». Единственное средство «с удобством без помехи любить — это женитьба».
Когда Анна после признания мужу увиделась с Вронским в саду казенной загородной дачи, она находилась в таком настроении, что если бы он «решительно, страстно, без минуты колебания» сказал ей: «Брось все и беги со мной!», она бросила бы мужа, сына и ушла с ним. Но она увидела, что ее признание не произвело на него такого действия, какого она ожидала. «Во взгляде его не было твердости». Ему вспомнилось, что говорил ему Серпуховской и что он сам думал утром того же дня — «что лучше не связывать себя». Но Анне он не мог сказать этого, и она поняла по его взгляду, «что что бы он ни сказал ей, он
310
скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута... Все останется по-старому».
Приближалось время родов Анны. В тот вечер, когда был у нее Вронский, столкнувшийся на лестнице с Карениным, она говорила ему о своем предчувствии близкой смерти: «Скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успокоимся и не будем больше мучиться... Я умру, и очень рада, что умру и избавлю себя и вас». Она не сказала: «себя и Алексея Александровича», но «себя и вас», включая и Вронского в число тех людей, для которых ее смерть, как ей казалось, будет избавлением.
Анна с волнением и даже с ужасом рассказывает Вронскому про виденный ею сон — о мужике, копашащемся в мешке и что-то приговаривающем по-французски, и о Корнее, камердинере Каренина, который предсказывает ей, что она умрет родами. Но вдруг посреди рассказа она остановилась. «Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания... Она слышала в себе движение новой жизни».
Но это «серьезное внимание», направленное внутрь себя, это «блаженное» состояние, вызванное ощущением движения в себе новой жизни, продолжались недолго. Анна чувствовала себя придавленной своим ненормальным положением, из которого не видела никакого выхода.
XVII
Каренин, которому хотелось уехать из своего дома, отправился в окраинные губернии, чтобы на месте познакомиться с бытом инородцев, по делу которых он потерпел поражение в высшем государственом органе.
В Москве он, чувствовавший себя глубоко несчастным, как он говорил Долли, получил телеграмму от жены, извещавшей о болезни и в ожидании смерти умолявшей его приехать. «Умру с прощением спокойнее», — было сказано в телеграмме.
Не вполне доверяя телеграмме и подозревая обман и хитрость, Каренин все-таки вернулся в Петербург. Он желал ее смерти. Узнав от швейцара, что накануне были вполне благополучные роды, но что здоровье барыни очень плохо, Каренин, «испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти», вошел в спальню жены.
Он застал жену в сильнейшей родильной горячке. В бреду она говорила о его доброте и о своей вине. «Он добр, он сам не знает, как он добр», — говорила она «скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями». — «Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его».
Она позвала мужа; он подошел и взял ее за руку. «И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели
311
на него с такой умиленною и восторженною нежностью, какой он никогда не видал в них.
— Не удивляйся на меня, — продолжала она в бреду. — Я все та же... Но во мне есть другая, я ее боюсь — она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся.... Одно мне нужно: ты прости меня, прости совсем! Я ужасна, но мне няня говорила: святая мученица — как ее звали? — она хуже была».
Слова жены произвели в душе Алексея Александровича глубокое душевное расстройство, которое, наконец, дошло «до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье... Радостное чувство любви и прощения к врагам наполнило его душу. Он... рыдал, как ребенок».
Каренин гордился тем, что всегда держал высоко «знамя религии среди общего охлаждения и равнодушия»; однако он как консерватор смотрел на религию преимущественно с политической точки зрения и видел в ней надежное средство поддержания в массах уважения к существующему порядку и противодействия революционным влияниям. Теперь, под действием овладевшего им нового для него чувства, он вспомнил о религии, как руководстве жизни. На другой день он сказал Вронскому, что раньше у него было желание мстить им обоим, что он ехал из Москвы с желанием ее смерти. «Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения! — Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. — Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам, — продолжал он. — Моя обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду».
Вронский «не понимал чувства Алексея Александровича. Но он чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное в его мировоззрении».
Каренин испытывал душевное спокойствие, которого он не знал прежде. «То, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил». Он простил жену, простил Вронского, жалел сына больше, чем прежде, и к новорожденной девочке, не бывшей его дочерью, «испытывал какое-то особенное чувство не только жалости, но и нежности».
312
XVIII
Вронский вернулся к себе домой с сознанием своего позора и унижения. «Он почувствовал, что муж был великодушен и в своем горе, а он низок, мелочен в своем обмане». Не в силах вынести овладевшее им чувство презрения к самому себе, Вронский пытается покончить с собой, но неудачно.
Эпизод самоубийства Вронского появился в творческом сознании автора «Анны Карениной» неожиданно для него самого. В письме к Н. Н. Страхову от 23 апреля 1876 года Толстой писал по этому поводу:
«Глава о том, как Вронский принял свою роль после свиданья с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее, и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо»83.
Для течения романа самоубийство Вронского было «органически необходимо» потому, что оно оказало большое влияние на дальнейшее развитие отношений между Анной и Вронским вплоть до отъезда ее от Каренина.
Вронский после выздоровления Анны перестал бывать у нее, но чувство его вследствие этого не ослабело, а, напротив, все более и более усиливалось. Он испытывал «доходящее до отчаяния сожаление о том, что навсегда потерял ее». В душе Анны под влиянием разлуки точно так же усилилось чувство к Вронскому.
Каренин чувствовал «непрочность и неестественность» своих отношений с женой. Душевное размягчение, произведенное в Анне близостью смерти, продолжалось недолго. По мере ее выздоровления Алексей Александрович стал замечать, что Анна «боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза». Кончилось тем, что Анна еще с большей силой, чем прежде, стала испытывать физическое отвращение и ненависть к мужу, и Каренин увидел, что их совместная жизнь невозможна. То же чувствовала и Анна. «Я слыхала, — говорила она брату, — что женщины любят людей даже за их пороки, но я ненавижу его за его добродетель... Я ненавижу его за его великодушие».
Степан Аркадьич отправился к Каренину просить его о разводе с Анной. Начав разговор, Облонский с удивлением почувствовал, что робеет чего-то. «Степан Аркадьич, — говорит от себя Толстой, — не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать».
Толстой считал бессовестным поступок своего героя — уговаривание Каренина согласиться на развод — потому, что, согласившись,
313
Каренин ставил себя в фальшивое, позорное, унизительное положение. По законам того времени, при совершении развода тот из супругов, который брал на себя вину в прелюбодеянии, лишался права вступить в новый брак. Каренин должен был признаться в совершении того, чего он не совершал, опозорить себя в глазах общества и тогда только его жена при расторжении брака с ним могла вторично выйти замуж.
Услыхав от Облонского просьбу о разводе, Каренин вспомнил то унижение, которому он подвергал себя в случае согласия. Но тут же вспомнил и изречение: «И ударившему в правую щеку подставь левую, и снявшему кафтан отдай рубашку», и вскрикнул: «Да, да! Я беру на себя позор, отдаю даже сына, но... не лучше ли оставить это? Впрочем, делай, что хочешь...» Ему было горько, ему было стыдно; но вместе с этим горем и стыдом он испытывал радость и умиление перед высотой своего смирения».
Анна не захотела принять великодушие мужа и отказалась от развода. Через месяц Вронский с Анной уехали за границу.
Но нелегко было Анне порвать с мужем и сыном и навсегда уехать от них. «Все-таки что-то ужасное есть в этом после всего, что было», — говорила она Вронскому. — «Ах, зачем я не умерла! Лучше бы было», — прибавляла она.
Каренин остался один с сыном.
«Я разбит, я убит, я не человек более», — говорил он своему другу графине Лидии Ивановне.
То, на что был готов Каренин, оставляя Вронского в своем доме во время болезни Анны, то и случилось, — он сделался посмешищем света. Он не мог никак «примирить свое недавнее прощение, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за все это, он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый»84.
Когда в день нового года Каренин в числе других, получивших награды, был на приеме во дворце, он заметил, что все, кого он видел, не переставая говорили о нем, «осуждая его и смеясь над ним... Что они смеялись над ним, он знал это, но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности; он уже привык к этому»85.
Под влиянием всеобщего осуждения и презрения Каренин стал даже раскаиваться в том чувстве, которое овладело им у постели умиравшей жены. «Его прощение, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием».
314
XIX
В одной из черновых редакций «Анны Карениной» есть зачеркнутые строки, в которых очень метко определено различие между любовью Анны и любовью Вронского. Здесь сказано: «Она чувствовала, что ей достаточно одной его любви, для него этого мало; что для него, как для мужчины, необходим особый от нее мир, в который бы мог уходить и из которого вновь к ней возвращаться»86.
Это различие давало о себе знать с самого начала их совместной свободной жизни за границей.
«Вронский... несмотря на полное осуществление того, что он желал так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастия, которой он ожидал... Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний — тоска».
По выходе в отставку Вронский вел совершенно праздный образ жизни — у него не было никакой обязательной для него службы или работы, не было и такого труда, который бы он любил и которым бы занимался с увлечением. «Шестнадцать часов дня надо было занять чем-нибудь... И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины». Но все это не доставляло ему полного удовлетворения.
Совсем по-другому чувствовала себя за границей Анна. «Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна, и условия жизни были так новы и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливою. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его... Все черты его характера, которые она узнавала больше и больше, были для нее невыразимо милы... Во всем, что он говорил, думал и делал, она видела что-то особенно благородное и возвышенное... Она искала и не могла найти в нем ничего непрекрасного».
«Воспоминание несчастия мужа не отравляло ее счастия. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастие ее мужа дало ей слишком большое счастие, чтобы раскаиваться».
Но в свое описание счастливой жизни Анны за границей автор вносит диссонанс, еще раз намекая на свое отношение к ее поступку. Рассказывая о встрече Вронского и Анны со старым знакомым Вронского Голенищевым, автор мимоходом роняет
315
замечание: «Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала: именно того, как она могла, сделав несчастие мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически-веселою и счастливою».
По возвращении в Петербург условия жизни Анны резко изменились к худшему. Светское общество готовилось подвергнуть ее остракизму за связь с Вронским еще пока она не оставляла мужа.
«Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее называют справедливою, радовались тому, что́ они предполагали, и ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в нее, когда придет время»87.
Когда Анна вместе с Вронским приехала в Петербург, двери светских гостиных оказались для нее затворенными. Ее перестали принимать те самые дамы высшего общества, которых Вронский знал как самых порочных и безнравственных женщин. Жена его брата, горячо его любившая, говорила, что она не может «поднять» Анну, на что Вронский резко отвечал, что он не считает, чтобы она упала ниже сотен тех женщин, которых все принимают. Приятельница Анны, княгиня Бетси Тверская, эта, по словам Анны, «развратнейшая женщина», которая «самым гадким образом обманывала мужа», объявила Анне, что она не хочет ее знать до тех пор, пока ее положение не будет узаконено.
Одна только княгиня Мягкая, известная прямотою и искренностью своих суждений, взяла Анну под свою защиту. В салоне Бетси Тверской она открыто заявила относительно Анны: «С тех пор, как все набросились на нее, все те, которые хуже ее во сто тысяч раз, я нахожу, что она сделала прекрасно... Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают; а она не хотела обманывать и сделала прекрасно».
Анна никак не могла примириться с этим отчуждением от светского общества, с которым она чувствовала себя неразрывно связанной. Она признавала себя той же представительницей высшего света, какой была и ранее, но свет этот теперь был для нее закрыт.
Мучило Анну также и воспоминание о сыне. Это воспоминание было для нее тем более мучительно, что она не могла поделиться им с Вронским, который не понимал ее чувства. В день рождения сына Анна тайно от Вронского видится с ним и даже, вернувшись домой, не рассказывает Вронскому о свидании с сыном. Видя, что Вронский рассматривает карточки ее мальчика,
316
которые она забыла на столе, она «быстрым движением» отобрала их от него.
Она находилась в возбужденном состоянии и в этом состоянии решилась на опрометчивый поступок: поехать в театр, где она должна была встретиться со многими знакомыми из высшего света. Здесь знакомая дама, сидевшая в соседней ложе, грубо оскорбила ее. Оскорбление это глубоко потрясло Анну. Было решено сейчас же оставить Петербург и уехать в деревню.
XX
В имении Вронский занялся организацией крупного хозяйства по заграничному образцу, а также разведением лошадей, до которых он был большой любитель, устройством больницы для населения и т. д. Анна помогала ему в его предприятиях.
Душевный организм Анны был надломлен всем пережитым за последние годы: сначала тяжестью жизни с нелюбимым мужем и необходимостью скрывать свою связь, затем болезнью, оставлением мужа, перед которым, как говорила Анна впоследствии Долли, она все-таки, несмотря ни на что, считала себя виноватой, разлукой с сыном, которого она любила не менее, чем Вронского, презрением светского общества, которое было ей очень тяжело.
Долли, посетившая Анну в имении Вронского, могла наблюдать ее жизнь и вести с ней задушевный разговор. Долли заметила, что Анна не хозяйка в своем доме, что все, даже выбор блюд к обеду, делается Вронским; увидела, что в детской Анна чувствовала себя как чужая, как лишняя, по ее выражению; за обедом обратила внимание на то, что с вопросом об общественной деятельности связывалась «какая-то интимная ссора Анны с Вронским»; ей бросилось в глаза, что между Анной и Васенькой Весловским, гостившим у них, установились какие-то «игривые отношения». Она не знала, что Анна за последнее время при встречах с мужчинами бессознательно старалась каждого из них влюбить в себя. Это ей удалось на один вечер даже в отношении Левина. Заметила Долли, что у Анны появилась «новая привычка» — щуриться — когда «дело касалось задушевной стороны жизни». Долли казалось, что это она «на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть».
Но всего более положение Анны и ее душевное состояние выяснилось для Долли после их ночного откровенного разговора. Анна объявила Долли, что не хочет больше иметь детей и употребляет средства, чтобы их не было. Она объяснила, что делает это потому, что опасается, что если она будет беременна, то утратит для Алексея всю свою привлекательность. На это Долли «с выражением гадливости на лице» сказала: «Нет, я не знаю, это нехорошо».
317
Долли ясно сознает всю призрачность надежд Анны удержать любовь Вронского одной своей физической привлекательностью. «Неужели Анна, — думала Долли, — этим привлечет и удержит графа Вронского? Если он будет искать этого, то найдет туалеты и манеры еще более привлекательные и веселые. И как ни белы, как ни прекрасны ее обнаженные руки, как ни красив ее полный стан… он найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж»88.
В конце разговора Анна, раньше уверявшая Долли, что она «непростительно счастлива», теперь со всей искренностью призналась, что она «именно несчастна» и даже «не стоит презрения».
Долли всей душой было жалко Анну, но когда она осталась одна, «воспоминания о доме и детях с особенною, новою для нее прелестью, в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении», и она поспешила уехать домой.
Анна старалась принимать участие в хозяйственных предприятиях Вронского. Она изучала по книгам то, чем он занимался, и Вронский часто обращался к ней по агрономическим, архитектурным и даже коннозаводческим вопросам. Она старалась, насколько могла, заменить Вронскому все то, что он ради нее оставил. Это — единственное, что ей оставалось в жизни. Семьи не было. Девочку, родившуюся от Вронского, она не любила, потому что девочка эта появилась на свет в самое тяжелое для Анны время.
Вронский «ценил это, сделавшееся единственною целью ее жизни, желание не только нравиться, но служить ему, но вместе с тем и тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его». «...Я все могу отдать ей, но не свою мужскую независимость», — думал он.
На эту-то его мужскую независимость и посягала Анна.
Каждый раз, как ему нужно было ехать к матери или в город, у них происходили сцены. Когда он уехал на губернские дворянские выборы, Анна прислала ему телеграмму с ложным известием о болезни девочки (болезнь была не опасна). Анна видела, что он вернулся с сожалением о том, что ему пришлось
318
оставить «невинное веселье выборов», и тем не менее была довольна.
«Пускай он тяготится, но будет тут, с нею, чтоб она видела его, знала каждое его движение... Только бы он был тут, а когда он тут, он не может, не смеет не любить меня».
Ее любовь принимала все более «мрачный, тяжелый» характер.
«Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно — любовь к женщинам». И когда она видела уменьшение его любви, то объясняла это тем, что он любит другую женщину.
Вронский очень огорчался тем, что Анна не желала иметь детей. Она объясняла его желание иметь детей тем, что он «не дорожил ее красотой». Во всем, что было тяжелого в ее жизни, Анна обвиняла Вронского. «Она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, который она не могла изгнать ни из его, ни еще менее из своего сердца».
Отношения становились все более и более напряженными. Иногда вместо прежней любви появлялись обоюдное ожесточение, ненависть, сменявшиеся порывами страстной любви.
После одной крупной ссоры, когда Анна решила, что произошел окончательный разрыв, «она вдруг поняла то, что было в ее душе...»: «Да, умереть! И стыд и позор Алексея Александровича и Сережи и мой ужасный стыд — все спасается смертью. Умереть — и он будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня». Она «живо с разных сторон представляла себе его чувства после ее смерти».
В другой раз после целого дня, проведенного в ссоре (чего раньше никогда не было), Анне опять представилась смерть как единственный выход. Эта единственная надежда «восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, — ясно и живо представилась ей».
Ненависть, которая поднялась в ее душе против Вронского, была гораздо сильнее той ненависти, которую она раньше испытывала к мужу. Она ненавидела его так, как не ненавидела ни одного человека в своей жизни.
Она быстрыми шагами шла навстречу самоубийству. Нужен был только повод, чтобы привести это решение в исполнение. Повод этот скоро представился. После крупной ссоры Вронский по делу уехал к матери, жившей на даче под Москвой. Анна, раскаявшаяся в резких словах, сказанных ею, послала ему сначала записку: «Я виновата. Вернись домой, надо объясниться. Ради бога приезжай, мне страшно», а затем телеграмму: «Мне необходимо переговорить, сейчас приезжайте».
319
На телеграмму, полученную им раньше записки, Вронский ответил, что не может вернуться раньше десяти часов. Анна представила его себе спокойно разговаривающим с матерью и с княжной Сорокиной, к которой она без всяких оснований ревновала его. Она почувствовала «неопределенный гнев и потребность мести», а увидав на вешалке шляпу Вронского, «содрогнулась от отвращения». Она решила поехать к его матери, чтобы «уличить» его.
Как раньше она навсегда уезжала от мужа, так и теперь она знала, что не вернется больше в дом Вронского. Она решила после свидания с ним у его матери уехать по железной дороге в ближайший город и там поселиться. Тот «яркий свет, в котором она видела все», теперь в первый раз был ею обращен на ее отношения к Вронскому. Она сознавала полное крушение своей любви, — того, что составляло единственную цель и радость ее жизни. «Моя любовь, — думала она, — все делается страстнее и себялюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот отчего мы расходимся. И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны... Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим. И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне — злобу, и это не может быть иначе».
Она вспомнила всю свою жизнь, с отвращением думая о своих отношениях к Алексею Александровичу; вспомнила и Сережу, и ее любовь к нему представилась ей в новом свете. «Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». «И она с отвращением вспомнила про то, что называла той любовью».
Сидя на платформе вокзала, она продолжала свои размышления при том «пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений».
Она находилась в том состоянии безвыходного отчаяния, при котором во всей человеческой жизни с ее разнообразной игрой света и теней, добра и зла она видела один только мрак и зло. Это было одностороннее, неправильное представление о жизни; но зато оно ясно открывало ее ложь и обман. Она наблюдает людей, которых видит вокруг себя, и думает: «Все неправда, все ложь, все обман, все зло!»
Вот идут молодые мужчины, «уродливые, наглые и торопливые и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили»; вот «дама уродливая... и девочка, ненатурально смеясь, пробежали внизу», и Анна думает: «Девочка — и та
320
изуродована и кривляется». Вот против нее уселись муж и жена и «говорили, притворяясь, глупости, только для того, чтобы она слышала. Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга». Когда поезд тронулся, муж перекрестился, и Анна, «с злобой взглянув на него, подумала: «Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим».
В этих наблюдениях сказалась прямая, честная натура Анны, стремившаяся к правдивости перед собой и перед другими.
В черновой редакции размышлений Анны во время ее поездки на вокзал находим следующие строки: «...Я, живая и просящая у него, как милости, любви — я противна; но я умершая, сама умершая по своей воле, потому что я поняла ложь своего положения и не хочу в ней быть, я прекрасна, я жалка. И надо умереть по своей воле», — совершенно спокойно продолжала она думать».
Эти размышления Анны, представляющие ее настроение в несколько смягченном виде, в окончательный текст романа включены не были.
Приехав на станцию Обираловка, близ которой жила мать Вронского, Анна получила от кучера записку в ответ на ту, которую она утром послала Вронскому: «Очень жалею, что записка не застала меня. Я буду в десять часов», — небрежным почерком писал Вронский.
Эта записка явилась последним толчком, под действием которого Анна решилась на самоубийство. «Нет, я не дам тебе мучать себя», — подумала она. Глядя на подходивший товарный поезд, она вспомнила о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским и «поняла, что́ ей надо делать».
«Туда! — говорила она себе... — туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя».
Сцена самоубийства Анны в журнальном тексте была гораздо короче, чем в отдельном издании, проредактированном автором. Вот ее полный текст:
«Первый вагон прошел, второй только стал подходить. Отбросив с руки красный мешочек, она приблизилась еще и нагнулась под вагон. И чувствуя, что она совершает что-то важное, важнее всего того, что она делала в жизни, она по привычке подняла руку, перекрестилась и, опершись руками на шпалы впереди рельсов, опустилась на колени и нагнула голову. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд воспоминаний важных минут жизни, в особенности девичьей и детской. Она почувствовала, что любит жизнь, как никогда не любила ее прежде. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, но что-то огромное, неумолимое безжалостно удержало ее, толкнуло и потащило за спину. «Господи! Прости мне
321
всё!» — проговорила она. Ближе стали видны грязный песок и уголь. Она упала на них лицом. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, горя, обманов и зла книгу, затрещала, стала меркнуть, вспыхнула, и все потухло...»
Это описание самоубийства Анны вызвало недовольство Н. Н. Страхова, мнением которого Толстой дорожил. 7 мая 1877 года Страхов писал Толстому:
«Но Вы у меня отняли то умиление, которое я испытал три года тому назад в Вашем кабинете и которого я ждал теперь. Вы безжалостны; Вы не простили Анне в самую минуту ее смерти; ее ожесточение и злоба растут до последнего мгновения, и Вы вычеркнули, как мне кажется, некоторые места, выражающие смягчение души и жалость к самой себе. Таким образом, я не расплакался, а очень тяжко задумался. Да, это вернее, чем то, что мне представлялось. Это очень верно, — и тем ужаснее».
Вторично Страхов, державший корректуру отдельного издания «Анны Карениной», писал Толстому о том же 8 сентября 1877 года:
«В упреках, которые Вам делают, только один имеет смысл. Все заметили, что Вы не хотите останавливаться на смерти Карениной. И Вы мне говорили, что Вам противно возиться с той жалостью, которая тут возбуждается. Я до сих пор не понимаю того чувства, которое Вами руководит. Может быть, додумаюсь, но помогите мне. Последняя редакция самой сцены смерти так суха, что страх»89.
Письма Страхова оказали некоторое воздействие на Толстого, и он написал новую редакцию сцены самоубийства, несколько приблизив ее к тому, чего желал Страхов. Главные изменения и дополнения были следующие. Вместо «привычный жест крестного знамения» и т. д., кончая «никогда не любила ее прежде», появилось: «Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями». Перед мелькнувшим в голове Анны вопросом: «Где я? Что я делаю? Зачем?» — прибавлено: «Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала». После слов: «проговорила она» — прибавлено: «чувствуя невозможность борьбы».
322
Заключительный абзац изложен следующим образом: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».
Этими словами заканчивался роман. Далее следовал эпилог.
В эпилоге «Анны Карениной» описано страшное отчаяние, которое овладело Вронским после самоубийства Анны. Он отправился добровольцем в Сербию с единственной целью — кончить жизнь от турецкой пули.
Надежда Анны, что после ее добровольной смерти Вронский будет «жалеть и любить» ее, оправдалась только отчасти. Вронский, рассказывается в эпилоге, старался вспомнить Анну «не жестоко-мстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею; но эти минуты были навсегда отравлены».
———
Итак, как же выразилась «семейная мысль» в образе Анны, в истории ее жизни и любви?
Толстой высоко ставит душевные качества своей героини, одновременно он раскрывает трагический самообман ее жизни. Он не сочувствует ей в оставлении мужа и особенно сына; не сочувствует ее образу жизни с Вронским — равнодушию к дочери, нежеланию иметь детей, беспричинной ревности, кокетству со всеми молодыми мужчинами и т. д. Причиной этих ненормальных отношений явилось то, что исключительным интересом жизни Анны сделалась страсть, и она не могла и не хотела быть ничем иным, «кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки». Вследствие этого все прекрасные задатки ее незаурядной натуры, ее большой ум и большие душевные силы были растрачены понапрасну. И вместе с тем цель ее стремлений не была достигнута. Мы видим, как на протяжении всей жизни Анны, описанной в романе, она испытывала лишь короткие периоды счастья, которые тонут в безбрежном море испытанных ею страданий.
Таким образом, в истории жизни и любви Анны «семейная мысль романа нашла свое отрицательное выражение: Толстой изобразил те условия жизни своей героини, при наличии которых семья не могла существовать.
XXI
Изучение образа Константина Левина представляет двойной интерес. Это, во-первых, вторая центральная фигура романа и, во-вторых, в этом образе так много автобиографических черт, что изучение его помогает лучше понять многие стороны характера и мировоззрения Толстого периода «Анны Карениной».
323
Автобиографичность образа Левина была обусловлена тем, что Толстой чувствовал потребность высказать свое положительное или отрицательное отношение к поступкам и словам изображаемых им лиц — с одной стороны, и выразить свои взгляды по важнейшим вопросам, затронутым в романе, — с другой. Это можно было сделать, только введя в роман такой персонаж, который по своим душевным качествам и по миросозерцанию близко подходил к тому лицу, чьи мнения он должен был высказывать, — в данном случае к самому автору романа. Так понимал образ Левина Достоевский. Считая Левина «главным героем романа», Достоевский полагал, что в Левине «выражено положительное, как бы в противоположность тем ненормальностям, от которых погибли или пострадали другие лица романа, и он, видимо, к тому и предназначался автором, чтобы все это в нем выразить»90.
Левин отличается необыкновенной чуткостью и восприимчивостью к внешним впечатлениям. «У него так живо все отражающее лицо», — говорила про него Кити. Разговаривая с Облонским в «присутствии», Левин все время поглядывал на руку одного из сослуживцев Облонского Гриневича, «с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными желтыми загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли». В другой раз, в гостях у Свияжского, когда против него сидела свояченица хозяина в платье с четырехугольным вырезом на груди, Левина очень беспокоил этот вырез. Он чувствовал, что вырез этот сделан для него, и это лишало его «свободы мысли»; он беспрестанно краснел, стал «беспокоен и неловок».
Левин всегда и во всем искренен; «притворства не было в нем и признака», он не умел «говорить не то, что он думал», и когда он пытался делать это, он «постоянно чувствовал, что выходило фальшиво». Его никогда не оставляет «желание быть лучше».
Левин старается представлять себе людей «с самой хорошей стороны».
Левин живет напряженной умственной и нравственной жизнью. Он думал «обо всех вопросах, занимавших общество» и обо всех «имел свое особенное твердое убеждение»91.
С Левиным иногда случалось, что в результате продолжительных и напряженных размышлений о каком-нибудь предмете он приходил к совершенно противоположным взглядам на этот предмет по сравнению с теми, каких он придерживался раньше. Эту особенность Левина хорошо знал его приятель Степан
324
Аркадьич Облонский. Когда он встречается с Левиным, приехавшим в Москву и на свой вопрос о работе Левина в земстве, которой тот был занят раньше, получает ответ, что он оставил земскую деятельность, Облонский с легкой насмешкой замечает: «Эге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе...»92.
Эта черта Левина совершенно автобиографическая. Сохранилось письмо к Толстому его петербургского приятеля барона Г. Е. Ферзена от 10 июня 1851 года, где Ферзен спрашивает молодого Толстого: «Интересно знать, в какой ты теперь фазе»93.
Хотя в характеристике будущего Левина, данной в одной из черновых редакций начала романа устами Кити Щербацкой, сказано, что он «поэтичен и музыкален», в романе не находим почти никаких указаний на то, какие поэтические и музыкальные произведения любил Левин. Единственное поэтическое произведение, которое с глубоким чувством вспоминает Левин в разговоре с Облонским, это «Воспоминание» Пушкина — любимое стихотворение и автора «Анны Карениной». (В беседе с писательницей В. Д. Малахиевой-Мирович в ноябре 1909 года Толстой отозвался об этом стихотворении Пушкина в таких словах: «Таких стихов пять, много десять на всем свете»94).
В разговоре с Кити Левин замечает, что большим лишением в его деревенской жизни является отсутствие музыки — то, на что и Толстой жаловался в письмах с Кавказа к тетушке Ергольской. Кроме этого, мы узнаем только то, что Левин не любил новой музыки, но что́ он любил из музыкальных произведений — остается неизвестным.
Левин — отнюдь не пассивная натура; «он любит борьбу в жизни»95. Раньше Левин был гласным земства и мировым судьей, но вышел в отставку и сделал это потому же, почему «не может не бросить человек ассигнацию, которая по его опыту оказалась фальшивой». «Был он и славянофилом — тоже вроде должности, был светским человеком, но бросил и это»96.
«...Я убедился, — говорил Левин, — что никакой земской деятельности нет и быть не может... с одной стороны игрушка, играют в парламент... а с другой... стороны, это — средство для уездной coterie [партии] наживать деньжонки... не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья»97.
325
Левин чувствовал «уважение и какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы»98.
Отношение Левина к народу чуждо всякой сентиментальности и идеализации. Участвуя в общем с народом труде, Левин иногда «приходил в восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей», но в то же время, «когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь»99.
Левин — друг окрестных крестьян. «Мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться» о своих делах. Они считали его «простым барином», а это было в устах крестьян высшей похвалой. Для Левина крестьяне были «самый лучший класс России»100. Чем мог, он помогал крестьянам. В романе упоминается, как он лечил женщину, на которую во время пожара упала матица.
Левину приходилось спорить с помещиками-крепостниками, презиравшими народ. На вечере у Щербацких графиня Нордстон, не любившая Левина, вызывая его на спор, обратилась к нему с вопросом: «Растолкуйте мне, пожалуйста, что это такое значит, вы все знаете. У нас в калужской деревне все мужики и все бабы всё пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Вы так хвалите всегда мужиков».
Левин с его «умным, все понимающим взглядом»101 «сверху вниз посмотрел на графиню Нордстон и тихо и грустно отвечал: «Извините меня, графиня, но это не может быть и даже нехорошо выдумано». И рассердив ее ужасно и этим взглядом
326
и этим ответом, он отвернулся...»102. (Вспомним, что в письме о самарском голоде, написанном в том же 1873 году, к которому относится и первая редакция «Анны Карениной», Толстой упрекал богатых людей за то, что они «к несчастью и стыду своему» «любят говорить», что бедственное положение народа происходит оттого, что «крестьяне не работают, а пьянствуют»).
В окончательном тексте романа ответ Левина смягчен. Здесь он в ответ на вопрос графини Нордстон говорит только: «Извините меня, графиня, — но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать». Но смягчение это сделано, несомненно, исключительно в художественных целях: Левин так занят своими мыслями и чувствами, так беспокойно следит за Кити, так ожидает прихода Вронского, что ему не до споров с кем бы то ни было.
В черновой редакции описания вечера у Щербацких Левин спорит с гостями также и относительно благотворительной деятельности светских женщин. Выражая мысль автора, для которого вопрос о светской благотворительности когда-то был поводом ссоры с Тургеневым, Левин говорит: «...Я потому только не верю в добродетельность светских дам, что они, раздавая фуфайки по двадцать копеек людям, умирающим от холода, сами носят четыретысячерублевые собольи шубы»103.
Несмотря на всю любовь к мужику, в Левине еще оставались пережитки его аристократического воспитания и ему было приятно аристократическое общество. Так, Васенька Весловский был ему приятен «своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира»104.
Но Левин вполне сознает несправедливость своего привилегированного положения. Он видит всю тяжесть труда, который несут рабочие в его хозяйстве. Ранней весной он поехал по хозяйству и увидал, как солдат-работник Василий сеял клевер. Земля была сырая, на лапти налипала земля, и на вопрос Левина, трудно ли ходить, Василий отвечал: «Страсть! По пудовику на лапте волочишь». И Левин «подумал, что он так шагает с утра»105.
Живя в Москве и истратив 28 рублей на покупку провизии для обеда, на который были приглашены его родные, Левин не
327
мог не вспомнить, что в деревне двадцать восемь рублей — «это девять четвертей овса, который, потея и кряхтя, косили, вязали, молотили, веяли, подсевали и насыпали» рабочие106.
«Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват», — говорил Левин107. И для того, чтобы чувствовать себя «вполне правым», он «хотя прежде много работал и не роскошно жил», решил «еще больше работать и еще меньше позволять себе роскоши»108.
Левин любит все крестьянские работы и сам принимает в них участие. В рабочую пору он чувствовал, как «общее народное возбуждение сообщается и ему»109. Особенно возбуждающе действовал на Левина сенокос. «Он всегда испытывал что-то особенно забирающее за живое в уборке сена»110. «Раз, проехавши на покос, он попробовал сам косить и почувствовал такое успокоение от волнения и работа ему эта так понравилась, что с тех пор он уж два года косил с мужиками, когда ему было время»111.
«Труд для Левина был лучшим средством заглушить свою досаду и все, кажущееся дурным, сделать опять хорошим». (Так бывало и с Толстым. В его дневнике 26 мая 1861 года записано: «Вечером рассердился было на навозе [т. е. на работе по вывозке навоза на поля для удобрения], слез [с лошади] и начал работать до семи потов, всё стало хорошо и полюбил их всех»112).
Когда Левин до женитьбы ближе соприкасался с народным трудом и народной жизнью, как бывало с ним на сенокосе, у него рождались мечты о коренном изменении своей жизни — о том, чтобы «переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь»113. В этой характеристике народной жизни как жизни «трудовой, чистой и общей» обращает на себя особенное внимание слово «общей» в противоположность «личной» жизни Левина. Вспомним, что говорит Толстой про Платона Каратаева: «...Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал».
Левин мечтал о том, чтобы оставить свое Покровское, приписаться к крестьянскому обществу, жениться на крестьянке. Мечтания эти не были осуществлены.
328
Левин ясно видел, что «то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками... Цель его энергии была самая недостойная... Он стоял за каждый свой грош... а они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно... Интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам»114.
Он придумал облегчить положение крестьян путем устройства производительной артели.
Он задумал вести хозяйство на новых началах, так, чтобы заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Он разделил все свое хозяйство на отдельные статьи — пашню, луга, сады, скотный двор — и стал сколачивать артель из рабочих по каждой статье хозяйства с тем, чтобы работники артели были участниками в доходах. Огромная трудность в осуществлении этого мероприятия состояла в «непобедимом недоверии крестьян» к нему как к помещику. Крестьяне были твердо уверены, что у помещика не может быть иной цели, кроме желания «обобрать их сколько можно», и что «настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им»115.
Это устройство хозяйства на новых началах заняло Левина так, как еще ничто никогда в жизни его не занимало. Ему удалось в конце концов преодолеть трудности нового предприятия, и дело пошло. «Тут вопрос об общем благе», — говорил он себе. Он мечтал о том, что распространение введенных им взаимоотношений с рабочими произведет «революцию бескровную, но величайшую революцию сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира», «вместо бедности — общее богатство, довольство; вместо вражды — согласие и связь интересов»116.
По-видимому, это предприятие просуществовало недолго — как и у Толстого, всего только один год117.
В эпилоге об этом и других подобных предприятиях Левина сказано: «Прежде (это началось почти с детства и все росло до
329
полной возмужалости), когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необходимо нужно, и сама деятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет»118.
Левин считал, что основа экономического строя России — земледелие119. Сравнивая условия жизни в России с условиями жизни в Западной Европе, Левин находил, что «в России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа к земле»120. Поэтому Левин считал неправильным, что в России правительство больше заботилось о развитии промышленности и путей сообщения, чем о создании благоприятных условий для развития земледелия, и что фабричная промышленность и железные дороги поглощали силы, нужные для развития земледелия121.
XXII
Для Левина, как и для автора «Анны Карениной», женитьба была таким делом, от которого зависело все счастье его жизни.
Еще в первой части «Анны Карениной», где Левин беседует с Облонским в ресторане, Облонский задает ему вопрос: как быть, если женатый человек, любящий жену, увлекся другой женщиной? Левин отвечает, что он не понимает этого, что это для него так же невозможно, как после сытного обеда в ресторане прийти в калачную и украсть калач, и что он «прелестных падших созданий» никогда не видал и не увидит, что для него все женщины разделяются на два разряда: «женщины и стервы»122.
«Любовь к женщине он [Левин] не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью»123.
330
В черновой редакции Левин высказывает взгляд, что неверность с той или другой стороны уже разрушает брак, и «брак, разрушенный неверностью с той или с другой стороны... брак разрушенный не может быть починен»124. Однако в окончательный текст романа это суждение Левина не вошло.
Брак Левина и Кити — брак идеальный, в котором осуществлено полное душевное единение. Еще будучи женихом, Левин чувствовал, что Кити — «его счастье, его жизнь, он сам — лучшее его самого себя, то, чего он искал и желал так долго»125.
Все подробности женитьбы Левина: объяснение начальными буквами слов, написанными мелком на карточном столе, предложение, спешка со свадьбой, передача невесте для прочтения своих дневников, чтобы не скрывать от нее своего прошедшего, задержка с поездкой в церковь из-за того, что вовремя не была приготовлена чистая рубашка, чувства и мысли Левина во время совершения обряда, — все это целиком взято из жизни автора.
Очень скоро после женитьбы Левин «понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он». Он почувствовал это, когда однажды она набросилась на него «с упреками бессмысленной ревности», вызванными тем, что он на полчаса позднее, чем обещал, вернулся с хутора. «Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль». Нужно было «скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его»126.
В другой раз, когда Кити настойчиво добивалась того, чтобы Левин взял ее с собой к умирающему брату, Левин, исчерпав все разумные доводы против этой поездки, «не в силах более удерживать своей досады», вскрикнул: «Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то!» Но в ту же секунду почувствовал, что он «бьет сам себя»127.
Между супругами Левиными установилось взаимное понимание большее, чем то, которое было у них со всеми их родными и знакомыми. «Как ни странно бы было ему сказать при ком-нибудь, знающем Кити и ее быстрый и неглубокий ум, что Левин говорил ей и она понимала такие вещи, которые не мог бы
331
понять ни его брат Сергей Иванович, ни кто из самых умных людей его знакомых, а это было так»128.
Та же глубокая, неразрывная связь существует и между Николаем Ростовым и его женой, княжной Марьей. «Жену разве я люблю? — спрашивает Николай Ростов. — Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй отрежь его...»129.
В «Воскресении» Толстой изобразил такого же характера супружество крестьянина Тараса и его жены Федосьи, отправляемой на каторгу. «Так присмолилась ко мне, что как одна душа, — рассказывал Тарас садовнику про свою жену. — Что я вздумаю, она понимает»130.
У супругов Левиных нет друг от друга никаких тайн. Кити, готовясь встретиться с Вронским (встреча была случайной), «была уже вполне готова смотреть на Вронского, говорить с ним, если нужно, точно так же, как она говорила с княгиней [с крестной матерью]... и, главное, так, чтобы все до последней интонации и улыбки было одобрено мужем, которого невидимое присутствие она как будто чувствовала над собой в эту минуту»131.
Но муж и жена должны постоянно следить за собой, чтобы это единение между ними ничем, хотя бы временно, не было нарушено. Описывая душевное состояние Левина в первые месяцы после женитьбы, Толстой писал: «Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, — надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода, и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно»132.
Беременность для Кити — источник радостных переживаний. «Она теперь уже сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству».
332
Роды Кити проходят в условиях, совершенно противоположных родам Анны: там — тяжелая драма, здесь — только физические страдания будущей матери и беспокойство будущего отца.
Левин испытал «еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине». Ему хотелось «слышать звук ее голоса, так же как и взгляд, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом»133.
Ночью в ожидании близких родов Кити разговаривает с мужем, «улыбаясь особенно милой и значительною улыбкой» с «выражением особенной нежности и возбужденности». Только позднее Левин «понял все, что происходило в ее дорогой, милой душе» в то время, как она находилась «в ожидании величайшего события в жизни женщины». Левин был «поражен тем, что обнажалось теперь перед ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро ее души светилось в ее глазах... Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их».
По окончании родов «ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «кончено»... «Бессильно опустив руки на одеяло», она лежала «необычайно прекрасная и тихая»134. Когда Левин вечером вошел в ее спальню, «убранная, причесанная, в нарядном чепчике с чем-то голубым, выпростав руки на одеяло, она лежала на спине и, встретив его взглядом, взглядом притягивала к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников; но там прощание, здесь встреча»135.
Толстой, несмотря на иронические замечания критиков о том, что его прельщает «идиллический запах детских пеленок», в эпилоге «Анны Карениной» описывает, как Кити кормит грудью своего младенца, и почти завершает весь роман рассказом о том, как мальчик начинал узнавать свою мать.
Один из эпизодов в семейной жизни Левина послужил поводом к интересному обмену мнений между А. А. Толстой и
333
автором «Анны Карениной». Эпизод этот — изгнание Левиным из своего дома Васеньки Весловского, упорно, как заметил Левин, ухаживавшего за его женой.
В письме, написанном в последних числах марта 1877 года, А. А. Толстая бросила вскользь замечание: «Васеньку Весловского не следовало высылать так бесцеремонно»136. На это замечание автор «Анны Карениной» отвечал 15 апреля 1877 года: «Вы говорите: «В. Весловского не надо высылать». А если во время обедни придет к вам в церковь англичанин в шляпе и будет смотреть образа, вы, верно, найдете очень справедливым, что камер-лакеи выведут его»137.
Горячность, с какой Толстой принял к сердцу замечание своего друга, показывает, как близки ему были семейные дела Левина и как он вполне одобрял поведение Левина и сам поступил в подобном случае совершенно так же.
Но А. А. Толстая в ответе на его письмо продолжала стоять на своем, говоря, что Весловский не был нисколько опасен для Кити и что такими средствами браки не укрепляются138. Ей было непонятно, что Толстой сочувствовал поведению Левина не в интересах укрепления его брака, в чем не было никакой надобности, а только потому, что ему было возмутительно нечистое отношение гостя к замужней женщине — то, чем уже не возмущалась А. А. Толстая, жившая в придворной среде, где такие отношения были обычны.
Горячность, с какой автор «Анны Карениной» отозвался на мнение о ненужности изгнания Васеньки Весловского, объясняется не только его взглядами на брак, но и тем, что подобный эпизод происходил в Ясной Поляне. Т. А. Кузминская рассказывает в своих воспоминаниях, что в 1863 году, когда она гостила в Ясной Поляне, за ней ухаживал ее троюродный брат Анатолий Шостак. Лев Николаевич был возмущен его назойливым ухаживанием и велел заложить лошадей, а Софья Андреевна сказала ему, что ввиду ее скорой болезни ему лучше будет уехать139.
XXIII
Семейная мысль «Анны Карениной» выражена не только в истории жизни Анны, Каренина, Вронского, Левина и Кити,
334
но также и в образах брата Левина Николая и его подруги Маши, Облонского и его жены Долли и молодой крестьянской пары, которою Левин любовался на сенокосе.
Уже в наборной рукописи первой части в роман вводятся два новых лица, которым предстояло в дальнейшем играть заметную роль, — братья Левина, совершенно несходные друг с другом по характеру: старший Сергей — «известный всей России» философ, и другой брат — опустившийся, «погибший». В окончательном тексте брат Левина Сергей представлен не родным, а единоутробным братом Константина и носит фамилию Кознышев.
Совершенно несомненно, что прототипом Николая Левина является родной брат Толстого Дмитрий Николаевич. Все основные черты характера Дмитрия Николаевича: серьезность отношения к жизни, большая доброта, крайняя вспыльчивость и раздражительность — совпадают с основными чертами характера Николая Левина. Так же как Д. Н. Толстой, Николай Левин живет с бывшей проституткой, которую он взял «из дома». Но отдельные эпизоды из жизни Николая Левина не соответствуют биографии Дмитрия Толстого. Так, Дмитрий Николаевич не мог спорить с своим братом Львом относительно устроенной им в Ясной Поляне сельскохозяйственной артели, так как устройство ее относится к 1859 году, когда Дмитрия Николаевича уже не было в живых; Лев Николаевич, тогда еще холостой, не присутствовал при смерти Дмитрия Николаевича — он навестил его больного в Орле в январе 1856 года, но уехал за несколько дней до его смерти.
В наборной рукописи встреча братьев Константина и Николая описана иначе, чем в окончательном тексте. Константин Левин приходит в дешевую гостиницу и от «развращенной и сердитой» женщины-коридорной узнает, в каком номере стоит его брат. Он застает у брата темного дельца, который ведет в суде его дело по взысканию карточного долга с какого-то его знакомого.
После ухода подпольного адвоката разговор между братьями заходит об их третьем брате Сергее Ивановиче, и здесь Толстой заставляет Николая Левина, которого Константин «не только любил, но уважал и считал одним из умнейших и добрейших людей», высказывать мысли автора.
Упомянув о новой книге Сергея Ивановича, Николай Левин говорит: «Удивительно мне, как эти люди могут спокойно говорить о философии. Ведь тут вопросы жизни и смерти. Как за них возьмешься, так вся внутренность переворачивается, и видишь, что есть минуты... когда не то что понимаешь, а вот-вот поймешь, откроется завеса и опять закроется, а они, эти пустомели, о том, что еле-еле на мгновенье постигнуть можно, они об этом пишут, это-то толкуют, то есть толкуют, чего не понимают,
335
и спокойно, без любви, без уважения даже к тому, чем занимаются, а так, из удовольствия кощунствовать»140.
Это рассуждение Николая Левина — не что иное, как выраженная разговорным языком мысль Толстого, высказанная им в письме к Страхову 13 сентября 1871 года: «Философия чисто умственная есть уродливое западное произведение». Философия не может быть отрешена от «поэтического религиозного объяснения вещей»141.
Николай Левин одобрительно отнесся к тому, что его брат перестал служить в земстве, и по этому поводу высказывает свои резко отрицательные взгляды на существующий строй жизни, выражая и в этом случае мысли автора142.
Под конец разговора Николай Левин, теперь напоминающий Альберта из повести Толстого под таким же заглавием, «блестя глазами», с «вдохновенным прелестным лицом» «вдохновенно» говорит о том, что после смерти мы поймем «все настоящее, коренное, которое везде одно».
Подруга брата, бывшая проститутка Маша, произвела на Левина благоприятное впечатление. «В ней было так много простоты и любви» к его брату, «что ему приятно было с нею понимать друг друга». Это было неожиданно для Левина, который только что, утром того же дня, говорил Облонскому, что для него нет «погибших милых созданий», а есть «стервы».
Несмотря на то, что брачные отношения Николая Левина с Машей не оформлены, т. е. они не венчались в церкви, Николай Левин называл ее своей женой. И она действительно была самой преданной, самоотверженной женой своего больного, раздражительного мужа. Когда Николай Левин в припадке болезненной вспыльчивости без всякой вины с ее стороны удалил ее от себя, она написала Константину Левину письмо, в котором «с трогательною наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, а что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадает без нее по слабости своего здоровья».
Сцена встречи Левина с братом в гостинице была совершенно переделана автором еще в корректуре невышедшего отдельного издания романа143. Было удалено все субъективное, все задушевные мысли автора, вложенные им в уста Николая Левина: и мнение о философской книге Сергея Ивановича, и о философии вообще, и все рассуждения о безумии существующего строя жизни. Исчез и восхищавший воображение Толстого образ
336
опустившегося, всеми презираемого мудреца, устами которого говорит истина, воплощенный в лице Николая Левина. Темный делец был заменен социалистом Крицким, устраивающим производственную артель. Этот Крицкий, исключенный из Киевского университета, стал затем народным учителем и также был уволен, а теперь, как говорил Николай Левин со свойственной ему резкостью выражений, «его преследует полиция, потому что он не подлец».
Знакомя брата с Крицким, Николай Левин пытается изложить свои общественно-политические взгляды. Он говорит, что коммунисты — это то же, что первые христиане, они проповедуют равенство. Но Константин Левин знал, что его брат не может интересоваться коммунизмом, но что «это была та высота, с которой он, презираемый всеми, старался презирать всех». Константин Левин хочет втянуть Крицкого в спор. Он говорит, что есть разница между первыми христианами и коммунистами, состоящая в том, что первые христиане признавали только «одно орудие — любовь и убеждение», а коммунисты признают и требуют насилия. Крицкий отвечает, что первые христиане его нисколько не интересуют. «И мы предоставляем проповедывать любовь тем, которые довольны существующим порядком вещей. А мы признаем его прямо уродливым и знаем, что насилие побеждается только насилием».
Толстой хотел было продолжить спор между Константином Левиным и Крицким. Константин Левин спрашивает Крицкого: «Какого же порядка вы хотите?» Крицкий не желает вести разговор на эту тему. Константин Левин продолжает: «Да я вам помогу. Вы думаете, что я, принадлежа к привилегированным сословиям не знаю вашей точки зрения и не признаю ее отчасти? Я вам скажу главные ваши положения».
Здесь автором было поставлено двоеточие, но изложения программы «коммунистов» не последовало, и весь диалог, начиная с вопроса Константина Левина, был зачеркнут.
В заключение сказано, что Левин, предубежденный против Крицкого, переменил о нем мнение. «Он понравился ему: было что-то напряженное, честное и искреннее и, главное, огорченное [то есть страдающее] и в его выражении, и в его тоне»144. Либералы, с которыми Левину приходилсь встречаться, не производили на него такого благоприятного впечатления, как нигилист Крицкий. Левин «замечал, что и Сергей Иванович [Кознышев] и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его нисколько не больше принимал к сердцу вопросы
337
об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины»145.
В окончательной редакции образ Крицкого еще раз был изменен. Он по-прежнему изгнан из университета и из народных учителей, по-прежнему полиция преследует его, потому что он не подлец, но он уже не революционер и не социалист, а только устроитель производительной артели. Теперь сам Николай Левин высказывает социалистические взгляды. Он говорит о том, что «капитал давит работника» и что «мужики теперь такие же рабы, какими были прежде»; в раздражении обвиняет обоих своих братьев — и Константина, и Сергея в том, что они хотят удержать мужиков в этом рабском положении. Но его брат видит, что для Николая забота об устройстве производительной артели — «только якорь спасения от презрения к самому себе»146.
Левин, однако, не только любил, но и глубоко уважал своего несчастного брата. Это «один из тех людей, — говорил он жене о своем брате, — о которых говорят, что они не для этого мира»147.
XXIV
Степан Аркадьич Облонский — персонаж, явно вызывающий сочувствие автора. Он «не любит фраз», в нем «нет и тени притворства», и всякому бросалось в глаза выражение подлинной доброты на его лице. «В улыбке его, — рассказывает Толстой, — было так много доброты и почти женской нежности, но улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокаивала».
Степан Аркадьич совершенно не интересуется работой того учреждения, начальником которого состоит. Об отношениях Степана Аркадьича к исполнению своих служебных обязанностей в наборной рукописи романа сказано, что главное качество, «заслужившее ему общее уважение по службе», состояло «в полной бесстрастности, с которой он занимался делом». В окончательном тексте эта фраза получает гораздо более определенный смысл: «Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе», состояли «в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок»148.
Облонский — либерал, но автор иронически относится к его либерализму. Толстой так объясняет происхождение либерализма Степана Аркадьича: «Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого,
338
чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни». И далее объясняется, почему либерализм более подходил к образу жизни Облонского: «Либеральная партия говорила, что в России всё дурно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно недоставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре»149.
Облонский — очень плохой семьянин. Он совершенно не имеет власти над собой и беспрестанно переходит от одного увлечения к другому. Впервые узнав о его измене, Долли, чувствуя себя глубоко оскорбленной, решает оставить мужа, но, отчасти под влиянием уговоров Анны, отчасти понимая, что оставление матерью детей на попечение одного отца, да еще такого легкомысленного, каким был ее муж, приведет к полному разрушению семьи, находит в себе силы простить мужу обиду, которую он нанес ей, и остается с семьей.
В беседе с Долли Анна выражает уверенность, что такие люди, как ее брат, при всех своих увлечениях никогда не порывают с семьей. Она говорит: «Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена — это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так»150.
Из всех женщин, изображенных в «Анне Карениной», Долли — любимая героиня Толстого.
О семейной жизни Долли Толстой говорит: «Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть... Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но... как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях, — сами дети выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок; но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото».
С любовью рисует Толстой даже мелкие подробности жизни Долли, целиком отданной детям. Когда Долли, живя в деревне, купает своих детей в купальне, ее обступают деревенские бабы, с которыми она быстро находит общий язык, так как, говорит
339
Толстой, «совершенно одни и те же были их интересы». Это в устах Толстого было немалой похвалой, которою он не мог бы наградить не только Анну, но и Кити. «Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши»151.
Долли оказывает благотворное влияние на своего беспутного мужа. «Муж возвращается в семью, — рассказывала она Каренину, — чувствует свою неправоту, делается чище, лучше».
Здесь перед нами уже второй случай изображения Толстым такого брака, в котором жена духовно выше мужа. Первый случай — это брак Николая Ростова с княжной Марьей в «Войне и мире». Тонко чувствующая и глубоко думающая княжна Марья оказывает облагораживающее действие на своего грубоватого мужа. И Облонский и Николай Ростов — оба признают нравственное превосходство над собой своих жен.
Говоря о «семейной мысли» «Анны Карениной», невозможно обойти молчанием изображение молодой крестьянской пары, которой Левин любовался на сенокосе.
Левин видел, как молодой парень Иван Парменов стоял на возу, «принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица-хозяйка... Иван поспешно, видимо, стараясь, избавить ее от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки, подаваемую охапку и расправлял ее на возу... Иван... чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь».
Наконец, чтобы исчерпать все самое главное, что сказано в «Анне Карениной» о любви и браке, следует упомянуть мнение товарища Вронского, генерала Серпуховского, о различии между любовью мужчины и любовью женщины. «Женщины, — говорил он Вронскому, — все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда terre-à-terre»152.
Судя по тому, что Серпуховской — только эпизодическое лицо в романе, о семейной жизни которого мы ничего не знаем, а также по тому, что данная им характеристика женской любви неприложима к главным героиням — Анне, Кити и Долли, которые достаточно охарактеризованы автором на страницах романа, нельзя не прийти к заключению, что в словах Серпуховского Толстой выразил свои общие наблюдения над характером любви мужчин и женщин153.
340
Сам Толстой, несомненно, делал из любви «что-то огромное», как это видно из писем его 1856 года к В. В. Арсеньевой, считавшейся почти его невестой154, и из письменного предложения, сделанного им Софье Андреевне Берс в сентябре 1862 года155.
В полном согласии с «семейной мыслью» романа находятся и многочисленные изображения детей в «Анне Карениной». Тут и прелестный Сережа Каренин, который утром в день рождения, увидав мать, тайно пришедшую его навестить, «привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи»; тут и любимец Долли, Гриша, который, заучивая наизусть латинские глаголы, «маленькой правой ручкой всовывал на ниточке оторвавшуюся пуговицу себе под рубашку за курточку и пожимался от холода пуговицы и опять вынимал», и все учил латинскую грамматику; тут и маленькая девочка, дочь Вронского и Анны, которая при виде матери «как всегда, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями книзу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала, как рыба поплавками, загребать ручонками».
Все эти эскизы детских портретов нарисованы автором «Анны Карениной» с какой-то почти материнской нежностью.
XXV
В чем же состоит общая «семейная мысль» «Анны Карениной» и каков смысл загадочного эпиграфа романа?
«Семейная мысль», проводимая Толстым в «Анне Карениной», в основах своих очень проста. Идеальный брак, каким изображается брак Левина и Кити, основан не на одной только физической привлекательности супругов друг для друга, но на их сколько возможно полной душевной близости, на разумном физическом, умственном и нравственном воспитании детей. Материнское сердце — по Толстому — есть «высшее проявление божества на земле».
Мысль эта до такой степени проста, что она одна не могла бы определить содержание романа. Но образы Левина и Кити —
341
представителей идеального брака — явились в романе только тогда, когда уже определилась сюжетная линия не идеального брака Анны сначала с Карениным, затем с Вронским, и брак Левина и Кити появился только как антитеза.
Замужество Анны с Карениным, бывшим на двадцать лет старше, было устроено ее теткой по практическим соображениям. Хотя Анна совсем не любила своего мужа, но в течение восьми лет своего замужества она далека была от всякой мысли о самоубийстве. Жизнь ее была грустной, но отнюдь не трагичной. Ее спасал Сережа — ее любовь к нему.
Сближение Анны с Вронским произошло совершенно стихийно; ни она, ни он не думали сначала о том, чтобы ей порвать с мужем и соединиться с Вронским, не думали о своей будущей семейной жизни. Когда Анна объявила Вронскому о своей беременности, это застигло его врасплох, а сама она — и в разговоре с ним и в разговоре с Карениным — высказывала ожидание смерти от родов, которая выведет всех из того запутанного положения, в котором они оказались. И в то же время, чувствуя в себе движение ребенка, она переживала состояние «тихого блаженного внимания, направленного внутрь себя».
События развивались неожиданно. Овладевшая Анной страсть привела ее к разрыву с мужем; новая семейная жизнь не наладилась. То «блаженное» чувство, которое испытывала Анна во время беременности, не повторилось тогда, когда она стала матерью.
Ее чувство к Вронскому становилось все напряженнее и эгоистичнее. Душевного единения между ними не было. Анна не допускала никаких отлучек Вронского по тем делам, которые его занимали, и требовала немедленного возвращения в случае его отъезда. Вронский не понимал того чувства любви и близости к сыну, которое навсегда осталось в Анне после разлуки с ним. У них обоих не было того уважения к внутренней жизни друг друга, без которого невозможна согласная семейная жизнь. Была одна слепая страсть, очень легко переходящая в такую же слепую и страстную ненависть.
Положение отягощалось еще полным остракизмом, которому светское общество подвергло Анну. Внутренне Анна никогда не порывала с этим обществом, но общество порвало с нею. Борьба со светом оказалась для нее непосильной. Единственный раз, когда она бросила вызов свету в театре, она потерпела поражение. Кроме того, исчезла всякая надежда на узаконение ее связи с Вронским. Каренин, находившийся под влиянием графини Лидии Ивановны, на просьбу Анны о разводе ответил отказом, хотя раньше и соглашался на него.
В «Войне и мире» Толстой писал о тех законах, по которым совершается история народов. «Анну Каренину» он снабдил эпиграфом, который нельзя понять иначе, как признание
342
нравственных законов, неисполнение которых влечет за собой страдания. Что именно таков был смысл эпиграфа к «Анне Карениной», удостоверено самим автором. В 1906 году на письмо двух вологодских гимназисток, спрашивавших, в чем смысл эпиграфа к «Анне Карениной» и предлагавших такое его толкование: «Мы думаем, что смысл эпиграфа состоит в том, что человек, нарушивший нравственные правила, будет наказан», — Толстой ответил: «Вы правы»156.
Разумеется, приводя библейский текст, Толстой не так понимал употребленное в нем слово «Аз», как понимается оно в Библии. Толстой не признавал никакого наказующего бога, как признают его древнееврейская и церковная религии. Фет правильно понимал значение эпиграфа к «Анне Карениной». В своей статье «Что случилось по смерти Анны Карениной в „Русском вестнике“» он писал: «Граф Толстой указывает на «Аз воздам» не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей, вследствие которой человек, непосредственно производящий взрыв дома, прежде всех пострадает сам»157.
И Анна и Вронский — по мысли Толстого — своей жизнью нарушали нравственный закон. Хотя Анна и говорила, что после сближения с Вронским она чувствует себя как «голодный человек, которому дали есть», на самом деле она никогда — даже в свои предсмертные минуты — не забывала о том несчастье, которое она причинила мужу, и не находила оправданий в том, что бросила сына.
Жизнь Вронского и Анны без детей, которых не будет, без любви к дочери, без разумного и увлекающего труда (работа по устройству имения — это и для Вронского и для Анны только средство убить время), без взаимного понимания и уважения друг к другу, направляемая тем «духом зла», который втягивал их в жестокую борьбу, когда Анна произносила свои глубоко оскорблявшие Вронского суждения о его матери, а он оказался настолько нечутким, что в ответ на ее мольбу приехать, потому что ей «страшно», написал небрежный и сухой ответ, — вся эта жизнь, основанная на одном эгоистическом страстном влечении друг к другу, была, по мнению автора «Анны Карениной», нарушением нравственных законов.
Это больно сознавала сама Анна. Но тот вопрос, который она себе ставила, почему для Бетси Тверской и для других знакомых ей женщин положение, подобное тому, в котором она находилась, было нисколько не мучительно, а для нее являлось источником страданий, — ответ на этот вопрос с точки зрения
343
Толстого очень прост. Он состоит в том, что Анна по своей природе правдивая и глубоко нравственная женщина; поэтому отступление от нравственного долга было для нее так мучительно. Для Бетси Тверской и подобных ей женщин вовсе не существует сознания нравственного долга.
Становится понятным, почему Толстой в процессе работы изменил характеристику Анны и сделал ее несравненно более привлекательной, чем она предстает перед нами в первых черновых редакциях романа. Это он сделал главным образом для того, чтобы выразить яснее свое убеждение в том, что отступление от нравственного закона, хотя бы оно совершилось человеком, по природе своей нравственным и внушающим нам чувство глубокой симпатии, не может не привести к роковым последствиям.
По Толстому, нравственные законы, не зависящие от воли человека, существуют, и нарушение их не может не быть пагубно для того, кто их нарушает. И чем человек нравственнее, тем тяжелее будут для его сознания последствия нарушения нравственных законов.
Таков смысл эпиграфа к «Анне Карениной». Но эпиграф этот имеет еще и другой, не менее глубокий смысл.
Выше было сказано, что библейское изречение «Мне отмщение, и Аз воздам»158 было заимствовано Толстым из книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Шопенгауэр приводит это изречение в следующем контексте: «Несправедливость, кем-либо мне причиненная, нисколько не уполномачивает меня на воздаяние ему за несправедливость. Воздаяние злом за зло без дальнейших видов ни моральным, ни каким-либо иным разумным основанием оправдано быть не может... Никакой человек не уполномочен выступать в виде чисто морального судьи и воздаятеля и наказывать поступок другого болью, которую он ему причиняет. Следовательно, налагать ему за это покаяние — это была бы скорее в высшей степени заносчивая самонадеянность; отсюда библейское: „Мне отмщение, и Аз воздам“»159.
В другой главе своей книги Шопенгауэр приводит то же изречение, объясняя смысл его тем, что существует вечное
344
правосудие в области вещи самой в себе, различной от мира явлений160.
Такой же смысл влагал и Толстой в изречение, взятое им эпиграфом к своему роману. Первые строки текста из Послания апостола Павла к римлянам, приводимые Шопенгауэром, Толстой цитирует в своем «Круге чтения»161.
Не может быть никакого сомнения в том, что Толстой не признавал за светскими женщинами, осуждавшими Анну за ее уход от мужа и оставление сына, права судить и осуждать ее уже по одному тому, что большинство этих женщин, развращенных до мозга костей, вело безнравственный образ жизни, скрывая это от своих мужей и от посторонних.
Не признавал Толстой справедливым и осуждение Анны за ее жизнь с Вронским и самоубийство. Его отношение к последнему году жизни Анны и ее самоубийству выражено в эпилоге устами Сергея Ивановича Кознышева, который на слова матери Вронского: «Она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую», — «со вздохом» отвечает: «Не нам судить, графиня»162.
Кроме Сергея Ивановича, не осуждала Анну и искренне ее любившая горничная Аннушка, которая говорила Долли: «Я с Анной Аркадьевной выросла, они мне дороже всего. Что ж, не нам судить»163.
XXVI
В письме к своему другу Г. А. Русанову Толстой писал 12 марта 1889 года: «Иногда хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман, широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы всё, что кажется мне понятым мною с новой, необычной и полезной людям стороны»164.
Действительно, особенность композиции «Анны Карениной» состоит в том, что в этом романе автор ставил своей задачей дать широкую картину русской жизни того времени, освещая ее с точки зрения сложившегося у него к тому времени миросозерцания.
Здесь прежде всего надо указать на ту замечательную художественную характеристику периода русской истории после крестьянской реформы 1861 года, которая, как известно, вызвала полное одобрение В. И. Ленина. В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» В. И. Ленин писал:
345
«Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.
«...Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, … теперь для Левина казались одни важными. „Это, может быть, неважно было при крепостном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный важный вопрос России“, — думал Левин». Приведя эту цитату, В. И. Ленин далее замечает:
«„У нас теперь все это переворотилось и только укладывается“, — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов»165.
Изображенный Толстым Левин, как и сам Толстой, не представлял себе ясно, какой новый социальный строй «укладывался» в то время в России, но он ясно видел оскудение дворянства при новых экономических условиях, появившихся после крестьянской реформы 1861 года.
Помещичье хозяйство пришло в упадок. Автор «Анны Карениной» видел это как на своем собственном хозяйстве, так и на хозяйствах ближайших к нему помещиков. «Финансовые дела, как и у всех, — писал он брату 25 мая 1875 года — как раз в период работы над «Анной Карениной», — расходу бо́леет, а приходу ме́неет»166.
Левин говорил, что помещичье хозяйство не приносит никакой выгоды и продолжает существовать только по традиции. «Так мы без расчета и живем, — говорил Левин, — точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь какой-то...» «Я всегда чувствую, что нет настоящего расчета в моем хозяйстве, а делаешь... Какую-то обязанность чувствуешь к земле»167.
Собеседник Левина, помещик, вполне соглашается с ним. Он рассказывает, что у него был сосед купец, который советовал ему вырубить липы в саду, продать лубки и струбы, что принесет хороший доход. — «А на эти деньги он бы накупил скота или землицу купил бы за бесценок и мужикам роздал бы внаймы, — с улыбкой докончил Левин, очевидно не раз уже сталкивавшийся с подобными расчетами. — И он составит себе состояние. А вы и я — только дай бог нам свое удержать и детям оставить... Но для чего же мы не делаем как купцы? На лубок не срубаем сад?» — спросил Левин.
346
«Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело»168.
Собеседник Левина скорбит об упадке дворянства, которое в свое время играло крупную роль в истории России. «Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли», — говорит он. Теперь общественно-политическое значение дворянства утратилось. Дворянские выборы — это «упавшее учреждение, продолжающее свое движение только по силе инерции»169. Толстой и сам смотрит на дворянские выборы так же, как этот помещик. Он в комическом свете рисует картину дворянских выборов в губернском городе, где борющиеся партии консерваторов и либералов прибегают одна против другой к самым жульническим махинациям (у одного помещика унесли брюки, другого напоили пьяным и т. д.). Левин, которому наскучили пустые и вместе с тем озлобленные шумные споры, выходит из залы дворянского собрания, где происходили выборы, в буфет и, слушая лакеев и разговаривая с ними «о прежних господах», чувствует «большое облегчение».
Помещик-консерватор, с которым беседовал Левин, считал, что погубила Россию «эмансипация», то есть что при наемном труде, заменившем крепостное право, помещичье хозяйство неминуемо должно прийти в упадок.
Кроме этого помещика-консерватора, Толстой рисует еще помещика-либерала — предводителя дворянства Свияжского — и помещика новой формации Вронского, который ведет хозяйство по заграничному образцу с применением всех новейших европейских усовершенствований.
Автор рассказывает, что «несмотря на огромные деньги, которых ему [Вронскому] стоила больница, машины, выписанные из Швейцарии коровы и многое другое, он был уверен, что он не расстраивал, а увеличивал свое состояние... Он решался на большой расход только тогда, когда были лишние деньги, и, делая этот расход, доходил до всех подробностей и настаивал на том, чтобы иметь самое лучшее за свои деньги».
Но таких помещиков, как Вронский, в то время было очень немного.
Левин очень огорчен наблюдаемым им повсюду разорением дворянства. «...Мне досадно и обидно, — говорит он Облонскому, — видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства... Теперь мужики около нас скупают землю, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику». Но Левину обидно видеть дворян, разоряющихся по своей беспечности. «Тут арендатор поляк купил за полцены у барыни,
347
которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдает купцу в аренду за рубль десятину землю, которая стоит десять рублей». И т. д.
Оскудение дворянства особенно ярко заметно на жизни Степана Аркадьича. Живя не по средствам, Облонский не мог сводить концы с концами на доходы со своего имения и имения жены и на жалованье, получаемое им по службе. Он вынужден продавать имение по частям представителю нарождающейся мелкой сельской буржуазии, купцу Рябинину. Судя по фамилии, прототипом Рябинина послужил живший в селе Сергиевском Крапивенского уезда купец Черемушкин, которому в 1863 году Толстой продал часть своего леса на сруб и который занимался ростовщичеством, давая деньги в долг по тридцать процентов.
Рябинин обрисован чертами, явно обнаруживающими антипатию к нему автора. Когда Рябинин торгуется с Облонским относительно леса, у него делается «ястребиное, хищное и жесткое выражение» лица. «Это не купцы, а барышники, — говорит Левин про Рябинина. — Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять, пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль».
Левину было обидно, что Облонский, продавая лес Рябинину, продешевил и «безо всякой причины подарил этому плуту тридцать тысяч». Но продажа леса не поправила материальных дел Степана Аркадьича. Деньги, полученные от Рябинина, были скоро прожиты, и приходилось искать других путей для устройства своего материального положения.
Степан Аркадьич присмотрел выгодное место «члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и байковых учреждений». Такой комиссии, конечно, никогда не существовало, и нелепость названия придуманного Толстым учреждения должна была подчеркнуть нелепость и ненужность всех вообще выдуманных высшей бюрократией учреждений. Жалованье на этой службе, рассказывает Толстой, было большое, и служба нетрудная. Занять эту выгодную должность было много охотников. Получение этого места, как с едким сарказмом, хотя и с полным спокойствием разъясняет автор, зависело «от двух министерств, от одной дамы и от двух евреев». Одного из этих евреев — банкира Болгаринова (эту фамилию Толстой произвел по аналогии с известным в то время финансовым дельцом Поляковым, выведенным также Некрасовым в его «Современниках») — автор ставит в непосредственные отношения со Степаном Аркадьичем.
Облонский является к нему на прием просить о предоставлении ему того места, на которое он рассчитывал. Болгаринов, торжествуя свою власть над потомком Рюрика, каким считал себя Степан Аркадьич князь Облонский (Оболенский), заставил его два часа вместе с другими просителями дожидаться
348
в своей приемной и затем, приняв его с необычайной учтивостью, почти отказал170.
Так русское родовитое дворянство не только продавало свои земельные владения и уступало таким образом место в экономике страны мелкой деревенской буржуазии, но и терпело весьма значительное ущемление в своей сословной гордости, унижаясь перед нарождающейся новой силой — крупной финансовой буржуазией, представителями которой были люди совсем незнатного происхождения. Недаром Облонский краснел при воспоминании о встрече с Болгариновым.
Выражая мысли и чувства автора, Левин негодует на то, что все эти богачи «наживают деньги так, что при наживе заслуживают презрение», так как «всякое приобретение, не соответственное положенному труду, нечестно». Когда же они бесчестным путем наживут себе состояние, то этим бесчестно нажитым состоянием «откупаются от прежнего презрения... Это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах, только переменило форму... Только что успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки: тоже нажива без труда»171.
В одной из черновых редакций «Анны Карениной» в числе персонажей фигурирует барон Илен, совершенно «новый финансовый человек, вступивший вследствие только своего богатства в высший петербургский круг». Он был владельцем знаменитой своей роскошью дачи, купленной от князей Прозоровских. Анна вместе с Бетси едет к барону Илену, чтобы повидаться с Вронским. В следующей редакции той же главы барон Илен заменяется таким же крупным финансовым дельцом Роландаки. Анна и Бетси едут к Роландаки в его «обновленный дворец», отличающийся «новым полным и не лишенным вкуса великолепием»172.
В окончательный текст романа Толстой не ввел ни барона Илена, ни Роландаки, вероятно потому, что ему не приходилось близко сталкиваться с кругом финансовых дельцов и потому он не мог ясно представить себе ни их психологии, ни условий их жизни.
XXVII
Деятельность высших правительственных учреждений в России того времени освещается в «Анне Карениной» только с отрицательной стороны.
Вот как, по словам Толстого, происходило назначение на высшие правительственные должности: «Встреча, услуга, меткое
349
слово, уменье представлять в лицах разные штуки, — и человек вдруг делал карьеру»173.
А вот типичный представитель высшей власти в России того времени: «Петровский прожил пять миллионов и жил всё точно так же и даже заведывал финансами и получал двадцать тысяч жалованья»174.
Между высшими правительственными лицами царит жестокая борьба за выгодные и почетные должности, и они стараются вредить друг другу, насколько могут.
Чтобы уронить Каренина как государственного деятеля в глазах высшей власти, его противники воспользовались находившимся в его министерстве делом «Об орошении полей Зарайской губернии», выставляя его как «резкий пример неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу». Каренин знал, что это обвинение справедливо. Дело это было начато его предшественником, на него было потрачено «очень много денег и совершенно непроизводительно, и все дело это, очевидно, ни к чему не могло привести». Дело шло по инерции. «Много людей кормилось этим делом, в особенности одно очень нравственное и музыкальное семейство», в котором все дочери играли на струнных инструментах, и Алексей Александрович был посаженным отцом на свадьбе одной из дочерей. Но Каренин считал, что со стороны враждебного ему министерства было «нечестно» поднимать это дело, так как «в каждом министерстве были и не такие дела, которых никто, по известным служебным приличиям, не поднимал»175.
В пику враждебному министерству Каренин поднял «дело об устройстве инородцев», которое, по его докладу, не терпело отлагательства «по плачевному состоянию инородцев». По этому делу была образована комиссия. В черновых редакциях «Анны Карениной» дается едкая характеристика деятельности этой комиссии. Она была составлена из одного весельчака сенатора, двух генералов и двух людей, нашедших выгодным для себя назначение в эту комиссию. Комиссии было поручено «описать край с административной, финансовой, этнографической, географической, геологической сторон, изложив причины таких и таких-то явлений». Комиссия вернулась через год, и на все пункты были представлены ясные и определенные ответы. И хотя Алексей Александрович «как образованный человек знал, что в два столетия избранные ученые и генералы не могут исполнить 1/10 того, что было спрашиваемо, но все-таки принял за основание своих действий донесение комиссии»176.
350
В окончательном тексте романа деятельность комиссии по исследованию быта инородцев охарактеризована более подробно. Сказано, что все ответы комиссии на поставленные перед ней вопросы «были произведением служебной деятельности»: губернаторы и архиереи запрашивали уездных начальников и благочинных, уездные начальники и благочинные — волостные правления, сельских священников и т. д. Никакого представления о действительной жизни инородцев ответы комиссии не давали.
Автор «Анны Карениной» сообщает следующий штрих, характерный для отношения представителей высшей государственной власти в России того времени к казенным суммам: несмотря на то, что в то время сеть железных дорог, покрывающих страну, с каждым годом все увеличивалась, прогонные деньги членам правительства, выезжавшим на ревизии, уплачивались по стоимости проезда на лошадях, во много раз превышавшей действительные расходы по проезду по железным дорогам. Высшие чиновники и даже их жены сами придумывали, куда можно было бы поехать с ревизией. Одна дама говорила Бетси Тверской, что на прогонные деньги она справляет все свои балы.
XXVIII
На протяжении всего романа Толстой не раз рисует картины, обличающие распущенные нравы, пустоту жизни и пошлую, лживую мораль высшего света.
В светских салонах царит «привычная торжественная обстановка праздности»177.
Злословие — главное содержание разговоров в светских гостиных. Оно втихомолку распространяется даже на хозяев дома. Пустоту разговоров в светских гостиных Толстой характеризует следующим образом. Относительно княгини Мягкой, единственной светской женищны (не считая Анны), пользующейся симпатией автора, сказано: «Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила, хотя и не совсем кстати... но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки»178.
Светские дамы изображают себя любительницами музыки, не пропускают ни одного концерта с участием приезжих знаменитостей, но лишены всякого понимания искусства. Когда Вронский, не дослушав концерта приехавшей в Петербург шведской певицы Нильсон, уезжает во французский театр, где ему нужно встретиться с полковым командиром, княгиня Бетси Тверская «с ужасом» восклицает: «От Нильсон?» Но тут же автор спешит
351
разочаровать читателя замечанием, что Бетси «ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки».
О нравах высшего общества говорят красноречиво отношения Облонского к княгине Бетси Тверской. Между ними установились «весьма странные отношения». Облонский «шутя ухаживал за ней и говорил ей, тоже шутя, самые неприличные вещи, зная, что это более всего ей нравится»179. Кончилось тем, что Бетси — эта младшая сестра Элен Безуховой из «Войны и мира», удалив своего поклонника Тушкевича, откровенно дала понять Облонскому, что желает вступить с ним в более близкие отношения.
Костюмы светских дам делаются с целью разжигания чувственности мужчин. Бетси Тверская, сидя на концерте в ложе, поправляет поднявшийся лиф платья «с тем, чтобы как следует быть вполне голой, когда выйдет вперед к рампе на свет газа и на все глаза».
В одной из черновых редакций «Анны Карениной» рассказывается о кружке молодых женщин самого высшего света, который прозвали «семь чудес». Женщины эти вполне усвоили «самый приятный и естественый для них тон распутных женщин», что нравилось их поклонникам, требовавшим именно «распутной привлекательности». «Почти все эти дамы курили, пили вино, для того чтобы оно возбуждало их, и позволяли вне семьи обнимать себя и многое другое». В числе их поклонников были и важные сановники и «высочества», т. е. великие князья180. В окончательном тексте изображение кружка «семь чудес» сильно смягчено181.
Мать Вронского сначала была довольна тем, что ее сын вступил в связь с Карениной, потому что она считала, что «ничто не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете». Была она довольна и тем, что Каренина, так много говорившая о своем сыне, когда она ехала с нею в одном вагоне из Москвы в Петербург, оказалась, по ее понятиям, «все-таки такой же, как и все красивые и порядочные женщины». Но когда Вронский вышел в отставку, а Каренина бросила мужа, мать Вронского, как и все светские женщины, стала смотреть неодобрительно на отношения сына с Карениной и «не могла удержать улыбку радости», когда Карениной было нанесено оскорбление в театре.
Брат Вронского, имевший содержанку, только потому был недоволен связью брата, что эта открытая связь не одобрялась лицами, имеющими власть.
У князя Чеченского была жена и взрослые сыновья-пажи и была другая, незаконная семья. «Хотя первая семья тоже была
352
хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьичу, что он находит это полезным и развивающим для сына»182.
В черновой редакции «Анны Карениной» упоминается князь Корнаков, «известный негодяй, к которому все ездят и которого все принимают», несмотря на его «всем известную развратность, подлость даже»183. Следует вспомнить, что князья Корнаковы фигурируют и в повести «Детство»; под этим именем в этой повести Толстой изобразил своих родственников, князей Горчаковых.
В полку Вронского служат два «неразлучных», как их называет приятель Вронского Яшвин, офицера: «один молоденький, с слабым тонким лицом, недавно поступивший из Пажеского корпуса», и другой — «пухлый старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами». Вронский разговаривает с ними «с гримасой отвращения», а Яшвин здоровается «презрительно»184.
В журнальной редакции «Анны Карениной» рассказывается, что в тот самый вечер, когда Анна появилась в театре, другое происшествие, занимавшее всех представителей высшего света, состояло в том, что в ложе одной известной девушки сидел ее почти пьяный жених, «изуродованный несчастною болезнью». Родители девушки согласились на этот брак, «потому что отец жениха был в большой силе»185.
В «Анне Карениной» Толстой изобразил светское общество в гораздо более черных красках, чем это было сделано им в «Войне и мире». Становится понятным то, что писал Толстому Страхов 7 мая 1877 года:
«...Только прочитавши Вас, можно понять, что это за мир; Вы не рассказываете никаких ужасов, а все невинные и даже смешные вещи, но, конечно, обличаете больше, чем Тургенев, Некрасов и Салтыков, напрягающиеся для этого из всех сил»186.
XXIX
Насколько чужда была Толстому «торжественная обстановка праздности» лживого, порочного высшего света и насколько он презирал бумажную деятельность высшей бюрократии, настолько
353
же была ему близка проходившая в напряженном тяжелом труде жизнь многомиллионного русского трудового народа. Вот как описывает Толстой рабочую пору — «страду» — в деревне:
«Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни...
Скосить и сжать рожь и овес и свезти, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимое... чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали не переставая в эти три-четыре недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более двух-трех часов в сутки. И каждый год это делается по всей России»187.
С восхищением рисует Толстой картину дружной крестьянской работы во время сенокоса, в которой принимал участие и Левин.
Левин любуется косцами. Особенно восхищает его старик, который «точным и ровным движеньем, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый высокий ряд».
Втянувшись в работу, Левин испытывал «счастливые минуты». «В блаженные минуты отдыха» старик предлагает Левину отведать «кваску моего» — зачерпнутой в брусницу воды из протекающей поблизости речки. «Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающею зеленью и ржавым от жестяной брусиицьг вкусом». Когда наступило время обеда, старик сделал из хлеба с водой тюрю и пригласил Левина пообедать с ним. «Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать». Вернувшись домой, Левин рассказывал брату, что в работе он пережил «такое удовольствие, какого в жизнь свою не испытывал»188.
Через некоторое время Левину пришлось поехать в имение сестры, находившейся за границей, чтобы уладить дела с мужиками, арендовавшими у нее луга. Окончив дела, Левин пошел на покос и уселся на копне, «любуясь на кипящий народом луг». В немногих словах здесь создан настоящий апофеоз земледельческого труда189. Когда работа была закончена и мужики отправились домой, «некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или
354
те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Всё это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные.
...Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи.
Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости»190.
Картина сенокоса заканчивается описанием возбуждающего действия, какое оказывает на Левина пение деревенских женщин, возвращающихся с покоса. Левин до вечера просидел на копне, любуясь работающим народом, и потом услышал, как по окончании работы «один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторенья, и дружно, враз подхватили опять с начала ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов.
Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны и воза и весь луг с дальним полем — всё заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни»191.
Есть все основания предполагать, что все это описание носит совершенно автобиографический характер, что здесь Толстой описывает то свое душевное состояние, какое он испытывал не раз, близко соприкасаясь с народной жизнью. В трактате «Что такое искусство?», написанном в 1897 году, также находим описание действия на Толстого пения крестьянских женщин, весьма близкое к тому, какое дано в «Анне Карениной»192.
355
«Уважение и какая-то кровная любовь к мужикам», которую испытывал Толстой так же, как и Левин, превосходное знание крестьянского земледельческого труда определили особый характер пейзажа в «Анне Карениной».
Наряду с чудесным пейзажем ранней весны в лесу, где Левину было «слышно и видно, как трава растет», в романе находим другой пейзаж, относящийся к тому же времени года. «Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы». «Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей, побежали быстроногие ребята по просыхающим с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали на пруду веселые голоса баб с холстами, и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны»193.
Такой весенний пейзаж, где картины природы неразрывно связаны с условиями крестьянской жизни и крестьянского труда, появился впервые в русской литературе в романе Толстого.
XXX
Самые разнообразные вопросы, выражающие точку зрения автора, затронуты в «Анне Карениной».
Разумеется, Толстой не мог обойти в своем романе тот вопрос, который в то время усиленно занимал его самого, — вопрос об образовании и обучении.
356
Сережа Каренин учится у приходящих учителей и у отца, который преподавал ему «закон божий». Учился он очень плохо; плохо усваивал и русскую грамматику и «священную историю». Он никак не мог понять, что такое коротенькое и понятное слово «вдруг» есть «обстоятельство образа действия», а из имен ветхозаветных патриархов запомнил только двух — Еноха и Еноса, и то только потому, что по библейской мифологии Енох был живым взят на небо, что пленяло воображение мальчика.
Но никак нельзя было сказать, чтобы он был неспособный мальчик; напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример Сереже. «Ему было девять лет, он был ребенок; но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу. Воспитатели его жаловались, что он не хотел учиться, а душа его была переполнена жаждой познания». И он учился не тем скучным вещам, каким обучали его педагог и отец, а учился жизни у швейцара Капитоныча, у няни, у своей подруги Наденьки и гувернера славянина. «Та вода, которую отец и педагог ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала в другом месте»194.
В другой главе романа передается разговор Левина с женатым на сестре его жены Львовым. Львов указал Левину на одно трудное для понимания место в грамматике Буслаева, которую изучал в школе его сын. Левин, выражая, по обыкновению, мысль автора, ответил Львову, что это место и нельзя понять, его можно только без понимания заучить наизусть195.
В одной из черновых рукописей «Анны Карениной» фигурирует педагог, приглашенный Карениным для занятий с Сережей. Этому педагогу Толстой дает следующую характеристику: «Алексей Александрович никогда не встречал более непоколебимого в своей уверенности и презрении ко всему миру человека, как специалиста педагога». Педагог «вошел к Алексею Александровичу с таким видом возвышенной и непонятной жертвы людской тупости и такого вперед определенного и полного презрения к Алексею Александровичу, что первое время Алексей Александрович был даже смущен». Далее сказано, что когда педагог и Каренин составляли план обучения Сережи, педагог «разобрал по ниточкам» всю душу ребенка вообще196.
Рисуя этого педагога, Толстой, очевидно, вспоминал тех московских педагогов, с которыми он сталкивался в 1874 году в Московском комитете грамотности. В окончательный текст романа этот персонаж введен не был.
В письме к Страхову 18 мая 1876 года Толстой просил прислать ему «книжку или две педагогические. О воспитании вообще,
357
вроде Антропологии Ушинского197, самое новое и искусственное и не глупое, сколько возможно. Такие книги, которые должен был изучать А. А. Каренин, приступая к воспитанию оставшегося у него на руках сына»198. Ответное письмо Страхова неизвестно, но глава о чтении Карениным педагогических книг не была написана автором «Анны Карениной».
Толстой изменил свое мнение о женском труде, которое он выразил в письме к Страхову в 1870 году. В этом письме он, как сказано выше, писал, что всякая женщина, не вышедшая замуж, найдет себе дело если не в своей, то в чужой семье. В «Анне Карениной» Кити задумывается над тем, что с нею будет, если она не выйдет замуж, и надеется и в этом случае хорошо и независимо устроить свою жизнь199.
Очевидно, автор «Анны Карениной» к тому времени опытом жизни был приведен к признанию того, что могут быть у женщины такие условия, при которых труд вне своей или чужой семьи явится для нее полной необходимостью, и потому отказался от мнения, которое за несколько лет до этого с такой решительностью высказал в письме к уважаемому им писателю.
Наконец, нельзя не коснуться отношения Толстого к спиритизму, высказанного в «Анне Карениной» устами Левина и отчасти Облонского.
Спиритизм получил особенное распространение в высших слоях русского общества в середине 1870-х годов. В журналах стали печататься статьи в защиту спиритизма, подписанные авторитетными именами. В «Русском вестнике» в 1875 году появились статьи профессора зоологии Н. П. Вагнера «Медиумизм» и профессора химии А. М. Бутлерова «Медиумические явления». Об этих статьях Толстой отозвался в письме к Страхову от 2 января 1876 года. Он писал, что статьи в «Русском вестнике» «страшно волновали» его, он даже «чуть было не написал» о спиритизме, и эта статья его «вся готова», — не в том смысле, что написана (она написана не была), но вполне, во всех подробностях обдумана.
Толстой сравнивает веру в спиритизм с верой мужиков в чертей, которых они «видят беспрестанно», и никто не находит, что это — «явление, заслуживающее внимания». Особенно удивительно для Толстого было то, что в спиритизм верят ученые, предлагающие «подвергнуть научному исследованию» умные слова, музыку, стуки в столе и т. п., которые, по рассказам людей, верящих в спиритизм, они постоянно слышат200.
358
В «Анне Карениной» разговор о спиритизме происходит на вечере у Щербацких вскоре после того, как Левин получил от Кити отказ на свое предложение.
Левин заявляет, что считает спиритизм сумасбродством, а на утверждение приверженцев спиритизма, что спиритические сеансы суть проявления некоторых еще не вполне изученных сил природы, подобных силе электричества, отвечает, что электрические явления при известных условиях повторяются всегда, а спиритические явления не обладают этим свойством201.
В конце романа Облонский присутствует на спиритическом сеансе в доме графини Лидии Ивановны. Нелепость всего им виденного и слышанного подействовала на него так удручающе, что он, «как из зараженного дома», выбежал на улицу из дома Лидии Ивановны «и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувства»202.
XXXI
В пятой части «Анны Карениной» несколько замечательных глав (IX—XIII) посвящено художнику Михайлову. В них Толстой изложил некоторые свои мнения по вопросам художественного творчества, в особенности взгляд на природу и условия успешности творческого процесса.
На мысль о происхождении его героя из простолюдинов навел Толстого рассказ студента Шатилова.
Как сказано выше, на рождественские праздники 1876 года в Ясную Поляну приезжал ученик Московской школы живописи, ваяния и зодчества Н. И. Шатилов, сын председателя Московского комитета грамотности И. Н. Шатилова. Студент рассказал Толстому, что самый талантливый ученик школы — сын швейцара кремлевского дворца203. Под влиянием этого рассказа Толстой изобразил художника Михайлова сыном какого-то московского обер-лакея, не получившим никакого образования.
Михайлов всегда за работой. Работа для него — источник больших радостей и больших огорчений. Когда он работал над картиной «Христос перед Пилатом», всякое лицо, «с таким исканием, с такими ошибками, поправками выросшее в нем с своим особенным характером», доставляло ему «столько мучений и радости»; все лица были столько раз переменены для соблюдения общего, и «все оттенки колорита и теней» с таким трудом достигались им. Средоточие картины, лицо Христа, доставило ему «восторг при своем открытии».
359
При этом Михайлов вовсе не думал, что его картина была лучше всех картин Рафаэля; но он давно уже твердо знал, что «подобной картины никто никогда не писал», что «того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал».
Другая картина Михайлова, жанрового характера, изображавшая двух мальчиков, удящих рыбу, также в течение нескольких месяцев «одна неотступно день и ночь занимала его», заставляя его переживать «страдания и восторги».
Работа являлась для Михайлова спасением от всех мелких неприятностей жизни. «Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо и в особенности когда он ссорился с женой». «Ах! провалиться бы куда-нибудь!», — думал он, продолжая энергично работать над начатым рисунком.
Но для работы Михайлову требовалось особое душевное состояние. Он не мог работать ни тогда, когда был холоден, ни тогда, когда «бывал слишком размягчен и слишком видел все». Для работы ему нужно было находиться на одной определенной ступени — «на этом переходе от холодности к вдохновению».
Но когда та или другая картина была им закончена, Михайлов забывал про нее и переходил к следующему занимавшему его сюжету. Когда случайно ему приходилось вспоминать какую-либо законченную картину, в нем шевелилось «прежнее волнение», «но он боялся и не любил этого праздного чувства к прошедшему».
Процесс творчества художника типично изображен Толстым в рассказе о работе Михайлова над рисунком для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Начатым рисунком он остался недоволен и бросил его. Но затем он вспомнил о брошенном рисунке и подумал, что он был лучше того, над которым он теперь работал. Он отыскал брошенный рисунок, рисунок оказался испачканным и закапанным стеарином от свечи. Но «пятно стеарина давало человеку новую позу». Увидав это, Михайлов «вдруг улыбнулся и радостно взмахнул руками», взял карандаш и начал быстро рисовать.
Ему вспомнилось энергическое, с выдающимся подбородком лицо купца, у которого он покупал сигары. В свое время он «схватил и проглотил это впечатление... и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится». И теперь ему как раз «понадобилось» это впечатление: он «это самое лицо, этот подбородок» придал изображению человека, находящегося в припадке гнева. «Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить», и он «засмеялся от радости».
В дальнейшем можно было сделать исправления в деталях фигуры, но основной процесс последующей работы состоял в том,
360
чтобы наиболее приблизить фигуру к тому представлению, в каком она «явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна».
«Художественное чувство» Михайлова «не переставая работало, собирая себе материал». Подобно тому как он «схватил и проглотил» подбородок купца, так, увидав в первый раз Анну, Вронского и Голенищева, он «быстро и тонко из незаметных признаков составил себе понятие» об этих лицах. Его поразило «мягкое освещение» фигуры Анны, стоявшей в тени подъезда, затем выражение лица Вронского, в особенности его скул; а лицо Голенищева, которого он знал раньше, в его воображении уже раньше было отложено «в огромный отдел фальшиво-значительных и бедных по выражению». Он «помнил все лица, которые он когда-либо видел».
Михайлов написал портрет Анны, и портрет этот «поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою». «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», — думал Вронский. В действительности он только по этому портрету узнал это «самое милое» душевное выражение Анны. «Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его».
Когда Левин впоследствии увидал в кабинете Вронского сделанный Михайловым портрет Анны, он «не спускал глаз с удивительного портрета». «Это была не картина, а живая прелестная женщина... Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая»204.
Посетители Михайлова — Анна, Вронский и Голенищев — совершенно не понимали того, чем была для него работа художника. Вронский похвалил его «технику», и это замечание рассердило Михайлова. Он знал, что под словом «техника» разумели «механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания». Но он знал также, что «самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания».
Другое слово, которое часто употреблялось в разговорах Анны, Вронского и Голенищева о живописи, было слово «талант», под которым они разумели «прирожденную, почти физическую способность, независимую от ума и сердца». Этим словом «они хотели назвать все, что переживаемо было художником», «о чем они не имели никакого понятия, но хотели говорить».
Это замечание, являющееся дальнейшим развитием суждений Михайлова о природе художественного творчества, сделано
361
Толстым уже не от лица его героя, а непосредственно от лица автора. Толстой, разумеется, признавал талант как прирожденную способность к различным формам творческой деятельности, в том числе и к художественному творчеству (он писал: «Гоголь — огромный талант»205, Чехов «очень даровит»206 и т. д.); но ему бывало досадно, когда люди, не понимающие искусства, считали художественные произведения только плодом талантливости автора, помимо деятельности «ума и сердца», без которой, по мнению Толстого, невозможно создать сколько-нибудь значительное художественное произведение. Выше уже было приведено письмо Толстого детскому писателю Е. В. Львову, в котором он говорит, что знание народа и народного читателя не слетело к нему с неба оттого, что у него «талант (самое глупое, бессмысленное слово)», а появилось оттого, что он «любовью и трудом приобрел это знание»207.
Все суждения Михайлова об искусстве, все чувства, которые он переживал, работая над своими картинами, — все это мысли и чувства самого автора «Анны Карениной». Так же как Михайлов, Толстой собирал и «проглатывал» впечатления от всех лиц, с которыми встречался, храня их в своей художественной памяти208; так же «неотступно день и ночь» думал над теми произведениями, над которыми работал в данное время и которые забывал, когда они бывали закончены; так же мучила и радовала его всякая работа, которой он был увлечен.
Прототипом художника Михайлова Толстому послужил Крамской, рисовавший его портрет в год начала «Анны Карениной». Это удостоверено Репиным, хорошо знавшим Крамского. 12 апреля 1878 года он писал В. В. Стасову: «...Человек, который умел влезть в душу Михайлова («Анна Каренина»), умел жить его жизнью, — конечно, без особенного труда разгадает и нас, грешных. А знаете ли, ведь его Михайлов страх как похож на Крамского! Не правда ли?»209.
Исследователь жизни и творчества Крамского проф. Н. Г. Машковцев также находит большое сходство Михайлова с Крамским. «Образ Михайлова, — пишет Н. Г. Машковцев,
362
— очень близок своими главными чертами к Крамскому. Очевидно, Крамской, в свою очередь, послужил натурой Толстому. В «Анне Карениной» писатель сжато коснулся самых главных вопросов творческого метода художника-портретиста, отношения его к натуре, своему труду, к заказчику, отношения к публике и критике, отношения к старому искусству и, наконец, к той захватившей всю личность художника работе, которые заставляют отказаться от выгодных заказов и обрекают всю жизнь художника на полуголодное состояние. В словах Михайлова мы слышим голос Крамского, узнаем его миросозерцание, поступки и даже внешний облик его похож на Крамского. Даже тема картины, над которой работает Михайлов, точно совпадает с той, над которой уже начал работать Крамской»210.
Кроме суждений о живописи, в «Анне Карениной» находим замечания о музыке — именно новейшей для того времени музыке, образцом которой выставлена фантазия «Король Лир в степи», которую слушает Левин в концерте. Судя по известному обыкновению Толстого давать собственные имена и названия произведений по аналогии с действительными лицами и опубликованными произведениями, можно предположить, что Толстой имел здесь в виду музыкальную сюиту Балакирева «Король Лир», появившуюся в 1860 году. Слушая эту музыку, Левин испытал «большую усталость от напряженного и ничем не вознагражденного внимания». «Беспрестанно начиналось, как будто собиралось музыкальное выражение чувства, но тотчас же оно распадалось на обрывки новых начал музыкальных выражений, а иногда просто на ничем, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Но и самые отрывки этих музыкальных выражений, иногда хороших, были неприятны, потому что были совершенно неожиданны и ничем не приготовлены. Веселость, и грусть, и отчаяние, и нежность, и торжество являлись безо всякого на то права, точно чувства сумасшедшего. И, так же как у сумасшедшего, чувства эти проходили неожиданно».
Наконец, Левин (т. е. Толстой устами Левина) высказывает мнение о новом явлении в области еще одного искусства — скульптуры. В разговоре со знатоком искусства Песцовым Левин указал на ошибку одного скульптора, который «вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, восстающие вокруг фигуры поэта на пьедестале». «Тени эти, — говорил Левин, — так мало тени у скульптора, что они даже держатся о лестницу»211. В этих словах Левин имел в виду известного скульптора М. М. Антокольского, который выставил свой проект памятника Пушкину на конкурсе памятников в Академии художеств
363
в 1875 году. В этом проекте Пушкин был изображен сидящим на скале на каменной скамье, а по уступам скалы были изображены фигуры действующих лиц его произведений, поднимающиеся по уступам скалы, как по лестнице, огороженной перилами, причем некоторые из них придерживались за перила, как бы боясь упасть.
XXXII
«Без силы любви нет поэзии», — писал Толстой Фету 28 июня 1867 года212.
«Художественное произведение есть плод любви», — пишет Толстой П. Д. Голохвастову в сентябре 1875 года213. Это было написано тогда, когда «Анна Каренина» уже начала печататься в «Русском вестнике»; без сомнения, Толстой и к своему новому роману относил это определение.
Но как же проявилась в «Анне Карениной» любовь автора к своему творению? И можно ли сказать, что автор любил то свое произведение, относительно которого в его письмах того времени мелькают такие выражения: «скучная, пошлая „Анна Каренина“», «надоевший мне роман», «„Анна Каренина“ мне противна»?
Было бы грубой ошибкой полагать, что все отношение Толстого к «Анне Карениной» на всех стадиях работы над романом исчерпывается этими и подобными им отзывами.
Первое время Толстой, как сказано было выше, работал над своим романом с большим подъемом, и роман получался «горячий». Затем, как это бывало иногда с Толстым, после творческого подъема наступил творческий упадок (лето 1874 года). Потом педагогические занятия привлекли особое внимание Толстого (вторая половина 1874 года). С января 1875 года начинается печатание романа в журнале, и Толстой напряженно работает над новыми главами и чтением корректур.
Со второй половины 1875 года, как это видно по переписке и по начатым в то время работам, Толстой начинает усиленно размышлять над религиозно-философскими вопросами, доискиваться разумного понимания смысла жизни. Работа над продолжением романа временами становится ему тяжела, во-первых, потому, что не всегда соответствует его настроению, и, во-вторых, отнимает время, которое ему хотелось бы употребить на работы религиозно-философского характера. Тогда-то и появляются в его переписке сетования на необходимость продолжать «скучный, пошлый» роман.
Но такое отношение к «Анне Карениной» отнюдь не было постоянным во все продолжение дальнейшей работы Толстого
364
над романом. Эта работа в глазах автора была «делом значительным» — вследствие «внутреннего содержания» романа, как писал Толстой С. А. Рачинскому 27 января 1878 года214.
«Внутреннее содержание» «Анны Карениной», которым дорожил автор, выражалось прежде всего в последовательном проведении «семейной мысли», в раскрытии идеи эпиграфа на примере судеб героев романа и, конечно, в мыслях и чувствах Левина, передающих мысли и чувства автора.
В своем объяснении читателям, почему последняя часть «Анны Карениной» не появилась в «Русском вестнике», Катков писал, что со смертью героини роман Толстого закончился. Разумеется, это было неверно. Во-первых, Анна — не единственный персонаж романа; Левин такое же центральное лицо, как и Анна. Судьба Левина, столь необычная эволюция его миросозерцания должны были занять свое место в романе. Во-вторых, — и самое главное — роман не мог закончиться описанием того, как навсегда потухла свеча, при свете которой Анна читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла» книгу жизни. Так закончить роман значило бы внести в художественное произведение крайний пессимизм, не свойственный Толстому. Нужно было, чтобы другой герой романа начал читать другую книгу, где, наряду с делами зла и обмана в людском мире, были бы описаны также дела добра и правды. Таким героем и явился Левин, который нашел другую книгу жизни — книгу жизни народной, где не было того преобладания дел зла и обмана, которые видела Анна в книге жизни людей привилегированных классов. Левин понял, что для того, чтобы ему найти разрешение мучивших его сомнений, надо отрешиться от эгоистической, праздной жизни богатых классов и искать правду в народе, в его вере и в его исполненной трудов и лишений жизни. Обратившись к народу в своих поисках правды, Левин увидел, что, кроме закона «Мне отмщение, и Аз воздам», существуют еще несомненные «законы добра», которые он чувствовал в себе и которые не разъединяют, а соединяют людей215.
Без сомнения, многие главы «Анны Карениной» доставляли Толстому как художнику глубокое внутреннее удовлетворение. Таковы прежде всего те многочисленные главы романа, где Толстой проявил себя как непревзойденный мастер описания тончайших душевных переживаний своих героев — раскрытия
365
сложной и противоречивой «диалектики души». Сравнивая «Анну Каренину» с «Войной и миром», автор замечательной работы «О романах Л. Н. Толстого» К. Н. Леонтьев писал: «В „Анне Карениной“ личной фантазии автора меньше, наблюдение сдержаннее, зато психологический разбор точнее, вернее, реальнее, почти научнее»216.
Эта характеристика особенно приложима к тем главам романа, в которых описывается душевная жизнь главной героини во всех ее последовательных изменениях с едва заметными тончайшими оттенками чувств, не всегда вполне понятными и самой Анне. Все эти главы — художественные шедевры. И можно ли хотя на одну минуту представить себе, чтобы Толстой считал «скучной», «пошлой», «противной» гениальную, не имеющую себе равных в мировой литературе сцену свидания Анны с Сережей, так изумительно и трогательно передающую безысходное горе матери, навеки разлученной с любимым единственным сыном?
Не меньшие творческие усилия были направлены Толстым на то, чтобы изобразить во всей сложности течение душевной жизни других персонажей романа. По мнению Н. Н. Страхова, из всех действующих лиц «Анны Карениной» Толстому «труднее всех» давался Вронский. Выше приведено письмо Толстого к Страхову о том, как внезапно (но после глубокого проникновения в сущность душевной жизни созданного им лица) в его творческом сознании явилась мысль о неизбежности самоубийства Вронского после его встречи с Карениным у постели умиравшей Анны. Судя по письму, Толстой был всецело захвачен художественным выполнением открывшегося ему нового эпизода в жизни его героя, имевшего большое значение в бесконечном «лабиринте сцеплений», составляющем роман.
Свое общее отношение к роману «Анна Каренина» в последние годы работы над ним автор высказал в письме к А. А. Толстой в середине марта 1876 года: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с нею вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если хотите, то с ménagement [снисходительностью], — она все-таки усыновлена»217. В этом письме Толстой разумел, конечно, не один образ Анны Карениной, а весь роман.
Как сроднился Толстой с работой над «Анной Карениной» и какое место занимала эта работа в его жизни, видно из приведенного выше письма его к Страхову от 22 апреля 1877 года, в котором, извещая об окончании «Анны Карениной», Толстой писал, что хотя ему и «свободно», но «грустно и одиноко» без этой работы.
366
XXXIII
Одной из важнейших задач, которую ставил перед собой автор «Анны Карениной», был широкий охват русской жизни того времени.
Не ограничиваясь теми большими картинами русской жизни, о которых было сказано выше, Толстой ввел в роман ряд эпизодов, в несколько измененном виде изображающих события 70-х годов. Упоминания о различных фактах текущей общественной жизни и о последних изысканиях науки находим во многих разговорах действующих лиц. Так, рассказ о комиссии, по изучению быта инородцев намекает на расследование по делу расхищения башкирских земель, в котором был замешан и сослуживец Толстого по Севастополю, оренбургский военный губернатор К. Н. Боборыкин, и которое вызвало отставку министра внутренних дел Валуева.
Кознышев, Песцов, Каренин ведут разговоры про обрусение Польши, новый гимназический устав 31 июля 1871 года, которым вводилось классическое образование, и указ 1 января 1874 года о всеобщей воинской повинности. Свияжский говорит с Левиным о «Шульце-Деличевском направлении», о «самом либеральном Лассалевском направлении», о «Мюльгаузенском устройстве», о журнальных статьях по вопросу о причинах падения Польши (ряд статей по этому вопросу был напечатан в журнале «Вестник Европы» за 1870—1874 гг.), о статье Спенсера «Наше воспитание, как препятствие к правильному пониманию общественных явлений», напечатанной в журнале «Знание» за 1874 год.
Кознышев с харьковским профессором беседуют «о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физическими явлениями в деятельности человека и где она?» (по этому вопросу в журналах за 1872—1873 годы был ряд статей Кавелина, Сеченова, Михайловского и других авторов).
Облонский, вспоминая свою неуместную улыбку в тот момент, когда жена показала ему его записку к гувернантке, уличавшую его в неверности, объяснил эту «глупую» улыбку тем, что тут действовали «рефлексы головного мозга». «Рефлексы головного мозга» — это было заглавие весьма популярной среди молодежи 1860—1870-х годов книги И. М. Сеченова, появившейся в 1863 году. В настоящее время эта книга считается «манифестом русского материализма 60-х годов».
Вронский и Кити во время кадрили разговаривают «о будущем общественном театре». Поводом к этому разговору послужило следующее. До 1872 года в Москве и в Петербурге существовали только казенные, так называемые императорские театры. В 1872 году на политехнической выставке был впервые открыт общедоступный народный театр, имевший большой успех
367
среди зрителей. Когда выставка закрылась, в печати и в обществе заговорили о желательности создания независимого общественного театра. С участием Островского и других театральных деятелей была выработана программа театра и подано правительству заявление о разрешении открыть такой театр, но дирекция императорских театров, опасавшаяся конкуренции, воспротивилась открытию общественного театра, и проект осуществления не получил.
Действующий в романе медиум Ландау — это американский медиум Юм, которого Толстой встречал в Париже в 1857 году. В образе Архипа-медвежатника изображен под своим именем тверской крестьянин, с которым Толстой охотился в 1858 году. По словам Толстого, основой для описания падения Вронского с лошади послужил ему случай с одним князем, сломавшим лошади ногу на скачках218. Подробности этих скачек были переданы Толстому его знакомым Д. Д. Оболенским, который присутствовал на скачках и видел, как князь Д. В. Голицын сломал спину своей лошади и проиграл вследствие этого скачку сыну военного министра А. Д. Милютину219.
Все эти штрихи из современной жизни, число которых можно было бы значительно увеличить220, а еще более широкие картины из русской жизни того времени делали роман Толстого очень злободневным для своего времени.
В художественном отношении роман много выиграл от того, что в окончательном тексте он из семейного, психологического и философского, каким он был в первых редакциях, превратился в семейный, психологический, философский и социальный роман.
Значение «Анны Карениной» для понимания эволюции социальных воззрений Толстого очень велико. В этом отношении характерен спор Левина с Кознышевым относительно добровольческого движения в пользу восставших сербов. Сергей Иванович оправдывал это движение тем, что «в пользу него высказывается общественное мнение». На это Левин хотел ему возразить, что если считать непогрешимым судьей общественное мнение, то «почему революция, коммуна [имеется в виду, конечно, Парижская Коммуна] не так же законны, как движение в пользу славян?». Так сказано в окончательном тексте романа, но в печати это возражение Левина по цензурным соображениям
368
появилось в сильно смягченном виде. Вот его полный текст в черновой редакции:
«В последнее свидание свое с Сергеем Ивановичем у Левина был с ним спор о большом политическом деле русских заговорщиков. Сергей Иванович безжалостно нападал на них, не признавая за ними ничего хорошего, Левин защищал их. Теперь Левину хотелось сказать: «За что же ты осуждаешь коммунистов и социалистов? Разве они не укажут злоупотреблений больше и хуже болгарской резни? Разве они и прекрасные умы, работавшие в их направлении, не выставляют свою деятельность доводами более широкими и разумными, чем Сербская война, и почему же они не скажут того же, что ты, что это наверное предлог, который не может быть несправедлив? У вас теперь угнетение славян — и у них угнетение половины рода человеческого. И общественное мнение, если оно судья, то едва ли не будет больше голосов в их пользу, чем в вашу, если так же муссировать дело, как вы».
Но Левин чувствовал себя слишком раздраженным и ничего не сказал»221.
Если вспомнить, во-первых, что ко времени написания эпилога (1877 г.) в стране все более усиливалось революционное движение и, с другой стороны, припомнить иронические отзывы о нигилистах в письмах Толстого к Фету начала 1870-х годов, станет совершенно очевидно, что ко времени окончания «Анны Карениной» в отношении Толстого к революционному движению произошло очень значительное изменение. Он признает, что социалисты и коммунисты встали на защиту «половины рода человеческого», угнетенной существующим строем, и что среди них есть «прекрасные умы»; он даже готов допустить, что при известных условиях «общественное мнение» завтра может заговорить в пользу революционного движения
———
Ни один из положительных героев предыдущих художественных произведений Толстого не подходил так близко к народу, как Левин, который считает трудовое крестьянство «лучшим классом России» и преклоняется перед напряженным самоотверженным трудом крестьянина в рабочую пору.
Рисуя образ Левина, Толстой уже недалек от разрыва со своим классом и перехода к идеологии русского патриархального трудового крестьянства.
369
Глава пятая
ОТЗЫВЫ СОВРЕМЕННИКОВ
О РОМАНЕ «АННА КАРЕНИНА»
I
Самый первый отзыв об «Анне Карениной», не считая писем Страхова и Фета, был получен Толстым 16 февраля 1875 года в виде телеграммы от Общества любителей российской словесности.
В этот день на публичном заседании Общества историк Д. И. Иловайский произнес речь о современной русской литературе, в которой особенно выделил дарование автора «Войны и мира». Затем поэт и критик Б. Н. Алмазов, в свое время на страницах «Москвитянина» приветствовавший появление «Детства», прочел по корректурам «Русского вестника» XXX главу первой части «Анны Карениной» (встреча Вронского с Анной на железной дороге). По окончании чтения присутствующие отправили Толстому следующую телеграмму: «Общество любителей российской словесности в заседании 16 февраля 1875 года при чтении Вашего нового романа поздравляет от лица сочленов и присутствующих посетителей — чтителей Вашего таланта — с новым прекрасным плодом Вашего высокого дарования, желая, чтобы оно долго и долго еще приносило честь Обществу словесности, которого состоите членом, изящное наслаждение всему обществу русскому и славу отчизне»1.
II
С самого начала появления «Анны Карениной» в «Русском вестнике» 1875 года и вплоть до выхода романа отдельным изданием в 1878 году «Анна Каренина» продолжала привлекать усиленное внимание критиков. Число критических статей об «Анне Карениной» в журналах и газетах того времени очень велико.
«О выходе каждой части Карениной, — писал Толстому Страхов 7 мая 1877 года, — в газетах извещают так же поспешно
370
и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка»2.
Уже первые четырнадцать глав первой части романа, напечатанные в январской книжке «Русского вестника» 1875 года, вызвали несколько критических статей.
Критик В. В. Чуйко в либеральной газете «Голос» напечатал одну из лучших для того времени критических статей об «Анне Карениной». Приводя сцену катания Левина и Кити на катке Зоологического сада, критик замечает:
«В этом отрывке видится весь автор „Детства“ и „Отрочества“, умный наблюдатель мельчайших душевных волнений, чувствуется его нежная и глубокая поэзия психического мира, если так можно выразиться... Оттого-то так трудно передавать содержание его романов; в них много движения, чрезвычайная сложность жизни; в них и внешние события играют не последнюю роль; но вы невольно останавливаетесь на его удивительном психическом анализе, невольно забываете внешнюю канву и принимаетесь вместе с автором следить за здоровыми проявлениями души и характера, как с г. Достоевским мучительно изучаете болезненные движения, почти сумасшедшие выходки больных умом и нервами характеров».
По поводу описания обеда в гостинице «Англия», куда Левин с Облонским попадают после Зоологического сада, критик говорит: «Живее, правдивее передать сцены невозможно: тут что ни строчка, то целый мир наблюдений, начиная с важной фигуры Облонского, сочиняющего меню обеда, татар во фраках и с салфетками, раскрашенной, в ленточках и завитушках француженки, сидевшей за конторкой и составленной, как казалось, из чужих волос... и кончая недоумевающим Левиным».
«Мне кажется, — пишет далее критик, — некоторые характеры нового романа еще лучше, рельефнее очерчены, чем в прежних его произведениях; в них нет ничего недоконченного, недосказанного, нелогического — все стройно и цельно; черта вытекает из черты естественно, правдиво».
В. В. Чуйко впервые в русской критике поставил вопрос о сходстве и различии между Толстым и Стендалем. По его мнению, Толстой в «Анне Карениной» «остается тем же оригинальным исследователем человеческих разновидностей, и не столько исследователем типов, сколько анализатором различных психических моментов в развитии человека. В этом отношении он может быть приравниваем только с другим великим психологобеллетристом Генрихом Бейлем (Стендалем): предмет их исследования один и тот же; оба они одинаково глубоко заглядывают в тайники души, оба одинаково оригинальны, до такой степени
371
оригинальны, что кажутся эксцентричны и парадоксальны; оба не любят торных протоптанных дорожек в искусстве, оба открывают новые области художественного анализа; у обоих, кроме таланта, громадная теоретическая подкладка систематического знания, и потому-то оба так мало похожи на большинство беллетристов нашего времени, которые до сих пор не могут порешить с рутинными приемами и рутинными взглядами. Но если предмет и средства одни и те же, то приемы различны у Бейля и графа Л. Толстого. У Бейля теория и точное знание перевешивали над творчеством, у графа же Л. Толстого наоборот, и что бы там ни говорили, он не столько мыслитель, сколько художник, у него на первом плане — творчество, как и у г. Достоевского; но творчество, сдержанное в пределах всегда присутствующею строгою мыслью, не расплывающеюся в неясных образах и болезненных влечениях. Творчество Бейля — чисто теоретическое, искусственное; из одного первичного, психического предрасположения он строит весь характер, и если этот характер кажется живым, то только благодаря необыкновенной логике, с которою Бейль развивает последовательно из этого одного, общего предрасположения, все неизбежности, определяемые положением и жизнью. У графа Л. Толстого на первом плане жизнь и люди; он любит эту жизнь и этих людей со всею страстью и впечатлительностью художника; его творчество не теоретический процесс, а сама жизнь, как она отражается в его мысли. Но никогда мысль не дремлет, и потому, нет-нет, и вдруг встречается коротенькая, кажется, пустая фраза, которая освещает характер с совершенно новой стороны, указывает на такую психическую особенность, которая могла бы быть подмечена только теоретическою мыслью. В этом граф Л. Толстой — неподражаемый мастер»3.
Очень содержательной статьей в либеральных «С.-Петербургских ведомостях» отозвался на появление «Анны Карениной» также романист Всеволод Соловьев.
«В четырнадцати главах „Анны Карениной“, — писал он, — мы нашли именно то, что составляет большую редкость в наше время: мы нашли высокую простоту неподдельного искусства, полноту жизненной правды и тонкое чувство меры, составляющее одно из главнейших оснований художественности произведения и совсем почти затерявшееся в современной литературе».
Переходя к отдельным выведенным в романе типам, Соловьев писал:
«Степан Аркадьевич чуть ли не самое полное, близкое нам лицо, какое только можно встретить в нашей беллетристике. Каждый из нас наверное знает если не нескольких, то хоть
372
одного Степана Аркадьевича. Это до сих пор еще уцелевший тип русского барина, воспитанного и живущего в полном довольстве и в свое удовольствие, причастного слабостям человеческим, не годящегося в герои и деятели, но, со всем тем, вполне доброго и милого человека, нашего любимого родственника и приятеля, который, несмотря на все свои слабости, на эгоизм, как-то уживающийся с положительной добротою, на неособенную широту взглядов и дремоту умственных интересов, все же не без доброго следа проходит в нашей жизни...
Долли — это тоже вполне живая и знакомая нам женщина. Ее дальнейшие появления, ее разговоры с Анной Карениной, приехавшей мирить брата с женой, полны глубочайшей правды и самого тонкого анализа...
Любовь Левина к Кити Щербацкой и любовь Кити к Вронскому не могут не остановить на себе серьезного внимания. Это замечательный анализ молодого, чистого и здорового чувства, в котором нет ровно ничего кисло-сладкого, банального или грубо-циничного, что уже до тошноты надоело на печатных страницах. Здесь любовь является в своей первобытной вечной красоте, которую ничто не в силах опошлить и которая всегда служила и будет служить неисчерпаемым источником человеческого счастия и вдохновения»4.
Приветствовал появление романа Толстого также и анонимный критик либеральной газеты «Новости», который писал: «Новый роман гр. Толстого „Анна Каренина“ отличается теми же достоинствами, как и прежние его произведения; герои проходят перед вами совершенно живыми, и вы невольно замечаете в них всякий пустяк, начиная от женского головного убора и кончая походкой в кадрили. И из этих, по-видимому, мелочных подробностей в вашем воображении создается и запоминается даже фигура героя, точно вы его видели, точно он ваш знакомый. При этом граф Толстой так соразмерно во всех частях ведет свой рассказ, что не утомит вас ужасным и мелочным психическим анализом, как г. Достоевский, ни беспрестанными, иногда безбожно скучными описаниями природы, как г. Тургенев, ни длинной, характерной, может быть, в этнографическом смысле, но чуть идущей к делу болтовней, как г. Гончаров...
Тот, кто желает хоть сколько-нибудь познакомиться с новым произведением автора „Войны и мира“, должен обратиться к самому роману; как бы фельетонист ни усиливался, всех красот повести не передать даже в двадцати фельетонах: для этого необходимо перепечатать все от начала до конца, слово в слово»5.
373
Из провинциальных газет с обстоятельной статьей по поводу первых глав «Анны Карениной» выступил «Астраханский справочный листок». В статье за подписью «Амуров» газета писала: «„Анна Каренина“, бесспорно далеко уступающая „Войне и миру“, есть, однако же, такое талантливое произведение, на котором отрадно остановиться и которое приятно читать... Тургенев, Гончаров, Писемский, Островский, не говоря уже о более мелкой литературной братии, в своих позднейших произведениях не заявили и десятой части того таланта, какой присутствует в новом романе графа Л. Толстого.
Недоброжелательный к новому произведению графа Л. Толстого фельетонист „Биржевых ведомостей“ к числу недостатков романа относит простоту завязки действия, бедность вымысла в содержании, т. е. как раз то качество, которое составляет собою отличительную черту даровитого русского романиста и прямо относится к его положительному достоинству. Все лучшие романы нашей литературы, все выдающиеся крупные создания творческой русской мысли, в отличие от таковых же французских и преимущественно английских романов, загроможденных чуть ли не сотнями действующих лиц и уснащенных сложною фабулой содержания и вводными эпизодами, — все наши романы просты и, если хотите, бедны вымыслом, но настолько, насколько проста и бедна содержанием сама наша действительность. Несмотря, однако же, на отсутствие захватывающих дух подробностей и украшений, новое произведение гр. Л. Толстого читается с интересом, неудержимо влекущим вас к продолжению, которое ожидается с нетерпением»6.
Февральская книжка «Русского вестника» за 1875 год, где были помещены следующие главы «Анны Карениной», кончая объяснением Анны с мужем после вечера у княгини Бетси, вызвали сочувственные статьи тех же критиков В. В. Чуйко и Вс. С. Соловьева. В. В. Чуйко писал:
«Граф Л. Н. Толстой — крайний реалист, в самом широком и точном значении этого слова, оттого-то идеализация в ту или другую сторону не встречается в его произведениях; он враг всего напускного, всего искусственного, всякой фальши, и поэтому, хотя картины, представляемые им, и не составляют простой фотографии, но зато рисуют жизнь во всей ее суровой, а иногда и горькой правде, без всякой задней мысли украсить одно явление в ущерб другому или представить в невыгодном свете факт, который лично, может быть, ему и не нравится. Эта черта особенно ярко проглядывает в „Войне и мире“, где граф Л. Н. Толстой поставил себе задачей уяснить полнейшую непригодность высших классов общества помочь великому народному
374
бедствию 1812 года. Вообще граф Л. Н. Толстой особенно любит снимать с людей и явлений все эффектное, все картинно-величавое, и чаще всего изучает людей и жизнь с ироническою улыбкой. Такая ирония проглядывает в „Войне и мире“; такую же беспощадную и едкую иронию можно видеть и в „Анне Карениной“ по отношению к тому же высшему обществу, которое, кажется, составляет главный предмет романа...
...Наше светское общество он [граф Л. Н. Толстой] знает, конечно, не понаслышке и не из лакейской, как большинство наших великосветских беллетристов. Он долго изучал его и наблюдал и пришел к тому отрицательному выводу, который проскальзывает на каждой странице „Войны и мира“ и который так резко и откровенно выражен в „Анне Карениной“. Автор изучает это общество подробно и точно, останавливаясь на каждой мелкой черте, неумолимо разоблачая все непривлекательные стороны этого общества, рисуя людей такими, какими они есть, а не такими, какими они могут казаться, прикрываемые блеском туалета и заученных фраз...
В таком тоне тянется описание великосветского вечера на нескольких страницах без малейшей натяжки, и, несмотря на бессодержательность темы, на пустоту этих личных разговоров, на отсутствие всякой самостоятельности в этом обществе, рабски подражающем французской бонтонности, интерес все больше и больше увеличивается, а увеличивается он оттого, что гр. Л. Н. Толстой и тут, как и везде, отыскивает психический материал для изучения, и в тоне его слышится сдержанная ирония постороннего, но не безучастного наблюдателя. С этой точки зрения в романе графа Л. Н. Толстого все необыкновенно интересно — описывает ли он путешествие по железной дороге, рассказывает ли сцену в грязной гостинице или великосветский вечер, изучает ли он с проницательностью психолога зарождающееся и развивающееся чувство любви в героине, или же наблюдает в ее муже странный психический поворот от полного безучастия к ревности...
Такой избыток художественной правды — верх искусства; так глубоко заглядывать в тайники души человеческой, кроме графа Л. Н. Толстого, умеют немногие художники, и во всяком случае в русской литературе нет такого другого художника и психолога»7.
Всеволод Соловьев свою статью о продолжении «Анны Карениной», напечатанном в февральской книжке «Русского вестника» 1875 года, начинает следующими словами:
«Эти новые прочитанные нами главы прекрасны бесспорно — да оно иначе и быть не может. „Анна Каренина“, как бы и чем
375
бы ни закончил автор, во всяком случае, выйдет замечательным, первоклассным романом, и в нем бесспорно найдется не мало страниц, которые навсегда сохранятся в памяти читателя».
Дальнейшую часть статьи Соловьев посвятил преимущественно образу Анны, к которому относится скептически.
«Героиню романа, красавицу Анну, — писал критик, — мы оставили в 1 № „Русского вестника“ очень бледной фигурой и недоумевали, что из нее выйдет. Теперь из нее вышла очень неинтересная женщина, без особенного ума, без особенной доброты, без злобы, даже без той стихийной силы и страсти, которые в своих ярких, горячих порывах могут быть так невольно привлекательны, что им прощаешь многое. Мы еще боимся решиться на окончательный приговор относительно Анны; быть может, в моменты дальнейшего развития драмы, она выкажет какие-нибудь новые стороны свого характера, которые оправдают автора, давшего ей первое место в романе; но покуда, повторяем, она очень не интересна; все остальные женщины, поставленные на второй план, гораздо интереснее».
Главы, в которых описываются мысли и чувства Каренина по возвращении с вечера у княгини Бетси, по мнению автора, «составляют замечательные, художественные страницы. Превосходна тоже сцена объяснения его с женою, да и, кроме того, она очень важна для характеристики Анны...
Объяснение было кончено. Анна была очень рада — ей свободно можно было думать о Вронском, а подумав о муже, она прошептала с улыбкой: «поздно, поздно, уж поздно». Это замечательная и глубоко художественная драматическая сцена; это сцена, дух захватывающая по глубине, правде и чувству. Но какой жалкой и пошлой, дрянной женщиной глядит из нее Анна. Поэтому-то еще страннее кажется следующая сцена, в которой автор желает опоэтизировать падение той же Анны...
Разумеется, все Анны Каренины будут очень благодарны автору за эту красивую сцену; но мы осмеливаемся быть недовольными ею. Она могла бы быть верной психологически, если б на месте Анны была молоденькая, увлекающаяся девушка, женщина, наконец; но, во всяком случае, не такая женщина, какою мы видели Анну Каренину в ее объяснении с мужем. По нашему мнению, вряд ли такая Анна Каренина стала бы находить... «ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этой страшною ценою стыда», чувствовать себя «раздавленною стыдом», и т. д. Да и сам автор должен был упомянуть о «чувстве радости», о том чувстве, «которое она не хотела опошливать словами»...
Мы не ожидали, что придется указывать страницы романа графа Л. Толстого не для одного восторга и восхваления их. Мы не думали, что чтение его романа доставит нам не одно только наслаждение. Но все же наслаждения слишком достаточно,
376
и „Анна Каренина“ остается до сих пор замечательным и высокоталантливым произведением»8.
Мартовская книжка «Русского вестника», где было напечатано продолжение «Анны Карениной», кончая признанием Анны мужу о своих отношениях с Вронским, вызвала статьи тех же критиков — Чуйко и Вс. Соловьева.
В. В. Чуйко посвятил свою статью, главным образом, ответам на различные неодобрительные отзывы о романе Толстого. Тем, кто осуждал Толстого за избрание великосветского общества той средой, где происходит действие романа, Чуйко отвечал: граф Толстой «далеко не увлекается великосветским обществом и иногда, хотя очень редко и как бы вскользь, описывает его такими чертами, которые могут вызвать на лице только краску стыда».
Тем, кто высказывал недовольство образом Анны, критик возражал:
«Именно в характере Анны Карениной граф Л. Н. Толстой обнаружил необыкновенный талант тонкого и живого наблюдения. Психологический закон, так ловко подмеченный автором, находит свое приложение преимущественно в той среде, к которой принадлежит Анна по происхождению, воспитанию и привычкам».
«Пора, наконец, понять, — писал критик в заключение своей статьи, — что граф Л. Н. Толстой — художник, не идущий по рутинной дорожке, а ищущий в искусстве новых путей и новых точек зрения. Он не рутинный копиист, пользующийся готовыми приемами и принимающий на веру известные готовые выводы. Он по преимуществу живой наблюдатель, вводящий в свои почти научные исследования особенности своей натуры и склада своего ума. Реалист по натуре и фаталист по общему миросозерцанию, он под этим двойным углом зрения смотрит на психический механизм человека»9.
Более сдержанно Вс. С. Соловьев отозвался о главах романа Толстого, помещенных в мартовской книжке «Русского вестника». О падении Вронского на скачках автор говорит:
«Этот рассказ о величайшем несчастии в жизни Вронского с художественной стороны безукоризнен, как и все описание скачек. Но виноват ли читатель, если Вронские и все их несчастия под конец становятся ему просто невыносимо скучны?! Это верное, художественное описание действительности! — прекрасно и совершенно справедливо; но дело в том, что читатель поджидает от таланта графа Толстого описания другой действительности, на которую подавали большую надежду первые главы романа. В этих прекрасных главах, в доме Облонского, являлась
377
действительно близкая читателю жизненная правда, та правда, над которой остановиться и разобрать которую стоило. В этих главах мелькнули лица, настоятельно требующие внимания и в настоящее время более чем когда-либо просящиеся под перо талантливого писателя... Там были: брат Левина и его любовница, едва очерченная, но уже запросившая себе право гражданства на вполне законном основании»10.
Кроме указанных, и некоторые другие критики посвятили сочувственные статьи первым двум частям к началу третьей части романа Толстого. Так, критик газеты «Новости» писал:
«Стоит только вникнуть в каждую из сцен нового романа, чтобы видеть всю силу таланта автора. Каждая глава представляет собою как бы законченное художественное произведение. Этот роман напоминает мне большие картины, истинно талантливые, в которых, несмотря на множество групп, каждое лицо отдельной группы воспроизведено с замечательною художественностью. Отдельные описания дышат правдою, нигде нет натяжки, словно вы все перед собою живьем видите. Описывает гр. Толстой деревню, общество или кружки, и вы точно жили в этой деревне, вращались в том обществе и имели интересы, общие с кружком...
Такую полную картину душевного настроения и душевной борьбы может передать только громадный талант. Каждая строчка дышит правдой, каждое движение души вы как будто сами испытываете, и вот чем велик гр. Толстой как романист-психолог... „Анна Каренина“ по силе своей должна занимать одно из высших мест в литературе.
...Разобрать этот роман дело совсем не такое легкое и несложное. Сложность его главным образом проистекает оттого, что почти над каждою сценою приходится остановиться, что нельзя передать эти сцены в сжатом виде (как это можно сделать с громадным большинством новейших произведений). От такой передачи может только пострадать роман, в котором каждое лицо, каждое душевное движение, каждая картина воспроизведены с такою гениальностию, что невольно остановишься над ними и долго, долго ими любуешься»11.
III
Одновременно с отзывами критиков, в основном верно понимавших авторский замысел, в периодической печати появились статьи, искаженно передававшие содержание романа и миросозерцание Толстого. Это были статьи критиков консервативного направления, нашедших в романе Толстого то, чего в нем нет:
378
восхваление дворянства и аристократии и аристократического уклада жизни. Наиболее заметный критик этого направления В. Г. Авсеенко в своей первой статье об «Анне Карениной», восторгаясь «чудным» талантом Толстого, признавая, что он «остается неизменно на почве реальности, не идеализирует русской действительности, не подкрашивает ее», вместе с тем превозносил ту великосветскую среду, в которой происходит действие «Анны Карениной». Он писал:
«Среди беспорядочно смешавшегося общества еще есть люди, сохранившие привычки и стремления к чему-то лучшему... Еще существуют люди, у которых изящество жизни не считается развратом, культурные формы общежития не рассматриваются как продукт крепостного права, красота и свежесть производят впечатление... Отличительная черта таланта гр. Л. Толстого... заключается именно в том, что он умеет находить этих людей, сохраняющих среди новых общественных наслоений лучшие предания старого культурного общества... Автор „Войны и мира“ умеет над пониженным уровнем современной действительности отыскать разреженный верхний слой, живущий чисто человеческими интересами, доступный благородным чувствам и романтическим порываниям. Оттого романы и повести гр. Л. Толстого, независимо от его чарующего таланта, производят такое освежающее, можно сказать, облагораживающее впечатление».
В другой статье об «Анне Карениной» тот же критик писал:
«Основной смысл этого романа в стремлении уйти от всех явлений современной действительности, которые Герцен назвал в их совокупности „мещанством“. Среди всеобщей потребности слиться с безличною массой, жить ее повседневными практическими интересами, автор отыскивает уголок современного общества, живущий как бы отдельною жизнью, полною преданий той эпохи, когда „мещанство“ еще не стучалось в каждую дверь. Эта обособившаяся жизнь, чуждая интересов и волнений толпы, кажется большинству современных читателей совершенно бессодержательною и пошлою. На самом деле она, конечно, не такова... Вся прелесть жизни сводится к сохранению ее прежних очарований, к поддержанию живучести преданий»12.
То же самое писал Авсеенко в статье об «Анне Карениной», напечатанной в том самом журнале, где появился роман.
«В этом складе жизни, которым живут три московские дворянские семьи — князей Щербацких, Облонских и Левиных, очевидно, сохраняется не один только внешний декорум, но и нечто иное — сохраняются известные предания, известный уровень цивилизованных нравов, уважение к известным принципам и в особенности чрезвычайное уважение к человеческой личности.
379
В этом складе жизни чувствуется некоторая наследственность культуры, чего вообще недостает нашему обществу»13.
В том же 1875 году Авсеенко напечатал в «Русском вестнике» роман «Млечный путь», в котором Н. Н. Страхов увидел «явное подражание „Анне Карениной“». «Из него Вы можете видеть, — писал Страхов Толстому 16 декабря 1875 года, — как понимает Вас Авсеенко. Редко я читал что-нибудь с таким негодованием и отвращением. Я даже никогда не думал, что он так глуп, как оказалось. Он сочиняет — не описывает, а сочиняет — большой свет с такой сластью, с таким животным смаком рассказывает любовные похождения, что, очевидно, понял Вас совершенно навыворот. И вот что он разумел под „культурой“ и „культурными интересами“!»14. В другом письме, от 5 февраля 1876 года, Страхов писал: «Вам подражают, не понимая Вас; взгляд слишком высок, мысль почти недоступна для большинства — и Вам подражают только с внешней стороны — и очень меня сердят. У Авсеенко есть уже описание прелюбодеяния — посмотрите, как он Вас поправил!»15.
IV
Некоторые критики, весьма расположенные к Толстому, хотя и не разделяли точки зрения «Русского вестника» на «Анну Каренину», тем не менее были смущены тем, что Толстой, проявивший себя в педагогических статьях таким последовательным демократом и врагом аристократизма, в «Анне Карениной» выбрал предметом своего изображения аристократическое общество с его пустотой и легкомыслием.
Так, известный теоретик народничества Н. К. Михайловский в своих воспоминаниях, написанных в 1891 году, рассказывает, как в год появления «Анны Карениной» он, готовясь выступить в «Отечественных записках» в защиту статьи Толстого «О народном образовании», принялся за изучение четвертого тома его сочинений, содержащего педагогические статьи. «Изучив четвертый том сочинений графа Толстого, — писал Михайловский, — на который я прежде вместе с большинством читателей обращал очень мало внимания, я был поражен смелостью, широтой, искренностью взглядов автора, весьма далеких от элементарной педагогической техники. Для меня это было целое открытие, и легко было убедиться, что не для одного меня... Весь четвертый том проникнут таким бурным и глубоким демократизмом, таким „культом народа“..., что упомянутые восторги
380
критики [„Русского вестника“] можно было объяснить только незнакомством с подлинными взглядами графа Толстого».
Но вот появилась «Анна Каренина», в которой Михайловского поразил факт «чрезвычайного интереса к благоуханным и блестящим сферам. Этот Вронский, центавр какой-то, в котором не разберешь, где кончается превосходный кровный жеребец и где начинается человек, „доступный благородным чувствам и романтическим порываниям“ [цитата из статьи В. Авсеенко]; этот Облонский, легкомыслие которого заслуживало бы не таких мягких, милых, добродушных красок, и т. д.», — все это, по мнению Михайловского, как-то не шло «к автору четвертого тома». «Судя по некоторым его резкостям по адресу благоуханных и блестящих сфер, можно бы было ожидать или столь полного презрения к этому миру, что и разговаривать о нем не стоит, или же явственно и резко сатирических нот»16.
То же самое в том же 1875 году писал А. С. Суворин (в то время либерал). Упомянув о «народных воззрениях», проводником которых выступал Толстой и в педагогических статьях и в «Войне и мире», Суворин далее писал: «Но если так важны для него народные воззрения, простые и неиспорченные, откуда у него эта любовь к великосветской жизни, эти обольстительные, развращающие воображение краски для живописи пошлых великосветских типов, дрянных в нравственном смысле подробностей, ненужного блеска, чванства, блонд, кружев, обнаженных плеч с их «холодной мраморностью»?... Он продолжает в новом своем романе «Анна Каренина» вертеться все в том же «тюлево-ленто-кружевном» кругу, где «обыкновенно говорят всякий вздор» и все около одного и того же предмета — любви, как будто никаких других интересов в современном обществе нет. И все те же тонкие, нежные, обольстительные краски, которые ослепляют читателя и, конечно, не способствуют ему возвыситься до простоты, природы, чистоты нравов и т. п.»17.
Таким образом, ни Михайловский, ни Суворин совершенно не заметили подлинного, резко отрицательного отношения Толстого к тому аристократическому обществу, которое он изображал. Правда, в первых частях романа это отрицательное отношение еще не было выражено так резко, как в дальнейших; однако уже в то время критик «Голоса» В. В. Чуйко, как сказано выше, возражал сторонникам взглядов Михайловского и Суворина.
Кроме того, и у Михайловского и у Суворина, как и у других критиков, поражает полное непонимание основной идеи «Анны Карениной». У Михайловского это непонимание доходило даже
381
до того, что он уверял, будто бы «история Константина Левина» «насильственно вставлена в историю Анны Карениной»18.
Некоторые провинциальные газеты упрекали Толстого в том же, в чем упрекали его Михайловский и Суворин. Так, газета «Одесский вестник» писала:
«Читая графа Толстого, удивляешься, как этот могучий, оригинальный и весьма симпатичный талант не может подняться хоть сколько-нибудь выше ординарного и намозолившего нам глаза уровня психологических наблюдений, как этот талант не может выбиться из узкой колеи, из тесных рамок этих наблюдений рутинных „страстей и побуждений“ великосветского мирка»19.
На все упреки в пристрастии к аристократизму Толстой ответил в письме к Страхову 23 апреля 1876 года: «И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной20, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою для выражения себя...»21.
V
По поводу критических статей об «Анне Карениной», появившихся в 1875 году, В. В. Чуйко писал в одной из упоминавшихся выше статей:
«Мне кажется, что по отношению к графу Л. Н. Толстому обнаружилась крайняя несостоятельность эстетического образования русского общества и что требования этого общества сами по себе не выдерживают даже самой снисходительной критики. Наша лепечущая критика повторяла колебания общественного мнения и представляет в своих отзывах ряд противоречий и нелепых заключений по отношению к „Анне Карениной“. Одни недовольны тем, что „Анна Каренина“ не „Война и мир“; другие — что в романе нет достаточно славянофильских тенденций; третьи — что автор оказался слишком „почвенник“ и славянофил; четвертые, наконец, самые назойливые и в то же время самые смешные, просто утверждают, что „Анна Каренина“ ниже всякой критики, и что в этом произведении, кроме сальности и безобразия, ничего нет, и глубокомысленно объясняют это упадком самого общества»22.
Под «назойливыми и самыми смешными критиками» Чуйко разумел, во-первых, бланкиста П. Н. Ткачева, поместившего
382
статью об «Анне Карениной» в журнале «Дело», и, во-вторых, либерального критика А. М. Скабичевского, сотрудника «Отечественных записок», поместившего три фельетона об «Анне Карениной» в газете «Биржевые ведомости».
Журнал «Дело» в 1870-х годах являлся органом демократической интеллигенции; он боролся, насколько позволяли цензурные условия, против самодержавно-бюрократического деспотизма и против эксплуататорского общественного строя. «Дело», по словам Страхова в одном из его писем к Толстому, было наиболее читаемым журналом того времени. Но содержание и форма романа Толстого были настолько необычны, что они остались непонятными критику «Дела».
В начале своей статьи об «Анне Карениной», озаглавленной «Критический фельетон», Ткачев писал:
«Если роман понимать как бесцельную, хотя и занимательную сказку, в которой блестящая форма наполнена содержанием личных эстетических вожделений автора, то появление подобных произведений действительно служит знамением нравственного упадка. Роман «Анна Каренина», несмотря на все восхваления его, кажется, именно принадлежит к числу подобных произведений, и его прославленный автор относится именно к числу художников, способствующих понижению нравственного уровня в обществе.
В нашей критике и отчасти в публике о графе Толстом утвердилось весьма благоприятное мнение. Граф Толстой признается одним из крупных талантов в русской литературе, едва ли не самым крупным после Пушкина и Гоголя. Это совершенно справедливо: большой художественный талант автора «Анны Карениной» никто не отрицает, и об этом не может быть ни малейшего спора».
«В первых произведениях графа Толстого: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика», «Севастопольские рассказы» и проч., — писал критик, — проводится мысль о превосходстве реальных и простых, здоровых и естественных личностей, стремлений, чувств и отношений над такими, которые исходят из источников эгоистического идеализма, которые, несмотря на внешний блеск и внешние признаки силы, в сущности основаны на деморализации личности и общества, в сущности малосодержательны и мелки. Сочувственная рисовка героев, служащих представителями сил народной среды, и отрицательный анализ, если так можно выразиться, нравственной хлыщеватости интеллигенции — вот содержание первых произведений графа Толстого». Но «миросозерцание графа Толстого в пресловутой хронике «Война и мир» и новейшей эпопее барских амуров «Анне Карениной» дошло до узкого художественного теоретизма».
«...Его новейшее произведение, при обычном блеске и совершенстве художественной формы, отличается такой невероятной,
383
можно даже сказать, такой скандальной пустотой содержания.
...Творец «Анны Карениной», по своей художественно-философской теории не видящий никакого интереса в общих явлениях жизни, выходящих за пределы половых, личных и семейных отношений, только этими последними и питает свое творчество, ибо они одни, по его мнению, есть начальная и конечная цель существования. Он считает призрачным вздором всякие так называемые «веяния» времени, всю борьбу постулательного хода жизни с задерживающими этот ход влияниями, — одним словом, все, что составляет внутреннее содержание жизни. Поэтому для него и для его творчества не существует героев времени, т. е. выразителей отрицательных или положительных стремлений жизни в данную эпоху... Мистическое миросозерцание графа Толстого понимает дело таким образом, что цель жизни, как отдельных личностей, так и целого общества, заключается вовсе не в умственном, моральном и гражданском развитии, а единственно в половых и семейных отношениях. Только эти отношения реальны, только они и составляют естественную «правду» жизни: все остальное призрачная, поверхностная ложь, служащая едва ли не тормозом для человеческого счастья и благополучия.
...Все герои романа, все эти Левины, Вронские, Облонские, Анны Каренины, Долли, Кити — обеспеченные материальным довольством субъекты, для которых вследствие склада их воспитания, а также довольно ограниченного нравственного и умственного развития главная и существенная «злоба дня» заключается в их половых отношениях, влечениях и интересах, в горе и радостях, связанных с этими интересами.
...Автор, несмотря на видимую пустоту и бессодержательность этих лиц, их жизни, стремлений, обстановки, входит в самое тщательное изображение всего этого, и в его изображении нигде не чувствуется, чтобы он утомлялся таким, довольно бесплодным делом, чтобы он относился к внутреннему строю этих героев и внешним ее формам отрицательно: его художественный объективизм ни мало не смущается самою пошлою пошлостью и самою пустейшею пустотою изображаемого им обеспеченного мира.
...В двух частях «Анны Карениной» автор дает то, что указано, и ничего более. Нет, виноват, дает кое-что: именно бездну художественного дарования. Но о художественном даровании графа Толстого на этот раз нечего говорить: оно всем известно и признано давно, во-первых; а во-вторых, стоит ли говорить о великом художестве, если оно потрачено в изобилии на совершенно вздорное и даже, если хотите, растленное содержание?»23.
384
Статья Ткачева вызвала остроумную заметку в «Московских ведомостях», озаглавленную «Литературная кунсткамера». Автор, скрывшийся под псевдонимом «Странник», писал:
«Роман графа Толстого отличается чрезвычайным богатством внутреннего содержания; при не слишком большой сложности интриги — удивительным кипением, так сказать, жизни, пульс которой бьется на каждой странице, — «Дело» говорит, что «Анна Каренина» «отличается невероятною, можно даже сказать, скандальною пустотою содержания». Роман графа Толстого изобилует образами, нарисованными так мастерски и притом с таким умением воплотить их во всей их человечности, со всеми оттенками и кажущимися противоречиями их характера, что читатель никогда их не забудет, — «Дело» говорит о них: «бессодержательные образы бессодержательного существования». В романе графа Толстого целый ряд сцен глубокого нравственного смысла и потрясающего психологического интереса, — «Дело» или проходит их молчанием, или подсмеивается над их «трагизмом», или трактует их цинически»24.
Еще более резко писал о статье Ткачева секретарь газеты «Гражданин» А. У. Порецкий. В анонимной заметке он называл эту статью «злой, грубой и безобразной бессмыслицей». «Автора фельетона, — писал Порецкий, — я не могу себе представить иначе, как в виде человека, только что выскочившего из топкого болота... и махающего головой и руками, разбрасывая вынесенное им добро на всех окружающих... Он пачкает грязью чистое и изящное литературное произведение, которого совсем не понимает, вероятно, по неимению в высших отправлениях его организма ничего, кроме рефлексов головного мозга. Он позволил себе говорить о романе «Анна Каренина», и что́ говорить, и как, и в какой форме!»25.
А. М. Скабичевский в первой своей статье, называя «Войну и мир» таким произведением, которое «остается вековечным памятником русской литературы наравне с «Евгением Онегиным» и «Мертвыми душами»», «Анну Каренину» признавал «самым заурядным романом из великосветской жизни», обнаруживающим «оскудение таланта» Толстого.
Две другие статьи Скабичевского об «Анне Карениной» написаны явно под влиянием мнения Салтыкова о романе, высказанного Салтыковым в письме к Анненкову от 21 марта 1875 года26. Скабичевский решил довести мнение Салтыкова до самых крайних пределов и напечатал об «Анне Карениной» статьи, поражающие цинизмом и грубейшим извращением смысла романа.
385
«При чтении второй части романа, — писал Скабичевский, — в связи, конечно, с первою, вы начинаете все более и более ощущать тот букет, которым проникнут роман и который составляет все его, так сказать, философское содержание... Это тот своеобразный запах, какой вы ощущаете, войдя в детскую, — идиллический аромат детских пеленок... Автор тогда только и одушевляется, тогда только и доходит до поэтического пафоса, когда начинает повествовать вам о том, как моют и няньчат ребят, как хозяйки заказывают кушанья и бренчат ключами, как мужья, в халате и шлепая туфлями, отправляются в спальню, где ложатся с женами на двухспальную кровать и беседуют с ними на сон грядущий».
По поводу главы, изображающей душевное состояние Анны и Вронского после первого сближения, Скабичевский писал: «Эта мелодраматическая дребедень, в духе старых французских романов, расточается по поводу заурядных амуров великосветского хлыща и петербургской чиновницы, любительницы эксельбантов... Вот оно где полное начало-то конца, совершенная какая-то литературная ростепель!»27.
Третья статья Скабичевского об «Анне Карениной», написанная по поводу третьей части романа, еще грубее и циничнее, чем вторая. Здесь Скабичевский писал:
«Уже первая часть романа возбудила некоторое разочарование и немалое недоумение: неужели это роман того самого графа Толстого, который написал «Войну и мир»? Вторая часть не имеет ни одной страницы, которая выкупала бы недостатки целого и напоминала бы нам прежнего Льва Толстого. Но третья часть вызвала во всех уже не одно недовольство, а положительно омерзение.
Искусство имеет право изображать все, что ему угодно. Но дело только в том, что во все, что оно изображает, оно должно вносить человеческую мысль...
Все те явления жизни, которые изображает граф Толстой в своем романе, по большей части принадлежат к чувственным элементам человеческой природы, и так как изображения эти не одухотворены никакою мыслью, или если и проглядывает кое-где какая-нибудь мысль, то слишком мелкая и вялая, чтобы увлечь и занять вас, — то все подобного рода явления и возбуждают в вас одно омерзение».
Описание обеда в гостинице «ничтожного и не возбуждающего в вас ни малейшей симпатии и участия Левина» с «еще более ничтожнейшим и несимпатичным Степаном Аркадьевичем» вызывает «одно омерзение сластолюбивой сцены».
«Но верх омерзения представляет изображение любви Анны
386
Карениной и Вронского. Граф Толстой возводит Анну Каренину и Вронского на ходули героизма; их плотоядную похотливость представляет в виде какой-то колоссальной роковой страсти».
Когда «вы видите одну голую, ничем не одухотворенную и не осмысленную чувственность, — вы выносите одно омерзение, и омерзение не к фактам романа, а к самому произведению, так как писатель в ваших глазах нисколько не возвышается над тем миром, который изображает»28.
VI
В 1876 году число критических статей об «Анне Карениной» в периодической печати значительно уменьшается и самые статьи становятся короче.
Разумеется, «Анна Каренина» была упомянута в обзорных статьях о русской литературе за 1875 год. Таких статей появилось четыре.
Поэт П. И. Вейнберг в обзоре «всего беллетристического творчества 1875 года» начал критические замечания по поводу «Анны Карениной» следующими словами: «Граф Л. Н. Толстой, которого смело можно назвать первоклассным художником, дал роман, составляющий наиболее выдающееся явление беллетристики предыдущего года... «Анна Каренина» стоит, правда, значительно ниже другого капитального произведения того же автора («Войны и мира»), но крупные недостатки этого романа, заключающиеся пока в крайней бесцветности и смутности образа самой героини, в пустоте, мизерности фундамента, на котором построена так называемая драматическая коллизия произведения, в том несчастном переплетении узкой тенденциозности... и в некоторых других менее значительных упущениях и несовершенствах, — эти недостатки почти уравновешиваются необыкновенною, свойственною только истинно первоклассным дарованиям, художественностью подробностей — художественностью, которая, выражаясь высоким слогом, составляет драгоценный вклад в сокровищницу литературы, особенно в такое время, когда наша критика старается все более и более отодвигать на задний план эстетические, в истинном смысле этого слова, достоинства данного произведения. В этом отношении за графом Толстым остается громадная заслуга, — и отворачиваться чуть ли не презрительно (как это делала часть нашей критики) от этого нового романа в силу того якобы обстоятельства, что он пропитан равнодушием к живых вопросам времени, крайне несправедливо, — во-первых, уже потому, что это последнее обвинение — сущая неправда (дело здесь только в способе
387
отношения к этим вопросам, в так называемом штанд-пункте), а, во-вторых, потому, что невозможно навязывать художнику такие требования, предъявлять ему такие условия, которые не лежат в самом свойстве, самой натуре его дарования. «Анна Каренина» во всяком случае крупное явление для тех, которые хотят и умеют проводить строгую границу между истинно художественным произведением и публицистическим трактатом»29.
Другой обозреватель, Н. Соловьев, в нескольких строках, посвященных «Анне Карениной», не нашел нужным даже упоминать о критиках, «презрительно отворачивающихся от романа Толстого». Он писал: «Самое большое внимание со стороны читающей публики обратил на себя в минувшем году журнал г. Каткова «Русский вестник», в первых четырех книжках которого появилось начало прекрасного поэтического романа графа Л. Толстого «Анна Каренина». Роман этот был единодушно приветствуем критикой различных лагерей и был с жадностью читаем всей грамотною Россией»30.
В январской книжке «Русского вестника» за 1876 год появилось «Литературное обозрение» В. Г. Авсеенко, который на этот раз не выражал своего преклонения перед аристократизмом и аристократическим образом жизни (за это преклонение ему порядочно досталось от либеральной и народнической критики), а говорил только о художественной стороне «Анны Карениной».
В самом начале своей статьи Авсеенко писал: «Вопреки более или менее неосновательным возражениям, какие возбудил этот роман в публике (о печатных толках не говорим, потому что нашей критике при ее нынешнем состоянии не следовало бы даже дерзать толковать о подобном художественном создании), давно уже ни одно литературное явление не возбуждало такого живого и, можно сказать, ненасытного интереса. В настоящее время «Анна Каренина» обошла уже все грамотную Россию, и нелегко встретить человека, претендующего на образованность, который не прочел бы ее. Впечатление уже сложилось и, как кажется, единодушное.
Все увлечены несравненным художественным талантом автора, все почувствовали несказанную прелесть рассказа, все, по мере эстетической способности каждого, насладились чудным богатством красок, ярких и мягких в одно и то же время, раздражающих глаз своим богатым разнообразием и погружающих душу в созерцательное спокойствие благодаря тайному искусству, с каким автор умел примирить эту радужную, праздничную пестроту в единстве общего тона. Громадный художественный талант — это та сила, с помощью которой граф Толстой
388
подавлял все возражения, возникающие при чтении его романа. Мысль сохраняет их, но из впечатления они изглаживаются; читатель увлекается вкрадчивою, изящно раздражающею прелестью рассказа, он не может бороться против одолевающей его потребности отдаться свободному и широкому стремлению художника и с наслаждением вступает вместе с ним в это поэтическое море, где сквозь молочный туман сверкают озаренные, приближающиеся очертания... Против чарующей и подымающей силы этого впечатления мысль бессильна устоять. Временами она как будто чувствует какое-то неудовлетворение, она как будто хочет заглянуть куда-то через голову выведенных автором лиц, испытывает что-то похожее на недоверие к нравственному исходу, обретаемому Константином Левиным в его сельскохозяйственной идиллии, но краски, образы, подкупающее очарование рассказа держат в плену воображение и чувство. Способность рассказывать у графа Толстого так велика, что для эстетически восприимчивого читателя становится, наконец, все равно, о чем он рассказывает. Вопросы о внутреннем содержании, о соразмерности плана, о стройности концепции, об экономии подробностей, — все это как-то само собою исчезает, как скоро отдаешься свободному, неправильному, часто весьма капризному течению романа».
«У графа Толстого, — писал далее Авсеенко, — вся сила там, где свободно творит художническое своеволие. Самым свежим впечатлением веет у него от тех страниц, где он не только не хочет высказать какую-нибудь определенную мысль, какое-нибудь хотя бы глубоко верное или смело парадоксальное воззрение, но где даже ему удается скрыть свои симпатии к действующему лицу...»
«Где же тайна этого громадного впечатления, производимого художественным созданием автора «Войны и мира»?» — спрашивает критик и следующим образом отвечает на этот вопрос:
«Мы, конечно, не ошибемся, если скажем, что важнее всего необыкновенное богатство оттенков, которыми граф Толстой рисует развитие чувства. Живопись чувства справедливо считается достоянием только больших художественных талантов... Богатство беспрерывно варьируемых оттенков, строгая обдуманность каждого эпитета, способность доработаться до составных элементов каждого образа, каждого тона и полутона — вот где главная техническая тайна того творчества, какое видим в созданиях графа Толстого»31.
Авсеенко, следовательно, видел какие-то недостатки «во внутреннем содержании» «Анны Карениной», в несоразмерности плана, в недостаточно строгой композиции, в излишестве подробностей,
389
но он не только не указал конкретно, где, в каких главах романа находил он эти недостатки и в чем именно они состояли, но он в своей статье совсем не остановился на этих недостатках, которые, по его словам, проходят не замеченными читателем.
Две газеты — «Московские ведомости» и «Русский мир» — напечатали изложение обзора русской литературы за 1875 год, опубликованного в журнале «Athenaeum» за подписью американского консула Евгения Скайлера, посетившего Толстого в 1868 году.
«На первом месте в изящной словесности, — писали газеты (изложение в обеих газетах дословно совпадает), — поставлен, разумеется, роман графа Л. Н. Толстого „Анна Каренина“».
«Великое достоинство графа Толстого, по мнению Скайлера, заключается в силе нравственного анализа. Он показывает нам, как каждое лицо представляет собою смешение добра и зла, как даже в преступном есть искры добродетели, и как у самого добродетельного человека являются порой самые преступные мысли».
«Аналитическая манера автора, продолжает Скайлер, превосходна. Читатель следует за автором или, вернее, видит вместе с ним; он незаметно и непринужденно сочувствует действующим лицам и понимает их. Читатель не утомляется рассуждениями, замечаниями и личными суждениями автора, а равно ему не приходится утомлять свой ум, как то приходится нередко при чтении обычных писательских недомолвок и разрозненных мыслей. Чтение, понимание и симпатии постоянно неразрывны. Если даже роман останется неоконченным, или если конец его будет недостоин начала, все же «Анна Каренина» останется великим произведением»32.
Продолжение «Анны Карениной» в январской книжке «Русского вестника» 1876 года вызвало новую статью Суворина. Статья начиналась словами:
«Давно ожидаемое публикою продолжение романа графа Толстого «Анна Каренина» явилось, наконец, в январской книжке «Русского вестника». Читая его, еще раз убеждаешься в справедливости высказанного большею частью критиков сожаления, что такой громадный талант тратится на такое ничтожное содержание, как изображение пустой жизни, вздорных понятий и мелких интересов.
Блестящие свойства таланта графа Толстого достаточно известны обществу. Самое же выдающееся из этих свойств, в чем именно и заключается тайна его гения, — это поразительное знание
390
процесса, которым идет жизнь чувства, и уменье рисовать до мельчайших подробностей все оттенки его, обусловливаемые возрастом, полом, общественным положением, образованием и проч. Произведения графа Толстого — это своего рода трактаты опытной психологии. Обратите, например, внимание на размышления Алексея Александровича, когда жена объявила ему о своих отношениях к Вронскому. С какой изумительной наглядностью изображена здесь внутренняя работа столкнувшихся разом разнообразных чувств и ощущений!»
Далее автор приводит цитату из романа об отношении Каренина к религии:
«...Религиозная санкция его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение. Ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с правилами той религии, которой знамя он всегда держал высоко среди общего охлаждения и равнодушия». Приведя эту цитату, критик замечает: «Какое знание человеческого сердца! Как хорошо выражена склонность человека подгонять требования религии и нравственного долга к эгоистическим интересам и решениям!»
«Или возьмите, например, — писал далее Суворин, — сцену свидания Анны Карениной с Вронским, когда она объявляет ему, что рассказала мужу все. Какой тонкий анализ мелких быстро меняющихся впечатлений и ощущений! За пятью-шестью словами, сказанными действующими лицами, в едва уловимых для обыкновенного наблюдателя изменениях выражения их лиц вы легко усматриваете сложные психические процессы, из коих некоторые они желали бы скрыть и описание которых потребовало бы многих страниц. Приводить эту сцену и вообще знакомить читателя с содержанием продолжения романа или с лучшими его местами считаем излишним, так как редко можно встретить человека, который не следил бы за этим романом»33.
Всеволод Соловьев свою статью о продолжении «Анны Карениной» в январской книжке «Русского вестника» 1876 года начал такими словами:
«Со времени появления «Войны и мира» почти вся читающая Россия смотрит на гр. Толстого как на первого нашего писателя, — и неудивительно, что каждое его новое слово ожидается с волнением и встречается с восторгом».
Но далее Соловьев, переходя к критике «Анны Карениной», выражает согласие со статьей Авсеенко, указавшего справедливо, по его мнению, на некоторые недостатки романа. Так же как и Авсеенко, Соловьев не указывает, в каких главах романа
391
он увидал эти недостатки. Не ограничиваясь этим, Соловьев, со своей стороны, находит еще другие погрешности в «Анне Карениной». Во-первых, ему кажется «невозможным» и «безобразным» подозрение Анны, высказанное ею в объяснении с Карениным, будто бы Каренин требовал от нее продолжения супружеских отношений после того, как она объявила ему о своей связи с Вронским. По мнению критика, Анна «должна была знать, что он [Каренин], как порядочно воспитанный человек, да и, наконец, просто как человек, в подобных обстоятельствах не может требовать противного всем нравственным понятиям человеческим. Никакой женщине, будь она Анна Каренина или кто угодно, в таком случае не придет даже в голову и мысль об этом».
Это замечание Соловьева можно объяснить, конечно, только недостаточным его пониманием отношения Анны к мужу и ее возбужденного состояния во время объяснения с ним.
Второй недостаток, который Соловьев увидел в романе, состоял в том, что ему — тоже совершенно без всяких оснований — казалось «неестественным» нежелание Левина видеться с Кити после того, как она отказала ему.
Этого малоталантливому критику было достаточно для того, чтобы согласиться с мнением Авсеенко, будто «несмотря на огромный талант графа Толстого, «Анна Каренина» как роман не выдерживает строгой критики»34.
В газете «Молва» появилась анонимная статья по поводу напечатанных в январской и февральской книжках «Русского вестника» за 1876 год последних глав третьей части и первых глав четвертой части «Анны Карениной».
Сцену примирения Каренина и Вронского у постели умирающей Анны, о которой с таким восхищением писал Толстому Фет и которой восторгался Достоевский, критик находил «преднамеренной». «Автору, — писал он, — захотелось рассечь этот психологический узел таким именно образом, и он не поцеремонился исказить правду. В таком произволе виден полумистический мыслитель, живший и живущий до сих пор в графе Л. Толстом». Критику не приходило в голову, что это только эпизод в мучительной драме Анны, Вронского и Каренина, что «рассечение психологического узла» последует гораздо позднее и совсем иным способом, а не путем примирения всех участников драмы.
Но автор с большим сочувствием отозвался о последних главах третьей части, посвященных Левину: «Тут опять граф Толстой выразил в беллетристических образах свои давнишние мысли; давнишнее направление своего анализа, живущее в нем
392
желание найти какой-нибудь здоровый исход в вопросе сближения с народом, в вопросе единения интересов культурного слоя и народной массы. Так же хорошо схвачен и первый наплыв ощущений смерти, представленный в нескольких образах, сгруппированных очень искусно»35.
На Левина обратил внимание и анонимный критик газеты «Гражданин».
«Мы не можем, — писал этот критик, — обойти молчанием замечательную типическую личность помещика Левина, вполне преданного рациональному устройству своего хозяйства и искренно любящего народ, но, несмотря на то, постоянно обрывающегося в своих гуманных и серьезно задуманных затеях... Личность помещика Левина выступает весьма рельефно в романе, и вообще должно заметить, что эта сторона в новом произведении графа Толстого привлекает к себе едва ли не большее внимание, чем главная интрига между Анной Карениной и Вронским»36.
В марте 1876 года была опубликована написанная, вероятно, в феврале-марте того же года следующая эпиграмма Некрасова, появившаяся под названием «Автору „Анны Карениной“»:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать37.
Высказывалось суждение, что эпиграмма была написана Некрасовым под влиянием враждебных отзывов об «Анне Карениной» в органах тогдашней радикальной интеллигенции; «этим и объясняется отрицательное и глубоко несправедливое отношение Некрасова к роману Толстого»38.
Это объяснение происхождения эпиграммы Некрасова вряд ли справедливо. Некрасов был горячим почитателем художественного таланта Толстого; конечно, он прочитал «Анну Каренину» и не нуждался ни в каких критиках, чтобы составить о романе свое мнение. Эпиграмма Некрасова в ироническом тоне и односторонне говорила о действительно присущей роману Толстого «семейной мысли»; но, во всяком случае, эпиграмма эта была гораздо менее несправедлива, чем разухабистые статьи об «Анне Карениной» Ткачева, Скабичевского и др.
393
VII
Критических статей об «Анне Карениной», появившихся в газетах и журналах разных направлений в 1877 году, было гораздо больше, чем статей 1876 года.
В газете «Голос» было напечатано четыре восторженных статьи критика, подписавшегося псевдонимом «W» (раскрыть этот псевдоним пока не удалось).
В первой статье, написанной по поводу глав «Анны Карениной», появившихся в декабрьской книжке «Русского вестника» за 1876 год, автор писал: «Последняя книжка «Русского вестника» дает нам всего 50 страниц текста «Анны Карениной» — но что за художественное сокровище эти страницы!.. По силе психического проникновения гр. Л. Толстому нет в настоящую минуту писателя равного ни в одной иностранной литературе, а в нашей подходит к нему разве только г. Достоевский». Но у Достоевского «душевный анализ отзывается всегда нервною, болезненною нотою»; у Толстого «всё на солнце, свет со всех сторон обливает его картины».
Автор отмечает, что в «Анне Карениной» «из довольно большого числа главных, второстепенных и эпизодических лиц не выведено ни одного дурного, в смысле злого или порочного». «Для графа Л. Толстого нет дурных людей, потому что сила его проникновения выворачивает перед ним наизнанку душу каждого, и он в этой душе находит те человеческие стороны, которые заставляют его любить каждого, на вид и дурного человека».
Нет также для Толстого и «неинтересных лиц». «Из каждого, хотя бы вконец затасканного типа он создает вам новый, живой и симпатичный образ».
Автор подробно рассказывает содержание опубликованных глав. Останавливаясь на личности Каренина, он сравнивает его с Сипягиным Тургенева и в художественном отношении отдает предпочтение Каренину, «этому, доведенному до полнейшей оконченности образу человека-чиновника».
«Глава, посвященная десятилетнему Сереже Каренину, — пишет далее критик, — принадлежит бесспорно к лучшим вдохновениям графа Л. Толстого». «Сцена свидания матери с сыном по своей античной простоте и правдивости едва ли имеет что-нибудь себе подобное во всей европейской литературе».
В заключение автор, говоря «о реализме в искусстве», замечает: «Новый Лессинг мог бы, несомненно, отыскать законы искомой эстетической теории, пригодной для наших дней, в художественных творениях гр. Л. Толстого, трезвых, жизненных и правдивых, как сама реальность жизни»39.
394
Свою вторую статью об «Анне Карениной», посвященную первым двенадцати главам шестой части романа, автор начинает с напоминания о том, как два года назад появление «Анны Карениной» «вызвало со стороны некоторых ветеранов нашего прогрессивного лагеря» неблагоприятные отзывы о романе, который они называли «никому не интересной историей барских амуров». Но теперь уже «публика с жадностью отдалась наслаждению, которое дает ей это превосходное произведение».
Передав содержание опубликованных глав, автор говорит: «Все это рассказано с тем удивительным мастерством простоты и правды, с тем добродушным юмором и прелестью подробностей как в изображениях природы, так и в передаче едва уловимых душевных движений, на какие способен только граф Л. Толстой во всей современной европейской литературе»40.
В третьей статье, написанной по поводу последних глав шестой части романа, автор подробно останавливается на поездке Долли к Анне. Встреча этих двух женщин, по мнению критика, изображена «с необыкновенным проникновением в мельчайшие подробности разнообразнейших ощущений человеческой души». По поводу их разговора о семейной жизни Анны автор замечает: «Граф Л. Толстой имеет редкую привилегию уметь касаться самых щекотливых реальностей без цинизма».
Главы, посвященные дворянским выборам, критик называет «мастерскими».
В заключение автор отмечает «необыкновенный, возрастающий с каждой новой книжкой «Русского вестника» успех романа»41.
Эту статью, а также одну или две предыдущие статьи того же автора Н. Н. Страхов, по совету В. В. Стасова, отправил Толстому, но Толстой сжег их не читая, опасаясь того «расстройства», какое может произвести в нем это чтение42.
Последнюю статью об «Анне Карениной», посвященную заключительным главам седьмой части романа, автор начинает словами:
«Я не буду передавать содержание этих удивительных страниц — просто потому, что оно непередаваемо. Событий здесь нет; весь интерес в том невообразимом мастерстве, с которым автор расстилает перед вами эту сеть многосторонних, разноречивых, тонких, как паутина, острых, как нож, порою чуть не ребяческих, всегда неумолимо ядовитых душевных ощущений, которые
395
роковыми нитями своими оплетают мысль и волю несчастной женщины и не оставляют ей иного выхода, как смерть»43.
Сочувственно отзывался об «Анне Карениной» в газете «Русский мир» в 1877 году критик, подписывавший свои статьи буквой W44, хотя консервативные взгляды и мешали ему до конца понять роман Толстого.
В статье по поводу последних глав пятой части романа критик говорил о месте «Анны Карениной» в русской литературе. По его мнению, роман Толстого относится к «категории неумирающих созданий русской литературы», таких, как «Евгений Онегин» и «Мертвые души». «Сменятся поколения, до неузнаваемости изменится общество, новыми колеями пойдет русская жизнь, — а эти создания будут читаться и перечитываться, потому что их нельзя оторвать от русской жизни, от русского просвещения, от русского культурного капитала».
«Произведения, подобные «Анне Карениной», создаются не для развлечения: они воспитывают общество. Никакая иностранная литература не имеет в настоящее время такого сильного живописца семейной и личной жизни, как гр. Толстой».
«Самыми сильными и свежими» страницами «во всей пятой части» автор находит описание, посвященное Сереже Каренину. «Мы не знаем во всей не только русской, но и иностранной литературе ни одного писателя, который до такой степени умел бы проникать в душу ребенка и так серьезно — именно серьезно, без всякой сентиментальной снисходительности — проникаться детскими интересами...»
Особое внимание автор уделяет образу Каренина, который, по его мнению, в последних главах пятой части получает «как будто несколько новое освещение. В предыдущем ходе романа Каренин был поставлен отчасти комически, и анализ автора был направлен преимущественно к тому, чтобы обнаружить слабые стороны его псевдо-государственного ума и псевдо-величавого характера». Когда же «он стал несчастлив, действительно и глубоко несчастлив, точка зрения автора как будто несколько передвинулась, явно чувствуется симпатизирующая нота. И силою необычайного авторского дарования совершается то, что все накопившееся в читателе против этого человека... незаметно и нечувствительно переносится куда-то в сторону, на какие-то другие виновные силы, которые не указаны, но неотразимо чувствуются».
Семейное горе и начало падения Каренина по службе «представляют такой обильный драматический материал, который
396
в мастерской разработке автора сообщает новым главам романа ни с чем не сравнимый интерес»45.
Эволюции образа Каренина в пятой части романа была посвящена и статья в газете «Гражданин», появившаяся за подписью В. Оль. Здесь читаем:
«С первых страниц читатель испытывает некоторое недоумение — он не совсем узнает Каренина. Каренин — одна из фигур, стоящих на первом плане романа, один из героев. Но этот герой сначала не пользовался авторским расположением и, только оказавшись в центре быстро развивавшейся драмы, он вдруг вырос и приковал к себе внимание читателя. Новый Каренин, выросший и преображенный, дал содержание чуть ли не самым лучшим страницам романа... И тем более поражает теперь новая метаморфоза, совершенная над Карениным. Каренин новых глав — довольно жалкий и смешной старик... Конечно, человек может совместить в душе своей самые изумительные противоречия и способность на всякие метаморфозы; но странно было бы предположить, что только это и имел в виду автор...
Как бы то ни было, читатель невольно себя чувствует несколько смущенным и ждет, что будет дальше. А дальше оказываются такие главы, от которых трудно оторваться. С первой минуты, как на сцену является маленький Сережа, автор доходит до полной высоты своего художественного таланта. Сцена свидания между матерью и ребенком хороша удивительно. После этой сцены бледнеют следующие главы...»46
Следующая статья критика была посвящена первым главам шестой части романа. Эти главы критик считает «одними из лучших в целом романе, и только последняя сцена, отзывающаяся своего рода фанатизмом, неприятно действует на читателя». Автор разумел сцену изгнания Васеньки Весловского из усадьбы Левина.
Упоминание о Левине дает автору повод поставить вопрос: «Каким образом граф Толстой, этот великий художник, полный все примиряющих идей, этот носитель любви, изливаемой им на всю русскую жизнь, этот самый жизнерадостный русский писатель, мог поставить героем романа человека, исполненного фанатизма и нелюдимства, для которого жизнь составляет не радость, а вечную, непрерывную муку?» «Разгадка, — по мнению автора, — заключается в субъективном отношении автора к Левину. Левин — носитель миросозерцания самого графа Толстого, а миросозерцание его, вопреки художественному смыслу его созданий, — мрачное и обремененное многими ненавистями»47.
397
Под «многими ненавистями», которыми «обременено» миросозерцание Толстого, критик-консерватор разумел, по-видимому, отрицательное отношение автора «Анны Карениной» к высшему обществу и к самодержавному бюрократическому строю.
И в следующей своей статье48 критик W выразил недовольство миросозерцанием Толстого, неодобрительно отозвавшись о картине дворянских выборов. По его мнению, главы романа, описывающие дворянские выборы, «явно отзываются отсутствием вдохновения, что и понятно, так как нельзя говорить с вдохновением о том, к чему мы сами остаемся равнодушны». Рецензент, вероятно, сознательно смягчил характеристику глав «Анны Карениной», посвященных дворянским выборам, так как описание выборов проникнуто не «равнодушием», а самым определенным — ироническим — отношением автора к этому отжившему институту49.
Но далее в той же статье автор восхищается сценами романа, «продолжающими развитие внутренней психической драмы. В этом — удивительное могущество дарования графа Толстого». Особенно останавливается рецензент на тех главах, в которых «действует злополучная жена Стивы Облонского. Может быть, нигде глубокое знание обыкновенного женского сердца, обыкновенной женской натуры не обнаружено автором с такою победоносной силой, как в анализе мыслей и ощущений Долли во время ее поездки от Левиных в деревню Вронского».
Следующая статья критика W посвящена первым главам седьмой части «Анны Карениной», рассказывающим о жизни Левиных в Москве.
«Главы эти, — писал критик, — как всегда, очень обильны психологическим анализом. Но надо сознаться что по силе вдохновения эти страницы не возвышаются до многих поразительных эпизодов в предыдущих частях романа и как будто отзываются некоторым утомлением. Зато сцены в клубе, где Левин обедал в день родов и откуда Облонский повез его к Анне Карениной, и анализ ощущений, испытываемых Левиным вследствие сознания, что он «кутил», превосходны»50.
И, наконец, относительно последних глав седьмой части, заканчивающихся самоубийством Анны, тот же критик писал:
«Несмотря на заметный недостаток действия, последние главы представляют один из самых сильных эпизодов по глубине и реальности психологического анализа. Автор выдвигает всё,
398
что накопилось трагического в положении героини и что неудержимо ведет ее к трагическому концу»51.
Очень сочувственно отзывался о последних главах седьмой части «Анны Карениной» критик «Северного вестника», также подписывавшийся буквой W, но, очевидно, не представляющий одно лицо с критиком «Русского мира».
Критик находил, что все события последних дней совместной жизни Вронского и Анны «изображены чрезвычайно верно». Сцену самоубийства Анны критик называет «потрясающей» и сожалеет, что этой сценой не заканчивается роман. «Жалко было бы думать, что впереди нас ожидают длинные описания того, что последовало за катастрофой, или подробные отчеты о дальнейшей судьбе всех действующих лиц»52.
VIII
Наперекор всем критикам, о которых шла речь в предыдущей главке и которые по мере сил старались понять и раскрыть читателям общий смысл романа Толстого и значение отдельных его глав, В. Буренин в газете «Новое время» за 1877 год продолжал в своих бойко написанных статьях обвинять Толстого в пристрастии к аристократизму, повторяя сказанное за два года до того Михайловским и Авсеенко.
В первой своей статье об «Анне Карениной» Буренин писал:
«Каждая из страниц этого огромного романа без сомнения не только говорит, но просто кричит о необычайном художественном даровании автора, об удивительном знании малейших подробностей изображаемой им жизни и среды, об удивительном постижении психической области человека. Но в то же самое время с каждой из этих страниц веет бесцельностью творчества, скудостью содержания, отсутствием в авторе необходимого для современного художника «тесного соотношения с сознанием своего времени», о каком говорит Прудон... Вникните попристальнее в эти пять частей обширной эпопеи о флигель-адъютантских амурах Вронского с неверной супругой высокопоставленного лица, Анной Карениной, вникните во все главные эпизоды романа — и вы не в состоянии будете ответить себе, ради чего потрачено автором так много страниц и так много художественного дарования.
Вся идея, какую до сих пор можно извлечь из пяти частей, сводится к пошлой моральной сентенции: неверность и незаконная любовь высокопоставленных дам наказуется сама в себе. Для живого современного романа такого рода тема больше, чем ничтожна: она просто смешна».
399
Рецензент ставит Толстому в вину то, что он якобы «смакует в подробнейших описаниях амуры дам и кавалеров большого света и в то же время пропускает мимо глаз живые и жгучие явления современной действительности»53.
По поводу этой статьи Н. Н. Страхов писал Толстому 8 февраля 1877 года, что В. В. Стасов считает эту статью «самою умною», в то время как на самом деле — это «пустейшая» статья, «так как она не заключает ни искры мысли или чувства, а одно казенное либеральничанье, нахально выдаваемое за сердечное убеждение. Тут Вам великие похвалы за искусство и упрек за то, что Вы описываете великосветские балы, рауты, будуары и пр. Умно! Понял!»54 — иронически восклицал Страхов.
В другой статье об «Анне Карениной», написанной после появления первых глав шестой части романа, Буренин, еще усерднее стараясь выставить свой поддельный, фальшивый либерализм, обличал Толстого за пристрастие ко всему «исключительному дворянскому, а не общечеловеческому». Как пример Буренин приводил описание взволнованного душевного состояния Левина в ожидании родов жены. «Я не знаю, — писал Буренин, — может быть, воспитанные в довольстве, хорошо обеспеченные господа, вроде Левина, при рождении ребенка и способны выкидывать такие штуки и переполняться такими курьезными ощущениями, какие приписывает граф Толстой своему герою; но с простыми людьми, воспитанными на труде, подобных „тонких“ вещей не бывает». Таким «воспитанным на труде» выставляет самого себя Буренин, которому «при появлении первого ребенка положительно не приходило в голову таких глупостей, какими заставляет автор терзаться и услаждаться Левина»55.
На эту статью Буренина возражал критик «Голоса», подписывавшийся псевдонимом «IV». Ему пришлось видеть крестьянского парня, который в ожидании родов жены так же беспокоился и волновался, как и Левин, и говорил автору статьи: «Изнемог совсем: и боязно-то, и будто сам в чем-то виноват супротив нее», и т. д. В противоположность Буренину, автор утверждает, что в данном случае «ощущения Левина принадлежат именно к области общечеловеческой»; они одинаково испытываются «барином и мужиком»56.
Вскоре в «Новом времени» появились статья А. С. Суворина и письмо В. В. Стасова, излагавшие, в отличие от Буренина, совсем иную точку зрения на роман Толстого.
400
Суворин, который в 1875 году ничего не видел в «Анне Карениной», кроме соблазнительного описания великосветской жизни, заговорил теперь об «общественном значении» «Анны Карениной», хотя он очень узко и односторонне понимал это значение. В своей статье, изложив эпизод самоубийства Анны, Суворин далее писал:
«История кончена. История длинная, чрезвычайно талантливая, блещущая первоклассными красотами, удивительным знанием человеческого сердца. «Из нас, стариков, только один Т. еще писать умеет», — говорил мне на днях один из талантливейших русских писателей, который напрасно так рано хоронит себя. Да, чересчур длинная история — в этом ее недостаток, чересчур детальная, мелочная, выдвигающая таких пошлых, таких неинтересных людей. Но значение «Анны Карениной», по моему мнению, все-таки не малое. Это одно из самых реальных произведений реальной русской литературы; никто бы так не изобразил женскую натуру, как сделал Толстой, никто бы так не низвел любовь с ее психологических подставок на чисто физиологическую, материальную почву. Автор не пощадил ничего и никого и выставил любовь с таким трезвым реализмом, до которого у нас никто не возвышался; нигде не перешел он границу этой правды, нигде не польстил инстинктам сладострастия. Истинный художник остался верен законам реализма, законам страсти и, сорвав поэтический ореол с нее, представил ее в настоящем виде. Стоило ли это доказывать — другой вопрос, но это общественное значение „Анны Карениной“ бесспорно»57.
«Граф Лев Толстой, — писал В. В. Стасов, — поднялся до такой высокой ноты, какой еще никогда не брала русская литература. Даже у самих Пушкина и Гоголя любовь и страсть не были выражены с такой глубиной и поразительной правдой, как теперь у Толстого. Он решительно идет вперед — один он, между тем как остальные наши литераторы — кто назад пошел, кто молчит, кто побледнел и обезличился... Вот что значит истинный, настоящий талант: он до конца жизни идет всё только вперед.. Какая сила и красота творчества разлиты в этом романе, какая чудная мощь художественной правды, какие нетронутые глубины тут впервые затрагиваются!.. Он умеет... чудною скульпторской рукой вылепить такие типы и сцены, которых до него никто не знал в целой нашей литературе... «Анна Каренина» останется светлой громадной звездой талантливости навеки веков».
Стасов закончил свое письмо словами: «Станем с горячим нетерпением ждать новое создание графа Л. Толстого. Это наверное будут опять создания великие»58.
401
IX
В то время как большинство критиков «Анны Карениной», занятые главным образом историей отношений Анны и Вронского, очень мало внимания уделяли образу Левина, журнал «Отечественные записки», напротив, в рецензии на роман Толстого занялся исключительно образом Левина.
«Отечественные записки» только один раз высказались об «Анне Карениной» — в анонимной рецензии, появившейся в августовской книжке журнала за 1877 год.
Все действующие лица романа, кроме Левина, в том числе «плаксивая, серенькая Долли, вороной жеребец Вронский, ученый Кознышев, бонвиван Облонский, чиновный Каренин — все эти люди почти не знают колебаний и сомнений насчет своего жизненного пути... Собственно говоря, — пишет рецензент, — такова же и героиня Анна Каренина, несмотря на свою трагическую судьбу».
Но не таков «излюбленный герой Толстого» Константин Левин. Он «резко выдвигается из толпы действующих лиц романа именно отсутствием нравственного равновесия... Очевидно было намерение автора противопоставить колебания и сомнения Левина твердости и самоуверенности других. Эти другие уверены, что они делают чрезвычайно важные всероссийские дела; что они имеют полное право поступать так, как они поступают, что их права на общее уважение, на жизнь, полную наслаждений, на известное общественное положение непоколебимы и несомнительны и т. п. Словом, так или иначе, но они привели себя в равновесие со всею сферою своей жизни и деятельности. Левин не знает этого равновесия; он его страстно ищет, но не может примириться с теми образцами его, которые видит вокруг себя. И это делает Левина не только глубоко симпатичным, но заинтересовывает читателя тем высшим интересом, которого, разумеется, не имели нетерпеливые московские дамы, засылавшие, как рассказывают, к наборщикам и корректорам «Русского вестника» за справками: что станется с героиней романа, Анной Карениной? Правда, граф Толстой заставляет иногда своего любимца проделывать изумительные глупости (например, сцены, когда он ревнует жену к какому-то приезжему оболтусу), но в общем он был близок к достижению естественной цели каждого романиста: сделать своего любимца любимцем читателя. Трудно теперь, не имея в руках всего романа..., проследить все подробности колебаний Левина и его погони за душевным спокойствием, за нравственным равновесием. Но мы помним два очень характерные в этом отношении места. Во-первых, раздумье Левина на сенокосе, во-вторых — его разговор с Облонским на охоте. И там, и тут вы видите человека, которому совесть не дает покоя, который хочет знать правду, справедливость и осуществить ее в своей личности. Он чувствует, что
402
есть какое-то огромное несоответствие между его образом жизни и его понятиями о справедливом и честном, но все еще колеблется, ищет. Это несоответствие должно быть устранено. Надо или жить иначе, или думать иначе. На сенокосе, наедине с самим собой, Левин, помнится, склоняется к первому решению; позже, в разговоре с Облонским — ко второму.
Эпилог рассказывает нам, как все это кончилось. Левин больше не колеблется; он обрел душевный покой, привел себя в равновесие со всей сферой жизни и деятельности».
Рецензент напоминает, как в эпилоге «Анны Карениной» Левина начали мучить вопросы: «Что я такое и зачем я здесь? т. е. зачем он живет на земле» — «вопросы старые, как человеческая мысль». Ответ на эти вопросы Левин нашел в религии. Его поразили слова мужика Федора, что надо жить «для души своей», а не «для нужды своей»; но рецензент далее цитирует из эпилога установленные Левиным для себя «правила» об отношениях с мужиками и наемными рабочими, из которых видно, что Левин также жил «для нужды своей». Левин теперь успокоился, он уже не ищет «ни программы жизни, ни нравственного равновесия» и тем самым он «потерял всякое право на интерес к нему читателей».
«Что и нам за дело до Левина, подававшего надежды и обратившегося в самого обыкновенного, пустого человека, примиряющего непримиримое и довольствующегося стертым пятиалтынным, хотя, может быть, и прекрасного помещика, и доброго семьянина? Гора не в первый и не в последний раз родит мышь. Только не графу бы Толстому этими фокусами заниматься»59.
Этими словами заканчивалась рецензия.
Под словами «примиряющий непримиримое» рецензент разумел, очевидно, противоречие между разумом и верой; под «довольством стертым пятиалтынным» автор несомненно разумел обращение Левина к церковной вере.
Рецензенту «Отечественных записок» удалось подметить слабую сторону обратившегося к вере Левина, состоящую в том, что и после своего решения «жить по-божьи» он продолжал вести тот же помещичий образ жизни, какой он вел раньше. Но рецензент делал ошибку, считая Левина остановившимся в своем духовном развитии. Такая остановка была несвойственна Левину, и Толстой мог бы впоследствии написать новое художественное произведение, рассказывающее о дальнейших исканиях Левина и его попытках по-новому устроить свою жизнь. Это он отчасти и сделал в автобиографической драме «И свет во тьме светит» и в других произведениях позднейшего периода.
Надо заметить, что Левин, обратившийся к вере, Левин эпилога «Анны Карениной», т. е. сам автор романа в том душевном
403
состоянии, в котором он тогда находился, не встретил ни одного сочувственного отзыва в печати. Либеральные критики откровенно иронически отзывались о размышлениях Левина; другие критики — консервативного направления — признавали серьезность вопросов, волновавших Левина, но считали неуместным изложение их в романе.
Понятна поэтому радость Толстого, когда он получил письмо Н. Н. Страхова от 8 сентября 1877 года, в котором Страхов приводил следующую выдержку из письма к нему его приятеля И. А. Шестакова, бывшего председателя Олонецкой палаты уголовного и гражданского суда: «„Анну Каренину“ прочитал и пришел в неописанный восторг. Не подумайте однако ж, что собственно романическая сторона привела меня в такое состояние, нет, — это философия Льва Николаевича. Он мне открыл свет, разрешил вопросы, которые тяготили меня»60.
«Вы не можете себе представить, — отвечал Толстой Страхову 23 сентября, — того хорошего, радостного чувства, которое это известие произвело на меня». Толстой прибавлял, что к нему приходил «еще один такой же молодой человек», с которым он виделся61.
В архиве Толстого сохранилось еще следующее письмо, в котором неизвестная женщина благодарила за нравственно благотворное воздействие на нее «Анны Карениной» (имелась в виду, очевидно, сцена примирения Каренина и Вронского у постели умирающей Анны):
«Граф Лев Николаевич! Женщина, в течение более нежели 12 лет жившая в самом счастливом браке, страстно, глубоко и преданно любящая мужа своего и более года теперь находящаяся в положении мужа Карениной, чувствует непреодолимое желание высказать Вам, что роман Ваш доставляет ей не только эстетическое наслаждение, нет, но он служит ей поддержкой, дает силы нести крест свой, дает силы надеяться и верить в высшую правду и справедливость, дает силы не переставая любить и отгонять того беса сомнения и отрицания, который является в страшную минуту отчаяния. Вы, верно, сами не сознаете, какое добро вы творите, и тем лучше для Вас»62.
X
Одновременно с рецензией на «Анну Каренину» в «Отечественных записках» появился и отзыв Достоевского о романе Толстого в его «Дневнике писателя».
Первые части «Анны Карениной» Достоевскому не понравились; он не понимал восторженного отношения к ним А. Н. Майкова
404
и Н. Н. Страхова. «Об романе Толстого [А. Н. Майков и Н. Н. Страхов] тоже говорили не много; но то что сказали — выговорили до смешного восторженно», — писал Достоевский жене 6 февраля 1875 года. 7 февраля он писал ей же: «Роман Толстого... довольно скучный и уж слишком не бог знает что. Чем они восхищаются — понять не могу». «...Порецкий уже окончательно с ума сошел на Толстом», — писал Достоевский жене 15 (27) июня 1875 года63.
Но шестая и седьмая части «Анны Карениной» совершенно изменили отношение Достоевского к роману Толстого. Выше было приведено письмо Толстому Н. Н. Страхова от 18 мая 1877 года, в котором он сообщал, что Достоевский называет Толстого «богом искусства».
Уже в январском номере «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский, высказав свое убеждение в том, что русская читающая публика «очень любит сатиру», но «несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее», прибавлял: «Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков»64.
В февральском номере «Дневника писателя» за тот же год, в разделе, названном «Один из главнейших современных вопросов», Достоевский, после краткой общей характеристики «Анны Карениной», более подробно останавливается на двух сценах. С восторгом отзывается Достоевский о сцене примирения Анны, Каренина и Вронского у постели умирающей Анны: «В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда и разом всё озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — естественною силою природного закона, закона смерти человеческой... Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить... Этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник»65.
Вторая сцена «Анны Карениной», на которой останавливается Достоевский, — это спор Левина с Облонским о помещичьем владении землей (часть VI, глава XI). Облонский, по характеристике Достоевского, — «отживший циник» и даже «негодяй», а Левин — «чистый сердцем» и «новый человек», представитель того «корня русских людей, которым нужна правда, одна правда без условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут все решительно... Это — наступающая будущая
405
Россия честных людей... За слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества»66.
Подробно говорит Достоевский об «Анне Карениной» в июльско-августовском номере «Дневника писателя» за 1877 год.
Разбор «Анны Карениной» Достоевский начинает с характеристики автора романа. Толстой для Достоевского — «огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентною Россиею человек», «один из самых значительных современных русских людей». Далее Достоевский описывает свою недавнюю случайную встречу на улице с одним «милым и любимым» им романистом, который («на вид человек не восторженный») сразу заговорил с ним об «Анне Карениной» и поразил его «твердостью и горячею настойчивостью своего мнения» об этом романе. Речь идет, очевидно, о Гончарове. Собеседник Достоевского сказал ему относительно «Анны Карениной»:
«Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?»
Достоевский выражает полное согласие с мнением своего собеседника.
«Книга эта, — пишет он, — прямо приняла в глазах моих размер ...того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе».
«„Анна Каренина“, — писал далее Достоевский, — есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а, во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше свое, родное, и именно то самое, что́ составляет нашу особенность перед европейским миром, что́ составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слыхать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость».
«Новое слово», сказанное в «Анне Карениной», это, по мнению Достоевского, «взгляд русского автора на виновность и преступность людей», выраженный «в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиною и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения».
По мнению Достоевского, роман Толстого приводит к выводу, что «ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого
406
столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: „Мне отмщение, и аз воздам“».
Вновь возвращается Достоевский к «гениальной», как он ее называет, сцене примирения Каренина и Вронского у постели умирающей Анны, «когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые сами, взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то»67.
Но последняя, восьмая часть «Анны Карениной», где Толстой высказывается неодобрительно о добровольческом движении в пользу сербов, вызвала резкие возражения со стороны Достоевского. Достоевский видел в добровольческом движении в пользу сербов приближение к фактическому осуществлению его излюбленной идеи единения всех славянских народов под главенством России. Он резко нападает на взгляды Толстого по данному вопросу, выраженные устами Левина, пространно излагая свою точку зрения68. Эта часть эпилога «Анны Карениной» подверглась также резкому осуждению в консервативной и отчасти либеральной печати. Профессор русской литературы О. Ф. Миллер, автор книги «Славянство и Европа», опубликовал в «Новом времени» статью «Гениальная маниловщина»69, в которой спорил с мнением Левина относительно добровольческого движения в пользу сербов. Эту статью Н. Н. Страхов в письме к Толстому от 8 сентября 1877 года назвал «очень глупой». Московская газета «Современные известия», славянофильского направления, выходившая под редакцией Н. П. Гилярова-Платонова, в прозе и стихах грозила Толстому вечным позором, которому предаст его потомство:
И грех и стыд вам, лжепоэты,
Клеветники Руси святой,
Что в день и час сей роковой
Одни в разладе вы с толпой.
Но лихом вспомнит вас народ;
Из века в век, из рода в род
Пройдет о вас молва худая;
Позорным прозвищем клеймить
Вас будет верное преданье,
И малым детям в поруганье
Век имя ваше будет жить!..70
407
XI
2 сентября 1877 года Толстой писал Страхову, что он получил от Фета статью Болагова об «Анне Карениной». «Но с первых страниц, — писал Толстой, — я узнал Фета. Статья, по-моему, очень хороша, за исключением преизбытка и неожиданности сравнений. Он желает ее напечатать, и мне бы хотелось, потому что сказано всё то, что я бы хотел сказать»71.
В тот же день Толстой писал и самому Фету: «Не могу хвалить вашей статьи, потому что она хвалит меня; но я вполне, вполне согласен с нею; и мне очень радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления поняты верно и поставлены все на настоящее место. Мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана, хотя я, обращая к вам то, что вы говаривали мне, знаю, что почти никто не поймет ее»72.
Толстой послал статью Фета Страхову с просьбой постараться напечатать ее. О дальнейшей судьбе статьи нет никаких сведений. Фет в своих «Воспоминаниях» пишет, что статья эта была напечатана в каком-то журнале73, но это, по-видимому, ошибка, так как в дальнейшей переписке Толстого со Страховым и Фетом нигде не говорится об этой статье и ни в одном из тогдашних журналов не удалось ее найти.
В архиве Фета обнаружена проредактированная им копия начала его статьи «Что случилось по смерти Анны Карениной в „Русском вестнике“»74. Это и есть, очевидно, неполный черновик той самой статьи, которая была прислана Толстому. По этому сохранившемуся началу становится совершенно понятно, почему Толстой отзывался о статье с таким восхищением.
Фет прежде всего ставит вопрос: «Возможно ли, с нашей точки зрения, отыскать в ней [в „Анне Карениной“] строгий художественный план или же придется отказаться от подобной попытки?» И отвечает на этот вопрос:
«На наши глаза, ни одно из произведений графа Толстого не выставляет так близко к видимой поверхности всего своего внутреннего построения».
«Нам не раз приходилось, — говорит далее Фет, — слышать упреки Толстому за то, что его Каренина вращается среди роскоши большого света». На эти обвинения Фет отвечает, что «мы не вправе подкладывать под фигуры живописцев свой фон» и что «при задаче Толстого Каренина должна была быть поставлена именно так, а не иначе». «Будь Анна неразвитой бедной
408
швеей или прачкой, то никакое художественное развитие ее драмы не спасло бы задачу от обычных окольных возражений: нравственная неразвитость не представляла опоры в борьбе, бедность заела и т. д. Изобразив Анну такою, какая она есть, автор поставил ее вне всех этих замечаний. Анна красива, умна, образована, влиятельна и богата. Уж если кому удобно безнаказанно перебросить чепец через мельницу, так, без сомнения, ей. Но, выставляя все благоприятные условия, граф Толстой не обошел ни преднамеренно, ни по близорукости ни одного в этом случае враждебного замужней женщине условия... У Карениной один сын, и этого достаточно, чтобы привести ее эмансипацию к абсурду. Анна настолько умна, честна и цельна, чтобы понять всю фальшь, собранную над ее головой ее поступком, и бесповоротно, всеми фибрами души осудить всю свою невозможную жизнь. Ни вернуться к прежней жизни, ни продолжать так жить — нельзя».
Переходя к другим героям романа, Фет замечает, что над всеми их действиями, «как едва заметный утренний туман сквозит легкая ирония автора, для большинства вовсе незаметная». Исключение составляет только Левин, который «один ив всех действующих лиц пользуется серьезным сочувствием автора». «Мыслитель не по прозванию или профессии, а по природе, он мучительно задается вопросом, стоящим в бесконечной дали перед всяким умственным трудом, — вопросом о конечной цели бытия вообще и своего в частности». «Будучи, очевидно, носителем положительного идеала, Левин представляет вполне народный тип в лучшем и высшем значении слова»75.
Фет находит, что между Левиным и Карениной существует «внутренняя художественная связь», которая «бросается в глаза в ходе всего романа», причем «художественная параллель их, как в городе, так и в деревне, выведена с изумительным мастерством». Но раз между образами Карениной и Левина существует неразрывная внутренняя связь, то «почему же художественные близнецы Каренина и Левин должны были появиться — она вполне оконченною, а он непременно, во что бы то ни стало без головы?»
Этими словами Фет намекал на то, что «Русский вестник» не напечатал восьмой части «Анны Карениной», где раскрывалась дальнейшая судьба Левина, в то время как седьмая часть развертывала до конца драму Карениной.
На этом копия статьи прерывается, и нельзя не пожалеть, что до нас не дошла полностью эта талантливая и содержательная
409
работа такого тонкого ценителя художественных произведений, каким был Фет, которого не напрасно Толстой называл «настоящим поэтом».
Из критических статей об «Анне Карениной», появившихся в 1877 году, назовем еще две.
Широкий охват русской жизни, данный в романе Толстого, отмечен в статье L. V., напечатанной в газете «Современные известия». «Можно предположить, — читаем в этой статье, — что автор, рассказывая нам печальную судьбу своей героини, имел в виду предлог, чтобы выставить на сцену множество русских современных типов. Если такова была его цель, то он вполне достиг ее»76.
Вторая статья принадлежала педагогу Е. Л. Маркову, так неудачно выступавшему в 1874 году против статьи Толстого «О народном образовании». Его статья, озаглавленная «Русский роман в ряду других» и появившаяся в трех номерах газеты «Голос», интересна оригинальными замечаниями о романе Толстого и сравнением «Анны Карениной» с некоторыми образцами западноевропейского романа.
Е. Марков начинает статью с утверждения, что «Анна Каренина», хотя и появилась «после такого могучего произведения, как „Война и мир“», не была «шагом назад в литературном развитии» Толстого. «Конечно, „Война и мир“ серьезнее „Анны Карениной“ по широте рамки, по значению сюжета, по задаче». «Анна Каренина» — уже по замыслу, бледнее по размерам», но тем «труднее было для автора сделать шаг дальше в таких тесных пределах». Этот шаг вперед автор видит в том, что Толстой в «Анне Карениной» «является перед нами еще более глубоким и беспощадным психологом, чем даже в „Войне и мире“».
Содержание романа «довольно простое». «С внешней стороны это история двух семейств, какие часто встречаются. Одна история ведет вас в светский круг столиц, другая — в среду родовитого деревенского дворянства». Роман Анны с Вронским — «тема весьма заурядная», и роман Кити и Левина — «картины честной романтической любви... в литературе обычны». Таким образом, «темы не помогали графу Толстому своей оригинальностью»; тем не менее, «когда вы читаете историю, которую раскрывает вам граф Толстой, она проходит перед вами в такой индивидуальной жизненности, которую могут иметь только события живой жизни, всегда оригинальные, сколько бы они ни повторялись»77.
Автор утверждает, что при сравнении «Анны Карениной» с романами иностранных писателей «художественные особенности
410
«Анны Карениной», как и вообще романов Толстого, будут яснее».
Прежде всего Марков сравнивает Толстого с Золя.
«Роман Золя — это скорее общая картина жизни, психология общества, века, чем психология лица... Движение романа шире, ровнее, правильнее; всякая подробность обдумана вперед и поставлена на то место, где ей надлежит быть… Через это и впечатление романа как-то целостнее. Вся мысль автора целиком сказывается в романе без оговорок и недоговорок. Читателю почти не остается ни думать, ни выводить...
Романы типа Золя как бы современнее романов вроде «Анны Карениной» и шире по своему обхвату; они живее захватывают практические интересы публики, соприкасаясь со множеством вопросов социального быта и политических убеждений, почему и результаты их практичнее...
Романы Золя — это романы достаточно образованной демократической массы, пользующейся благосостоянием, сознающей свои права и интересы».
В романах Золя человек «разрабатывается не сам по себе, не столько с художественно-психической, сколько с художественно-этнографической точки зрения»; поэтому «читатель чувствует, что он познал общественное событие, а не человека, его участника».
Не то у Толстого. Он «залезает с ногами в душу человека с своим безжалостным фонарем, роется во всех ее уголках и освещает один за одним самые потаенные изгибы этой души, которых, быть может, не сознавал, о которых не смел думать сам человек... Немудрено, что, по сравнению с такою психологическою глубиною, психология Бальзака, Золя, Доде и ему подобных кажется поверхностною и бедною.
Граф Толстой — совершенная противоположность французам; он типический русский человек... В то время как художнику-французу или художнику-немцу в психическом мире человека все известно, все ясно, все подходит под правило, у графа Толстого, что ни шаг, то мятежная особенность, то неразрешимая загадка, то полное противоречие всему известному и всему ожидаемому».
«Господствующее стремление графа Толстого в «Анне Карениной» — это «низведение» своих героев к будничным типам, развенчивание великого в пошлое, святого в греховное... В живописи графа Толстого очень много тонкости, глубины, искренности, но очень мало высоты. Ни Анна, ни Вронский, ии Алексей Александрович, ни даже Кити с Левиным — никто не внушает вам особенного сочувствия и не поддерживает вашей веры в добро в игре общественного зла. Вы не встречаете здесь никакого более возвышенного культа, кроме служения в самых разнообразных видах текущим злобам дня. Сила нравственных
411
принципов человека, его духовных идеалов и стремлений не имеет тут значения... Ни в чем нет высшего смысла, высшей цели, а все состоит из множества условностей...
Сама Анна — это ирония над позывами свободной и искренней любви, Левин — над хозяйственными и социальными идеалами, Каренин, муж, — над задачами государственного устройства, Кознышев и другие второстепенные лица — над ученостью специалистов. Есть целые главы в романе графа Толстого для иронии над земскими учреждениями, над университетскою жизнью, над благотворительными обществами».
Далее автор сравнивает «Анну Каренину» с немецким и английским романом, с Ауэрбахом, Шпильгагеном, Диккенсом.
Хотя «немцы как реалисты-психологи, как живописцы сцен и портретов» стоят «ниже всякой критики», тем не менее немецкий роман «имеет свои несомненные достоинства. В немецком романе есть идеалы, есть поэзия мысли... Когда вы читаете какие-нибудь «Шварцвальдские деревенские рассказы» Ауэрбаха или его «Дачу на Рейне», или «На высотах» Шпильгагена, на вас веет какою-то спокойною вековечностью, какою-то тихою и сладкою любовью к миру и людям». В этих романах всегда можно найти «выдающиеся типы современного немецкого образования, типы борцов за те или другие, весьма серьезные и полезные общественные задачи».
Что касается английского романа, то он, по мнению Маркова, может быть признан за образец. Творческая сила у Диккенса таких размеров, о которых трудно составить понятие по другим писателям. Диккенс постигает психию и вообще внутренний смысл явлений с тонкостью и чуткостью какого-то пророческого гения. Но читатель не видит в его созданиях никаких следов долгой и последовательной работы, никаких процедур холодного анализа. В его творчестве одна волшебная сила синтеза».
У Толстого «расследование психической сути в некоторых случаях доходит до того, что общая физиономия человека видна не совсем ясно за отдельными подробностями, исследованиями... Оттого, может быть, роман «Анна Каренина» представляет гораздо более богатства в отдельных сценах поразительной правды, чем в ярко воссозданных типах...
Диккенс живет в сердце своих героев, как их собственный дух, разделяя с ними их увлечения, слабости, ошибки, достоинства. Граф же Толстой сидит внутри своих героев, как бесстрастный и чуждый им соглядатай всех тайн, происходящих в глубине их духа»78.
412
XII
В 1878 году поток критических статей в периодической печати разных направлений продолжался, хотя и с меньшей силой.
Начнем со статей, появившихся в журналах демократического направления.
В двух номерах журнала «Дело» появилась статья П. Н. Ткачева «Салонное художество». Статья повторяет ту же оценку романа Толстого, какую Ткачев давал в первой своей статье, написанной в 1875 году.
«„Анну Каренину“, — писал Ткачев, — нельзя назвать романом. Это не более как сборник протоколов человеческих деяний, коллекция фотографических снимков. Коллекция эта составлялась, очевидно, совершенно случайно, без всякого общего плана, без всякой осмысленной идеи. Фотографист не брезгал ничем; ему было решительно все равно, что бы они ни изображали: красивую ли лошадь или красивую женщину, обед в московском дворянском клубе или скачку с препятствиями, обряд венчания или какую-нибудь картину из сельской жизни, муки беременной женщины или охоту на вальдшнепов и т. д.
Никакой пищи ни уму ни сердцу. Одно только приятное, хотя и минутное раздражение некоторых органов чувств... И на каком же низком уровне нравственного и умственного развития нужно стоять, чтобы находить наслаждение в подобных раздражениях!..
Такой талант не только унижает, но просто позорит искусство и в то же время оскорбляет и нарушает самые элементарные требования общественной справедливости... Его главные герои гораздо более напоминают ходячие воплощения метафизических сущностей, чем живых людей; это какие-то нравственные кастраты, какие-то манекены с этикетками, заранее обозначающими, что каждый из них должен изображать. Этикетки женских манекенов гласят: «самки, исключительно приспособленные в половой любви» (Анна, Кити). Вронский и муж Анны являются ходячими воплощениями рассудочности, резонерства».
Основной тон романа определяется у Толстого его «злополучной философией». Но Толстой «не только философ, но и человек салона. Он вырос в его среде», и потому на каждом его произведении и в особенности на «Анне Карениной» «лежит печать салонного искусства. И Толстой знает свою публику и умеет ублажать ее вкусы. Он знает, что она не только любит заниматься амурными похождениями, не только любит хорошо поесть, попить и покутить, но любит также, чтобы ей рассказывали об ее амурах, обедах и кутежах как можно поэтичнее и увлекательнее». Толстой, «желая подделаться под вкус своей публики, не щадит ни времени, ни труда. Посмотрите, с какой
413
любовью он занимается воспроизведением картинок великосветских балов, обедов, попоек, скачек! Посмотрите, как он распинает себя ради искусства идеализировать, насколько возможно, амурные похождения и интрижки своих салонных приятелей!»
Статья заканчивается призывом к «салонным беллетристам»: «О, салонные беллетристы, ну что бы вам, вместо того чтобы заниматься живописанием салонного разврата, походить за сохой в знойный летний день или повозить тачку с песком часов 12 в сутки! Сколько новых, неожиданных наслаждений вы испытали бы!»79.
На статью Ткачева откликнулся Е. Марков в газете «Голос». Автор статьи «Салонное художество», писал Марков, «стоит на том, что граф Л. Толстой — не художник, а фотограф, что он не умеет создавать типы, писать портреты, что его герои выходят не живыми людьми и т. д.». «Читатель, читавший Толстого, знающий Толстого, конечно, рассмеется без всякой церемонии в глаза чересчур уже хитроумному критику», который не понял Толстого «ни в общем характере его творчества, ни в его частностях. А так как в его голове уже были готовые суждения о фотографичности искусства, то он вместо Успенского или Слепцова бойко навязал их на шею гр. Толстому»80.
Несколько пренебрежительных слов об «Анне Карениной» обронил в журнале «Слово» бывший сотрудник «Современника», считавшийся преемником Чернышевского, М. А. Антонович. В своей статье о современном состоянии русской литературы он назвал «Анну Каренину» «образцом бестенденциозности и квиетизма». «Трудно найти, — писал далее Антонович, — другое произведение, которое до такой степени способно было бы занимать и усыплять, возбуждать и в то же время повергать в сладостную апатию и сладостную негу; при внешней увлекательной занимательности оно не имело затрудняющего серьезного содержания; при внешней благопристойности, даже элегантности и изяществе оно очень осязательно и сильно щекотало разные приятные вожделения»81.
Скрытое возражение против этой характеристики «Анны Карениной» как романа бестенденциозного и усыпляющего было сделано в том же журнале «Слово» романистом П. Д. Боборыкиным. В статье «Мотивы и приемы русской беллетристики» Боборыкин писал: «Граф Л. Толстой в своей «Анне Карениной» остался верен себе как художник, несмотря на множество лишнего, попадающегося в его романе. Все рецензенты согласны, что в «Анне Карениной» есть десятки мест, написанных с редким
414
творческим мастерством. Содержание романа очень многих не удовлетворило главным образом потому, что автору, и не без причины, ставили в упрек несимпатичный для многих консерватизм. Если бы посмотреть пообъективнее на содержание его романа, то окажется, что самая крайняя публицистическая критика может весьма и весьма воспользоваться картинами барских нравов для каких угодно радикальных выводов. Вместе с тем граф Л. Толстой показал в «Анне Карениной», что он хочет также по-своему задевать разные «вопросы» — и нравственные, и социальные, и исторические...
И выходит, что граф Толстой в своем последнем романе не только не отрешается от текущей действительности, но напротив, погружается в нее и не может даже освободить себя от личного участия в вопросах дня, участия, к сожалению, одностороннего, руководимого устарелыми идеями»82.
Разумеется, статьи Ткачева, Антоновича, Боборыкина и другие отзывы такого же характера не могли не влиять на молодежь того времени. Тот же Боборыкин писал впоследствии: «Тогда отношение к нему [Толстому] критики и молодежи было не только не восторженное, а как бы скептическое, если не совсем отрицательное. Содержание и тон этого романа [„Анна Каренина“] не нравились передовому слою тогдашней публики»83
В либеральном «Вестнике Европы» в 1878 году появилась статья «Каренина и Левин», написанная эпигоном сороковых годов, автором биографии Грановского А. В. Станкевичем, младшим братом знаменитого Николая Владимировича Станкевича. Совершенно не понимая идеи произведения Толстого, Станкевич считал, что включение романа Левина в роман Карениной «нарушает единство произведения и цельность производимого им впечатления».
Наиболее удачным автор считает образ Облонского, «представленный с необыкновенною отчетливостью, полнотою и последовательностью». «Степан Аркадьевич сохранит в русской литература место среди лучших представленных ею типических образов».
В характеристике Каренина Станкевич находил «противоречия». «Нельзя сказать, чтобы образ Каренина, рисуемый перед нами нетвердою и колеблющеюся рукою, отчетливо и ясно выступал перед нами и не возбуждал бы в нас весьма справедливых недоумений».
Образ Вронского, этого «элегантного героя», не вызвал у критика каких-либо замечаний и лишь в сцене «неудачного
415
опыта стреляния в себя» он увидел «мелодраматический эффект», «отсутствие которого нисколько не повредило бы достоинству романа». (Напомним, что о сцене попытки самоубийства Вронского Толстой писал Страхову, что сцена эта явилась его творческому сознанию «неожиданно, но несомненно»).
Анна, по мнению критика, «напоминает своего брата Облонского легкостью характера. Чтобы понимать увлечение, падение, раскаяние, поступки, страдания и даже самую смерть Анны, мы должны не забывать это легкомыслие, эту природу мотылька». В ней «было полное отсутствие всякого нравственного содержания, всяких требований от себя; в жизни ее не было ни сильной привязанности, ни важной для нее цели. В этой жене и матери незаметно никаких признаков внутренней борьбы с самой собой», — пишет критик, этим категорическим утверждением лишний раз доказывая свою полную неспособность понять выведенные Толстым характеры и общий смысл всего произведения.
Критик указывает в романе несколько «мастерских» сцен: скачки, последующая сцена в карете с мужем («эта короткая сцена ужасна своею правдивою простотою и горьким значением»), сцена у постели больной Анны («трогательна и торжественна, но производит на читателя смешанное впечатление»), свидания Анны с сыном («сцена эта прекрасна»). В общем же — «художник не в ладу с комментатором им самим создаваемых образов».
«Тем не менее, роману „Анна Каренина“ принадлежит видное место в ряду лучших произведений нашей беллетристики...
Нельзя не видеть заслуги автора „Анны Карениной“ в том, что он призывает внимание и сознание читателей к явлениям, весьма распространенным в нашем обществе... Нельзя также не признать правдивого и живого нравственного чувства, одушевлявшего автора в создании романа, замечательного по интересу, внушаемому его содержанием, по значительности возбуждаемых им вопросов, по прекрасному изображению многих сторон главных лиц романа и некоторых второстепенных лиц и характеров, многих эпизодов и частностей романа»84.
Эта статья Станкевича вызвала критическую заметку Е. Маркова в газете «Голос».
«Этюд г. Станкевича, — писал Марков, — не заслуживает особенного внимания... Г. Станкевич слишком погружается в частности романа гр. Л. Н. Толстого и слишком много отдается моральной, а не строго психической точке зрения». Он судит «душевные движения» Анны и Вронского «не столько по степени их естественной правды и художественной выразительности, сколько по их житейской пригодности и нравственному достоинству...
416
Роман Левина и Кити г. Станкевич обещает рассмотреть впоследствии. Но, — говорит далее Марков, — уже судя по предварительному приступу автора можно думать, что и к роману Левина он отнесется без надлежащего критического спокойствия и широты взгляда». Это видно уже по первой статье, в которой он называет «несколько иронически роман Левина историей развития его причуд, недоумений и умственного блуждания». «Но ведь история «недоразумений и умственных блужданий» вовсе не составляет беззаконной или бесполезной художественной темы, а «причуды» Гамлета, Лира, Ромео удостоились кисти Шекспира».
В этюде Станкевича, говорит в заключение Марков, нет «ни цельности взгляда, ни ясной критической почвы, ни тонкости и оригинальности суждения»85.
Опасения Маркова вполне оправдались: этюд Станкевича о Левине86 оказался ниже всякой критики. Характеристика Левина во всей статье дается в ироническом тоне; автор удивляется, что со стороны Толстого «мы не замечаем ни малейшего следа иронии в отношении к герою его произведения; ни малейшего намека, по которому читатель мог бы подозревать, что автор хотя слегка пожимает плечами при крайне диких выходках Левина». Не понимая смысла обращения Левина к народу, Станкевич с издевательством говорит о том, что «Агафья Михайловна, скотник Николай, мужик Федор, а также и дядя Фоканыч принадлежат к одной философской школе», и т. д.
Эта статья Станкевича вызвала резкую критику «Русской газеты», выходившей под редакцией А. А. Александрова. «Г. Станкевич, — писал в этой газете критик, скрывший свое имя под инициалами NN, — вместо того, чтобы разбирать роман, упражняется в «критиканстве» действующих лиц. Это все равно, что взять героев Щедрина или Гоголя да и написать книгу, отыскивающую их недостатки и несовершенства. Это почти общий прием наших бездарных критиков»87.
Упомянем еще о двух критических работах об «Анне Карениной», появившихся одна в 1879, другая в 1880 году.
В 1879 году в журнале «Свет» за подписью «Вано» были напечатаны четыре статьи, рассматривающие «Анну Каренину» «в социально-педагогическом отношении». Автор начинает статью со следующей общей характеристики романа Толстого:
«Во всем романе мы не встречаем ни одного туманно-идеального образа, все, даже второстепенные лица в этом произведении — живые, знакомые нам люди, все они очерчены до
417
того художественно, что, познакомившись с ними в романе Толстого, мы с удивлением начинаем узнавать их и в окружающей нас жизни и зачастую и в нас самих. Верность изображения до того велика, что невольно пробуждает в нас правдивое сознание, и нам не остается даже возможности утешаться тем предположением, на котором успокоилась мартышка дедушки Крылова, увидевшая себя в зеркале! Этим-то и объясняется тот оттенок враждебности, с которым и критика и публика относятся к последнему роману Толстого.
Художественность в произведениях Л. Толстого проявляется с замечательною силою; вы не встретите ни одной утрировки, ни одного образа, краски которого были бы положены слишком густо».
Далее следует характеристика главных героев «Анны Карениной» и рассматривается их значение с точки зрения социального перевоспитания существующего общества88.
В 1880 году появилась статья Скабичевского по поводу «Анны Карениной», озаглавленная «Разлад художника и мыслителя»89. Здесь Скабичевский повторял ту же характеристику Толстого, которую он давал в своей ранее написанной статье «Граф Лев Николаевич Толстой как художник и мыслитель». Это мнение о разладе Толстого-художника и Толстого-мыслителя высказывалось и другими критиками 1870-х годов; повторялось оно много раз и впоследствии и легло в основу взгляда Плеханова на литературную деятельность Толстого.
В статье 1880 года Скабичевский уже не говорит, как раньше, ни о «мелодраматической дребедени», ни об «омерзении», вызываемом в нем романом Толстого; он даже находит «верх трагического пафоса» в сцене свидания Анны с сыном, которую признает «одной из лучших сцен в романе, одной из лучших сцен в нашей литературе».
Содержание «Анны Карениной» Скабичевский видит в том, что Толстой «делит своих действующих лиц на два лагеря — правых и левых, для того чтобы одних похвалить и поставить им хороший балл за поведение, а других наказать выговором и дурным аттестатом».
Так критик приписал Толстому то, что в корне противоречит и его миросозерцанию и его творческому методу, и тем обнаружил свое полное непонимание и Толстого-художника и Толстого-мыслителя.
XIII
Выше приводились отзывы об «Анне Карениной», содержащиеся в письмах к Толстому Страхова и Фета. Число известных писем других писателей об «Анне Карениной» невелико.
418
К марту 1875 года, когда читателям были известны только первая часть и половина второй части «Анны Карениной», относятся письма о романе Толстого четырех известных литераторов разных направлений: Стасова, Лескова, Салтыкова и Тургенева.
7 марта 1875 года В. В. Стасов писал А. А. Голенищеву-Кутузову: «Но вообразите, вторая часть „Анны Карениной“ еще невыносимее первой, хотя столько же талантлива по художеству»90.
30 марта 1875 года Стасов писал Тургеневу: «А что Вы скажете, Иван Сергеевич, про „Анну Каренину“? Ведь жидко и слабо, другими словами — плоховато! И такое здесь [в Петербурге] едва ли не всеобщее мнение. Нельзя, конечно, не любоваться на талантливость многих подробностей, но не те теперь времена пришли, чтобы по-старинному радоваться, как бывало 20—30 лет назад, только на талантливость автора и красивость формы. Нет, наша уже русская публика сильно выросла (быть может, больше всех остальных публик) в отношении к литературе, и никакой талантливостью не задержишь ее все только на одних „амурах“ и нежных чувствах кавалеров и дам. Изумителен, право, этот Лев Толстой: такой громадный талант скульптурной работы — и рисунок, и лепка, и типы, и красота — все есть у него во власти — и вечно из этого всего лепит такой вздор или мелочи!!. Знаете ли, общее мнение против Толстого так сильно в настоящую минуту (по крайней мере на основании того, что напечатано во второй книжке «Русского вестника»), что если и весь остальной роман такой же будет, никто не купит этого романа отдельных томов. Все жалуются»91.
Стасову понадобилось два года, чтобы увидать в «Анне Карениной» не «амуры кавалеров и дам», а такое произведение (как писал он редактору «Нового времени» в 1877 году), которое некоторыми своими сторонами стоит выше произведений Пушкина и Гоголя.
Аналогичное явление произошло с другим выдающимся современником Толстого, композитором П. И. Чайковским. 9 сентября 1877 года, еще не прочтя целиком романа Толстого, Чайковский писал своему брату, Модесту Ильичу: «После твоего отъезда я еще кое-что прочел из „Карениной“. Как тебе не стыдно восхищаться этой возмутительно пошлой дребеденью, прикрытою претензией на глубокость психического анализа. Да чорт его побери, этот психический анализ, когда в результате остается впечатление пустоты и ничтожества». Через четыре с половиной года, 7 (19) февраля 1882 года, прочтя роман, Чайковский писал другому своему брату, Алексею Ильичу: «Прочти
419
«Анну Каренину», которую я недавно в первый раз прочитал с восторгом, доходящим до фанатизма»92.
Лесков писал И. С. Аксакову 23 марта 1875 года:
«Что же про „Анну Каренину“? Я считаю это произведение весьма высоким и просто как бы делающим эпоху в романе. Недостаток (и то ради уступок общему говору) нахожу один — так называемая „любовная интрига“ как будто не развита... Любовь улажена, не по романическому, а как бы для сценария... Не знаю, понятно ли я говорю? Но я думаю: не хорошо ли это? Что же за закон непременно так, и не этак очерчивать эти вещи? Но если это и недостаток, то во всяком случае он не более как пылинка на картине, исполненной невыразимой прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной (что так испортило мою руку). Однако у нас роман дружно ругают (Дмитрий Самарин тому свидетель): светские люди раздражаются, видя свое отображение, и придираются к непристойности сцены медицинского осмотра княжны Кити, а за настоящими светскими людьми тянут ту же ноту действительные статские советники, составляющие теперь довольно значительную общественную разновидность, с претензией на хороший тон. Литературщики злобствуют потому, что роман появляется в «Русском вестнике» — для них этого довольно. Но есть и жаркие почитатели Карениной, по преимуществу в числе женщин среднего слоя. Вообще же успех романа весьма странный, и порою сдается, что общество совсем утратило вкус: многим „Женщины“ Мещерского нравятся более, чем „Анна Каренина“... Что с этим делать?»
По выходе мартовской книжки «Русского вестника» за 1875 год Н. С. Лесков 6 апреля писал И. С. Аксакову. «Третий кус „Анны Карениной“, по-моему, столь же хорош, как и первые два»93.
Салтыков писал П. В. Анненкову 9 марта 1875 года:
«Вероятно, Вы... читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детор[одных] частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?»
Письмо это (если оставить в стороне грубость выражений, объясняемую тем, что Салтыков писал частное письмо своему
420
хорошему знакомому и никогда не думал, что оно будет напечатано) очень характерно для Салтыкова как писателя и как редактора. Салтыков ни в одном своем произведении не использовал любовные отношения своих героев в качестве основного сюжета. К романам и повестям, построенным исключительно на описании любовных историй героев, Салтыков относился с нескрываемым презрением. Отсюда его резкий отзыв о последних романах Золя, «которыми все офицеры и кокотки высшего света упиваются» (письмо к Толстому 21 декабря 1882 года). По первым двум книжкам «Русского вестника» Салтыков, так же как и Стасов, составил себе неверное представление о романе Толстого, а тот факт, что за роман Толстого, как за своего рода знамя, ухватилась консервативная критика, еще более настроил против него Салтыкова.
В более позднем письме к тому же П. В. Анненкову, от 2 декабря 1875 года, Салтыков сообщал, что он намерен написать ряд очерков, в которых, в числе других действующих лиц, будет фигурировать «шпион, литератор, который в подражание „Анне Карениной“ пишет повесть „Влюбленный бык“»94. Такая пародия, названная «Благонамеренная повесть», была начата Салтыковым; было написано вступление и начало повести, озаглавленное «Мои любовные радости и любовные страдания. (Из записок солощего быка)». Очерки, о которых Салтыков писал Анненкову, были напечатаны в первой книжке «Отечественных записок» за 1876 год, но «Влюбленного быка» в их числе не оказалось — пародия Салтыкова не была закончена и появилась только после его смерти.
Можно считать несомненным, что Салтыков с течением времени изменил свое мнение об «Анне Карениной». Это видно и из того факта, что в «Отечественных записках» 1877 года появилась рецензия на «Анну Каренину» не как на «коровий» роман, — рецензия, в которой вполне серьезно рассматривался образ Левина, — и еще из того, что в год появления отдельного издания «Анны Карениной» Салтыков обратился к Толстому с просьбой о сотрудничестве в «Отечественных записках».
Один из главных сотрудников «Отечественных записок», Г. И. Успенский, очень высоко оценил «Анну Каренину» как роман социальный. 22 октября 1878 года он сообщал Н. А. Николадзе о своем замысле написать ряд этюдов под названием «Разговоры об „Анне Карениной“», прибавляя, что этот роман — «богатая тема для изучения современной русской жизни, направления современной русской мысли и русского человека вообще»94а.
421
XIV
Ряд писем с отзывами об «Анне Карениной» находим в переписке Тургенева.
Уже первая часть «Анны Карениной» вызвала отклик со стороны Тургенева. 13 (25) февраля 1875 года он писал А. Ф. Онегину: «Прочитал я „Анну Каренину“ Толстого и нашел в ней гораздо меньше, чем ожидал. — Что будет — не знаю; а пока это и манерно и мелко — и даже (страшно сказать!) скучно. Вы это, однако, не повторяйте: а то подумают, что это я так говорю из литературной зависти»95.
Вероятно около того же времени Тургенев писал Анненкову, отвечая на его какое-то письмо: «Что роман Толстого неудовлетворителен — это горестно. Не знаю, как вам покажется „Анна Каренина“, а я нашел ее, т. е. ее начало, манерным, мелким, léché [изысканным], как говорят живописцы, и неинтересным. Может быть, дальше пойдет лучше. — Будем ждать. Кропотливо и вяло — вот общее впечатление; есть места хорошие, но немного»96.
М. М. Стасюлевичу Тургенев писал 6 (18) марта того же года: «Роман Л. Н. Толстого обманул ожидания — если не публики, то мои»97.
22 марта (3 апреля) Тургенев писал А. В. Топорову: «Мне давали читать „Анну Каренину“ в „Русском вестнике“, не могу сказать, что я остался ею доволен — хотя сильный талант Толстого проявляется иногда в полном блеске»98.
Затем по поводу второй части романа Тургенев 1 (12) апреля 1875 года писал из Парижа А. С. Суворину: «Талант из ряду вон, но в „Анне Карениной“ он, как говорят здесь, a fait fausse route [сделал ложный шаг]: влияние Москвы, славянофильского дворянства, старых православных дев, собственного уединения и отсутствие настоящей художнической свободы. Вторая часть просто скучна и мелка, вот что горе!»
Я. П. Полонскому Тургенев писал 13 мая 1875 года: «„Анна Каренина“ мне не нравится, хотя попадаются истинно-великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.»99. Эта капризно-причудливая характеристика «Анны Карениной» интересна, между прочим, своей полной противоположностью характеристике Салтыкова-Щедрина. В то время как Салтыков порицал роман за то, что в нем нет ничего,
422
кроме любовных историй, Тургенев, напротив, задыхался от запаха «ладана» и «старой девы». О переполнении романа Толстого любовными историями у Тургенева — ни слова.
Почти через год — 10 (22) марта 1876 года Тургенев писал Ю. П. Вревской: «Я еще не читал продолжения „Анны Карениной“, но вижу с сожалением, куда весь этот роман поворачивает. Как ни велик талант Л. Толстого, а не выдраться ему из московского болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла — хаос одним словом. И в этом хаосе должен погибать такой одаренный человек! Так на Руси всегда бывает»100.
Вскоре после этого, 16 (28) марта 1876 года, Тургенев писал Анненкову: «Даже знаменитая и пресловутая „Анна Каренина“ меня удовлетворяет мало, хотя и попадаются в ней прелестные вещи, достойные великого мастера. Но ото всей этой вещи отдает чем-то затхлым»101.
В разговоре с Х. Д. Алчевской Тургенев 30 мая 1876 года высказал следующее мнение об «Анне Карениной»: «Это совсем не роман, это просто какие-то небрежные наброски. Вам кажется, что Лев Толстой путешествует и безразлично останавливает свой взор то на одной, то на другой картинке. Ему все равно, что попадается ему на глаза, — хорошо ли оно или дурно. Вы чувствуете даже, что описание этих картинок зависит от его личного расположения духа. В хорошем он расположении — он смотрит так, в дурном — иначе на тот же самый предмет. Писать так роман невозможно. В нем должна быть вложена известная идея»102.
Н. Я. Стечькин в своих воспоминаниях о Тургеневе записал следующее его мнение об «Анне Карениной», высказанное в 1878 году. Тургенев говорил, что на сочинение романа с замысловатым сюжетом, со сложной интригой ему не достало бы воображения. «Одни англичане овладели этим секретом, а мы... Ну, возьмите графа Льва Толстого. Он теперь первый писатель не только в России, но и во всем мире. Некоторые его страницы, например, свидание Анны Карениной с сыном, — какое совершенство! Когда я прочитал эту сцену, у меня книга из рук выпала. Да неужели, говорил я мысленно, можно так хорошо писать? А что же! Ни „Война и мир“, ни „Анна Каренина“ при всем гении Толстого не оставляют цельного впечатления о целой вещи»103.
423
Свое высокое мнение об этой главе «Анны Карениной» Тургенев высказывал и М. М. Ковалевскому, который в своих воспоминаниях приводит следующие слова Тургенева: «У меня нет силы таланта, какой обладает Лев Толстой, я бы никогда не мог написать ничего подобного сцене свидания Анны Карениной с ее детьми»104.
Наконец, 12 (24) января 1880 года Тургенев, отвечая Флоберу на его мнение о философии «Войны и мира», писал (перевод с французского): «Да, это мощный человек, и все-таки вы попали в его больное место. Он создал себе философскую систему, — мистическую, детскую и дерзкую в одно и то же время, и она чорт знает как испортила его второй роман, написанный после „Войны и мира“, в котором тоже есть вещи, совершенно из ряда вон выходящие»105.
Характерно, что при всем своем недовольстве «Анной Карениной» Тургенев не переставал считать Толстого, как он говорил Стечькину, «первым писателем не только в России, но и во всем мире».
Последнее упоминание в переписке Тургенева об «Анне Карениной» находим в его письме от 26 июля 1881 года. Письмо написано после того, как Тургенев, примирившись с Толстым, дважды побывал в Ясной Поляне и Толстой прислал ему в Спасское собрание своих сочинений. И вот Тургенев пишет жене Толстого: «Я получил сочинения Льва Николаевича, которые он мне прислал, и теперь с особенным вниманием перечитываю „Анну Каренину“»106.
Тургенев, очевидно, хотел проверить свое первое впечатление от «Анны Карениной» и потому решил перечитать роман.
XV
Нам остается только, в заключение этой главы, кратко коснуться двух работ об «Анне Карениной», появившихся позднее, авторы которых были в переписке с Толстым.
Первая работа — этюд М. С. Громеки «Последние произведения Л. Н. Толстого», напечатанный в «Русской мысли» за 1883 и 1884 годы107.
Толстой, как писал он М. С. Громеке в январе 1883 года, еще в рукописи прочел предисловие к его статье и «перелистовал остальные» — главы, которые были написаны в то время. Затем
424
в апреле Толстой писал Громеке, что прочел его третью статью, которая ему «очень нравится»108. Вероятно, Толстой прочитал или, скорее, «перелистовал» и другие части этюда Громеки и вынес впечатление, что Громека рассматривает роман с точки зрения тогдашнего (1883 года) миросозерцания автора. В беседе с посетившим его в августе 1883 года Г. А. Русановым Толстой назвал статью Громеки «превосходною». «Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение», — говорил Толстой109. И еще раз, много лет спустя, Толстой сказал о статье Громеки: «Мне было дорого, что человек, сочувствующий мне, мог даже в „Войне и мире“ и „Анне Карениной“ увидеть многое, о чем я говорил и писал впоследствии»110.
В своей статье Громека, изложив общую идею «Анны Карениной», которая, по его мнению, состоит в воплощении «в художественном образе поворота общественного духа от старинного рационализма к непосредственному общению с природой и божеством», дальнейшую часть этюда посвящает характеристике главных действующих лиц романа. Об Анне Карениной автор писал: «Анна — просто страстная женщина, жившая для одной лишь любви и ей принесшая в жертву семью, общественное положение и, наконец, самую жизнь. Она была последовательна и цельна; в своем основном стремлении она шла до конца, и в этом была ее главная сила. Но страстность натуры была в то же время и ее слабостью... И она погибла жертвой собственной страсти, бессознательно нарушившей непреложные законы человеческого общежития и нравственности». Гибель Анны критик объяснял следующим образом: «Художник доказал нам, что в этой области [в семейной жизни] нет безусловной свободы, а есть законы, и от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым, или преступить их и быть несчастным... Позднее увлечение страстью, как естественное последствие старой лжи, разрушив ее, не исправит тем ничего и приведет лишь к окончательной гибели, потому что „Мне отмщение, и Аз воздам“».
Далее автор переходит к образу Долли и оценивает ее чрезвычайно высоко:
«Не блистающая Анна, не грациозная Кити, не они — героини романа, решающего проблему семейного счастья и горя, а бесцветная на вид и ничем для большинства не очаровательная Долли. Долли несчастна с мужем, но она права, и ее правота делает ее счастливою другим, лучшим счастьем». Затем Громека говорит еще об одной женской фигуре, на которой Толстой «как будто стыдился останавливаться подробно и долго», но которую
425
«он же, освободив от ее позора и несчастья, наделил возвышающими ее над всеми женщинами романа трогающими нас самоотвержением и чистотой». Это Марья Николаевна, подруга Николая Левина. Громека не называет ее, подобно Долли, героиней, потому что «этот литературный термин слишком для нее казармен, слишком не способен выразить всей ее высоты». «Я знаю только одно слово, которое могло бы собою выразить все, и я бы сказал его, если бы литературная критика обладала властью канонизировать чистые образы художника». Он, очевидно, хотел бы назвать ее святою.
Кити Щербацкая характеризуется автором как «самая обыкновенная, хорошая девушка московского стародворянского круга. В ней было много изящества и грации, правдивого и нежного чувства, но не было деятельной мысли и широких требований жизни. Она была цельная, но очень несложная натура, и этим существенно отличалась от Левина, с его глубокими и сложными интересами духа, с его чрезмерною тонкостью и широтой восприимчивого впечатления и неумеренно развитою рефлексией».
«Вокруг этих главных действующих лиц романа, — пишет далее автор, — движется огромное множество второ- и третьестепенных фигур так же точно, как это бывает и в действительной жизни... Не считая детей, на более далеких планах стоит ни более ни менее, как 99 лиц из образованного класса и 67 человек из остальных общественных слоев. И все эти полтораста фигур проходят перед нами так, что каждая имеет свои типические черты, не мешается с другими и не нарушает впечатления от лиц первостепенных, составляя для них фон необыкновенной жизненности».
Вторая критическая статья об «Анне Карениной», появившаяся в 1883 году, принадлежала Н. Н. Страхову.
Работая в конце 1877 года над чтением корректур отдельного издания «Анны Карениной», Страхов в письмах к Толстому время от времени высказывал свои впечатления и суждения о романе. Так, 27 декабря 1877 года он писал: «Дня три тому назад я отослал последний лист корректуры и до сих пор я весь еще переполнен „Карениной“; под конец чтение корректур сопровождалось волнением восторга и чуть не слезами. Я влюбился в Ваш роман ужасно... Скажу одно: серьезность Вашего тона просто страшна; такого серьезного романа еще не было на свете»111.
Страхов долго вынашивал свою статью об «Анне Карениной» и выступил в печати только через пять лет после выхода отдельного издания романа. В газете И. С. Аксакова «Русь»
426
появилась в январе 1883 года его статья «Взгляд на текущую литературу», посвященная главным образом характеристике Гоголя, Тургенева, Достоевского, Щедрина и одного лишь романа Толстого — «Анна Каренина».
«„Анна Каренина“, — писал Страхов в этой статье, — есть произведение не чуждое художественных недостатков, но представляющее и высокие художественные достоинства. Во-первых, предмет такой простой и общий, что многие, и долго, не могли найти его интересным, не воображали, чтобы в романе могла оказаться современность и поучительность. Рассказ распадается на две части, или на два слоя, слишком слабо связанных внешним образом, но внутри имеющих тесную связь. На первом плане городская, столичная жизнь... На втором плане, более широком и имеющем более существенное значение, история деревенского жителя Левина; рассказывается, как он объяснялся в любви, делал предложение, говел, венчался, как у него родился сын и стал наконец узнавать отца и мать. Величайшая оригинальность автора обнаруживается в том, что эти обыкновенные события, по ясности и глубине, с которою он их изображает, получают поражающий смысл и интерес. Общая идея романа, хотя выполненного не везде с одинаковою силою, выступает очень ясно; читатель не может уйти от невыразимо тяжелого впечатления, несмотря на отсутствие каких-нибудь мрачных лиц и событий, несмотря на обилие совершенно идиллических картин. Не только Каренина приходит к самоубийству без ярких внешних поводов и страданий, но и Левин, благополучный во всем Левин, ведущий такую нормальную жизнь, чувствует под конец расположение к самоубийству и спасается от него только религиозными мыслями, вдруг пробудившимися в нем, когда мужик сказал, что нужно бога помнить и жить для души. Это и есть то нравоучение романа, по которому он составляет введение к рассказу «Чем люди живы».
Каренина живет своею страстью. До этой страсти она была голодна душою; с удивительной тонкостию и ясностию нам изображена эта столичная и придворная жизнь, в которой нет никакой душевной пищи, где интересы искусственные, миражные. Анна и Вронский чуть ли не лучшие люди этой среды, потому что в них естественные чувства взяли верх над всеми искусственными влечениями, составляющими радость и горе их круга... «Анна Каренина» принадлежит к числу чрезвыйчайно редких произведений, в которых действительно изображена страсть любви. Несмотря на то, что любовь и сладострастие составляют неизменную тему повестей и романов, обыкновенно авторы довольствуются тем, что выведут на сцену молодую пару и, рассказывая всякого рода встречи и разговоры, предоставляют воображению читателя подсказать ему чувства и волнения, сопровождающие эти встречи и разговоры. В «Анне Карениной»,
427
напротив, точно описан самый душевный процесс страсти — дело столь новое и необыкновенное, что многие критики и читатели даже не могли понять его и печатно выразили свое недоумение. Страсть здесь возникает с первого взгляда, без предварительных разговоров о вкусах и убеждениях... Затем страсть растет, и автор рассказывает каждый ее фазис так же ясно и понятно, как этот первый взгляд влюбившихся. Все полнее и полнее раскрывается чувство; Анна начинает ревновать...
Сущность ревности, внутренняя борьба Анны и Вронского рассказаны так убедительно и отчетливо, что ужасно видеть неизбежную последовательность этого развития. Несчастная Анна, положившая всю душу на свою страсть, необходимо должна была сгореть на этом огне. Когда она почувствовала, что ей изменяет ее единственное благо, она позвала смерть. Она не стала дожидаться полного охлаждения или измены Вронского; она умерла не от оскорблений или несчастий, а от своей любви. История трогательная и жестокая, и если бы автор не был так беспощаден к своим героям, если бы он мог изменить своей неподкупной правдивости, он мог бы заставить нас горько плакать над несчастной женщиной, погибшей от бесповоротной преданности своему чувству. Но автор взял дело полнее и выше. Тонкими, но совершенно ясными чертами он обрисовал нам нечистоту этой страсти, не покоренной высшему началу, не одухотворенной никаким подчинением. Мало того. У Карениной и у ее мужа, в минуты потрясений и болезни, совершаются сознательные проблески чисто духовных начал (вспомните больную после родов Анну и Каренина, прощающего Вронского), проблески, быстро затянутые тиною других, враждебных им чувств и мыслей. Один Вронский остается плотяным до конца.
Таким образом, с ужасающею правдою нам показан этот мир полной слепоты, полного мрака. Контраст ему составляет мир, по-видимому, гораздо более светлый, мир Левина, человека искреннего, простого, со многими недостатками, но с чистым сердцем. Каренин и Вронский — типы чиновника и военного, Левин — тип помещика. Их собственно три брата: старший, от другого отца, Кознышев, — славянофил; второй, Николай Левин, — нигилист; третий, Константин Левин, герой романа, — представляющий как бы просто русского человека без готовых теорий. Это сопоставление очень поучительно; оно дает нам образчики главнейших умственных настроений в нашем обществе, картину нашего умственного брожения. Наилучший представитель этого брожения, имеющий на своей стороне все симпатии автора, есть Константин Левин, вечно умствующий о самых общих вопросах и не принимающий ходячих решений. Конечно, это расположение к умствованию есть чисто русская черта...
428
Но роман изображает нам не умствования, а жизнь Левина, даже самый полный расцвет его жизни, и автор именно хотел нам показать, как возникают мысли Левина из событий его жизни, из неотразимых чувств его сердца. По-видимому, это совершенно благополучная жизнь; Левин человек достаточный, он молод, силен, он забавляется охотой и очень предан своим занятиям хозяйством, он женится на той, которую любит, и становится счастливым отцом семейства. Картины всех этих удовольствий и радостей принадлежат к лучшим и истинно удивительным страницам романа. Спрашивается, откуда же могли взяться мрачные мысли, и даже мысль о самоубийстве? Если всмотреться, то мы почувствуем пустоту этой жизни, и нам станет понятен душевный голод Левина. Автор приводит Левина в столкновение с различнейшими сферами людей и дел и везде с своей чудесной ясностью показывает, как Левин не мог примкнуть ни к одной из этих сфер. Он страшно одинок, и одинок в силу своей чуткости, своей правдивости и искренности, не допускающей никаких компромиссов, отвергающей всякую фальшь.
Таким образом, лучший из людей, выведенных в романе, менее всего способен слиться с окружающей жизнью. Он ее отвергает, и это отвержение тем сильнее, что оно совершается без раздражения и невольно; Левин ничего не обличает, ни на что не нападает, — он просто уходит от того, что̀ ему противно. В конце романа изображена волна общественного одушевления, пробежавшая во время сербской войны; Левин и тут устраняется, уходя от волны в те глубокие народные слои, которые остались незатронутыми, хотя вполне подчинились ей по общему течению своей жизни... Но в сущности, роман содержит много картин, гораздо более безотрадных. Несмотря на полнейшую мягкость приемов, едва ли было когда-нибудь сделано более мрачное изображение всего русского быта. Только мир крестьян, лежащий на самом дальнем плане и лишь изредка ясно выступающий, только этот мир сияет спокойною, ясною жизнью, и только с этим миром Левину иногда хочется слиться. Он чувствует, однако, что не может этого сделать.
Что же остается Левину? Что остается человеку, который подпал такому жестокому разобщению с окружающею жизнью? Ему остается он сам, его личная жизнь. Но личная жизнь есть всегда игралище случая... Левин чувствует, что он во власти случайностей, что самая нить его жизни ежеминутно может порваться так же легко, как тонкая паутинка. Вот откуда его отчаяние. Если моя жизнь и радость есть единственная цель жизни, то эта цель так ничтожна, так хрупка, так очевидно недостижима, что может внушать лишь отчаяние, может лишь давить человека, а не воодушевлять его. И вот где начинается поворот Левина к религиозным мыслям.
429
Таков, очевидно, смысл «Анны Карениной». Задача взята глубоко, взят вековечный вопрос человеческой жизни, а не один лишь современный тип и современный интерес... Этот роман действительно изображает нашу современность; на горе нам (или, может быть, на радость?) вечные вопросы у нас волнуют обыкновенных людей и при обыкновенных обстоятельствах. У нас совершается какое-то колебание человеческой совести, заражающее целые толпы всевозможных людей, конечно из образованных классов... Левин нашел спасение в религиозных мыслях, но Анна, принадлежащая к миражному верхнему слою, несмотря на все свои мучения, не образумилась ни на минуту, не знала даже, куда обратиться, чтобы искать спасения. Это отсутствие всякой серьезности в понятиях так называемых образованных людей, отсутствие того, что собственно называется нравственностью, с великим мастерством изображено в картинах большого света. Весь же роман есть изображение общего душевного хаоса, господствующего во всех слоях, кроме самого нижнего»112.
Выдержками из этой интересной статьи «влюбленного» в «Анну Каренину» Н. Н. Страхова мы и закончим обзор отзывов современников о гениальном романе Толстого.
430
Глава шестая
ГОДЫ КРИЗИСА И ПЕРЕЛОМА
(1877—1819)
I
28 октября 1884 года Толстой писал жене:
«Нынче я вспомнил, что мне 56 лет, и я слыхал и замечал, что семилетний период — перемена в человеке. Главный переворот во мне был 7×7 = 49, именно когда я стал на тот путь, на котором теперь стою. Семь лет эти были страшно полны внутренней жизнью, уяснением, задором и ломкой»1.
Толстой, следовательно, приурочивал происшедший в его мировоззрении переворот к 1877 году.
Содержание и характер этого перелома в мировоззрении и жизни Толстого раскрыты им самим в последней части (эпилоге) «Анны Карениной» и в «Исповеди», первая редакция которой была написана в 1879 году, а окончательная — в 1882 году
Этому перелому предшествовало состояние глубокого пессимизма, полного неверия в жизнь и крайнего отчаяния. В «Исповеди» Толстой в следующих словах рассказывает об этом периоде своей жизни:
«...Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?
...Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут
431
мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну, и что ж!..»
И я ничего и ничего не мог ответить...
Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.
Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать...
Жизнь мне опостылела — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее»2.
Как изображенный им Левин, Толстой понимал, что «надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться»3. Как Левин, Толстой в то время «невольно, бессознательно для себя... во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их»4.
Подобно тому, как в «Войне и мире» возвращение Пьера Безухова к жизни после охватившего его уныния и безнадежности произошло под влиянием встречи с представителем народа, Платоном Каратаевым, так точно и Левин возрождается к жизни после разговора с мужиком Федором, происходившего в риге во время молотьбы. Разговор коснулся двух мужиков села Покровского, где жил Левин. Один из них, кулак Митюха, «только для нужды своей живет», «только брюхо набивает», а другой, Фоканыч, — «правдивый старик. Он для души живет, бога помнит»; живет «по правде, по-божью».
Эти слова мужика Федора были для Левина откровением. «При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по-божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом»5
Мы не знаем, приходилось ли Толстому в действительности вести с каким-либо крестьянином такой или подобный такому разговор, который ведет Левин с мужиком Федором; но совершенно несомненно, что возвращение Толстого к жизни после мучительного отчаяния произошло лишь после того, как он теснее сблизился с окружавшим его трудовым крестьянством и
432
воспринял его взгляд на жизнь. В «Исповеди» Толстой рассказывает:
«...Благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, — это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь».
«Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни»6.
О Левине в «Анне Карениной» сказано, что опорой ему в его вере служило то, что «все хорошие по жизни близкие ему люди верили... И девяностно девять сотых русского народа, весь тот народ, жизнь которого внушала ему наибольшее уважение, верили»7. И Толстой в своих религиозных исканиях остановился пока на церковном учении, которое он принял целиком, — так, как принимал его окружавший его крестьянский народ. «Я знаю, что яснее тех объяснений, которые дает церковь, я не найду, и эти объяснения вполне удовлетворяют меня», — говорит Левин в черновой редакции эпилога «Анны Карениной»8.
Толстого, как и Левина, привлекло в учении церкви то, что, как ему тогда казалось, «под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд»9.
Левину «казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушало главное — веру в бога, в добро, как единственное назначение человека»10.
Всякий человек, верил Левин, чувствует в своей душе «законы добра», и эти законы добра «требуют, чтобы человек любил ближнего, а не душил его». В признании этих законов добра все люди объединяются «в одно общество верующих».
Общественная деятельность не отрицается, но деятельность эта, по мнению Левина (и Толстого), должна иметь в своей основе те же «законы добра». «Достижение... общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку», — думал Левин11.
433
Размышления Левина в эпилоге «Анны Карениной» заканчиваются следующими словами: «Жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»
Этими словами заканчивается роман «Анна Каренина».
Ошибочно было бы думать, что перелом в мировоззрении Толстого, происшедший в конце 1870-х годов, произошел внезапно и не имел корней в его миросозерцании до этого времени. В «Исповеди» Толстой говорит: «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне»12.
Такое же мнение о постепенном назревании перелома в его миросозерцании Толстой высказывал и в некоторых письмах. Так, в письме к Ж. Дюма от 1 апреля 1892 года Толстой выражает согласие с мыслью Дюма о том, что перелом, описанный им в «Исповеди», произошел не сразу, и что те идеи, которые изложены в его последних произведениях, находятся в зародыше в более ранних13. Правильнее было бы сказать — не «в зародыше», а на некоторой стадии развития находим в ранних произведениях Толстого, каковы автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество» и «Юность», педагогические статьи, «Казаки», «Война и мир», особенно «Анна Каренина», те же самые идеи, которые в совершенно определенной форме были высказаны в позднейших произведениях.
II
Агитация консервативных и славянофильских газет в пользу добровольческого движения на помощь восставшим сербам, имевшая целью вовлечь Россию в войну с Турцией, мало-помалу оказывала свое действие — в воздухе запахло войною.
12 ноября 1876 года Толстой писал Страхову:
«Был я на днях в Москве только затем, чтобы узнать новости о войне. Всё это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставшая историей, прошедшим, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление»14.
12 апреля 1877 года был подписан манифест о войне с Турцией. В манифесте было сказано, что царь Александр II будто бы всегда принимал «живое участие в судьбе угнетенного христианского населения Турции», а теперь и весь русский народ выражает «готовность свою на новые жертвы для облегчения
434
участи христиан Балканского полуострова». «Ввиду печальных событий, совершившихся в Герцеговине, Боснии и Болгарии», русское правительство пыталось «достигнуть улучшения в положении восточных христиан путем мирных переговоров», но успеха не имело, и теперь войскам отдан приказ вступить в пределы Турции15.
«Как мало занимало меня сербское сумасшествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня», — писал Лев Николаевич А. А. Толстой 15 апреля 1877 года16.
Около того же времени С. А. Толстая писала Т. А. Кузмииской: «У нас теперь везде только и мыслей, только и интересов у всех, что война и война... Левочка странно относился к сербской войне; он почему-то смотрел не так, как все, а с своей, личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что война настоящая и трогает его»17.
Первые месяцы войны с Турцией были, как известно, неудачны для русской армии; на Толстого неудачи действовали удручающе. 11 августа он писал Страхову: «И в дурном и в хорошем расположении духа мысль о войне застилает для меня всё. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне всё становятся яснее и яснее... Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота... Нынешняя почта хотя и ничего не принесла нового, однако успокоила меня. В особенности взгляд французов в «Revue des deux Mondes». Видно, что неудачи кончились, и скрывать больше нечего».
В том же письме Толстой обратился к Страхову с просьбой прислать ему книгу, которая бы содержала «описание нынешнего царствования», или газеты за последние двадцать лет, «или нет ли журнала, в котором бы были обзоры внутренней политики». Ему нужны такие материалы, по которым можно бы было «проследить внутреннюю историю действий правительства и настроений общества за эти двадцать лет»18.
Толстой не объяснил Страхову, для чего были нужны ему эти материалы. Они были нужны ему не для художественной работы, а для публицистической. Он мучительно переживал неудачи русской армии в начавшейся войне с турками. Перед ним вставал вопрос: как могло случиться, что Россия, в 1854—
435
1855 годах так стойко отражавшая нападение трех могущественных держав, теперь не могла справиться с одной Турцией? Он полагал, что ответ на этот вопрос нужно искать в общем направлении внутренней политики Александра II с самого начала его царствования. С этой целью он и просил Страхова прислать нужные ему материалы.
Не дожидаясь получения книг от Страхова, Толстой 24 августа 1877 года начал статью, в которой ставил своей задачей дать ответ на волновавший его вопрос. Об этом мы узнаем из следующей записи в дневнике С. А. Толстой от 25 августа того же года: «Его очень волнует неудача в турецкой войне и положение дел в России, и вчера он писал все утро об этом. Вечером он мне говорил, что знает, какую форму придать своим мыслям, именно написать письмо к государю»19.
Толстой начал свою статью с указания того факта, что только с начала царствования Александра II в России образовалось так называемое общественное мнение. В предыдущее царствование Николая I и в разговорах и еще более в литературе не допускалось и наказывалось всякое выражение мнений частных лиц о правительственных мероприятиях. Толстой вспоминает, как в самые первые годы царствования Александра II «в разговорах, речах и печати» осуждались действия правительства Николая I в Восточную войну. «Все признали и все говорили, что эта война была грубая и жалкая ошибка деспотического одуревшего правительства». Указывали на то, что мы начали войну без дорог, без лазаретов, без обеспечения продовольствием, что в интендантстве царило воровство и т. д. Все эти упреки Толстой признает справедливыми, но вместе с тем указывает на то, что теперь, в 1877 году, после осады и взятия Парижа немцами, на пятом месяце войны с Турцией, после 21 года мирной жизни и общественных приготовлений, «мы чувствуем себя несравненно слабее, чем мы были тогда. Тогда мы боролись почти со всей Европой и отдали уголок Крыма и часть Севастополя и взяли Карс, а теперь мы отдали часть Кавказа одним туркам и ничего прочно не взяли» Так что теперь Восточная война, «считавшаяся тогда несчастною и позорною, восстает перед нами совсем в другом свете».
Перейдя далее к вопросам внутренней политики, Толстой прежде всего останавливается на отмене крепостного права. Так как крепостное право, говорит он, представляло «бесчисленные примеры жестокости и злоупотреблений», то отмена крепостного права была «нравственно справедлива». Лучшие представители «образованной толпы», состоявшей преимущественно из дворян, несмотря на то, что уничтожение крепостного права наносило им огромный материальный ущерб, «с самоотвержением
436
вследствие одних доводов нравственной справедливости» встали в этом вопросе на сторону правительства, и в их лице правительство «приобрело сильнейшего союзника, без которого оно не могло бы спокойно привести в исполнение эту меру».
Все это начало новой статьи было написано Толстым в один присест, но на этом статья была прервана20.
Не приступая к продолжению статьи, Толстой обдумывал ее дальнейшее содержание.
В конце августа он купил в Москве рекомендованную ему Страховым книгу А. А. Головачева «Десять лет реформ» и в письме к Страхову просил указать другие книги по интересующему его вопросу.
Толстой был убежден в том, что «причины нашей несостоятельности» в войне с Турцией кроются в направлении политики Александра II, но ему было неясно, в чем состояли эти причины. И хотя Страхов в ответном письме от 8 сентября и предлагал прислать Толстому книгу профессора Яснова «Опыть исследования о крестьянских наделах и платежах», которая, по его словам, «наводит ужас», и Толстой в письме от 23 сентября просил Страхова прислать ему эту книгу, но, по-видимому, книга, Янсона заинтересовала его более не как материал для начатой работы, а сама по себе, так как касалась очень близкого ему предмета — положения русских крестьян.
К продолжению начатой статьи Толстой так и не приступил, но война с Турцией продолжала беспокоить и волновать его. 16 августа он писал Страхову:
«В войне мы остановились на третьем дне битвы на Шипке, и я чувствую, что теперь решается или решена уже участь кампании, или первого ее периода. Господи помилуй»21.
В середине августа Толстой ездил в Тулу смотреть пленных турок. Об этом Софья Андреевна 22 августа писала Т. А. Кузминской: «Ездила я с Степой, Сухотиным, Левочкой и Илюшей в Тулу смотреть пленных турок. Живут они в бывшем сахарном заводе, почти за городом, устроено у них очень хорошо. У всякого постель с белой простыней и подушкой, пищей они тоже, по-видимому, довольны. Левочка спросил, есть ли у них Коран и кто мулла, и тогда они нас окружили, и оказалось, что у всякого есть Коран в сумочке. Но когда они нас обступили и стеснили, был один момент, когда стало страшно, и мы скорей ушли. На вид они все почти молодцы и как все люди, есть из них страшные и неприятные, а у иных славные лица»22.
2 сентября Толстой писал Страхову:
437
«Сейчас получил письмо о раненых, которые должны поместиться у нас. Совершенно впечатление пожара в городе, в котором вы живете; хотя и далеко, но жить спокойно нельзя»23.
Теперь Толстой уже не думал, что благодаря войне «мы находимся на краю большого переворота». В том же письме к Страхову он писал:
«Чувство мое по отношению к войне перешло уже много фазисов, и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения — и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, — не может иметь последствий»24.
В начале сентября Толстой писал Н. М. Нагорнову:
«Война тревожит меня и мучает ужасно. Вы, верно, очень заняты, и это легче. А мы ждем и ничего не можем делать и даже ничего не знаем»25. В конце сентября Толстой пишет А. М. Кузминскому: «...По газетам, как всегда, ничего понять нельзя, но чувствуется, что что-то нехорошо, так как очень старательно умалчивается многое»26. Затем Страхову Толстой писал 19 октября: «Сведения, сообщаемые вами о войне, очень интересны и приятны. Обручев, по всему, что я слышал про него, очень симпатичен»27. Наконец, Фету Толстой писал 12 ноября: «Слава богу, что Карс взяли. Перестало быть совестно»28.
Это было последнее упоминание в письмах Толстого о русско-турецкой войне. После этого он как будто утратил к ней всякий интерес и не отозвался даже на заключение Сан-Стефанского мира с Турцией.
III
Еще не закончив работу над корректурами эпилога «Анны Карениной», Толстой уже думает о новом художественном произведении.
8 мая 1877 года в его записной книжке появляется запись: «К следующему после Анны Карениной». Он, вероятно, не имел в виду какой-либо определенный художественный замысел, но намеревался в том художественном произведении, которое он начнет по окончании «Анны Карениной», воспользоваться сделанными им под этим заглавием записями.
Записи начинаются картиной весны в деревне, — но не весенней природы, а весенних крестьянских работ и крестьянской жизни в весеннюю пору. Вот первая запись, сделанная 8 мая: «Мужики. Ладят сохи, бороны покупают... Пашут. Первая
438
пахота, сыро. Жеребята, махая хвостами, на тонких ногах бегают за сохами. Выросла трава. Поехали в ночное. Бабы за травой. Циплята... Запустил пахоту, проросла. С травой не расскораживается. — Телки, ягнята».
Вскоре среди записей появляются и картины весенней природы, как, например: «Вечер тихий, влажный, хмурый, пахнет гуртом в мае... светящиеся черви... На высыхающей луже только что выведшиеся лиловые, синие бабочки».
Такого рода отрывочные записи крестьянских работ, с одной стороны, и картин природы — с другой, многие из которых датированы, изменяясь по временам года, продолжаются в записной книжке вплоть до 30 мая следующего, 1878 года29. Так, 28 мая 1877 года записано: «Холодный ветер, ясно. Вода была голубая, стала бурая». «Май входит в старый лес. Весь низ зелен — таинственность, жуткость».
Далее 2 июня: «После многих дней дождя — сбирается разгуляться. Холодно, сыро, на листьях, траве и деревьях капли висят. На лугах под ногой шлепает невидная вода, тропинки начинают протаптываться, полегли круги ржи и лугов. Захватило сено».
23 июня: «Море ржи, веется ветром и нет конца. Не видать и меж: долины, горы — все той же веющейся ржи. Другое рядом более веселое море овсов с желтыми цветами на межах и перерывами гречи, картофеля и полосок кашки, льна. Жара парит; после обеда, к вечеру блеск воздуха. Томит глаза. Глаза отдыхают на неподвижной темнозеленой опушке леса. Пирамида Иван-чая, зацветая внизу, поднимается в чаще. С свистом толкутся комары. В такой жаре после косьбы идет тихо мытый мужик, под огородом в тихой, черной, глянцевитой воде».
8 июля: «Закат за тучи — золотая бахрома над серой тучей... На красном закате лес с лиловатыми стволами... Липа цветет... Дождь, ливень с косым ветром, повалил липы от корня. Грязь и лужи на пару. Лужи на дороге синея блестят».
10 июля: «Колышется ветром зреющий овес и отливает серебром».
14 июля: «Яркий день, вечер, пятый час. Лес — макуши светлозеленые, на запад глядя «черная опушка».
«15—20 июля по ночам, уже темным, тишина. Нет птиц. Одни кузнечики и стрекозы чикают, как летучие мыши... Татарник пышный зацветает, шершни мохнатые в нем копошатся».
22 июля: «Обмытый лист блестит».
3 августа: «Холодные ночи, ледяная вода, блеск на листьях, ясные, тихие, спокойные дни».
8 августа: «Яркий солнечный день в лесу, полдень — блеск.
439
Тихо совершенно. Идешь — движется что-то в тени. Это одинокий лист на молодом побеге незаметно сквозной ветер колышет».
Из ряда записей, касающихся крестьянского быта и крестьянских работ, отметим: «Умерла наседка — горе». «Мальчики, девочки крошки тащут сено». «Убирают сено у дворов, спешат от заходящей тучки». «Обмолоченная солома сейчас же на крышу». «Мужики ехали на базар грустны, сердиты; домой — веселы, дружны — выпили».
Не удержался Толстой и от того, чтооы не сделать своего любимого противопоставления выносливости трудового народа барской изнеженности. Он записывает: «Баба в дождь босая. Барин в дождь под крышей зябнет».
Несколько записей касаются животного мира, как, например: «Жеребенок, напрягая спину, потягивается ножками». «Ястреб желтоногий, быстроглазый схватил добычу и мнет, выпрямляется, потом клюет и оглядывается. Потом зоб осаживает».
Тут же короткие характеристики некоторых типов для будущих художественных произведений, в том числе: «Человек — герой, верующий, что все во власти его. Ein jeder macht sich sein Recht [каждый сам творит свое право]».
Здесь же записаны и подчеркнуты две народные поговорки: «Свинья борову, а боров всему городу». «Что больше голеют, то больше мудренеют».
В 1878 году Толстым был начат роман о декабристах, и хотя в той же самой записной книжке были сделаны некоторые записи к этому роману, но приведенные выше записи, очевидно, не подходили к содержанию начатого произведения. Позднее эта записная книжка была отложена, и Толстой ни в одном произведении не воспользовался сделанными в ней чудесными записями картин природы и крестьянского быта.
IV
25 июля 1877 года Толстой исполнил давнишнее свое желание — посетил известный монастырь Введенскую Оптину пустынь (Калужской губернии Козельского уезда), где бывали Гоголь и Достоевский.
Оптина пустынь принадлежала к числу древних русских монастырей; время основания ее точно неизвестно, но она упоминается уже в XVII веке. Оптина пустынь была незаметным монастырем в числе многих других до тех пор, пока в ней не появилось так называемое «старчество». «Старцем» Оптиной пустыни с 1860 года был монах Амвросий (Александр Михайлович Гренков).
Вместе с Толстым в Оптину пустынь поехал Н. Н. Страхов. Они проехали по железной дороге от Тулы до Калуги, оттуда
440
продолжали путь на лошадях и в три часа ночи 26 июля приехали в монастырь.
«Толстой остановился в так называемой странноприемной гостинице, всегда битком набитой разным народом и богомольцами, стекавшимися в монастырь со всех концов России»30. Гостиничником оказался бывший крепостной Толстых, и встреча бывшего слуги с его бывшим барином доставила обоим большое удовольствие. Толстой побеседовал с богомольцами и заглянул в монастырские хозяйственные службы31.
«Но как только монахи узнали, что у них находится граф Толстой, то, разумеется, не могли не перевести его в другую гостиницу для привилегированных, чему и он не мог не подчиниться. В монастыре все делается по установленному порядку и чину, и хотя немногие из монахов имели понятие о произведениях Толстого, но, во-первых, он был графом, значит особой важной, а, во-вторых, все-таки знали, что он знаменитый писатель»32.
Утром в монастырскую гостиницу явился старый, еще казанский знакомый Толстого, князь Д. А. Оболенский, в то время член Государственного совета, имение которого находилось в десяти верстах от Оптиной пустыни. Нарушая сосредоточенное настроение Толстого, Оболенский стал упрашивать его переехать из монастырской гостиницы к нему в дом. Но Толстой решительно отказался и только в виде уступки настоятельной просьбе Оболенского обещал заехать к нему на другой день.
В тот же день Толстой посетил старца Амвросия и архимандрита Ювеналия Половцева, бывшего гвардейского офицера. Ювеналий пригласил к себе других монахов; говорили о разных предметах — о политике и о религии. В беседе этой Толстой вряд ли нашел для себя много поучительного. Вечером он отстоял в монастыре всенощную, продолжавшуюся четыре часа, и ночевал в монастырской гостинице. На другой день Толстой, еще раз побывав у старца Амвросия, направился в обратный путь, заехав, как он обещал, к Д. А. Оболенскому в его имение.
У Оболенского Толстой застал много молодежи и знаменитого пианиста Н. Г. Рубинштейна. За обедом зашел разговор о добровольческом движении в пользу восставших сербов. Толстой повторил мнение, высказанное им в эпилоге «Анны Карениной», что «все это сочиняют газеты. Неправда, что народ наш хочет воевать. Народ ничего и не знает про славян».
После обеда Толстой рассказал, что старец Амвросий спросил его, где это он так хорошо написал про исповедь. Амвросий
441
спросил об этом потому, что к нему приходил незнакомый ему мужчина, который сказал, что хочет поступить в монастырь под влиянием прочтенного в романе Толстого описания исповеди. По этому случаю Толстой сказал, что он четыре раза переделывал главу об исповеди Левина, потому что ему все казалось, что видно, на чьей стороне автор в разговоре Левина со священником. Сам он был на стороне священника, а не Левина.
Вечером Толстой слушал игру Рубинштейна, а потом разговаривал наедине с сыном хозяина, студентом А. Д. Оболенским, который впоследствии, в 1906 году, недолгое время занимал должность обер-прокурора синода. Студент оказался сторонником очень распространенной в то время среди русской интеллигенции позитивной философии Огюста Конта. Возражая ему, Толстой говорил, что весь русский народ думает о том, как жить по-божьему, и он, Толстой, думает о том же и, указывая на Евангелие, сказал, что в этой книге сказано все, «что надо человеку»33.
Возвратившись в Ясную Поляну, Толстой рассказал жене о своем пребывании в Оптиной пустыни. По словам С. А. Толстой, Лев Николаевич «остался очень доволен мудростью, образованием и жизнью тамошних монахов-старцев»34. То же С. А. Толстая писала впоследствии в своей автобиографии «Моя жизнь»: «Подробности разговора [со старцем Амвросием] нигде не записаны, и никто их не слыхал, но помню, что Лев Николаевич остался ими на этот раз очень доволен, признав мудрость старцев и духовную силу отца Амвросия»35.
П. А. Матвеев слышал от Н. Н. Страхова, что Толстой назвал старца Амвросия «удивительным человеком»36.
О том, какое впечатление произвел Толстой на монахов Оптиной пустыни, сообщил ему Н. Н. Страхов 16 августа 1877 года со слов своего знакомого П. А. Матвеева, посетившего Оптину пустынь через несколько дней после Толстого: «Отцы хвалят Вас необыкновенно, находят в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас вовсе нет этой гордости. Боятся, как бы литература не набросилась на Вас за 8-ю часть [«Анны Карениной»] и не причинила Вам горестей. Меня о. Амвросий назвал «молчуном», и вообще считают, что я закоснел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен37 хвалит
442
нас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе), — очень было и мне приятно услышать это. Отцы ждут от Вас и от меня обещанных книг и надеются, что мы еще приедем»38.
На это письмо Толстой ответил Страхову 2 сентября: «Сведения, которые вы сообщили мне о воспоминаниях о нас оптинских старцев, и вообще воспоминания о них мне очень радостны»39.
25 августа 1877 года С. А. Толстая писала о Льве Николаевиче в своих записках: «Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне, где мужики всякий раз обступают его, расспрашивая о войне; по пятницам и средам ест постное40 и все говорит о духе смирения, не позволяя и останавливая полушутя тех, кто осуждает других»41.
Дочь тогдашнего священника погоста Кочаки, в приходе которого находилась Ясная Поляна, Л. В. Кудрявцева, вспоминая то время, рассказывала Д. П. Маковицкому в 1911 году: «Бывало, отец идет утром к заутрене, а Лев Николаевич уже сидит на камушке. Отец часто ходил ко Льву Николаевичу в дом, возвращался в два часа ночи. Много они со Львом Николаевичем говорили о вере».
Местный становой пристав В. Р. Чевский слышал в те времена от крестьян такой рассказ: «Господа наши, значит граф с семьей, кажинный праздник в церкви; приезжают больше одни семейные, сам граф завсегда почитай пеший... Раньше начала обедни придет. Мы, мужики, на крыльце присядем у церкви, глядим — и граф присядет вместе с нами, так сидит калякает, разговаривает, значит, о делах аль о божественном»42.
Яснополянский слуга С. П. Арбузов рассказывал Н. И. Шатилову, что когда Лев Николаевич стал посещать церковные богослужения, он ездил даже к заутрене, и, чтобы не беспокоить конюхов, сам приходил в конюшню, седлал свою верховую лошадь и один уезжал43.
443
В «Исповеди» Толстой дает следующее объяснение причин, заставлявших его исполнять церковные обряды: «Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело всё человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною — отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего»44. Мысленное соединение с предками и особенно с трудовым крестьянским народом, в то время в огромном большинстве своем придерживавшимся православия, было одной из главных причин, побуждавших Толстого в то время усердно исполнять церковные обряды.
V
Еще 4 ноября 1874 года Толстой писал Н. Н. Страхову: «Хочу устроить и начать семинарию мужицкую у себя в Ясной Поляне»45.
Толстой в то время был увлечен проектом создания в Ясной Поляне учительской семинарии, в которой бы получали дальнейшее образование наиболее способные ученики народных школ с тем, чтобы потом стать народными учителями. Эти учителя, вышедшие из среды самого народа, были бы близки ему и знали бы хорошо его жизнь (этому Толстой придавал очень большое значение). «Я помню, — рассказывает С. А. Берс, — что главная цель Льва Николаевича в этом деле заключалась в том, чтобы будущего учителя-крестьянина удержать в той обстановке, в которой живут все крестьяне, и чтобы образование не развило в нем новых внешних потребностей, кроме душевных»46. «Пускай это будет университет в лаптях», — говорил Лев Николаевич47.
В январе 1875 года Толстой обратился к директору народных училищ Тульской губернии барону Н. Нольде с просьбой разрешить ему открыть в Ясной Поляне «частное учебное заведение второго разряда для подготовки народных учителей». Был приложен проект устава.
444
Началась обычная канцелярская волокита.
Директор народных училищ Тульской губернии 5 февраля направил ходатайство Толстого попечителю Московского учебного округа, князю Н. П. Мещерскому.
24 марта помощник попечителя Московского учебного округа С. Иванов переслал ходатайство Толстого в Министерство народного просвещения, сообщая при этом, что «попечительский совет по обсуждении означенного ходатайства в заседании своем 7 марта нашел, что «учреждение такого учебного заведения, конечно, не в виде частного учебного заведения 2-го разряда, но под названием «Педагогические курсы для приготовления народных учителей» и под руководством графа в качестве ответственного лица нельзя не признать желательным».
5 апреля ходатайство Толстого директором департамента народного просвещения было доложено министру, графу Д. А. Толстому.
8 апреля департамент народного просвещения по распоряжению министра обратился к попечителю Московского учебного округа с просьбой «сообщить в дополнение к возвращаемому проекту плана более обстоятельные правила для предположенных графом Толстым педагогических курсов по предварительном о том с ним соглашении».
16 июля директор народных училищ Тульской губернии уведомил Толстого об утверждении с некоторыми изменениями и дополнениями выработанных им правил педагогических курсов для народных учителей. Был приложен «переписанный набело» проект Толстого, исправленный согласно замечаниям попечительского совета. В случае согласия Толстого проект мог быть «немедленно представлен на утверждение Министерства народного просвещения».
В августе Толстой занялся переработкей полученного им от Нольде проекта правил педагогических курсов, исправленного по замечаниям попечительского совета.
Толстой отводил для курсов весь верх каменного флигеля. Курс преподавания предполагался двухгодичный, число слушателей — 50 и более человек. Для ознакомления с практическими приемами преподавания должна была служить яснополянская народная школа. Слушателями могли быть как окончившие курс в народных училищах, так и все сдавшие удовлетворительно экзамен по предметам начальной школы. Ученье должно было продолжаться в течение шести зимних месяцев. Плата за слушание курсов — по 5 рублей в месяц. Предполагалось, что помещение ученики будут иметь у яснополянских крестьян с платой по 50 копеек в месяц с человека, а продовольствие каждого ученика обойдется не дороже 3 рублей 50 копеек в месяц. Преподавателей предполагалось трое: главный учитель, его помощник
445
и законоучитель, причем Толстой брал на себя постоянное наблюдение за преподаванием на курсах48.
7 октября попечитель Московского учебного округа направил в департамент народного просвещения полученный от Толстого переработанный им проект правил педагогических курсов, сообщая, что попечительский совет, «по рассмотрении означенных правил, нашел их вполне соответствующими предположенной цели».
Ученый комитет Министерства народного просвещения поручил члену комитета К. К. Сент-Илеру рассмотреть представленный Толстым проект педагогических курсов.
18 ноября К. К. Сент-Илер сделал в Ученом комитете доклад, сообщив, что «не только не может усмотреть препятствий к устройству упомянутых курсов, но признает справедливым выразить полное сочувствие этому в высшей степени полезному заведению».
Однако докладчик находил, что следует дополнить проект представлением учебного плана и таблицы распределения занятий, а также «обозначить отношение педагогических курсов к местной дирекции народных училищ» и разъяснить 20-й параграф проекта, гласящий: «Образ жизни воспитанников определяется учредителем сих курсов». Ученый комитет согласился с мнением докладчика и постановил представить проект Толстого на рассмотрение министра.
Министр 28 ноября наложил на журнале Ученого комитета следующую резолюцию: «Потребовать доставления учебного плана и таблицы распределения занятий, равно как и всех тех положений, которые Ученый комитет признал этим журналом необходимым иметь для своих соображений».
В исполнение этого распоряжения министра департамент Министерства народного просвещения 9 декабря обратился к попечителю Московского учебного округа с просьбой сообщить департаменту все планы, таблицы и другие материалы, относящиеся к проекту Толстого.
На это отношение департамента Министерства народного просвещения попечитель Московского учебного округа Н. П. Мещерский 26 апреля 1876 года ответил, что, «соглашаясь в общих чертах с мнением особого отдела Ученого комитета относительно замеченных им пробелов в проекте», он все-таки считает, что не утверждая проекта «во всех его частностях», можно дать «в виде опыта» и «в виде исключения» разрешение на открытие педагогических курсов, которым «удобнее присвоить характер частных заведений, от планов которых не требуется строгой определенности». «Педагогические курсы, учреждаемые
446
по инициативе и под личным наблюдением графа, представляют собой явление исключительное в том отношении, что руководителем их является лицо, которого благонадежность и преданность делу народного образования не могут подлежать никакому сомнению».
8 мая министром народного просвещения было приказано отношение попечителя Московского учебного округа передать в Ученый комитет.
11 мая Ученый комитет заслушал следующее мнение по данному вопросу члена комитета К. К. Сент-Илера: «Так как педагогические курсы, устраиваемые графом Л. Н. Толстым, будут под непосредственным контролем г. попечителя округа, то, по моему мнению, следует, в виде исключения, дозволить графу Л. Н. Толстому устройство педагогических курсов в Ясной Поляне на предложенном г. попечителем основании». Ученый комитет согласился с мнением Сент-Илера и постановил «представить о сем на благоусмотрение его сиятельства г. министра народного просвещения».
Министр на выписке из журнала особого отдела Ученого комитета от 11 мая наложил 20 мая резолюцию: «Исполнить. Граф Д. Толстой».
29 мая 1876 года министр народного просвещения уведомил попечителя Московского учебного округа, что он «не встречает препятствия к разрешению, в виде исключения, графу Л. Н. Толстому устроить в имении его, сельце Ясной Поляне, Тульской губернии, педагогические курсы для приготовления учителей в начальные училища в виде частного учебного заведения 2-го разряда на основаниях, указанных в представлении попечителя Московского учебного округа от 26 апреля 1876 г.», с тем, чтобы подробные правила об этих курсах были утверждены попечителем.
В том же 1876 году Толстой обратился в Тульское губернское земское собрание с просьбой о пособии на первоначальное обзаведение курсов классными принадлежностями и на жалованье преподавателям. В случае удовлетворения ходатайства уездные земства Тульской губернии получали право посылать на курсы до 50 человек без платы за обучение, а с платой только на содержание учеников.
Представляя это ходатайство Толстого в губернское земское собрание, губернская земская управа высказалась за разрешение войти в соглашение с Толстым о сумме, необходимой на первоначальное обзаведение курсов классными принадлежностями, а также за желательность внесения на поддержку яснополянских курсов по 30 рублей с каждого слушателя, посланного от уездных земств и училищных советов. К заключению губернской управы присоединилась редакционная комиссия, которая внесла соответствующее предложение на обсуждение губернского
447
земского собрания в заседании 12 декабря 1876 года. Предложение было принято единогласно.
Толстой еще до решения губернского земского собрания начал приспосабливать яснополянский флигель к тому, чтобы открыть в нем учительскую семинарию. В этом флигеле летом обыкновенно жила Т. А. Кузминская с семьей, и Софья Андреевна 19 октября 1876 года с сокрушением писала ей: «В том доме воздвигнуты лавки, столы, чинят и вставляют рамы, и вместо милых вас будут какие-то чуждые лица мужиков, семинаристов и пр.».
Тульская губернская управа подробно ознакомила уездные управы и училищные советы с условиями поступления на яснополянские курсы, сообщив, что для бесплатного обучения на курсах может быть прислано всего до 43 человек, и обращая внимание на незначительность расхода, требовавшегося на содержание учеников в течение шести зимних месяцев и составлявшего для каждого воспитанника всего 24 рубля. Открытие курсов было предположено на сентябрь 1877 года. Но большинство училищных советов и уездных управ обошло молчанием сделанное им предложение, и лишь от пяти управ были присланы заявления о желании прислать на курсы всего 12 человек.
Слишком незначительное число слушателей, «совокупно с другими обстоятельствами, встреченными графом Толстым», как сказано в отчете губернской земской управы, заставило его отказаться от своего намерения открыть курсы49.
П. И. Бирюков со слов Льва Николаевича передает еще следующий эпизод, имевший место в связи с проектом устройства педагогических курсов:
«Тогда был предводителем дворянства в губернии приятель Льва Николаевича Дм. Фед. Самарин. Он, узнав о проекте Льва Николаевича и отнесясь к нему весьма сочувственно, рассказал, что в земстве имеется капитал в 30000 рублей, предназначенный на народное образование и которому еще не дано назначения. Он предложил Льву Николаевичу сделать на земском собрании доклад с просьбой дать ему эту сумму на учреждение высшего народного училища... и обещал ему поддержку...
448
Доклад был сделан, и во время прений по этому вопросу, вначале весьма сочувственных, встал один старик и заявил, что в этот год Тула празднует столетие учреждения губернии Екатериной второй, и что так как в то же время по всей России шла подписка на памятник Екатерины второй, то не лучше ли, в знак памяти и благодарности за оказанное Тульской губернии благодеяние, пожертвовать этот капитал на памятник великой императрице благодетельнице.
Собрание присоединилось к его просьбе, а Толстому постановили отказать»50.
В сообщении этом есть некоторые фактические неточности. В действительности дело происходило так.
Тульское губернское земское собрание 13 декабря 1877 года постановило «по случаю истечения столетия со времени учреждения Тульской губернии» «ознаменовать это событие учреждением в память великой преобразовательницы России Екатерины второй в Тульской женской гимназии одной стипендии полной пенсионерки и шести стипендий для приходящих учениц». На это (а не на постановку памятника) было отчислено из резервного капитала 10 000 рублей. Из этого капитала и Толстой рассчитывал получить пособие на обзаведение предположенных им педагогических курсов учебными пособиями и на другие нужды.
Из рассказа Толстого можно заключить, что в 1877 г. он вторично выступал на Тульском губернском земском собрании по вопросу о финансовой поддержке со стороны земства задуманным им педагогическим курсам.
Так кончилась эта последняя попытка Толстого принять участие в работе по народному просвещению. После этого он уже навсегда отошел от школьной деятельности.
В дневнике С. А. Толстой 16 октября 1878 года записано, что в этот день Лев Николаевич ездил в Тулу на заседание Тульского реального училища, попечителем которого он состоял. Но об этой стороне учебно-педагогической деятельности Толстого мы не располагаем никакими сведениями.
VI
Несмотря на то, что в «Анне Карениной» Толстой устами Левина заявил, что в деятельности земства, как и в разных других отраслях общественной деятельности того времени, за которые он брался, «все основано на притворстве и фальши», он сам в 1877—1878 годах принимал участие в земской деятельности в качестве гласного Крапивенского уездного земского собрания. Быть может, Толстой хотел на опыте проверить справедливость сложившегося у него отрицательного представления о
449
земской деятельности, или же он надеялся хоть маленькую пользу принести крестьянству того небольшого уголка русской земли, в котором он жил, — Крапивенского уезда.
28—29 сентября 1877 года Толстой присутствовал на XIII очередном Крапивенском уездном земском собрании, происходившем в селе Сергиевском. Он был выбран секретарем этого собрания. На собрании рассматривались вопросы: о назначении содержания председателю и членам управы, об утверждении суммы денежного взыскания за порубку и похищение частных лесов, о пособии Крапивенскому городскому училищу, о сложении безнадежных недоимок за лечение в земской больнице, о торговых ценах на лошадей, требующихся на случай войны, об ассигновании 2400 рублей на бесплатное лечение больных в городской больнице, об изыскании средств к удовлетворению семейств призванных на военную службу запасных и ратников. Был заслушан отчет Крапивенского уездного училищного совета, после чего собрание единогласно постановило: отчет утвердить и благодарить двух волостных старшин за их усердное содействие к открытию сельских школ. Была утверждена смета на будущий год и избраны председатель и члены управы и гласные Крапивенского земства.
Толстой был избран губернским гласным на предстоящее трехлетие, а также членом училищного совета, членом попечительного совета женской прогимназии, членом комиссии о переложении натуральных повинностей на денежные сборы и комиссии по выдаче денег семействам призванных на службу чинов запаса и ратников51. 1 марта 1878 года он, как записано в дневнике С. А. Толстой, ездил в Сергиевское «по делам вспомоществования семействам ратников»52.
В сентябре 1878 года Толстой присутствовал на XIV очередном Крапивенском уездном земском собрании, на котором обсуждались и были решены следующие вопросы: о числе мировых участков в уезде, о назначении суммы на содержание участкового судьи, о переводе земских учреждений из села Сергиевского в город Крапивну, об определении суммы налога за питейный дом, о назначении сумм на содержание земских врачей, о назначении стипендии студентке-медичке Марии Холевинской. Кроме того, были заслушаны отчеты управы и училищного совета и произведены выборы участковых и почетных мировых судей. Толстой был избран почетным мировым судьей по Крапивенскому уезду.
При обсуждении сметы будущего года Толстой, уже в то время скептически относившийся к медицине, особенно в применении
450
ее в деревенских условиях53, предложил исключить из сметы ассигнование на стипендию в размере 300 рублей в год студентке-медичке Марии Холевинской. Собрание, однако, большинством голосов не согласилось с предложением Толстого, и стипендия студентке Холевинской была назначена54.
У крапивенских жителей еще в 1910 году сохранялись воспоминания о том, как на земском собрании при обсуждении вопроса о постановке медицинского дела в уезде и об отпуске средств на приобретение медикаментов для населения Толстой заявил, что по его мнению два ведра воды полезнее всяких лекарств55.
Хотя Толстой был избран губернским гласным от Крапивенского уездного земства сроком на три года и полномочия его кончались в сентябре 1880 года, он с 1879 года уже не принимал участия в земских собраниях и навсегда отказался от земской деятельности.
Впоследствии Толстой в разговоре так вспоминал о своей работе в земстве: «Все эти земские учреждения, суды являются теперь какой-то насмешкой. Но и тогда, при введении их, все это было в самом жалком виде. Я помню, я проделал все это: был земским, а потом губернским гласным, говорил, что-то отстаивал, старался провести, но в конце концов бросил. Я чувствовал, что окружен со всех сторон стеной, и мне предоставляется только чинить мосты. Положим, это довольно почтенное занятие, но кто чувствует себя способным на какое-нибудь большое дело, тому тут делать нечего»56.
VII
Как и после «Войны и мира», Толстой по окончании «Анны Карениной» долгое время не мог приняться за новую работу.
23 сентября 1877 года он писал Страхову: «Вы поняли из моего письма, что я за работой. Нет. Я охочусь и собираюсь, но и не сажусь за стол иначе, как только чтобы писать письма»57.
451
В конце сентября Толстой пишет А. М. Кузминскому: «...Я только приготавливаюсь к работе»58. 28 сентября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка что-то мрачен. Или целыми днями на охоте, или сидит в другой комнате молча и читает; если спорит и говорит, то мрачно и невесело. Война его очень расстраивает и потому и писать не может»59.
Без сомнения, не столько война, сколько неразрешенные вопросы общего миросозерцания вызывали в то время у Толстого мрачное настроение.
В октябре продолжалось то же состояние.
«Я всё ничего не делаю, кроме травли и стрельбы зайцев, и нездоровится физически и нравственно. Уныло», — писал Толстой Страхову 19 октября60.
25 октября С. А. Толстая записывает в дневнике замысел нового художественного произведения, переданный ей Львом Николаевичем. Она оговаривается, что не только ей со слов Льва Николаевича, но, как кажется, и ему самому не вполне ясен этот новый замысел. «...Но, как я понимаю, — пишет Софья Андреевна, — главная мысль будет народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии исключительно. Сегодня он мне говорил: «А эта пословица, которую я прочел вчера, мне очень нравится: «Один сын — не сын, два сына — полсына, а три сына — сын». Вот для моего начала эпиграф. У меня будет старик, у которого три сына. Одного отдали в солдаты, другой так себе, дома, а третий, любимый отца, выучивается грамоте и смотрит вон из мужицкого быта, что больно старику. И вот она, семейная драма, в душе зажиточного мужика для начала». Потом, кажется, этот выучившийся сын-мужик придет в столкновение с людьми другого, образованного круга, и потом ряд событий. Во второй части, как говорит Лев Николаевич, будет переселенец, русский Робинзон, который сядет на новые земли (самарские степи) и начнет там новую жизнь, с самого начала мелких, необходимых, человеческих потребностей.
«Крестьянский быт мне особенно труден и интересен, а как только я описываю свой — тут я как дома», — говорит Лев Николаевич.
«Анна Каренина» печатается и скоро выйдет в особом издании. И сегодня Лев Николаевич сказал: «И в новом будет проведена та же мысль последовательно»... Но какая?» — недоумевала Софья Андреевна61.
От этого периода работы остался один план и два не получивших продолжения начала романа. В плане намечено описание того, как несколько семей крестьян центральной полосы в течение
452
двух лет готовятся к переселению, «мучаются дорогой» и наконец приезжают к башкирам. Радуются на башкирскую землю: «То-то матушка... Ее сохой не возьмешь. Надо хохлацкой плугой»62.
Из двух начал романа о переселенцах первое сохранилось не полностью63, второе же описывает мирскую сходку, на которой решался вопрос, дозволять или не дозволять шести крестьянским семействам переселяться на новые земли. Действие происходит в селе Никольском, расположенном на реке Зуше, протекавшей по Орловской и Тульской губерниям. На сходке Тит Ермилин, «грубый мужик, большой, черный как цыган», «грозно хмурясь», требовал от переселенцев, чтобы они за себя и за своих семейных уплатили вперед подати за три года. Ему отвечает Никифор, один из переселенцев, «грамотный и обходительный мужик». На обвинение Тита, что они, переселенцы, уезжая, «на мир тяготу сваливают», Никифор отвечает: «Мы в миру выросли, миром вскормлены, вспоены, нам мир забывать нельзя. Мы не тайком шли, мы спрашивали. Что мир приказал, то мы исполняли». Выходит другой переселенец, старый дядя Дементий, объявляет, что он за всех вносит подати за три года, и тут же передает деньги64.
И Никифор, и дядя Дементий, очевидно, типы русских крестьян, особенно близкие сердцу автора. Крестьяне, фигурирующие в этом варианте, — Никифор (Резунов), Давыдка Козлов, Савостьян (Макарычев), Дмитрий Макарычев, Гаврюха Болхин, Тит Ермилин, — все названы именами яснополянских крестьян, еще здравствовавших в то время.
VIII
6 ноября Толстой пишет Страхову письмо, в котором жалуется на «самое унылое, грустное, убитое состояние духа». Из дальнейшего видно, что причины того «убитого» состояния духа, в котором находился тогда Толстой, были весьма сложны. Он перечисляет эти причины: болезненная беременность жены и предстоящие роды; его «праздность, постыдная и совершенная»; «менее важный предлог — это мучительная эта война». «Праздность» Толстого состояла в том, что он не был занят никакой литературной работой. «Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности, — писал Толстой далее, — и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно».
Но к перечисленным здесь причинам «убитого» состояния духа присоединялась у Толстого еще одна, еще более серьезная,
453
на которую он далее только намекнул Страхову в следующих словах: «Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда».
Смысл этих слов совершенно ясен. То, что человек приобретает наибольшую силу и свободу в том случае, если он «не дорожит ничем в жизни», это Толстой понял еще тогда, когда, находясь на высотах поэтического прозрения, писал «Войну и мир». Бродя по опустелой, оставленной жителями Москве, Пьер Безухов с особенной силой чувствовал, что «и богатство, и власть, и жизнь, всё то, что̀ с таким старанием устраивают и берегут люди, — всё это, ежели и сто́ит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым всё это можно бросить».65
Но у Пьера Безухова это было преходящее настроение; Толстой же теперь постоянно находился в таком душевном состоянии, что не дорожил тем, что ранее привязывало его к жизни: литературная слава и материальное благополучие. Он переживал глубокое недовольство условиями своей жизни — жизни богатого помещика. Условия эти тяготили его, но избавиться от них он не мог, потому что был не один. Его душевное состояние того времени можно было бы выразить буддийским изречением: «Тесна жизнь в доме. Свобода — вне дома».
Но и это была не последняя причина мучительного душевного состояния, которое в то время переживал Толстой. Далее в том же письме он рассказывал Страхову:
«На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов...». Эти же уроки Толстой вспоминает в первой редакции «Исповеди», где он пишет: «К экзамену надо было учить моих детей закону божию. Мы взяли священника, и он учил их катехизису. Это было то самое учение, которому меня учили и которое я отбросил и не мог не отбросить. Я слушал это учение... Бессмысленность и наглость положений, которые требовалось заучить, явно противуречила тому смыслу, который я нашел в вере»66.
«...Мне захотелось, — писал Толстой в письме к Страхову, — попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно»67.
Эта первая сделанная Толстым попытка систематического изложения своих религиозных взглядов сохранилась68. Изложение озаглавлено «Христианский катехизис» и начинается
454
словами: «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле и выражающуюся в знании добра моего и всех людей и в жизни людской». Как видно из этого введения, сущность своей веры Толстой видел не в догматах церковной религии, отличающих ее от других исповеданий, а в вере в добро, живущей «в сердцах всех людей и на всей земле».
«Православный катехизис, — пишет Толстой далее, — есть наставление в истинной вере, для передачи каждому человеку вообще и православному христианину в частности, для спасения души — т. е. для жизни, соответственной не одним потребностям тела, но и потребностям души». Потребности души, по мнению Толстого, отличаются от потребностей тела тем, что потребности тела «имеют целью личное благо», а потребности души «имеют целью благо вообще — не только часто, но почти всегда противуположное благу личному».
Далее ставится вопрос: «Что есть вера?» и дается ответ: «Вера есть несомненное знание вещей, непостижимых разуму». На вопрос: «Какая разница между знанием веры и знанием разума?» — следует ответ: «Всякое знание разума основано на предшествующем знании. Знание же веры имеет основание само в себе». Дается следующее определение «знания веры»: «Знание веры есть то несомненное знание смысла окружающих нас явлений, которым мы руководствуемся всякую минуту жизни».
На вопрос, «существует ли одно истинное знание веры», дается ответ: «Существует это знание в сердце людей. То знание, которое обще всем людям, есть истинное знание веры».
Все выражения веры, в том числе вер буддийской, еврейской, христианской, магометанской, «истинны в том, в чем они сходятся. Внешние же признаки вер суть только особенности, зависящие от исторических, географических условий…».
И далее самый важный для Толстого того времени вопрос: как относиться к учению христианства там, где оно противоположно разуму? На этот вопрос дается ответ: если оно «не противуположно учению вселенской церкви и сердцу, то смирять ум перед непонятным учением»; если же оно «противуположно знанию сердца», то «отвергать его, чтобы оставаться членом вселенской церкви».
Далее автор намеревался дать понятие о «первой передаче откровения христианского», заключающейся в «священных книгах ветхого завета». По-видимому, он предполагал дать краткую характеристику если не всех, то наиболее значительных из книг, составляющих Библию. Он начал с первой книги, входящей в состав Библии и носящей название «Книга бытия». Относительно этой книги Толстой ставит вопрос: почему она священна? Но в ответе пишется только одно слово: «Сотворение», на котором и прервалась эта работа.
455
Очевидно, как ни старался Толстой отгонять от себя всякое сомнение, чтобы не разделяться с церковью и с многомиллионным русским народом, верившим в церковное учение, он все-таки, стараясь быть правдивым перед самим собою, никак не мог найти те признаки, по которым можно было бы признать древнюю книгу еврейской мифологии «священной».
И когда Толстой с грустью писал Страхову о том, что изложение основ своей веры для него не только трудно, но, как он опасался, даже совершенно невозможно, он разумел не трудность самого изложения, вполне преодолимую, но невозможность для него в то время разобраться в противоречиях церковного учения, приверженцем которого ему так хотелось считать себя.
Что касается религиозных верований Толстого, изложенных в его начатой статье, то они, конечно, были весьма далеки от православия и всякого другого церковного исповедания. В то время как православная церковь преследовала старообрядцев, считала еретиками католиков и протестантов, для Толстого «вселенская церковь» в его представлении составлялась из всех верующих в «добро», к каким бы вероисповеданиям они ни принадлежали.
IX
Несмотря на то, что в письме от 12 ноября Толстой писал Страхову, что он «совсем разнемогся,», сидит дома и упражняется на фортепиано «и все так же презренен и противен сам себе», у него уже тогда появились какие-то смутные замыслы относительно исторического романа из времени правления Николая I. Это видно из того, что в том же письме он обращался к Страхову с просьбой «подумать и посоветовать», «что есть о первом времени Николая Павловича и специально о войне 28, 29 года»69.
Но до начала работы было еще далеко, и Толстой продолжал в письмах к родным и знакомым жаловаться на тяготившее его бездействие. Брату он писал около 15 ноября: «Я ничего не пишу и нахожусь в большом унынии»; П. Д. Голохвастову 23 ноября: «Я живу праздно»; Фету, вероятно, в тот же день: «Я признаюсь, что упал духом и не борюсь даже. Жду»70.
Вскоре Толстой получил от Страхова две книги по интересовавшей его эпохе: «Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов» Н. Лукьяновича и Paul Lacroix «Histoire de la vie et du règne de Nicolas I, empereur de Russie». Уведомляя Страхова в письме от 27 ноября о получении этих книг, Толстой просил прислать ему следующие тома «Истории жизни и царствования
456
Николая I» Lacroix и список книг по истории его царствования. Он просил прислать ему также запрещенные в то время в России книги Д. Штрауса «Старая и новая вера» и Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Кроме того, просил дать ответ на вопрос: «Есть ли в философии какое-нибудь определение религии, веры, кроме того, что это предрассудок? И какая есть форма самого очищенного христианства?»71.
Вопросы эти, очевидно, были связаны с задуманной в то время работой, о которой Толстой писал Страхову в том же письме: «Я чувствую, что скоро начну работать, и с большим увлечением, и забуду себя. Многие очень важные вещи стали для меня совершенно ясны, но сказать их не могу еще и ищу слов — формы». «Вы правы, — прибавлял далее Толстой, — это вроде бессонницы. Ждать, пока придет сон, и невольное бдение занимать как-нибудь».
По-видимому, задуманная работа, о которой писал Толстой в этом письме, это начатая около того времени статья «Определение религии-веры»72.
Статья осталась незаконченной. Из нее видно, как еще неясны были в то время Толстому основы его религиозного миросозерцания. Для всех верующих, говорит Толстой в начале этой статьи, религия есть слово «понятное и несомненное», но для неверующих слово это во избежание недоразумений «требует точного определения». И Толстой дает свое определение религии. «Религия, — пишет он, — есть свод в одно согласное целое всех объяснений или ответов на те неизбежные и единственно интересные в жизни вопросы относительно жизни и смерти, на которые разум дает мне частный ответ, [свод,] согласнее которого я не знаю никакого другого и в который вследствие того я верю и считаю несомненно истинным и которым руководствуюсь в каждом жизненном акте».
Дав это определение религии, Толстой снова возвращается к волновавшему его в то время вопросу об отношении между разумом и верой.
«Религия по этому определению, — говорит он, — не только не может противуречить данным разума или жизни, но всякое знание и всякий акт жизни основывается только на религиозном воззрении». «Верования, — пишет Толстой далее, — могут мне казаться ложными», но субъективно «вера, как я определяю ее, всегда несомненна».
На этом статья оборвалась. Решение волновавшего Толстого вопроса было дано в догматической форме, но обосновано не было. Вопрос, по-видимому, продолжал оставаться для Толстого не вполне ясным.
457
X
В ночь с 5 на 6 декабря 1877 года у Толстых родился шестой сын, Андрей.
10 декабря Толстой писал Страхову: «У нас совершилось вечно важное и волнующее событие — роды жены. Она благополучно разрешилась мальчиком 5-го числа. И теперь до сих пор всё так хорошо, что и не верится после бывших страхов»73.
В тот же день он писал В. А. Иславину:
«На днях Соня родила нам еще сына и лежит еще в постели. И хоть это для меня старая штучка, всегда она волнует и трогает и радует»74.
26 декабря 1877 года Софья Андреевна записала в дневнике:
«6 декабря ночью, в три часа, у нас родился сын Андрей. Событие это как будто сняло какие-то умственные оковы с ума Льва Николаевича»75. Действительно, уже 10 декабря Толстой писал Страхову: «Что даст бог — не знаю, но теперь могу сказать, что затевается работа, и я просыпаюсь»76. Около того же времени Толстой извещал Н. М. Нагорнова, что «начал заниматься»77.
Мысль Толстого работала тогда в двух направлениях: он пытался разрешить еще не решенные для себя религиозные вопросы и в то же время обдумывал новый исторический роман. 10 декабря, получив почтовую повестку на полученную на его имя посылку с книгами и догадываясь, что отправителем посылки был Страхов, Толстой писал ему: «Волнуюсь вопросом — исторические или о религии»78. Книги оказались религиозного содержания — ранее заказанные Толстым сочинения Штрауса и Ренана и какое-то сочинение Прудона, и Толстой, как писал он Страхову 18 декабря, «весь ушел в них»79.
К этому времени, вероятно, относится незаконченное и неозаглавленное художественное произведение Толстого, которое было напечатано под названием «Прения о вере в Кремле»80.
Потерпев неудачу в попытке катехизического изложения своих религиозных воззрений, Толстой решил воспользоваться старинной, испытанной формой изложения авторских взглядов, к которой охотно прибегали Пушкин, Герцен, Белинский. — формой беседы нескольких лиц, из которых одно должно излагать суждения автора по тому или другому вопросу.
458
В «Прениях о вере в Кремле» рассказ ведется от лица профессора русской литературы, работающего в провинциальном университете и приехавшего в Москву; он остановился у своего товарища, профессора физиологии, убежденного материалиста. Действие происходит в конце 1850-х годов. Рассказчик заинтересовался разговорами о вере, какие в те годы происходили на пасхальной неделе в московском Кремле. Он не материалист, но не уяснил еще себе своего отношения к религии.
Отправившись вместе с товарищем в Кремль, рассказчик увидел небольшую толпу около Архангельского собора. Он видит здесь Хомякова: «маленького человечка в поддевке, с золотой выпущенной цепочкой, черного с сединой, с низким лбом, тонкими чертами плоского лица и общим выражением умной лягавой собаки, сверх которого было еще выражение чего-то особенно ясного, веселого, тонкого и вместе с тем твердого». Спорят бывший раскольничий архиерей Пафнутий, перешедший к «никоновцам», и старообрядец — «человек в синей сибирке, белокурый, мрачный, широкий, прямой, не гибкий. И лицо, и платье его, и речь его были необыкновенно тверды и чисты». После короткого разговора старообрядец уходит, уступая место другому старообрядцу — «черному купцу». Вступил в спор Хомяков и, обращаясь к Пафнутию, «блестяще опровергал его мнение о том, что церковь зиждется внешним устройством». Появляется еще «господин в пальто», маленький старый человек, который «говорил тихо и робко, как бы неуверенный в своих словах». Ему, по-видимому, предназначалось быть выразителем мнений автора. Он говорит, что нельзя смотреть на религию как на предрассудок, прибавляя: «Я не один говорю, со мной вместе все люди говорят и говорили». Подходит новый собеседник, высокий офицер. Он атеист и рассуждает так: «Если человек будет работать, трудиться да никого не обижать, то он хоть ни во что не веруй, все будет хороший человек». Религия — «пустое» дело, «одно невежество».
Вступает в спор товарищ рассказчика, профессор Картавцев, также атеист. «Господин в пальто» так резюмирует его воззрения на религию: «Вы говорите, что в истории человечества происходит ход от веры к безверию, и что ход этот состоит в уничтожении предрассудков посредством науки». Продолжения аргументации «господина в пальто» не последовало. Очевидно, Толстой в то время сам не нашел еще вполне убедительного ответа на утверждение профессора-атеиста.
Статья была оборвана, но Толстой все же не хотел отказаться от замысла художественного произведения в форме беседы о вере людей различного миросозерцания, в котором он хотел выразить и свое отношение к религии.
Около 20 декабря он пишет конспект нового произведения, построенного в форме беседы о религии людей различных взглядов,
459
которому дает название «Собеседники»81. Состав собеседников здесь иной, чем в «Прениях о вере в Кремле». Старообрядцев уже нет; участники беседы характеризуются по признакам принадлежности к тому или другому философскому направлению или религиозному исповеданию. Так, перечисление лиц, принимающих участие в беседе, начинается следующей авторской ремаркой: «(Фет — Страхов — Шопенгауэр — Кант — здоровый идеалист философ). Стрем... [последние буквы фамилии не разобраны], дворянин богатый, отставной поручик, 42 лет». Предполагалось, стало быть, что будет выведен последователь Канта и Шопенгауэра, человек типа Страхова и Фета.
Подобным же образом характеризуются и другие участники беседы. Следующая авторская ремарка: «(Вирхов, Dubois Raimond, Тиндаль, Милль — естественник, признающий необходимость основ. Теория совершенства, прогресса. Маликов 37 лет, Майков)». Это значит, что в лице естественника, ученого типа Вирхова, Дюбуа-Реймона, Тиндаля и Милля, Толстой хотел, под именем Майкова, изобразить своего нового знакомого, Александра Капитоновича Маликова, бывшего революционера, в то время проповедовавшего свою теорию «богочеловечества». Слова «признающий необходимость основ» объясняются тем, что писал Толстой Страхову 3 января 1878 года о Маликове и его друге Бибикове: «Эти люди пришли к необходимости остановиться в преобразовательной деятельности и прежде поискать религиозной основы».
Третий собеседник — «позитивист, Бибиков, прогресс, но отрицание нужды в основах. 35 [лет]». Здесь упоминается Алексей Алексеевич Бибиков, друг Маликова, разделявший в то время его учение о богочеловечестве. Вскоре он сделался управляющим самарским имением Толстого. В беседе ему дается фамилия Стольников.
Далее идут: «поп умный, отрицающий знание — 56 лет», «Хомяков, софизмами оправдывающий веру», «Урусов — тонкий диалектик, джентльмен, Юнович 50 [лет]». Под именем Юновича Толстой, по-видимому, хотел изобразить профессора Киевской духовной академии П. Д. Юркевича, с которым полемизировал Чернышевский и которого Толстой знал лично. Далее, оптинский монах Пимен, 70 лет, отличительная черта которого — «кротость, любовь». Он спит во время собеседования.
Последний из собеседников «я», т. е. сам Толстой; ему 49 лет и называется он здесь Иван Ильич.
После перечисления лиц, принимающих участие в беседе, в конспекте кратко излагается ход беседы, которая главным образом сосредоточивается на том же неясном тогда для Толстого вопросе об отношении между знанием и верой. Стрем. «доказывает
460
невозможность веры в противность чистому разуму»; Майков поддерживает его с точки зрения опыта; Стольников считает эту невозможность решенным вопросом; Юнович «вводит вопрос о вере как непостижимости» (здесь Толстой делает для себя заметку: «Смотри Хомякова», — он предполагал выставить Юновича приверженцем религиозных взглядов Хомякова); «архимандрит с озлоблением осуждает науку»; Толстой (Иван Ильич) «требует определения веры».
Каждый из собеседников дает свое определение. Стрем. неясно определяет веру по истории религий и «сливает ее с философией»; Майков считает веру «одной из форм социологических»; Стольников признает веру «тьмою, рассеивающейся от света знания»; Юнович ссылается на Хомякова и Самарина; отец Пимен, доселе спавший, просыпается и произносит только: «а то, чтобы все честно, по-божески было».
Иван Ильич полагает, что вера — это «доверие к тому, что говорят, и в то, что это так». Он считает, что есть два источника знания — разум и вера. «Одно передается наукой слова, другое — чем-то другим». Стрем. возражает против существования двух родов знания, так как и в разумном знании «неизбежна доля веры и по сущности и по громадности плодов». Архимандрит ссылается на апостола Павла и Иоанна Златоуста. Юнович доказывает, что «основа всякого знания есть вера, что и опыта основа та же». Стольников считает, что «основа всего — впечатления». Майков говорит, что он не может верить в то, что противно разуму, — в бога творца и т. п.
Иван Ильич приводит примеры отрицания науки верою и веры наукой. Беседа переходит в спор. В конце спора Иван Ильич высказывает мнение, что религия «по свойству своему непрактична». «Не мир, а меч принес». Основатель христианства своим последователям «обещает муки».
Этим кончается конспект.
«Следующая беседа — о законе этики», — помечает Толстой, окончив запись хода беседы о вере. Но эта «следующая» беседа не была написана. Записанный «ход беседы» Толстого не удовлетворил — получилось слишком длинно и громоздко, а цель Толстого была выяснить — прежде всего для самого себя — соотношение между разумом и верой.
20 декабря 1877 года (в рукописи описка — 1878 года) Толстой, оставив диалогическую форму, пробует изложить занимавшие его мысли об отношении между разумом и верой в обычной форме статьи. Статья продолжается и в следующие три дня.
Развивая мысли Ивана Ильича в «Собеседниках», Толстой начинает с утверждения: «Вера есть то знание, на котором основывается всякое разумное знание». Основы веры — «вне разума человека. В просторечии мы говорим: в сердце или в самой вере, т. е. в самом себе». И это утверждение, что «источник
461
веры — в вере», и служит «главным источником недоверия к вере». «Но не надо забывать, что этот ответ законен только по отношению к тем вопросам, которые разумом не объяснимы». Таков «один вечный у всего человечества» вопрос: «что я такое, зачем я живу, к чему? Я часть, но что такое все?»
Основы знания-веры находятся в сердце, и это слово «сердце» «вполне выражает главную цель этого слова — отграничение известной деятельности души человека от области разума».
Так, положение о существовании «высшего и могущественнейшего начала не может иметь другого доказательства, как соответствие этого положения законам сердца или проще — сердцу».
Как «знание разума», так и «сердечное знание» человек приобретает «двояким путем: непосредственным познанием и усвоением того, что было познано другими людьми». Но в действительной жизни восприятие как знаний разума, так и знаний веры происходит не столько на основании проверки этих знаний, сколько «на основании доверия к тем результатам, которые приобретены предшествующими поколениями». «Основание доверия» и является «главным источником и приобретения и удержания знаний». «Все люди, — пишет Толстой, — стремились к тому познанию сердечному, которого я сознаю в себе основания, и лучшие люди, наиболее одаренные этим сердечным познаванием, наиболее жадные к этому знанию, представлявшие во все века образцы мученичества, искали этого знания и передают мне его в сложной форме, недоступной иногда моему личному сердечному знанию, и я доверяю им, чувствуя смутно, что направление их стремлений было то самое, которое и во мне».
В этой фразе замечательно упоминание о мученичестве тех древних учителей веры, на которых ссылался Толстой. Мученичество в его глазах всегда, а особенно в ту пору религиозных исканий, было покрыто ореолом.
«Согласие всех есть главный и единственный признак истины». Но положения религии могут не соответствовать «закону сердца»; в таком случае их нужно отвергать. Таково, например, положение о том, что папа может отпускать грехи. Это положение «противно законам сердца, чувствующего, что сознание виновности не может быть уменьшено никаким внешним средством». Но Толстой в то время отрицал закономерность проверки разумом положений веры. Разум, писал он, выражает свои положения словом — орудием «шатким и слабым»; религиозные истины «верны и несомненны в сердце».
Статья не была закончена. Задачей статьи, как говорил Толстой гостившему в Ясной Поляне шурину С. А. Берсу, было «доказать несомненную необходимость религии»82.
462
Рождественские праздники 1877 года перебили работу Толстого над статьей; после праздников, как писал он Страхову 3 января следующего 1878 года, он надеялся вернуться к ней.
Но Толстой не только не вернулся к этой статье, но и оставил на время, вплоть до октября 1879 года, всякую работу над статьями религиозного содержания и перешел к художественному творчеству.
XI
В последних числах декабря 1877 года, перед самым Новым годом, Толстой ездил в Москву в поисках гувернера-француза к детям.
Побывал Толстой также у редактора «Русского архива» П. И. Бартенева, с которым беседовал о задуманном художественном произведении из времени Николая I. В Ясную Поляну Толстой вернулся, как писал он А. А. Толстой 3 января 1878 года, с «целой кучей материалов» по интересующему его периоду русской истории. В тот же день он писал П. И. Бартеневу с просьбой прислать ему те номера «Русского архива», где были напечатаны «Письма к друзьям из похода в Хиву 1839 года» В. И. Даля, и все то, что вспомнится Бартеневу «из времен Николая характерное»83.
Ни Фету, ни Страхову, которого в письме от 27 ноября 1877 года Толстой назвал своим «дорогим и единственным духовным другом», он ни слова не писал о том, в чем состоит сюжет задуманного художественного произведения. Только третьему своему другу, А. А. Толстой, он через два месяца после начала изучения времени Николая I очень кратко дал понять, какую именно эпоху и какого героя намерен он изобразить в задуманном романе.
«У меня давно, — писал Толстой своей тетушке 3 января 1878 года, — бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского».
Здесь Толстой имел в виду Василия Александровича Перовского, бывшего в 1833—1842 годах оренбургским военным губернатором. В 1839 году под начальством Перовского был предпринят неудачный поход в Хиву, закончившийся отступлением русских войск с громадными потерями. Потому-то и просил Толстой Бартенева прислать ему «Записки» Даля об этом походе, что поход этот был связан с именем Перовского. Перовский был ближайшим другом Жуковского и был не чужд литературным занятиям: в «Северных цветах» за 1825 и 1827 годы появились его «Отрывки писем из Италии».
463
А. А. Толстая была близко знакома с Перовским. Живя в Петербурге в 1856 и 1858 годах и бывая у своей тетушки, Толстой много слышал от нее о Перовском и ее рассказом о пребывании Перовского в плену у французов в 1812 году воспользовался для описания плена Пьера Безухова в «Войне и мире».
«...Все, что касается его, — писал далее Толстой о Перовском, — мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично». Он просит А. А. Толстую и родных Перовского прислать ему оставшиеся после него письма и бумаги — не для того, чтобы делать из них выписки, а только для того, чтобы «поглубже заглянуть ему в душу»84.
В ответном письме от 12 января А. А. Толстая обещала всячески содействовать Льву Николаевичу в получении всех писем и бумаг В. А. Перовского. В его натуре, писала она о Перовском, «все было àgrands traits [крупных размеров], качества и недостатки»85.
От этого периода работы Толстого над художественным произведением из времени Николая I остался только один незаконченный отрывок, который можно датировать декабрем 1877 или январем 1878 года. Этот отрывок не может относиться ни к «Декабристам», над которыми Толстой работал в 1878 году, ни к роману из эпохи XVIII века, начатому в 1879 году. Действие его происходит осенью в южном городе по окончании войны, длившейся два года. Как известно, война с турками, начатая в 1828 году, закончилась миром, подписанным в Адрианополе 2 сентября 1829 года.
Отрывок сохранился в четырех последовательных редакциях86. Во всех редакциях действуют два главных лица: командующий войсками, который в первой редакции называется князь Федор Мещериков, во второй — князь Острожский, в третьей обозначен инициалами П. Б., и его подчиненный — князь Семен Щетинин в первой редакции и князь Федор Щетинин — в остальных. У Щетинина происходит столкновение с командующим войсками из-за того, что он не получил назначения начальником штаба, которого желал и ожидал.
В лице командующего войсками Толстой имел в виду, как это помечено в конспекте произведения, изобразить командующего левым флангом Кавказской армии, генерала Барятинского, под начальством которого он сам служил на Кавказе. Вполне возможно, что под именем князя Щетинина Толстой предполагал изобразить Перовского.
464
Щетинин — человек долга. В одном из вариантов о нем сказано, что он, выйдя в отставку, опять поступил на военную службу, после того как прочитал в газетах, «какие оскорбительные условия были предложены» России. Он «ничего не мог делать, думать» и, перенеся «слезы отчаянья, угрозы семьи», подал заявление о поступлении на службу и уехал на войну. В разговоре с главнокомандующим он обнаруживает большую твердость и чувство собственного достоинства.
На этом отрывок был оборван.
В начале января 1878 года план задуманного романа претерпел серьезные изменения.
8 января 1878 года С. А. Толстая пишет в своих записках:
«„Со мной происходит что-то похожее на то, когда я писал «Войну и мир», — сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полуусмешкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал. — И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14-го декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805-м годом, то и все сочинение начал с этого времени“. Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное — турецкая война 1829 года. Он стал изучать эту эпоху; изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14-го декабря.
Потом он мне еще сказал: «И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14-го декабря попадает к этим переселенцам — и «простая жизнь в столкновении с высшей».
Потом он говорил, что как фон нужен для узора, так и ему нужен фон, который и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б я знал, как, то и думать бы не о чем». Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать»»87.
27 января, отвечая А. А. Толстой на ее письмо и поблагодарив за обещание достать письма Перовского, Лев Николаевич познакомил ее в общих чертах с планом задуманного произведения. Он писал: «Перовского личность вы совершенно верно определяете — à grands traits, таким и я представляю себе: и такая фигура — одна наполняющая картину — биография его — была бы груба, но с другими, противуположными ему, тонкими, мелкой работы, нежными характерами, как Жуковский даже,
465
которого вы, кажется, хорошо знали, с другими и, главное, с декабристами, эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу — самой крупной и à grands traits фигуре, выражает вполне то время».
Как видим, декабристы уже фигурируют в этом плане.
Далее Толстой сообщил, что он «теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов» и не может «выразить то наслажденье», которое испытывает, «воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е года, — уж история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается, и всё устанавливается в торжественном покое истины и красоты...».
«Я испытываю, — писал далее Толстой, — чувство повара (плохого), который пришел на богатый рынок и, оглядывая все эти к его услугам предлагаемые овощи, мясо, рыбы, мечтает о том, какой бы он сделал обед!.. Так и я мечтаю, хотя и знаю, как часто приходилось мечтать прекрасно, а потом портить обеды или ничего не делать. Уж как пережаришь рябчиков, потом ничем не поправишь. И готовить трудно и страшно... А обмывать провизию, раскладывать — ужасно весело!»
Заканчивает Толстой свое письмо словами: «Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понимать всё, вы не можете представить, до какой степени это важно. Так важно, как важна для вас ваша вера. И еще важнее, мне бы хотелось сказать. Но важнее ничего не может быть. И оно то самое и есть»88.
Такую важность приписывал Толстой задуманному роману потому, что этот роман представлялся ему поворотным пунктом в его творчестве. По замыслу, он должен был быть первым художественным произведением, написанным с новой, нравственно-религиозной точки зрения, с которой он теперь рассматривал все явления жизни.
XII
27 декабря 1877 года умер Некрасов.
Толстой уже был подготовлен к его смерти письмами Страхова. Еще 7 мая 1877 года Страхов писал Толстому: «А Некрасов умирает, — Вы знаете? Меня это очень волнует... Его стихи стали для меня иначе звучать — какая сила, погибшая от невежества и дурных страстей!»89
Узнав из газет о смерти Некрасова, Толстой 3 января 1878 года писал Страхову: «Смерть Некрасова поразила меня. Мне жалко было его не как поэта, тем менее как руководителя общественного мнения, но как характер, который и не попытаюсь
466
выразить словами, но понимаю совершенно и даже люблю — не любовью, а любованьем»90.
Страхов был на похоронах Некрасова и в письме к Толстому от 20 января рассказал о них. Он писал, что надгробное слово священника, профессора богословия Горчакова, «своею фальшью до боли раздражило» его. «Он восхвалял, — писал Страхов, — в покойном веру, надежду и любовь, не говоря — какие, и прочитал в церкви длинное стихотворение. На могиле я выслушал одну речь, в которой Некрасова ставили выше Пушкина и Лермонтова. Толпа кричала браво!
Очень хотелось бы поговорить с вами об Некрасове», — прибавлял далее Страхов91.
Речь о том, что Некрасов выше «байронистов» Пушкина и Лермонтова, особенно Пушкина, «воспевавшего ножки Терпсихоры», была произнесена Г. В. Плехановым, как он сам писал об этом92. Возгласы сочувствия его речи раздавались со стороны окружавших его членов партии «Земля и воля» (к которой принадлежал в то время и сам Плеханов) и южнорусских бунтарей. Они были вооружены револьверами, и если бы полиция попыталась арестовать Плеханова, они «ответили бы на полицейское насилие дружным залпом из револьверов». Плеханов рассказывает также, что когда Достоевский, говоривший прежде него, в своей речи заявил, что Некрасов по таланту был не ниже Пушкина, это утверждение Достоевского показалось молодым представителям партии «Земля и воля» «вопиющей несправедливостью». «Он был выше Пушкина! — закричали мы дружно и громко».
Толстой всегда, а особенно в данный период его жизни, смотрел на смерть как на таинственное событие, которое нужно встречать в торжественном молчании. Ему казалось неуместным всякое восхваление заслуг умерших людей при их погребении. В марте 1876 года Толстой присутствовал в Москве на похоронах П. Ф. Самарина и слышал произнесенные на его могиле речи, после чего говорил приехавшему в Ясную Поляну своему хорошему знакомому В. К. Истомину: «Это ужасно, что проделывают люди над гробом умершего человека! Тут стоят родные, удрученные, скорбные, занятые мыслью о великом таинстве смерти, а мелкие самолюбцы из желания попасть в газеты и увидеть свои имена пропечатанными один за другим подступают к могиле и произносят речи, ничего общего с таинством смерти не имеющие. Говорят именно о том, о чем говорить не следует. Мне просто стало жутко при мысли, что и надо мной когда-нибудь произведут ту же операцию. Дайте мне слово,
467
Владимир Константинович, — сказал он, вдруг обратившись ко мне лицом, — что если вам придется быть на моих похоронах, вы моим именем остановите первого выступившего оратора и положите предел этому непозволительному бесчинству»93.
Такое же тяжелое впечатление произвел на Толстого рассказ Страхова о речах, произнесенных на могиле Некрасова. 27 января 1878 года он писал Страхову:
«Наглая жизнь у вас в вертепах, как Петербург, так разгуливается, что и на не подлежащие ей явления смерти хочет наложить свою руку. И что смешнее всего, хочет отнестись к тайне смерти со всем свойственным ей умением приличия, — торжественно по чину; и тут-то вся ничтожность, мерзость ее тычет в глаза тем, у кого есть глаза. Как будто не только Некрасова слава, но слава всех великих людей, собранная на одну голову, могла бы быть прилично упомянута над трупом».
Далее, исполняя желание Страхова поговорить о Некрасове, Толстой высказывает свое мнение о его поэзии.
«О Некрасове я недавно думал. По-моему, его место в литературе будет место Крылова. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера — потрафил по вкусу времени — и то же невыработанное и не могущее быть выработанным — настоящее присутствие золота, — хотя и в малой пропорции и в неподлежащей очищению смеси»94.
Этот отзыв всего точнее выражает отношение Толстого к поэзии Некрасова. И в устных беседах, и в письмах Толстой не раз отмечал те стихотворения Некрасова, которые находил поэтическими. Таково стихотворение Некрасова «Замолкни, муза мести и печали», — его Толстой в первый раз читал у автора вскоре после того, как оно было написано в 1855 году, а первую строфу декламировал наизусть спустя слишком пятьдесят лет в 1908 году95; таково стихотворение «Тишина», первый отрывок которого Толстой в письме к автору назвал «чудесным самородком»96. И позднее, в 1885 году, Толстой, сравнивая баллады А. К. Толстого со стихотворениями Некрасова, говорил, что у Алексея Толстого поэтический тон не выдержан: «начнет высоко, а кончит куплет уж водевильно», в то время как у Некрасова
468
«тон всегда выдержан от начала до конца, у того чутья больше...»97 — важное достоинство с точки зрения Толстого. Затем 27 мая 1905 года Толстой говорил, что у Некрасова в его поэме «Кому на Руси жить хорошо» «есть места, из которых видно, что он действительно любил русский народ»98.
Таковы известные нам отзывы Толстого о тех стихотворениях Некрасова, в которых он находил «настоящее присутствие золота».
XIII
Толстой продолжал изучение материалов по избранной им для художественного изображения эпохе русской истории.
Особенно интересовали его мемуары современников, изобилующие деталями, необходимыми ему как художнику. 7 февраля 1878 года он пишет брату, прося прислать все имеющиеся у него номера журнала «Русская старина» за прошлые годы и предлагая обмениваться выписываемыми историческими журналами.
8 февраля Толстой поехал в Москву. Целей поездки было две: познакомиться с проживавшими в Москве декабристами и привезти книги, нужные для работы над романом. В первый же вечер по приезде в Москву Толстой отправился к своему знакомому В. К. Истомину, от которого, как писал он жене, получил «пропасть» нужных книг, главным образом номеров журналов «Русская старина» и «Русский архив» за разные годы.
На другой день, 9 февраля, Толстой посетил двух декабристов — М. И. Муравьева-Апостола и П. Н. Свистунова.
Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793—1886), старший брат казненного Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, вождя восстания Черниговского полка, был одним из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. Служил в Семеновском полку, с которым проделал всю кампанию 1812— 1814 годов. Участвовал в восстании Черниговского полка. Был присужден к двадцати годам каторжных работ, но срок заключения был сначала уменьшен до 15 лет, а затем каторжные работы заменены ссылкой на поселение, которую М. И. Муравьев-Апостол отбывал в Якутской области.
В некрологе М. И. Муравьева-Апостола, написанном В. Е. Якушкиным, сказано: «Когда гр. Л. Н. Толстой собирался несколько лет тому назад писать роман о декабристах... он приходил к Матвею Ивановичу для того, чтобы расспрашивать его, брать у него записки его товарищей и т. д.»99. В записной книжке Толстого находим некоторые сведения о восстании Черниговского
469
полка, отсутствующие в печатных источниках; Толстой мог записать их только по рассказам М. И. Муравьева-Апостола100.
Рассказывал Матвей Иванович Толстому и про своего казненного брата Сергея Ивановича. Один из этих рассказов так запомнился Толстому, что почти через двадцать лет, в 1895 году, он включил его в статью «Стыдно» (о телесном наказании крестьян). Ставя в пример С. И. Муравьева-Апостола современным защитникам розог (одна из редакций статьи так и была названа: «Декабристы и мы»), Толстой рассказывает, что С. И. Муравьев-Апостол, «один из лучших людей своего — да и всякого — времени», совершенно не употреблял в своей роте телесного наказания провинившихся солдат. Когда один из ротных командиров того же Семеновского полка, в котором служил и С. И. Муравьев-Апостол, рассказал ему про одного из своих солдат, вора и пьяницу, что его ничем нельзя обуздать, кроме розог, С. И. Муравьев-Апостол предложил перевести этого солдата в его роту. «Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни украл у товарища сапоги, пропил их и набуянил», Сергей Иванович выстроил роту, вызвал солдата и перед всей ротой сказал ему, что за украденные им сапоги он уплатит свои деньги и наказывать его не будет, а просит его для его же пользы исправиться и переменить свою жизнь. То же повторилось и в другой раз. «Солдат был так поражен этим новым для него обращением, что совершенно изменился и стал образцовым солдатом». «Рассказывавший мне это брат Сергея Ивановича, Матвей Иванович, — прибавляет Толстой... — никогда не мог удержаться от слез умиления и восторга, когда говорил про это»101
Но М. И. Муравьев-Апостол сомневался в том, удастся ли Толстому художественно изобразить деятелей декабристского движения. В той же статье В. Е. Якушкин рассказывает, что «Матвей Иванович неоднократно тогда высказывал уверенность, что гр. Толстой не сможет изобразить избранное им время, избранных им людей: «для того, чтобы понять наше время, понять наши стремления, необходимо вникнуть в истинное положение тогдашней России; чтобы представить в истинном свете общественное движение того времени, нужно в точности изобразить все страшные бедствия, которые тяготели тогда над русским народом; наше движение нельзя понять, нельзя объяснить вне связи с этими бедствиями, которые его и вызвали; а изобразить вполне эти бедствия гр. Л. Н. Толстому будет нельзя, не позволят, если бы он даже и захотел. Я ему говорил это».
470
И Матвей Иванович, по-видимому, не рассчитывал, чтобы знаменитый романист обратил достаточное внимание на указываемую сторону дела, так как он обвинял автора «Войны и мира» и в совершенном непонимании 1812 года, сильные впечатления которого были так свежи для Матвея Ивановича до самого конца»102. Говоря о непонимании Толстым 1812 года, М. И. Муравьев-Апостол имел в виду, вероятно, недостаточно яркое представление о том энтузиазме, с которым шла на войну передовая молодежь того времени, в том числе и будущие декабристы. Еще и другой мемуарист записал отрицательный отзыв М. И. Муравьева-Апостола о «Войне и мире» — это Н. Н. Кашкин, сын петрашевца Н. С. Кашкина, знакомого Толстого. По словам Н. Н. Кашкина, М. И. Муравьев-Апостол «обвинял Толстого в неверном описании Бородинского сражения и главное — значения в нем Кутузова103.
XIV
Скептическое отношение, проявленное М. И. Муравьевым-Апостолом к художественному замыслу Толстого, помешало Толстому ближе сойтись с престарелым декабристом. Иначе сложились у Толстого отношения с другим декабристом, с которым он познакомился в тот же день 9 февраля, — с П. Н. Свистуновым.
Павел Николаевич Свистунов (1803—1889), сын камергера, с 1823 года служил в Кавалергардском полку. Был присужден к двадцати годам каторжных работ за то, что «участвовал в умысле цареубийства и истребления императорской фамилии согласием и в умысле бунта принятием в общество товарищей». Срок был сокращен до пятнадцати лет. После амнистии жил в Калуге, где в 1859 году был избран членом Калужского дворянского комитета по устройству быта помещичьих крестьян, в котором занимал либеральную позицию вместе с декабристами Е. П. Оболенским и Г. С. Батеньковым и знакомым Толстого, петрашевцем Н. С. Кашкиным. С 1863 года жил в Москве.
Толстой близко сошелся с П. Н. Свистуновым и по возвращении в Ясную Поляну вступил с ним в переписку.
Вечером того же 9 февраля, когда Толстой виделся с М. И. Муравьевым-Апостолом и П. Н. Свистуновым, он побывал у дочери выдающегося декабриста Никиты Михайловича Муравьева, Софьи Никитичны Бибиковой, которая ему, как писал он в тот же вечер жене, «пропасть рассказывала и показывала»104. Софье Никитичне было что показать и рассказать.
Матерью С. Н. Бибиковой была сестра декабриста Захара Григорьевича Чернышева, урожденная гр. Александра Григорьевна
471
Чернышева — одна из семи жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь; Софья Никитична и родилась в Чите в 1829 году. Она была племянницей декабриста Александра Михайловича Муравьева и двоюродной племянницей декабриста Михаила Сергеевича Лунина. После смерти матери, скончавшейся в 1832 году в Петровском заводе, девочка осталась на попечении отца, который, отбыв каторгу, в 1836 году поселился в Урике близ Иркутска. Отец умер, когда ей было четырнадцать лет. В 1848 году Софья Никитична вышла замуж за М. И. Бибикова, племянника декабристов Матвея, Сергея и Ипполита Муравьевых-Апостолов. После свадьбы Бибиковы поселились в Москве на Малой Дмитровке, где Софья Никитична и умерла в 1892 году. Обстановка этого дома, в котором Толстой слушал увлекательные рассказы хозяйки, и сама эта хозяйка так описаны в воспоминаниях ее внучки А. Бибиковой:
«В этот старинный и странный дом бабушка вносила столько воспоминаний прошлого, столько духа «не от мира сего»; так молчаливо и таинственно, точно скрывая в себе невысказанные истории, стояли огромные шкапы с книгами и тяжелая мебель, что весь дом представлялся мне каким-то храмом, где царил культ какого-то прекрасного и далекого бога, культ воспоминаний. И в самом деле, каждая вещь была с ним связана. Старинное кресло, на котором в Сибири умер прадед Никита Михайлович; рабочий столик в виде жертвенника, старинный, массивный и тяжелый, подарок прадеда жене; всевозможные часы, портреты, миниатюры, изображавшие разных прабабок и кузенов... Как все это благоговейно показывалось и смотрелось! Это всё были страницы жизни, и при этом в рассказах и воспоминаниях проходили, как китайские тени на экране, фигуры декабристов Волконского, Трубецкого, Свистунова, Оболенского, Поджио, барона Розена, Сутгофа, Якушкина и многих других, вернувшихся из Сибири и собиравшихся у бабушки в доме по пятницам. Львиная голова А. П. Ермолова, характерная фигура Николая Николаевича Муравьева-Карсского, Закревского, tan-te Nathalie, tante Lise и многих, многих других. И среди всего этого прошлого бабушка Софья Никитишна, в своем неизменном черном простом платье, с крупными морщинами на характерном лице, с белыми, как серебро, волосами. Несмотря на скромное, почти бедное платье, от нее веяло таким благородством, такой истинной барственностью, которая невольно всеми чувствовалась. На всю ее жизнь и на характер неизгладимый отпечаток наложила ее жизнь с отцом, всё, что она видела и слышала в детстве. Бабушка не только любила своего отца, она его просто боготворила и свято чтила его память и всё, что он успел передать ей из своих знаний105.
472
Софья Никитична высказала полное сочувствие замыслу Толстого и охотно рассказывала ему об отце и его товарищах по заключению; Толстой получил от нее несколько нужных ему книг (названия их неизвестны), которые обещал вернуть. По возвращении в Ясную Поляну Толстой 14 марта писал С. Н. Бибиковой письмо (оно до нас не дошло), в котором просил отсрочить возвращение взятых книг. Софья Никитична ответила Толстому 17 марта следующим письмом:
«Сейчас только что получила, граф, ваше любезное письмо от 14 марта и спешу отвечать Вам. Разумеется, Вы можете оставить книги у себя и не спешить их возвращением. Еще когда Вы были у нас, муж мой и я просили Вас навещать нас, Вы обещались побывать у нас, и мы поджидали Вас. Вы всегда доставите нам истинное удовольствие, бывая у нас; и я никогда не откажусь говорить с Вами об отце моем, память которого я свято чту. Чем более Вы узнаете его, тем только более можете оценить его. Одно только смущает меня — я боюсь, что не сумею передать Вам во всей полноте характер отца моего и воспоминания моего детства о его товарищах. И потому заранее прошу Вашего снисхождения»106.
XV
Вернувшись 11 февраля в Ясную Поляну, Толстой засел за чтение привезенных из Москвы материалов. 1 марта Софья Андреевна пишет в своих «Записях»:
«Все время Л. Н. занимается чтением времен Николая Павловича и, главное, заинтересован и даже весь поглощен историей декабристов. Он ездил в Москву и привез целую груду книг и иногда до слез тронут чтением этих записок»107.
4 марта Толстой вновь уехал из Ясной Поляны — теперь уже не только в Москву, но и в Петербург.
Еще в Туле Толстой побывал у дочери Рылеева Анастасии Кондратьевны Пущиной, от которой, как он тогда же писал жене, узнал «много интересного»108.
В Москву Толстой приехал ночью того же дня. На другой день, 5 марта, он сходил к обедне (было воскресенье), потом отправился к П. Н. Свистунову, у которого познакомился с другим декабристом — А. П. Беляевым.
Александр Петрович Беляев (1803—1887) не принадлежал к членам тайного общества, но будучи, по его словам, «энтузиастом свободы», под влиянием товарищей принял участие в восстании 14 декабря. Был присужден к двенадцатилетней каторге
473
и затем к поселению в Сибири. В 1840 году был переведен рядовым на Кавказ и в 1845 году уволен в отставку.
Познакомившись с Беляевым в Москве, Толстой по возвращении в Ясную Поляну вступил с ним в переписку. Его заинтересовали обширные воспоминания Беляева, которые он направил в журнал «Русская старина». Начиная публикацию воспоминаний Беляева, редактор «Русской старины» М. И. Семевский снабдил их следующим примечанием от редакции: «Печатаемые ныне «Воспоминания» Александра Петровича Беляева указаны нам знаменитым нашим писателем графом Львом Николаевичем Толстым. Он читал эти «Воспоминания» и, как свидетельствует их автор, «сделал на полях рукописи много отметок; согласно с указаниями гр. Л. Н. Толстого, — пишет г. Беляев, — я сделал необходимые прибавления того, что мною было упущено. Он же и поощрил меня к изданию этих воспоминаний, начатых много лет тому назад с единственной целью помянуть сердечным, благодарным словом всех тех, с которыми сводила судьба в различных обстоятельствах жизни и которых прекрасные, возвышенные чувства и добродетели восторгали меня и пленили мое сердце»109.
У Свистунова Толстой на этот раз провел четыре часа, слушая «прелестные рассказы» обоих декабристов, потом зашел к Беляеву за рукописью его воспоминаний, которую увез с собой в Петербург. Оба декабриста верили в творческие силы Толстого и с нетерпением ожидали появления в печати его романа. «Очень бы желал и был бы счастлив, — писал Толстому А. П. Беляев 6 марта 1878 года, — если б мои правдивые сказания, хотя и не красно изложенные, хотя бы частицу вложили в тот склад, который Вы, конечно, уже собрали об этом времени. Вся читающая, чувствующая и мыслящая Россия с нетерпением ждет вашего волшебного рассказа»110. П. Н. Свистунов писал 20 марта: «С нетерпением жду Вашего посещения, граф. Дорого ценю Вашу беседу и желал бы доставить Вам больше материалов для предпринятого Вами труда, на радость всей читающей публики, как и на пользу ей»111.
Обедал Толстой у издателя «Русского архива» П. И. Бартенева, который как знаток фамильных историй русских дворянских родов мог сообщить ему много ценных сведений для его работы.
В тот же день, 5 марта, Толстой уехал в Петербург.
Целей поездки в Петербург было несколько: 1) достать побольше книг и рукописей для работы над начатым романом;
474
2) повидаться с Александрой Андреевной Толстой; 3) заключить купчую крепость на покупку у барона Бистрома самарской земли; 4) повидаться с Н. Н. Страховым, В. А. Иславиным и, может быть, с другими лицами, могущими доставлять нужные ему материалы.
В Петербурге Толстой остановился у своей тещи Л. А. Берс. В первый же день по приезде, 6 марта, он отправился к Александре Андреевне Толстой, но не застал ее дома и поехал к дяде Софьи Андреевны В. А. Иславину, состоявшему членом Совета министра государственных имуществ, от которого получил очень нужные для работы пять дел 1810—1825 годов по переселению крестьян из центральных губерний в Оренбургский край и в Сибирь. Была возможность поехать в театр на «Юдифь» Серова, но он не поехал, стараясь, как писал он жене, беречь «себя, свои нервы», и просидел вечер, играя в карты с дедом Софьи Андреевны А. М. Исленьевым и Н. Н. Страховым112.
На другой день, 7 марта, Толстой, еще не отказавшийся в то время от стремления увеличивать свои земельные владения, поехал к барону Бистрому окончательно договориться о покупке у него земли в Бузулукском уезде Самарской губернии. Было условлено, что Толстой покупает 4022 десятины за 42000 рублей, из которых 20000 уплачивается теперь же, а остальные — через два года из расчета по 6%. Условия эти Толстой в письме к жене назвал «прекрасными»113. В этот день и в два следующих Толстой ежедневно по утрам виделся с Александрой Андреевной. Он посвятил ее в планы своей работы и просил разузнать в придворных кругах, кто из окружавших Николая I сановников особенно настаивал на смертной казни декабристов. Этому Толстой придавал большое значение. А. А. Толстая передала ему для прочтения письма В. А. Перовского к разным лицам; Толстой увез их с собой в Ясную Поляну и, сделав из них нужные выписки, вернул владелице.
В своем дневнике А. А. Толстая записала 7 марта: «Счастливый день. Приезд Льва Толстого. Когда, не прерывая связи, встречаешься после стольких лет разлуки, кажется, что будто готов задохнуться от количества того, чем желаешь поделиться. Лев симпатичнее, чем когда-либо». Затем 8—9 марта: «Каждое утро Лев приходит ко мне, и главный предмет наших разговоров — религия. После многих лет искания истины, он, наконец, у пристани. Эта пристань, конечно, построена им по-своему... У Льва в зачатии теперь новое сочинение, и я уверена, что в нем теперь отразится эта исповедь его веры или вернее — исповедь его новой веры»114.
475
9 марта Толстой, чтобы повидаться со Страховым, зашел в императорскую публичную библиотеку (ныне Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина). Там он познакомился с другим библиотекарем той же библиотеки, заведовавшим отделением искусств, «до страсти влюбленным» (по его словам) в художественные произведения Толстого, Владимиром Васильевичем Стасовым. Стасов давно уже мечтал познакомиться с Толстым. Страхов, посылая при письме от 20 января 1878 года одну из статей Стасова, писал Толстому: «Стасову ужасно хочется, чтобы вы знали, что он признает Вас гениальным»115.
Из библиотеки Толстой направился в Петропавловскую крепость, комендант которой, барон Майдель, принял его очень любезно и показал ему то, что дозволялось показать, — в том числе ручные и ножные кандалы, в которые были закованы декабристы, — и рассказал то, что можно было рассказать, — между прочим, о том, как один арестант в состоянии душевного расстройства бросился в Неву и потом ел стекло. Это был П. Н. Свистунов, и Толстой, слушая этот рассказ о знакомом ему человеке, испытал, как он писал Свистунову 14 марта, «странное и сильное чувство». Но Алексеевского равелина, которым Толстой больше всего интересовался, ему не показали. Комендант, рассказывает сопровождавший его С. А. Берс, «любезно объяснил графу Толстому, что войти в равелин можно всякому, а выйти оттуда могут только три лица в империи: император, шеф жандармов и комендант крепости, что и известно всем часовым у входа в равелин»116.
Выйдя из крепости и усевшись в карету, Лев Николаевич, по словам Берса, «с отвращением» начал ему рассказывать, «как комендант крепости с увлечением рассказывал ему о новом устройстве одиночных камер, об обшивке стен толстыми войлоками для предупреждения разговоров посредством звуковой азбуки между заключенными, об опытах крепостного начальства для проверки этих нововведений и т. п. и удивлялся этой равнодушной и систематической жестокости со стороны интеллигентного начальства. Лев Николаевич выразился так: «Комендант точно рапортовал по начальству, но с увлечением, потому что выказывал этим свою деятельность».
Барон Майдель послужил Толстому прототипом для изображения в «Воскресении» коменданта крепости барона Кригсмута.
«Проезжая со мной по Большой Морской улице, — рассказывает далее С. А. Берс, — мимо памятника императору
476
Николаю I, он отвернулся от памятника и сказал, что не может видеть этой личности. Он высказывал, что с гибелью декабристов погибла большая и лучшая часть русской аристократии и строго осуждал за это императора Николая I. Он находил, что допущенная им смертная казнь пятерых доказывала полное отсутствие в нем свойственных всякому монарху милости и великодушия, которые так необходимы на этом посту. Это было, по мнению Льва Николаевича, особенно неблаговидно потому, что нельзя было не знать, что такое же участие, как и приговоренные к казни, принимали в бунте еще и многие другие».
Вероятно, 10 марта Толстой побывал у редактора «Русской старины» М. И. Семевского, которого посвятил в свои литературные планы. Семевский сейчас же отдал Толстому визит и провел у него более часу «в самой интересной» для Семевского беседе117. Чрезвычайно сочувствуя замыслу Толстого, Семевский обещался посылать ему неизданные записки декабристов из обширного архива «Русской старины».
В тот же день Толстой по приглашению Страхова отправился на публичную лекцию о религиозных вопросах 24-летнего магистра философии Владимира Соловьева, устроенную Обществом любителей духовного просвещения. Это была одна из одиннадцати лекций, составлявших цикл «Чтения о богочеловечестве». Слушать Соловьева приходили представители высшего духовенства и великосветская публика. Толстому лекция Соловьева, как писал он Страхову 17 апреля, представилась «сором» и «детским вздором»118.
Долго не мог забыть Толстой эту лекцию. Еще в 1894 году он вспоминал: «Эти лекции у него были бредом сумасшедшего, и чем менее они были понятны, тем более имели успех. Просто удивительно теперь вспомнить. Сидят старики, почтенные люди, и слушают, как мальчик, с длинными волосами, в белом галстуке, несет вздор, и слушают внимательно, серьезно»119.
Еще более резкий отзыв Толстого о лекции Соловьева пришлось выслушать в 1901 году С. Н. Эверлингу. «Его публичные лекции, — говорил Толстой, — совершенная чепуха. Никогда не забуду дня, когда покойный Страхов потащил меня с собой на лекцию Соловьева. Представьте себе переполненную залу, удушливый воздух, невозможность повернуться, — не только все стулья были заняты, но даже на подоконниках сидели дамы в вечерних туалетах, — и внезапное появление на эстраде (конечно, с значительным опозданием, как подобает маэстро) тощей фигуры Соловьева, длинной, как жердь, с огромной головой, состоящей из волос и глаз, как на византийских иконах, одетой
477
в сюртук, висевший на нем, как на вешалке. Вместо шарфа вокруг шеи был огромный белый шелковый платок, повязанный так, как носят художники на Монмартре. Окинув взглядом аудиторию, он устремил взор в пространство и начал читать, пересыпая речь бесконечными немецкими цитатами, которые почему-то считаются необходимыми каждому истинному философу. Он перечислил, как будто он священник, длинный ряд серафимов, херувимов и прочих служителей неба. Можно было подумать, что он сам видал их. Мне это показалось до такой степени глупо, что я не мог высидеть далее и удрал, предоставив Страхова его судьбе»120.
На лекции Соловьева 10 марта присутствовал Достоевский, но общий друг Толстого и Достоевского Н. Н. Страхов их не познакомил, так как Толстой просил его ни с кем не знакомить121. Впоследствии и Достоевский и Толстой очень сожалели, что была упущена эта единственная возможность их встречи.
11 марта Толстой покончил переговоры с Бистромом о покупке земли и мог уехать из Петербурга.
Высшее петербургское общество, которое Толстой видел у Бистрома, произвело на него удручающее впечатление. 24 марта он писал Фету:
«Я на прошлой неделе был, после 17 лет, в Петербурге для покупки у генерала Бистрома самарской земли.
Им там весело, и все очень просто, так за что же нам сердиться? Что они выпивают кровь из России — и это так надобно, а то бы мы с жиру бесились, а у них всех это дижерируется122 очень легко. Так что и за это нам обижаться не следует; но за то, что они глупы — это бы еще ничего, — но, несмотря на чистоту одежды, низменны до скотообразности, это мне было ужасно тяжело в мое пребывание там... Я там видел пару генералов — орловских, так жутко делается, точно между двух путей стоишь, и товарные поезды проходят»123.
Это письмо по силе возмущения против высших классов напоминает письмо Толстого к А. А. Толстой в августе 1862 года (после обыска в Ясной Поляне) — с тою только разницей, что в письме 1862 года у Толстого вылилось возмущение произволом правительства, здесь же возмущение направлено на все высшее общество и никаких личных поводов на этот раз для возмущения не было.
Очень хотелось повидаться с Толстым его старым знакомым — писателям Гончарову, Григоровичу; художники, в частности Крамской, поджидали его на выставку передвижников. Григорович, боясь, чтобы он «как бы не промахнул мимо», на
478
подъезде выставки «морозился часа три сряду», как писал Толстому 31 марта В. В. Стасов. Но Толстой, всегда с трудом и с беспокойством расстававшийся с семьей, не захотел и часу лишнего пробыть в Петербурге и 11 марта уехал в Москву и в Ясную Поляну.
XVI
До какой степени Толстой был в то время весь поглощен задуманной им художественной работой, видно из того, что уже через два дня после возвращения из Петербурга и Москвы, 14 марта, он пишет разным лицам шесть писем, связанных с его замыслом.
Страхову Толстой писал, что доволен своей поездкой и теперь «весь ушел в свою работу» и чувствует «приливы радости и восторга»124.
А. А. Толстой Лев Николаевич писал, что у него осталось «самое приятное воспоминание» о проведенных с нею часах — «теплое, твердое и спокойное» и затем прибавлял:
«То, о чем я просил вас узнать, разведать, еще больше, чем прежде, представляется мне необходимым теперь, когда я весь погрузился и тот мир, в котором я живу. Надобно, чтоб не было виноватых»125. Толстой имел в виду свою просьбу к тетушке — разузнать, кто из близких к Николаю I лиц особенно настаивал на казни пяти декабристов. Словами «Надобно, чтоб не была виноватых» Толстой указывал на то освещение, какое он хотел придать изображаемым событиям. «Я хочу показать, — говорил он в Петербурге А. А. Толстой, — что в деле декабристов никто не был виноват — ни заговорщики, ни власти»126.
В. А. Иславина Толстой благодарил за предоставление ему «драгоценнейших материалов» — пяти дел о переселениях русских крестьян в 1820-х годах в Оренбургские и Сибирские края — и просил позволить шурину Пете Берсу «отобрать, сколько можно еще взять, дел о переселениях 20-х годов»127.
Тещу Л. А. Берс Толстой просил позволить ее сыну Пете заняться отбором дел о переселенцах в архиве Министерства государственных имуществ128.
Андрея Николаевича Островского (брата драматурга) Толстой просил переслать ему тетрадь дневника девушки 1820-х годов, который он через П. И. Бартенева предлагал Толстому129
479
(ответ Островского неизвестен, как неизвестна и та рукопись, о которой писал ему Толстой).
П. Н. Свистунову Толстой писал:
«Когда вы говорите со мной, вам кажется, вероятно, что всё, что вы говорите, очень просто и обыкновенно, а для меня каждое ваше слово, взгляд, мысль кажутся чрезвычайно важны и необыкновенны; и не потому, чтобы я особенно дорожил теми фактическими сведениями, которые вы сообщаете, а потому, что ваша беседа переносит меня на такую высоту чувства, которая очень редко встречается в жизни и всегда глубоко трогает меня».
Далее Толстой просил передать записку (нам неизвестную) А. П. Беляеву и справлялся, «что за лицо» был комендант Петропавловской крепости при декабристах, генерал Сукин, и нет ли у Свистунова сочинений по религиозным вопросам декабристов П. С. Бобрищева-Пушкина и А. П. Барятинского130.
В тот же день Толстой получил от М. И. Семевского через Страхова переплетенный том ста семи писем «умнейшего и даровитейшего из декабристов» (как назвал его Семевский в письме к Толстому от 19 марта) — Николая Александровича Бестужева. Вслед за этим Семевский «с величайшим удовольствием» посылал Толстому том за томом хранившиеся в архиве «Русской старины» материалы о декабристах: Записки Михаила Александровича Бестужева, «Записки несчастного» барона Штейнгеля, заметки «О Рылееве» Е. И. Якушкина, письма Рылеева к жене, «Воспоминания о Рылееве» кн. Е. П. Оболенского, «Дневник путешествия из Читы в Петровск» барона Штейнгеля, письма Г. С. Батенькова, письма А. А. Бестужева-Марлинского.
К сожалению, до нас не дошли четыре письма Толстого к Семевскому от 15 марта, 2 и 22 апреля и 5 декабря 1878 года131, и нам неизвестно, что почерпнул Толстой для своей работы из сборников Семевского. Материалы, содержащиеся в этих сборниках, относятся главным образом к жизни декабристов на каторге и на поселении, в то время как Толстой на данном этапе своей работы нуждался прежде всего в материалах, касающихся жизни и деятельности декабристов до ареста и ссылки. Но несомненно, что из материалов Семевского Толстой мог уяснить себе многие особенности душевных качеств выдающихся декабристов, что имело для него первостепенное значение.
16 марта в письме к Страхову Толстой просит передать Стасову, как члену комитета для собирания материалов по истории царствования Николая I, просьбу: «не может ли он найти, указать, — как решено было дело повешения пятерых, кто настаивал,
480
были ли колебания и переговоры Николая с его приближенными?»132 Но ни В. В. Стасов, ни А. А. Толстая, к которой Толстой ранее обращался с аналогичной просьбой, не могли добыть для него никаких сведений по интересовавшему его вопросу.
В письме от 31 марта Стасов уведомил Толстого, что у него есть возможность достать копию собственноручной записки Николая I «о всем военном и другом обряде, какой надо соблюсти при повешении пяти декабристов», и спрашивал, нужна ли Толстому эта копия133.
XVII
Вероятно, вскоре по возвращении из Москвы Толстой приступил к работе над задуманным романом.
По-видимому, Толстой первоначально предполагал начать свой роман с 1816 года. Доказательством этому служит написанный Толстым в записной книжке план начала «романа134, на первой строке которого проставлена цифра «1816», а далее три заголовка: «В России правительственное», «В России общественное», «В России литературное», и под каждым из этих заголовков записаны сведения по данной теме в пределах 1816 года. Так, в разделе «В России правительственное» перечислены высшие сановники того времени, некоторые — с характеристиками автора; в разделе «В России общественное» отмечены события из жизни Пушкина и Карамзина, упомянуты — с одной стороны — кружок императрицы Марии Федоровны, с другой — «разгар войны литературной» и приведена эпиграмма на противников Карамзина; кроме того, назван ряд лиц — помещиков, светских дам, военных, служащих, профессоров, управляющих, докторов, которым предполагалось отвести в романе то или другое место. Под рубрикой «В России литературное» названы фамилии десяти «знаменитых живых писателей» того времени. Далее в плане намечены те же разделы в применении к европейской жизни: «В Европе правительственное», «общественное», «литературное», но ни одной записи под этими рубриками сделано не было.
Однако, по-видимому, никаких попыток начать роман с 1816 года Толстым предпринято не было — в архиве Толстого не находим ни одного автографа, свидетельствующего о такой попытке.
Как сказано выше, в бытность Толстого в Петербурге дядя С. А. Толстой В. А. Иславин снабдил его пятью делами о переселениях
481
крестьян в 1820-х годах и контрольных губерний в Оренбургский край и в Сибирь.
Вторую группу дел о переселенцах получил от В. А. Иславина для отправки Толстому 12 апреля С. А. Берс. Кроме того, Берс 16 марта отправил Толстому какие-то дела (вероятно, из архива Сената), полученные им от служившего в Сенате Я. И. Утина. Одно из полученных от В. А. Иславина дел послужило для Толстого толчком к началу романа.
Дело это сохранилось и находится в настоящее время в архиве Министерства государственных имуществ. Оно озаглавлено: «Дело по просьбе Усманской округи села Крутчина однодворца Брыкина о переселении верителей его в числе 334-х душ в Оренбургскую губернию, с 12 ноябрь 1815 по 31 декабрь 1825, всего на 85 листах». В деле говорится о государственных крестьянах, переселявшихся из нескольких деревень Тамбовской губернии в Оренбургский край. Причиной переселения являлось малоземелье135.
В числе сел, крестьяне которых заявили о своем желании переселиться, по делу значится село Излегощи; этим именем и назвал Толстой то село, в котором происходит действие его романа. Время действия романа — тот же 1818 год, как и в подлинном деле.
Сохранилось три варианта начала романа «Декабристы», действие которых происходит в селе Излегощи136. Содержание всех трех вариантов, очень небольших, сходно: спор крестьян с соседним помещиком. Сомовым из-за отобранной у них «их собственной» земли. Мужики подали жалобу в Сенат, и теперь решался вопрос, начинать или не начинать в нынешнюю весну пахать спорную землю.
В первом из названных вариантов рассказывается, как сама собою, без всякой подготовки, собралась крестьянская сходка у крыльца дома Федора Резунова и народ начал толковать про общее дело — отбитую помещиком землю. Все крестьяне, собравшиеся на сходку, — Федор Резунов, рыжий Влас, печник Пелагеюшкин, старик Базыкин, носят имена действительно существовавших крестьян Ясной Поляны, хорошо знакомых Толстому. Федор Резунов и рыжий Влас (Власов) фигурируют также в «Дневнике помещика», написанном Толстым в 1856 году137.
482
Земля, из-за которой идет спор, называется здесь Грецовская пустошь — так называлось владение Толстого, расположенное в десяти верстах от Ясной Поляны. Крестьянский поверенный, подающий от их имени жалобу в правительственные учреждения, назван здесь Иваном Брыкиным, как назывался крестьянский поверенный в том деле, откуда заимствовал Толстой материал для своего романа.
Во втором варианте, написанном конспективно, изображается уже самая сходка. Иван Брыкин уговаривает крестьян начинать пахать спорную землю, так как нижним земским судом эта земля утверждена за мужиками, и в узаконенный срок подана жалоба в Сенат. Старик Михаил Фоканов высказывает опасение: «как бы вздору какого не вышло», и предлагает повременить. Но мужики под влиянием возбуждающих речей Ивана Брыкина решают приступить к пахоте спорной земли. В этом варианте опять выведены яснополянские крестьяне: Михаил Фоканов, Платон (вероятно, Зябрев), Яков Хролков (Фролков).
Третий вариант озаглавлен «Пути жизни» и снабжен эпиграфом из Евангелия: «Аз рех: бози есте».
Вариант начинается с описания приезда Александра I в дом небогатого помещика Криницкого, где был назначен отдых и обеденный стол проезжающего государя. В задних рядах толпы стоят два избранных обществом крестьянина, готовящихся при входе царя на крыльцо подать ему жалобу об отнятой у них земле. Судя по названию, содержание романа было задумано очень широко, но в небольшом (полторы страницы) наброске нет никакого намека на раскрытие его дальнейшего содержания.
XVIII
В конце марта у Толстого, как это нередко с ним бывало, после состояния творческого подъема наступило состояние упадка, связанное также и с физическим недомоганием. «Левочка, — писала Софья Андреевна Т. А. Кузминской 28 марта, — весь очень ослабел, и желудок, и силы, и расположение духа, и к простуде стал подвержен, и, главное, не может писать и работать, и это ему отравляет жизнь».
Далее Софья Андреевна сообщает сестре: «Он очень желает ехать на кумыс и, кроме того, мы прикупили там еще 4000 десятин земли и новый хутор, на котором и будем жить, и вот эта покупка его занимает и устройство тамошнего хозяйства. А здесь его ничто не интересует, он такой стал вялый и безучастный ко всему, и я решилась ехать на кумыс»138.
483
Под словом «ничто» С. А. Толстая разумела занятия хозяйством и вообще заботу о материальном устройстве жизни. Несомненно, что перелом в мировоззрении ослабил в Толстом энергию для занятия хозяйством и вообще материальной стороной жизни. «Отец стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством», — пишет С. Л. Толстой в своих воспоминаниях139.
Разумеется, поездка в Самару, как мы увидим ниже, вопреки ожиданиям С. А. Толстой, не привела ни к каким изменениям в настроении Льва Николаевича.
Ясное представление о душевном состоянии Толстого того времени дает его переписка.
6 апреля у Толстого был «почтовый день». В этот день он написал разным лицам пять писем (не считая двух деловых и одного родственного письма к брату).
Стасову в ответ на его сообщение о записке Николая I относительно «обряда» казни декабристов Толстой писал:
«Копия с записки Николая, о которой вы пишете, была бы для меня драгоценностью, и не могу вам выразить мою благодарность за это»140.
Однако из других писем, написанных того же 6 апреля, видно, что для Толстого художественное творчество не является уже, как было до сих пор, главным делом его жизни. Страхову он писал: «Я читаю, и то немного — глаза начинают болеть, и ничего не пишу... Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать»141. То же самое и почти в тех же выражениях он писал А. А. Толстой: «...Я ничем не занят... Я и вообще думаю, что из моих начинаний ничего не выйдет. Мне недостает той энергии заблуждения, которая нужна для всякого земного дела, или толчка свыше»142.
В тот же день С. А. Рачинскому на вопрос о его «планах» (подразумевается — художественных работ) Толстой отвечает: «Планы есть, но для забавы — любоваться ими, но, кажется, уже нет ни сил ни времени приводить их в исполнение. Планы одни личные, душевные — спасти душу»143.
«Спасти душу» означало — исполнять в жизни христианское учение любви. По христианскому учению требовалось, прежде чем приступить к молитве, «примириться с братом», то есть
484
уничтожить все неприязненные отношения с кем бы то ни было. Такой человек, с которым у Толстого были неприязненные отношения, был только один — Тургенев. И Толстой решил написать Тургеневу примирительное письмо.
В письме к Стасову от 6 апреля Толстой просил его сообщить адрес Тургенева. Но затем в тот же день, не дожидаясь ответа Стасова, написал Тургеневу следующее письмо, адресовав его «до востребования».
«Иван Сергеевич!
В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.
Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне всё, чем я был виноват перед вами.
Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас.
Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо — любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся.
Гр. Л. Толстой.
Адрес: Тула»144.
Поглощенный своей внутренней жизнью, Толстой становился все более и более равнодушным к материальным условиям своего существования, о чем он того же 6 апреля писал Фету: «...У вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвется это житейское, вам будет плохо, а у меня такое к нему равнодушие, что нет интереса к жизни»145.
Наконец, в тот же день Толстым были написаны два очень важных письма — к тетушке Александре Андреевне и к Н. Н. Страхову, излагающие его взгляд на происходившую в то время в России борьбу между правительством и революционерами.
XIX
Выше уже было сказано, что перелом в мировоззрении Толстого, происшедший в конце 1870-х годов, не только не ослабил,
485
но усилил интерес Толстого к общественным событиям того времени.
24 января 1878 года в Петербурге произошло событие, обратившее на себя всеобщее внимание: было произведено покушение на жизнь московского обер-полицеймейстера Трепова. Покушение было вызвано тем, что 13 июля 1877 года при осмотре Треповым Дома предварительного заключения у него произошло столкновение с рабочим революционером А. П. Боголюбовым (Емельяновым), приговоренным к 15 годам каторжных работ за участие в демонстрации в Петербурге у Казанского собора в 1876 году, и Трепов распорядился высечь Боголюбова розгами. На допросе стрелявшая в Трепова В. И. Засулич объяснила, что она не имела целью убить Трепова; своим выстрелом ей хотелось только обратить внимание общества на гнусную расправу полицеймейстера с находившимся в его власти политическим арестованным.
31 марта состоялся суд над В. И. Засулич с участием присяжных заседателей, под председательством А. Ф. Кони. На вопрос о виновности В. И. Засулич присяжные ответили: «Нет, не виновна», и суд вынес ей оправдательный приговор.
Н. Н. Страхов присутствовал на суде среди публики и в письме к Толстому от 2 апреля так излагал свои впечатления от суда: «Эта комедия человеческого правосудия очень взволновала меня. Судьи, очевидно, не имели в себе никаких качеств, по которым заслуживали бы звания судей, и не имели в своих умах ни малейшего принципа, по которому могли бы совершать суд... С нею [Засулич] обращались почтительно, все дело вели к ее оправданию и оправдали с восторгом невообразимым. Все это мне показалось кощунством над самыми святыми вещами»146.
Страхов, очевидно, взглянул на выстрел Засулич как на случайное явление, которому он не придал особого значения; а из суда над Засулич он как консерватор вынес только тот урок, что суд не должен оправдывать тех, кто стреляет в людей. Иначе оценил Толстой процесс Засулич.
«Засуличевское дело не шутка, — писал он Страхову 6 апреля в ответ на его письмо. — Это бессмыслица, дурь, нашедшая на людей недаром. Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело важное. Славянская дурь была предвозвестница войны; это похоже на предвозвестие революции»147.
Толстой, который в то время, по его позднейшему воспоминанию, «что-то видел в Вере Засулич»148, был поражен и фактом покушения, и еще более — судом и оправданием Засулич. В письме к А. А. Толстой от 6 апреля он высказал мнение, что
486
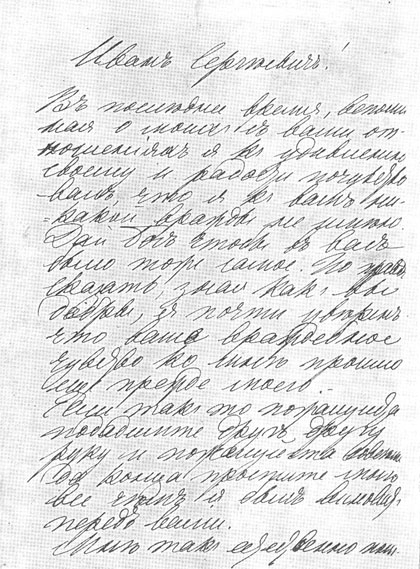
Письмо Л. Н. Толстого
к И. С. Тургеневу 6 апреля 1878 г.
487
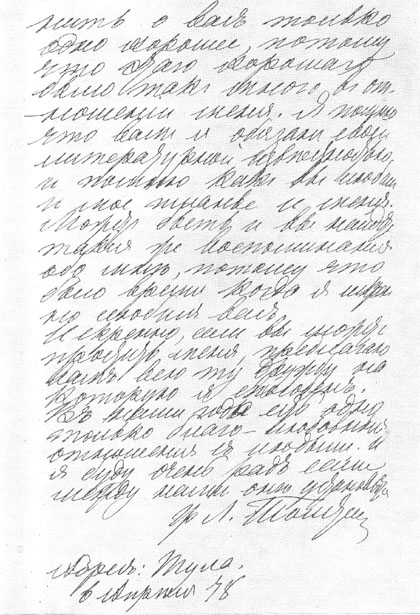
Письмо Л. Н. Толстого
к И. С. Тургеневу 6 апреля 1878 г.
488
судьи оправдали Засулич только потому, что «для них вопрос был не в том, кто прав, а кто победит»149.
В следующем письме к Толстому (от 9 апреля) Страхов высказывал уже более правильные суждения о причинах оправдания Засулич.
«Дело Засулич, — писал он, — до сих пор еще волнующая всех новость. Наконец, я уяснил себе ту бестолковую радость, которая овладела всем городом: юристы и газетчики в восторге потому, что Засулич для них героиня... Большая же часть простых людей просто радуются, что жестокому начальству сделан такой удар»150.
Но Толстой не мог не видеть того, чего не желал видеть Страхов: усилия и обострения борьбы между правительством и революционерами. «Озлобление друг на друга двух крайних партий, — писал он А. А. Толстой в том же письме, — дошло до зверства. Для Майделя и других все эти Боголюбовы и Засуличи такая дрянь, что он не видит в них людей и не может жалеть их; для Засулич же Трепов и другие — злые животные, которых можно и должно убивать, как собак».
Толстой не примыкает ни к тому, ни к другому лагерю.
«Все это, мне кажется, — пишет он далее, — предвещает много несчастий и много греха. А в том и другом лагере люди, и люди хорошие».
И Толстой ставит вопрос: «Неужели не может быть таких условий, в которых они перестали бы быть зверями и стали бы опять людьми?..»
«Мне кажется, — заканчивает Толстой свое письмо, имея в виду статьи в печати о восточном вопросе и подготовлявшийся Берлинский конгресс, который должен был определить условия мира с Турцией, — что все вопросы восточные, и все славяне и Константинополи — пустяки в сравнении с этим. И с тех пор, как я прочел про этот суд и про всю эту кутерьму, она не выходит у меня из головы».
Слабая надежда Толстого, высказанная в этом письме, на то, что его тетушка своим влиянием при дворе могла бы хоть сколько-нибудь смягчить правительственные репрессии против революционеров, была, разумеется, напрасна. А. А. Толстая ответила ему 10 апреля: «Вы правы насчет борьбы двух крайних
489
партий, но как ее предотвратить?.. Среди наших великих администраторов не найдется и двоих, с которыми можно бы было говорить, опираясь на правду вечную и на общую нашу ответственность перед ней»151.
4 июля А. А. Толстая пишет Льву Николаевичу письмо необычного содержания. Она рассказывает, что все последнее время «по совершенно неожиданным обстоятельствам» «возилась с... нигилистками, затем с крепостью и Литовским замком и прочее». «И, что всего страннее для меня самой, — пишет она далее, — я была одушевлена к ним какой-то особенной любовью, особливо к одной из них. Чудная личность, несмотря на свои заблуждения. А что всего лучше — мне удалось до некоторой степени помочь им. Как я была счастлива, и сказать не могу»152.
Разумеется, это письмо А. А. Толстой вызвало полное сочувствие Льва Николаевича. В ответном письме он 5 сентября писал А. А. Толстой: «Как странно мне было и радостно то, что вы пишете о том интересе, который в вас возбудили узники. Большое счастие, которое, сколько я знаю, и вы имеете, — не принадлежать к партии и свободно жалеть и любить и тех и других».
«Нигилистки», которым А. А. Толстой удалось помочь, были жены приговоренных к каторжным работам по процессу 193-х С. С. Синегуба и Н. А. Чарушина. Они выразили желание сопровождать мужей на каторгу и уже находились в Литовском замке в Петербурге в ожидании отправки в Сибирь вместе с мужьями. Но неожиданно постановление об отправке Синегуба и Чарушина в Сибирь было отменено и сделано новое постановление о заточении их в центральную Новобелгородскую тюрьму, где проживать женщинам не было разрешено. Им порекомендовали обратиться к фрейлине А. А. Толстой, близкой ко двору и к шефу жандармов Мезенцову.
Графиня была тронута просьбой «нигилисток» и обещала употребить все свое влияние, чтобы доставить им возможность разделить участь мужей. Она отправилась к Мезенцову, но Мезенцов был в то время сильно раздражен против революционеров, не прекращавших своей деятельности, и на заступничество А. А. Толстой ответил отказом. Тогда она посоветовала им написать прошение жене наследника, Марии Федоровне, и взялась передать его по назначению. Это ходатайство имело успех: постановление об отправке Синегуба и Чарушина в Новобелгородскую крепость было отменено, и они были отправлены в Сибирь; жены последовали за ними153.
490
XX
Еще 20 января 1878 года Страхов писал Толстому, что по рекомендации старца Амвросия он начал читать творения Исаака Сирина и убедился, чго один перевод сделан на «несуществующем языке, подобии славянского», а другой переводчик «очень старался о пышности выражений». По этому поводу Страхов замечал: «Мне становятся противны всякие сделки с своею мыслью», а «для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием. Они в бессмыслицах плавают, как рыба в воде, и скорее им противно все ясное и определенное»154.
Это письмо Страхова задело Толстого за живое, — ведь и он считал себя верующим, — и он решил изложить неверующему другу основы своей веры. 27 января он пишет Страхову длинное письмо с целью убедить его, что то, что ему «кажется странным», на самом деле «вовсе не странно». Основания его веры — те же самые, какие изложены в статье «Собеседники», и сводятся к тому, что «разум мне ничего не говорит и не может сказать» на вопросы, «что я могу знать, что я должен делать, чего я могу надеяться». «Ответы на эти вопросы дает мне в глубине сознания какое-то чувство». «Миллиарды смутных ответов однозначущих дали определенность ответам. Ответы эти — религия». Существует «целое предание, служащее единственным ответом на вопросы сердца». Проверке разума это поедание не подлежит; единственная проверка, которой подвергается это предание, состоит в том, согласны ли ответы, даваемые преданием, «с смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания».
И Толстой приводит пример такого «ложного» предания: «...Когда мне предание... говорит: „будемте все молиться, чтобы побить побольше турок“ ... тогда, справляясь не с разумом, но с хотя и смутным, но несомненным голосом сердца, — я говорю: это предание ложное».
Итак, Толстой уже отступает от учения церкви в весьма важном вопросе: в вопросе о войне. Церковь, связанная с государством, оправдывала всякую войну, затеянную каким бы то ни было царем, начиная с Ивана Грозного. Толстой, напротив, отвергает всякую войну на основании христианской заповеди о любви к врагам. То же записано у него в дневнике 22 мая 1878 года. Он пишет, что под каждое слово в церковной службе он может «подвести объяснение», его удовлетворяющее, но «многая лета» и «одоление на врагов» есть кощунство. «Христианин должен молиться за врагов, а не против их»155.
Отпадение Толстого от православия началось, следовательно, с отрицания нравственного и социального учения церкви.
491
Что касается обрядовой стороны учения православной церкви, Толстой в то время еще не отрицал ее. В том же письме к Страхову он пишет относительно причащения: «Когда мне это преданье говорит, что я должен хоть раз в год пить вино, которое называется кровью бога, я, понимая по-своему или вовсе не понимая этого акта, <зачеркнуто: остаюсь к нему индифферентным> исполняю его. В нем нет ничего такого, что бы противоречило смутному сознанию».
В заключение письма Толстой пишет: «Я так убежден в том, что я говорю, и убеждение это так для меня отрадно, что я не для себя желаю вашего суждения, но для вас. Мне бы хотелось, чтобы вы испытывали то же спокойствие и ту же свободу душевную, которую испытываю я»156.
Толстой не мог тогда предвидеть, что не пройдет и трех месяцев, как исполнение того самого «предания» причащения, о котором он писал Страхову, нанесет сильнейший удар его вере в учение православной церкви.
В «Исповеди» Толстой рассказывает, как это произошло.
В апреле 1878 года Толстой говел, исповедовался и причащался. «Никогда не забуду, — говорит Толстой, — мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила, — все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне». Толстой, разумеется, не мог верить и не верил в «таинство евхаристии», т. е. в превращение, под пение и чтение известных молитв, хлеба и вина в тело и кровь бога. Еще 30 декабря 1870 года он записал в записной книжке: «Чем безумнее занятие, которым занимаются люди, тем важнее лицо, которое они при этом делают. Евхаристия»157. Признавая себя членом православной церкви, Толстой в то время не считал себя вправе отвергать обрядовую сторону учения, но понимал ее в иносказательном смысле. Об этом он говорит в «Исповеди»: «Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения».
«Но когда я подошел к царским дверям, — рассказывает далее Толстой, — и священник заставил меня повторить то, что
492
я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это — жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.
Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно... И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз»158.
Полученный им удар Толстой перенес в одиночестве; он не сказал о нем ни одному из своих друзей — ни Страхову, ни Фету, ни А. А. Толстой. Страхову Толстой в письме от 17 апреля сообщил: «Я нынче говел и стал читать Евангелие и Ренана „Vie de Jésus“», — и после слова «говел» написал было: «в последний раз», но затем зачеркнул эти слова, не желая посвящать Страхова в пережитое им слишком взволновавшее его душевное состояние.
В автобиографической драме «И свет во тьме светит», написанной в 1896 году, где Толстой вывел себя под именем Николая Ивановича Сарынцова, в разговоре между его женой Марьей Ивановной и ее сестрой Александрой Ивановной сказано вполне определенно, что отпадение Сарынцова от православной церкви произошло вскоре после его последнего говенья. Марья Ивановна рассказывает сестре: «Перед этим он со времени женитьбы не говел, стало быть, двадцать пять лет. А тут один раз говел в монастыре, и тотчас же после говенья решил, что говеть не нужно, в церковь ходить не нужно»159.
Но чем дальше отходил Толстой от догматического и обрядового учения церкви, тем ближе подходил он к нравственному учению христианства. Страхову Толстой писал 17 апреля, что считает учение Христа «высшей истиной, которую мы знаем», «наивысшим выражением абсолютного добра». Толстой считал, что все нравственное развитие европейских народов, всякое изменение общественных форм жизни имеет своим началом христианское учение. Он говорил: «Если б не было учения христианства, которое вкоренилось веками в нас и на основании которого сложилась вся наша общественная жизнь, то не было бы и законов нравственности, чести, желания распределить блага земные более ровно, желания добра, равенства, которое живет в этих людях»160. Та же мысль выражена в записи, датированной 15 декабря 1877 года: «Этическое значение религии (Христа)
493
и вообще не признается наукой, поклонницей прогресса. А прогресс что такое? В лучшем определении — движение вперед для достижения цели добра нравственного. Кто указал эту цель?»161 — спрашивает Толстой, подразумевая ответ: цель эту указало христианское учение.
XXI
В апреле 1878 года Толстой продолжал изучать материалы, относящиеся к эпохе восстания декабристов и его подготовки162. От петербургского археографа М. А. Веневитинова он получил материалы о декабристе А. И. Одоевском и составленный Веневитиновым очерк «Роман декабриста», касающийся брака декабриста В. П. Ивашева с Камиллой Ледантю, написанный на основании семейных писем и официальных документов.
В числе других материалов, присланных Веневитиновым, находим запись о трех дуэлях, происходивших в александровское время, из чего можно заключить, что Толстой «специально просил Веневитинова сообщить, что ему известно об этом характерном, особенно для александровской эпохи, явлении среди гвардейских офицеров»163.
17 апреля Толстой записал в дневнике: «Кажется, все ясно для начала». Он, было, взялся сейчас же за работу над романом, но чувствовал слабость и духовную и физическую, и работа не пошла.
За день до этого, 16 апреля, Толстой записал конспект одной из намеченных глав начатого романа. Ночью он был у пасхальной заутрени в Кочаковской церкви, и у него явилась мысль ввести в роман о декабристах описание заутрени со всей ее торжественностью, причем описать также душевное состояние молодой девушки, стоящей в храме. Вот этот конспект: «У заутрени. Куличи, пирожки... Мотыльки летают на свечи в царские двери. Она в белом платье. Ждет, боится, желает и презирает и смеется над поцелуями. Перекличка на клиросах веселых ирмосов, в алтарь к обедне, за чтением Евангелия, лучи света. — Между заутреней, сидят на могилках в темноте, узнают друг друга»164.
Что это не просто жанровая картина, а конспект задуманной главы романа, видно из письма Толстого к: С. А. Рачинскому, написанного через неделю, 23 апреля. Рачинский в письме от 16 апреля рассказал Толстому, что во время пасхальной заутрени в их церкви он наблюдал, как в алтарь залетала
494
бабочка165. Толстой отвечал ему: «У заутрени у нас тоже были бабочки, и не удивитесь, что в том, что я сбираюсь писать, будет глава, которую мне дали эти бабочки. Они летали всю заутреню. Прелестно»166.
Эта глава написана не была, но очевидно, что по замыслу Толстого «она в белом платье» — влюбленная девушка, будущая жена одного из декабристов.
26 апреля С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской, что Лев Николаевич «много читает и думает, но еще ничего не пишет, говорит: „нет энергии“»167.
30 апреля Толстой поехал в Москву для свидания с декабристами и для переговоров о новом издании сочинений. Он виделся с П. Н. Свистуновым, от которого получил письма к нему декабриста М. А. Фонвизина и какую-то «Записку» или «Замечания» жены М. А. Фонвизина Натальи Дмитриевны, последовавшей за мужем в Сибирь. У Свистунова была также «Исповедь» Н. Д. Фонвизиной, которую он, вследствие чрезвычайной интимности содержания, несмотря на просьбу Толстого, не решился ему показать.
1 мая Толстой, чтобы проверить установившееся у него мнение о Шекспире, отправился в Малый театр смотреть постановку «Кориолана» Шекспира с участием знаменитого английского трагика Росси, но ушел до окончания спектакля168.
Вернувшись в Ясную Поляну, Толстой погрузился в чтение «Замечаний» Н. Д. Фонвизиной и 5 мая писал Свистунову: «Я был поражен высотою и глубиною этой души. Теперь она уже не интересует меня как только характеристика известной, очень высоко нравственной личности, но как прелестное выражение духовной жизни замечательной русской женщины».
Относительно «Исповеди» Н. Д. Фонвизиной Толстой в том же письме писал: «Повторяю мою просьбу — дать мне ее. Простите меня за самонадеянность, но я убежден, что эту рукопись надо беречь только для того, чтобы я мог прочесть ее, в противном же случае ее надо непременно сжечь».
Толстой заканчивает письмо словами: «Тысячу раз благодарю вас за вашу ласку ко мне и снисходительность; вы не поверите, какое всегда сильное и хорошее впечатление оставляет во мне каждое свидание с вами»169.
495
Что касается издания русского перевода «Мыслей» Паскаля, сделанного декабристом Бобрищевым-Пушкиным, то Толстой, как писал он Свистунову 19 мая, отказался от мысли этого издания, найдя перевод «не вполне хорошим». Но он был «очень рад» еще раз перечесть Паскаля, так как не знает «ничего, равного ему в этом роде»170.
XXII
5 мая работа над романом была прервана новой начатой работой — воспоминаниями, которым Толстой дал название «Моя жизнь».
Эти воспоминания отличаются совсем особым характером. Толстой поставил своей задачей описать «последовательно те впечатления», которые он пережил за пятьдесят лет своей жизни, «невольно избирая то, что оставило более сильные отпечатки» в памяти. Он хочет «оглядывать и описывать свою жизнь» с точки зрения «своего теперешнего положения», так как находится «только теперь, не более как год, в таком душевном состоянии спокойствия, ясности и твердости», в каком до настоящего времени «никогда в жизни не был».
Воспоминания начинаются с младенческого возраста. Толстой рассказывает, что первое его воспоминание относится к тому времени, когда ему было около или немного более года. Ему помнилось, что он был спеленут; ему хочется выпростать руки, и он кричит. Над ним кто-то стоит в полутьме. Они слышат его крик, но не развертывают его. И «я чувствую, — рассказывает Толстой, — несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою... И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».
Еще одно воспоминание — радостное — осталось в памяти Толстого от первых лет младенчества — о том, как его мыли в корыте. И больше никаких воспоминаний у него не сохранилось до трех-четырех лет. И Толстой задает вопрос: «Когда я начался, когда начал жить?» Вопрос остается без ответа.
Из дальнейших воспоминаний наиболее яркое то, которое относится к пятилетнему возрасту и связано с переводом маленького Левочки к гувернеру Федору Ивановичу и старшим братьям.
Толстой вспоминает, что при переводе его вниз, к старшим братьям, он «испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек».
496
«Мне было жалко покидать привычное... и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал... На душе было страшно грустно... В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело», — заканчивает Толстой это воспоминание в духе своего религиозного настроения того времени.
Едва начав воспоминание своих впечатлений в возрасте пяти-шести лет, Толстой оставил начатую работу.
Остались неиспользованными многочисленные заметки на полях, которые Толстой делал для памяти, чтобы потом развить их в начатой статье. Лишь некоторые из обозначенных в этих заметках эпизодов были позднее рассказаны Толстым в его воспоминаниях171.
Несмотря на то, что статья «Моя жизнь» осталась незаконченной, Толстой все-таки ценил ее, что видно из того, что он наметил включить ее в том виде, в каком она была в то время напечатана, в свои воспоминания, написанные в 1903—1906 годах172.
XXIII
Уже на следующий день после незавершенной попытки написать свою автобиографию, 6 мая, Толстой вновь возвращается к начатому роману и пишет новый вариант.
Действие этого варианта происходит в том же 1818 году.
Между крестьянами казенного села Излегощи и крепостными мужиками генерала Бурцова произошло на поле столкновение из-за земли, которую крестьяне считали своей, а генерал Бурцов — своей. Столкновение произошло в великий четверг на страстной неделе, в тот самый день, когда генерал ездил причащаться в излегощинскую церковь. Описывается поездка генерала в церковь и его размышления дорогой. Он вспоминает, как великим постом за захромавшего жеребца наказал того самого кучера, который его везет теперь, и ему хотелось по православному обычаю просить прощения у всех, кого он обидел, — у всех своих крепостных.
Проезжая по селу Излегощи, генерал думает о бедности государственных крестьян, живущих в этом селе, и вспоминает своего сына, Александра, который все говорит — «вольность».
497
«Вот и вольны, — думает генерал, — что же им за польза? Все нищи».
На этом вариант был оборван. Можно не сомневаться, что Бурцов-сын, который все твердит отцу, что нужно крестьянам дать «вольность», был задуман Толстым как будущий декабрист.
За спором крестьян с генералом о земле, судя по следующим вариантам, должна была последовать самовольная распашка крестьянами спорной земли и затем появление военной силы для «усмирения» своевольных мужиков. Генералу Бурцеву с его добротой пришлось бы мучительно переживать все происходящее; по мысли автора, его судьба должна была иллюстрировать положение о том, что «нет виноватых».
Этот вариант173 датирован автором 6 мая.
Поиски начала задуманного романа продолжались и позднее в том же месяце, что видно из следующей дневниковой записи Толстого 22 мая: «Стал вставать рано и пытаюсь писать, но нейдет. Нейдет оттого больше, что нездоровилось. Но кажется, что я полон по края, и добром»174.
К этому времени — с 7 по 22 мая — можно отнести два новых варианта начала романа.
В одном варианте175 — очень небольшом — действующим лицом является князь Иван Александрович Одуевский. Очевидно, одним из героев своего романа Толстой хотел сделать декабриста А. И. Одоевского, отца которого звали Иван Сергеевич. Справедливость этого предположения подтверждается также и тем, что в бытность свою в Москве 30 апреля — 2 мая Толстой наводил справки у П. И. Бартенева о том, как зовут наследников И. С. Одоевского и каковы их адреса, очевидно, желая вступить с ними в переписку и, может быть, получить от них письма или рукописи их сводного брата, декабриста176. Кроме того, Толстой обращался к своей родственнице П. Ф. Перфильевой, дочери Толстого-Американца, с просьбой сообщить ему, что помнит об А. И. Одоевском ее свекровь А. С. Перфильева. Письмо Толстого неизвестно, но ответ П. Ф. Перфильевой, датированный 30 мая 1878 года, сохранился в его архиве177.
Следующий вариант свидетельствует о том, что Толстой предполагал сделать одним из главных героев своего романа уже не декабриста А. И. Одоевского, а декабриста З. Г. Чернышева. Начало этого варианта не сохранилось; в сохранившемся
498
продолжении изображен слушающий обедню в сельском храме богатый помещик князь Григорий Иванович Чернышев, вместе с дочерьми и молодым барчуком в блестящем мундире — с одной стороны, и богатый мужик церковный староста Иван Федотов — с другой.
Хотя про барчука в расшитом золотом мундире и сказано, что он не из семьи Чернышева, а только гость его, — невозможно представить, чтобы Толстой, изображая Чернышева-отца (его подлинное имя сохранено в варианте), не имел бы в виду изобразить и его сына-декабриста; приезжий барчук тоже, очевидно, будущий декабрист.
В продолжении варианта описывается жизнь Ивана Федотова и его многолюдного семейства, состоящего из его родителей, детей, внуков и правнуков и его брата с потомством, всего 28 человек. Толстой составляет себе для памяти полную генеалогическую таблицу всего многочисленного родства Ивана Федотова178.
В варианте рассказывается, как одна из невесток Ивана Федотова, солдатка Арина, без мужа родила мальчика; описаны ее мучения и страх преследований со стороны свекра и мужа. Далее описывается первая весенняя пахота Ивана Федотова с сыновьями; в это описание, впервые появившееся у Толстого, он вложил всю свою любовь к крестьянскому труду179. Еще не кончив пахоту, Иван Федотов услыхал крик людей, ехавших верхами и в бричке прямо на крестьян. Это были приказчик и дворовые графа Чернышева, а в бричке сидел какой-то незнакомый ему человек.
На этом вариант был оборван180.
Надо думать, что по замыслу один из сыновей Ивана Федотова, а может быть и оба, должны были принять участие в драке с дворовыми Чернышева. Затем должны были последовать арест, суд и ссылка в Сибирь. Не может быть, чтобы и «незаконнорожденному» сыну солдатки Арины Толстой в своем воображении не дал бы уже при написании данной главы какой-нибудь значительной роли в продолжении романа.
499
К этому варианту относится отдельный листок с некоторыми записями автора планового характера. Из этих записей обращает на себя внимание следующая: «Отец Апухтин, бешеный самодур. Бурлит с своим лакеем. Наташа убегает после сцены с бабой, просящей за мужа»181. Запись свидетельствует о том, что Толстой предполагал сделать одной из героинь своего романа Н. Д. Фонвизину, дочь костромского помещика Дмитрия Акимовича Апухтина, «Замечания» которой произвели на него такое сильное впечатление.
Последний вариант романа, написанный в мае 1878 года, опять начинается с описания столкновения мужиков села Излегощи (на этот раз Пензенской губернии) с помещиком из-за спорной земли. Действие происходит в 1817 году. Помещик Чернышев заменяется Иваном Апыхтиным. Эта перемена фамилии опять указывает на то, что Толстой намеревался сделать героиней своего романа Н. Д. Фонвизину.
В варианте рассказывается, как Апыхтин в четверг на страстной неделе говеет и причащается в излегощинской церкви, в то время как мужики выезжают пахать спорную землю. О дочери Апыхтина сказано только, что, как думал о ней отец, она «очень уж все к сердцу принимает». Вариант обрывается на том, как Апыхтин после причащения приезжает домой и застает у себя дома гостя — молодого Чернышева, сына соседнего помещика. Конечно, это — будущий декабрист.
Вариант, как и все предыдущие, не получил продолжения182. Но в рукописи после текста написана еще плановая заметка для следующей главы. Эта заметка, относящаяся к герою романа, помещику Ивану Петровичу Апыхтину, имеет важное значение в истории творчества Толстого. В заметке продолжение романа намечено в следующих словах: «Он [Иван Петрович] пил кофе с миндальным молоком и ел крендельки на миндальном молоке. Принимал поздравленья [с причащением]. «Позвольте надеть архалук и трубку». За кулисами шла пальба за крендельки и волнения по случаю запашки мужиками земли»183.
Толстей, следовательно, в следующей главе хотел описать, как в тот самый великий четверг, когда Иван Петрович Апыхтин причащался, а соседние мужики приехали пахать спорную землю, по вызову управляющего Апыхтина явились солдаты и после уговоров офицера прекратить пахоту земли, которую помещик считал своею, по приказанию офицера произвели залп в не послушавших его крестьян.
500
Заметка показывает, что для Толстого в то время было уже совершенно ясно, что благосостояние даже таких гуманных и добрых по природе помещиков, как изображенный им Апыхтин, их комфорт, сладкие крендельки и миндальное молоко — все это им обеспечено тем, что, если крестьяне выйдут из повиновения и перестанут на них работать или заявят свои права на землю, явится военная сила и розгами и пулями заставит крестьян повиноваться помещику.
Ни в одном из своих прежних художественных произведений — ни в «Утре помещика», ни в «Войне и мире», ни в «Анне Карениной» — Толстой, рисуя помещичий быт, не придавал его изображению такого освещения. Это освещение впервые находим в незаконченном романе «Декабристы».
XXIV
Конец мая Толстой провел за чтением двух книг: «Сказания о странствии по России, Молдавии, Турции и святой земле инока Парфения» (издание 1855 года) и только что появившейся тогда работы Н. Н. Страхова «Об основных понятиях психологии»184.
Чтение книги Парфения навело Толстого на мысли о расколе, записанные им в дневнике 22 мая, а книгу Страхова Толстой оценил очень высоко. «Небольшая книга его очень велика по содержанию, — писал Толстой Фету 11 июня про книгу Страхова. — Предвкушаю удовольствие поговорить с вами о ней»185.
Самому автору Толстой 29 мая писал о его книге: «Это ново, сильно, ясно и кратко». Заслугу Страхова Толстой видел в том, что он первый установил «основания психологии» и первый доказал «ложность идеализма Канта и Шопенгауэра», так же как и «ложность матерьялизма», и притом «без полемики, без спора»186.
Несмотря на то, что Толстой в конце мая и в начале июня не продолжал своего романа («Все время это не брал пера в руки», — записал он в дневнике 1 июня), мысль его постоянно возвращалась к начатому произведению. 1 июня он рассказал в общих чертах сюжет начатого романа одному из яснополянских гостей, А. Д. Свербееву, будущему тульскому вице-губернатору. Свербеев впоследствии говорил, что по замыслу Толстого, переданному ему самим автором, декабрист Чернышев, сосланный в Сибирь, попадает в поселок бывших своих крепостных, также сосланных за то, что они самовольно начали пахать землю, которую
501
отец Чернышева считал своею. «И когда таким образом «барин», в силу превратностей судьбы, разделяет участь крестьян, — начинается по-толстовски «опрощение» барина»187. (В этом рассказе Свербеева или записавшего его Батюшкова является лишним выражение «по-толстовски опрощение», так как у Толстого в 1878 году еще не было идеи об опрощении).
8 июня Толстой получил наконец от В. В. Стасова обещанную им копию записки Николая I о ритуале казни декабристов, переписанную рукою Стасова. Получив эту копию, Толстой в тот же день писал Стасову.
«Не знаю, как благодарить вас, Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ. Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня. Считаю себя вечным должником вашим за эту услугу»188.
Эту записку Николая I Стасов получил от своего приятеля, поэта А. А. Голенищева-Кутузова, которому она досталась от его деда, графа П. В. Голенищева-Кутузова, бывшего в 1826 году петербургским генерал-губернатором. Ему-то и была направлена записка Николая I.
Соблюдая осторожность, Стасов, передавая С. А. Берсу эту копию, просил сообщить Толстому его просьбу — записку собственноручно, никому не показывая, переписать, а сделанную Стасовым копию уничтожить, что и было Толстым исполнено.
Сделанная Толстым копия записки Николая I долгое время считалась утраченной и только в 1948 году была приобретена Музеем Толстого у частного лица.
Текст записки Николая следующий (соблюдаются особенности орфографии подлинника):
«В кронверке занять караул. Войскам быть в 3 часа. С начала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвойным оставаться за ними щитая по два на одного. Когда все будет на месте то командовать на караул и пробить одно колено похода Г. [Господам] генералам командующим эск[адронами] и арт[иллерией] прочесть приговор после чего пробить 2 колено похода и командовать на плечо тогда профосам189 сорвать мундир кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится то вести их тем же порядком в кронверк тогда взвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом.
502
Тогда ударить тотже бой, как для гонения сквозь строй докуда все не кончится после чего зайти по отделениям на право и пройти мимо и распустить по домам»190.
Записка Николая I, которого еще так недавно Толстой думал изобразить «не виноватым», вызвала в Толстом чувство глубокого возмущения. «Это какое-то утонченное убийство», — говорил он своему знакомому Д. Д. Оболенскому191.
В том же письме Толстой просил Стасова навести справки, верен ли слух, переданный ему П. Н. Свистуновым, будто бы на смертной казни декабристов особенно настаивал историк Карамзин. Стасов не мог дать ответ на интересовавший Толстого вопрос.
В заключение письма Толстой благодарил Стасова за присланный им через Страхова список материалов для романа192, но прибавлял, что в ближайшее время не сможет им воспользоваться. Он готовился к отъезду вместе с семьей в свое самарское имение.
XXV
Семейная жизнь Толстого внешне продолжала протекать по проложенному руслу.
Дети учились у приезжавших учителей математике, греческому и латинскому языкам, музыке, рисованию, «закону божию». Отец занимался со старшими детьми по греческому языку, мать — по русскому и немецкому языкам. Старший сын Сережа ежегодно держал экзамены в Тульской гимназии, переходя из класса в класс и готовясь к поступлению в Московский университет. У девочек были гувернантки — швейцарка, англичанка и немка; у мальчиков был гувернер Ньеф.
Под именем Ньефа у Толстых проживал француз Жюль Монтель, участник Парижской Коммуны. Во времена Коммуны он был командиром 12-го легиона. После поражения Коммуны Монтель бежал в Женеву, имея в кармане всего 47 су. В Женеве он узнал, что военным советом присужден к смертной казни. Здесь он перепробовал разные профессии — от профессора до маляра. В 1877 году Монтель случайно попал в Москву и здесь узнал, что графу Толстому нужен гувернер для его детей.
Монтель пробыл в Ясной Поляне с января 1878 до 1880 года, когда была объявлена частичная амнистия коммунарам, и Монтель вернулся во Францию. По словам Л. Л. Толстого, у Монтеля
503
не было никогда ни одного недоразумения с его родителями193.
Монтель был очень предан идеям Парижской Коммуны и, когда однажды старший из его воспитанников, пятнадцатилетний Сережа, поддразнивая его, сказал ему: «Хороши французы! Устроили у себя междоусобную войну в то время, когда под Парижем стояли немцы!» — Ньеф строго заметил ему: «Je vous défends de me parler de ce moment de l’histoire française (Я вам запрещаю говорить со мной об этом моменте французской истории)»194.
Математику старшим мальчикам преподавал кандидат Петербургского университета Василий Иванович Алексеев.
Предыдущая история жизни В. И. Алексеева была такова.
По окончании курса в университете он примкнул к кружку передовой молодежи, группировавшейся около Н. В. Чайковского. Как писал впоследствии В. И. Алексеев в своих записках, молодежь эта стремилась «отказаться от всяких привилегий, удобств и преимуществ своего положения, чтобы слиться с трудовыми народными массами». Алексеев был арестован, но скоро выпущен, Чайковский же, опасаясь ареста, эмигрировал в Америку. Члены кружка Чайковского решили устроить земледельческую коммуну, чтобы действовать на окружающих примером личной жизни, построенной на труде; видя, что в России им не удастся осуществить свои стремления, они переселились в Америку. Основанная ими в Америке коммуна просуществовала около года, но затем распалась вследствие внутренних несогласий, и члены ее, кроме Чайковского, вернулись в Россию.
Осенью 1877 года Алексеев узнал от своей тульской знакомой М. И. Абрамович, акушерки, принимавшей у С. А. Толстой, что Толстым нужен учитель для их детей. Алексеев сначала отказался — его смущала «графская» обстановка, белые перчатки лакеев, прислуживавших за столом. Узнав о причине его отказа, Толстой заинтересовался Алексеевым и пригласил его приехать познакомиться. Алексеев приехал, и после первого разговора с Толстым предубеждение, с каким он ехал в Ясную Поляну, сильно пошатнулось. Алексеев был приглашен учителем к Толстым, жил сначала в деревне, а потом переселился во флигель яснополянского дома.
Но Алексеева смущало то, что ему приходится столоваться в семье графа, смущал этикет семейных обедов в барском доме. Его беспокоило и то, что он — учитель или гувернер в графской семье, которая не знает его прошедшего. Он решил наконец, чтобы рассеять свои сомнения и выяснить свое положение,
504
совершенно откровенно объясниться со Львом Николаевичем, приготовившись, в случае неудовлетворительных результатов этого объяснения, сейчас же уехать из Ясной Поляны. Он заявил Толстому, что считает нечестным оставаться дольше учителем в семье Толстого, не сказав, кто он и каковы его убеждения.
— Я не могу больше лицемерить и готов сейчас же уехать, — говорил Алексеев.
Толстой внимательно выслушал его и сказал:
— Но, позвольте, насколько я знаю, вся семья моя вас любит, Софья Андреевна к вам хорошо относится и Сережа доволен. Обо мне и говорить нечего. Я не совсем понимаю, кем или чем вы недовольны?
— Я не имею оснований быть недовольным, — отвечал Алексеев, — но я не предупредил вас, что я социалист, и это может быть вам неприятно. Повторяю, я лицемерить не могу.
— Социалист! — воскликнул Толстой. — Но ведь это дело личной веры. Я пригласил вас помочь сыну подготовиться к экзамену. Если вы будете давать уроки и по социализму, надеюсь, вы не потребуете за это дополнительного вознаграждения?
Толстой старался обратить весь инцидент в шутку и говорил Алексееву:
— Какой же вы социалист, когда не умеете вести подпольную пропаганду и прямо головой выдаете себя сами хозяину!
На следующий день Толстой за обедом торжественно заявил, что Василий Иванович отныне возводится в сан социалиста195.
«Я приехал к Льву Николаевичу, — писал Алексеев впоследствии, — не как к Льву Николаевичу, а как к графу Толстому, которого хотел просветить теми истинами, которые мне казались несомненными; вначале я вел себя как пропагандист по старой студенческой привычке... Когда я ближе узнал Льва Николаевича, я из учителя (каким я был по своей наивности) превратился в ученика»196.
В конце концов В. И. Алексеев сделался преданным другом Толстого, и Толстой делился с ним самыми задушевными своими мыслями.
Был ли Толстой доволен своими детьми? Какие результаты давал его труд по воспитанию своих детей? На эти вопросы в письмах Толстого разных годов находим различные ответы.
«Дети и их воспитание всё больше и больше забирают нас, — писал Лев Николаевич А. А. Толстой 6 марта 1874 года, — и идет хорошо. Я стараюсь и не могу не гордиться своими детьми»197.
505
Но уже 27 июля того же года Толстой писал тому же адресату о воспитании своих детей: «Сколько я над ними передумал и перечувствовал, и сколько усилий — для чего? Для того, чтобы в лучшем случае вышли не очень дурные и глупые люди! Странно всё устроено на свете. И, как говорит мой приятель Фет: чем больше живу на свете, тем больше ничего не понимаю»198.
25 сентября 1876 года Толстой пишет П. Г. Голохвастову:
«Малые дети — малые заботы, большие дети [— большие заботы]. Я никогда не думал, чтобы воспитание детей, т. е. доведение их только до того, чтобы они были такие же, как все, давало столько труда и отнимало столько времени»199.
И, наконец, 3 января 1878 года Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Старшие дети так много мне доставляют радости, что те заботы о воспитании и страхи о дурных наклонностях и болезнях [младших детей] незаметны»200.
Что касается отношений с женой, то они с течением времени все более и более осложнялись и разница в характерах и взглядах на жизнь все более и более давала себя чувствовать. Исполнялось то предвидение, которое Толстой записал в дневнике уже через четыре месяца после свадьбы: «Изредка и нынче все страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет»201.
Толстой с годами все более и более дорожил яснополянской уединенной жизнью в осенние, зимние и весенние месяцы, когда он, живя один с семьей, мог спокойно отдаваться своей работе, заниматься воспитанием детей и жить напряженной внутренней жизнью. Напротив, жизнь в летние месяцы с наплывом гостей и родных была для него тяжела.
29 мая 1878 года Толстой писал С. С. Урусову: «Полон дом гостей. Не люблю я лета и гостей. Большая часть лета проходит как сон — неприятный и беспокойный; и с годами я всё больше и больше тягочусь этим. Завидую вашему уединению»202. И в дневнике 1 июня, перечислив «летних гостей» (сестра, племянница, свояченица, дед и дядя жены, трое посторонних), Толстой прибавляет: «Все это кипит и расстраивает». И Толстой строит себе небольшую избушку в лесу Чепыж, недалеко от яснополянского дома, чтобы уходить туда заниматься и оставаться «наедине с собой».
Совершенно иначе чувствовала себя в Ясной Поляне в зимние месяцы Софья Андреевна. Жизнь зимой в деревне вызывала
506
в ней тоску и приводила в уныние. Заботы о большой семье и помощь мужу в переписке художественных произведений не наполняли всей ее жизни; ей хотелось общества, развлечений. Тягостность яснополянской уединенной жизни еще более усиливалась для Софьи Андреевны свойственной ей склонностью к меланхолии, о которой она сама писала сестре Т. А. Кузминской 28 сентября 1877 года: «Я очень легко могу себе представить твою жизнь у Шидловских. Видна ты, какая ты — везде готовая веселиться всем, с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех, не то что я, которая, напротив, и в веселье и счастье умеет найти грустное»203.
В письмах к сестре Софья Андреевна много раз жаловалась на скучную жизнь в Ясной Поляне. «Мы очень уединенно живем эту зиму, и я часто скучаю и начинаю тяготиться деревенским одиночеством», — писала Софья Андреевна сестре 28 января 1876 года. Затем 28 сентября 1877 года она пишет той же Т. А. Кузминской: «Я для развлечения начала вышивать большой ковер, четыре аршина длиной и три с половиной шириной в персидском вкусе. Работы этой года на три будет. Так-то в старину затворницы в теремах делали большие работы, чтобы занять себя в одиночестве»204.
10 ноября Софья Андреевна записывает в дневнике: «Чувствую себя работающей машиной, хотелось бы жизни немного для себя, да нет ее...» Далее 16 ноября: «Достала вышивать свой ковер». 19 ноября: «Я наконец дожила до своей осенней болезненной тоски. Молча упорно вышиваю ковер или читаю, но ко всему равнодушна и холодна, скучно, уныло и впереди темнота. Я знаю — с зимой это пройдет, а пока несносно»205. 30 января 1880 года Софья Андреевна писала сестре: «Как мне иногда тяжела моя затворническая жизнь! Ты подумай, Таня, что я с сентября из дома не выходила. Та же тюрьма, хотя и довольно светлая и морально и материально. Но все-таки иногда такое чувство, что точно меня кто-то запирает, держит, и мне хочется растолкать, разломать все кругом и вырваться куда бы то ни было — поскорей, поскорей!..»206.
Перелом в мировоззрении Толстого произвел самое сильное, какое только можно себе представить, воздействие на его отношения с женой.
Софья Андреевна не могла не видеть перемены в характере мужа и сначала не могла не радоваться этой перемене. 26 декабря
507
1877 года она записывает в дневнике: «Характер Льва Николаевича тоже все более и более изменяется. Хотя всегда скромный и мало требовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее. И эта вечная, с молодости еще начавшаяся борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом»207.
Но вместе с тем перелом в миросозерцании Толстого способствовал духовному разъединению его с женой.
Уже в эпилоге «Анны Карениной», на самой последней странице романа, рассказывается, как Левин, поглощенный своими самыми задушевными мыслями, колеблется, следует ли ему или не следует передавать Кити эти свои самые сокровенные мысли и чувства. «Она понимает, — думал он, — она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в эту минуту Кити обратилась к нему с самым житейским вопросом — с просьбой посмотреть, как приготовили комнату для его брата. И Левин решил: «Нет, не надо говорить. Это тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами».
Несомненно, тот же смысл имеет и предписание самому себе, какое делает Толстой в записной книжке 11 августа 1877 года: «Молчи, молчи и молчи»208.
Яркий пример непонимания Толстого его женой находим в ее письме к сестре, относящемся к концу 1877 года — времени самых напряженных религиозных исканий и сомнений Толстого. Судя по себе, Софья Андреевна объясняла мрачное настроение Льва Николаевича того времени не чем иным, как уединенной жизнью в деревне. 2 ноября она писала сестре: «Левочка... часто думает о чем-то, ему хочется заниматься, но он уныл и вял и сегодня говорит, что в голове пусто, и хотя его сердит, когда я говорю, но я уверена, что наша жизнь слишком монотонна и на нервы именно так действует, что делаешься вял и безучастен ко всему»209.
Ослабление интереса Толстого к хозяйственным делам, которого его жена не могла не замечать, беспокоило и волновало ее. Она приписывала это ослабление перемене миросозерцания Льва Николаевича и сердилась на него за это. 18 июня 1877 года Толстой писал жене: «Что бы ни случилось не зависящего от нас, я никогда, ни даже в мыслях, ни себя, ни тебя упрекать не буду. Во всем будет воля божья, кроме наших дурных или хороших поступков. Ты не сердись, как ты иногда досадуешь при моем упоминании о боге. Я не могу этого не сказать, потому что это самая основа моей мысли»210. Подготовляя
508
незадолго до смерти, в 1919 году, новое издание писем к ней Льва Николаевича, Софья Андреевна к данному письму сделала примечание: «Досадовала я за упоминание о боге, потому что этим отстранялась всякая житейская забота»211.
Не сочувствовала Софья Андреевна и другим переменам в жизни своего мужа, вызванным его новым жизнепониманием. Глубоко сознавая несправедливость всякого привилегированного положения, Толстой в письмах переставал подписываться графом (за исключением писем деловых). Свое письмо к Софье Андреевне от 14 июня 1876 года Толстой хотел было подписать: «Граф Л. Толстой», но, написав «Гр.», он тут же зачеркнул начатое слово и приписал: «По привычке подписался было, и досадно»212.
С. А. Толстая и в этом направлении не последовала за мужем. Она до конца жизни подписывалась «Графиня С. Толстая» и даже свое издание писем Льва Николаевича к ней, вышедшее в свет в 1913 году, озаглавила: «Письма графа Л. Н. Толстого к жене».
Но в описываемое время — 1877—1878 годы — ни Толстой, ни его жена еще совершенно не предвидели, как далеко зайдет начавшийся между ними разлад, первые проявления которого уже такие глубокие изменения внесли в их отношения.
XXVI
12 июня Толстой вместе с сыновьями Илюшей и Левой и их гувернером Ньефом выехал в Самару. Софья Андреевна со старшим сыном Сережей и младшими детьми осталась пока в Ясной Поляне, дожидаясь окончания экзаменов Сережи.
В Самару ехали как обычно: от Тулы до Москвы и от Москвы до Нижнего Новгорода по железной дороге, далее от Нижнего Новгорода до Казани и затем до Самары — на пароходе, а от Самары до хутора — на лошадях.
Управляющим самарским имением Толстого был Друг В. И. Алексеева, Алексей Алексеевич Бибиков. Интересная биография А. А. Бибикова не могла не заинтересовать Толстого.
По окончании Харьковского университета по естественному отделению Бибиков занял место мирового посредника в Жиздринском уезде Калужской губернии. В 1866 году он привлекался по делу Каракозова и был выслан в Вологодскую губернию, где пробыл три года, затем по состоянию здоровья переведен в Воронеж. В 1871 году ему было разрешено поселиться в его имении в Чернском уезде Тульской губернии. Всю свою землю Бибиков отдал крестьянам, оставив себе лишь несколько десятин, женился на крестьянке и собственными силами стал вести
509
свое небольшое хозяйство. Толстой чувствовал глубокое уважение к незаурядной личности А. А. Бибикова213.
Толстой на самарском хуторе вел тот же образ жизни, как и в прежние свои поездки в Самару. «Я ничего не делаю, ничего почти не думаю и чувствую, что нахожусь в переходном состоянии», — писал он жене 18 июня. Но на этот раз ему не так понравилось в самарской степи, как раньше. «Я скорее желаю вернуться, чем оставаться, — писал он в том же письме. — В пользу для меня кумыса я не верю, мух бездна, не дают ни обедать, ни чай пить, ни заниматься, кроме как по вечерам».
21 июня Толстой телеграфировал жене: «Помещение, вода, лошади, экипажи хороши; но навоз, бездна мух, засуха; не советую ехать». Телеграфист при передаче телеграммы пропустил «не», и через несколько дней после получения телеграммы Софья Андреевна приехала на хутор со всеми детьми, а 23 июля приехал Страхов214.
Страхов, как писал он Фету, остался очень доволен всем тем, что увидел в степи, — и гладкой и твердой, как асфальт, дорогой, и серебристым ковылем, «травой во всех отношениях бесподобной», и сухим необыкновенно здоровым воздухом, и кумысом, который понравился ему с первого глотка и который он усердно пил, и бросающимся в глаза богатством края — «целые моря пшеницы и бесчисленные табуны и гурты». Но от Страхова не ускользнуло унылое настроение Толстого. «Лев Николаевич, — писал он Фету, — к сожалению, не в очень хорошем духе и говорит, что кумыс не сделал ему на этот раз пользы».
1 августа Толстой по образцу прошлых лет устроил конные скачки. Был опахан круг в пять верст; по этому кругу нужно было проскакать без остановки пять раз. Уже накануне приехали башкиры из ближних поселков и расставили свои кибитки; народу собралось множество. «Будет и так называемая музыка, — писал Страхов Фету, — и пение, и пьянство, но очень невинное, так как кумыс несравненно легче всякого пива». Но Толстой при его внутренне сосредоточенном настроении не уделил должного внимания организации скачек, вышла путаница из-за призов, и некоторые призы остались нерозданными.
3 августа все двинулись в обратный путь и 6-го были уже в Ясной Поляне.
Дня через два после приезда Лев Николаевич писал А. А. Толстой:
«Мы съездили благополучно, что всегда, с моим большим семейством, я принимаю за особенную милость божью. Чувствую себя очень бодрым, особенно духовно»215.
510
XXVII
На примирительное письмо Толстого от 6 апреля 1878 года Тургенев 8 (20) мая ответил следующим письмом:
«Любезный Лев Николаевич,
Я только сегодня получил Ваше письмо, которое вы отправили poste restante. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли — и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан, и о писателе, первые шаги которого мне пришлось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. — Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.
Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, — и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего — и еще раз дружески жму вам руку.
Иван Тургенев»216.
В начале августа Тургенев известил Толстого, что вскоре приедет в Тулу по делам и желал бы повидаться с ним.
6 августа, в самый день приезда из Самары, Толстые получили от Тургенева телеграмму, что он будет в Туле 8 августа и заедет в Ясную Поляну. Толстой поехал в Тулу его встречать.
Тургенев провел в Ясной Поляне два дня — 8 и 9 августа. По наблюдению С. А. Толстой, Лев Николаевич держал себя с Тургеневым «слегка почтительно и очень любезно».
«Встреча Тургенева с отцом, — писала в своих воспоминаниях Т. Л. Сухотина-Толстая, — была сердечна и радостна... Между отцом и Тургеневым возобновились самые дружеские и даже нежные отношения, но ни о чем серьезном они не говорили, как будто стараясь касаться только тех предметов, на которых не могло произойти между ними разногласий»217.
«Тургенев, — писала С. А. Толстая, — всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так он описывал статую «Христос» Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством».
За обедом оказалось за столом тринадцать человек. Начались шутки «о том, на кого падет жребий смерти и кто ее боится». Тургенев «смеясь» поднял руку и сказал по-французски:
511
«Пусть тот, кто боится смерти, поднимет руку». Никто не поднял руки, и «только из учтивости», как справедливо полагала Софья Андреевна, Лев Николаевич поднял руку и сказал также по-французски: «Я тоже не хочу умирать»218.
Тургенев много рассказывал про виллу Буживаль близ Парижа, которую он приобрел вместе с семейством Виардо; рассказывал также, как он в Бадене играл лешего в домашнем спектакле у Виардо и как «некоторые из зрителей смотрели на него с недоумением». «Мы знали, — пишет в своих воспоминаниях гостившая у Толстых Е. И. Менгден, — что он сам написал пьесу вроде оперетки для этого спектакля, знали, что русские за границей, да и в России, были недовольны, что он исполнял шутовскую роль ради забавы m-me Виардо, и нам всем сделалось неловко. В своем рассказе он точно старался оправдаться, но он перешел к другой теме, и мы успокоились». Тургенев начал рассказывать, как он в 1852 году сидел на гауптвахте за статью о смерти Гоголя.
Вечером, зная, что Тургенев любит играть в шахматы, Софья Андреевна предложила ему сыграть с ее Сережей, говоря, что «он будет всю жизнь помнить, что играл с Тургеневым». Тургенев «снисходительно согласился», однако «с трудом выиграл партию у молодого Толстого»219.
Сергей Львович слышал, как между его отцом и Тургеневым происходил разговор о литературе, в частности о стихотворении Пушкина «Пир Петра Великого» и о «Евгении Онегине». Тургенев говорил, что в стихах «И Нева пальбой тяжелой Далеко потрясена» слышится «гром пушек». Толстой соглашался, что стихотворение «прекрасно по форме, но не по содержанию»220.
За общей беседой Тургенев задал присутствующим вопрос: «Какой стих в пушкинской «Туче» нехорош?» Толстой тотчас же указал на стих: «И молния грозно тебя обвивала». — «Конечно, — согласился Тургенев. — И как это Пушкин мог написать такой стих? Молния не обвивает. Это не дает картины»221.
Тургенев прочел вслух свой рассказ «Собака», но на слушателей рассказ не произвел впечатления.
На прощанье Тургенев сказал Софье Андреевне: «До свиданья, мне было очень приятно у вас»222.
Из Ясной Поляны Тургенев поехал в свое Спасское-Лутовиново, откуда 14 августа писал Толстому: «Любезнейший Лев Николаевич, я благополучно прибыл сюда в прошлый четверг, —
512
и не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла для нас не даром — и что и Вы — и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад; и мне было приятно это почувствовать Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова — всенепременно — заверну к Вам»223.
На это письмо Толстой ответил 21 августа. Ответ его неизвестен, но некоторое представление о содержании его дает ответное письмо Тургенева от 25 августа, в котором Тургенев писал:
«Мне очень приятно узнать, что все в Ясной Поляне взглянули на меня дружелюбным оком. А что между нами существует та связь, о которой вы говорите, — это несомненно, — и я очень этому радуюсь — хоть и не берусь разобрать все нити, из которых она составлена... Одной художественной — мало. — Главное то, что она есть»224.
Тургенев исполнил свое обещание и на обратном пути в Москву 1 сентября опять приехал в Ясную Поляну и пробыл три дня.
К этому пребыванию Тургенева в Ясной Поляне относится следующий эпизод, рассказанный С. А. Толстой в ее автобиографии:
«С Тургеневым Лев Николаевич много философствовал и спорил. Помню я, как наступило уже время обеда — нет ни Тургенева, ни Льва Николаевича. Я догадалась пойти их поискать в лесу Чепыж в новой избушке Льва Николаевича. Прихожу — действительно, стоит мощная фигура Ивана Сергеевича, который, жестикулируя, весь красный, что-то оспаривает, а Лев Николаевич, также разгоряченный, ему что-то доказывает. К сожалению, это «что-то» я не слыхала»225.
При всем дружелюбном отношении Толстого к Тургеневу, при всем желании Толстого совершенно изгладить из памяти Тургенева все бывшие между ними недоразумения, различие во взглядах на основные вопросы жизни между обоими писателями мешало непринужденному обмену мнениями, чувствовалась настороженность и нарочитость в выборе тем для разговора. Об этом свидетельствуют письма Толстого к Фету и Страхову «Тургенев, — писал Толстой Фету 5 сентября, — на обратном пути был у нас... Он всё такой же, и мы знаем ту степень сближения,
513
которая между нами возможна»226. Страхову в тот же день Толстой писал более откровенно: «Тургенев был опять, и был так же мил и блестящ, но — пожалуйста, между нами — немножко как фонтан из привозной воды. Всё боишься, что скоро выйдет, и кончено»227. Но Тургенев продолжал быть доволен своим пребыванием у Толстых. 30 сентября он писал Фету: «Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три приятных дня; все семейство его очень симпатично; а жена его — прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность; нам, русским, давно известно, что у него соперника нет»228.
Писательница Е. И. Апрелева (псевдоним — Е. Ардов) вспоминала, что после вторичного свидания с Толстым Тургенев в Москве говорил ей: «Вы не можете себе представить, как я рад этой поездке. Я уверен, что теперь всем недоразумениям конец». «По-видимому, — прибавляет от себя Е. И. Апрелева, — свидание со Львом Николаевичем удовлетворило его во всех отношениях, — мало того: придало ему какую-то особую бодрость. По крайней мере, никогда не видела я его таким веселым и помолодевшим, как в этот его приезд»229.
Переписка Толстого с Тургеневым в октябре и ноябре и его отзывы о Тургеневе в письмах за то же время показывают, что, несмотря на все его усилия, у него не устанавливались дружеские отношения с Тургеневым. 27 октября в ответ на резкий отзыв Страхова о Тургеневе в письме от 28 сентября (Страхов не любил Тургенева как человека) Толстой писал ему: «Зачем вы сердитесь на Тургенева? Он играет в жизнь, и с ним надо играть. И игра его невинная и не неприятная, если в малых дозах»230.
1 (13) октября Тургенев извещал Толстого, что «Казаки» вышли в двух английских переводах (в Лондоне и в Америке) и, по слухам, пользуются большим успехом; что английский литератор В. Рольстон взялся написать большую статью о «Войне и мире»; что он послал этому литератору «небольшой перечень» известных ему фактов из литературной и общественной жизни Льва Николаевича; что «Казаки» печатаются во французском переводе в «Journal de S.-Pétersbourg» и что он предлагает свое посредничество для отдельного издания этого перевода в Париже. «Мне будет очень приятно содействовать ознакомлению
514
французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке», — прибавлял Тургенев231.
Все эти сведения, сообщенные Тургеневым, и его хвала «Казаков» не вызвали в Толстом ни тщеславия, ни радостного чувства. По получении этого письма Тургенева он и написал Страхову, что Тургенев «играет в жизнь». Толстой в то время чувствовал глубокую неудовлетворенность своими прежними художественными произведениями. Он ответил Тургеневу 27 октября: «Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю, но ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятное сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются...
Как я ни люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что и вы надо мной смеетесь. Поэтому не будем говорить о моих писаньях». В конце письма Толстой прибавлял:
«Не могу не желать вам все-таки того же, что и для меня составляет главное счастие жизни, — труда, с уверенностью в его важности и совершенстве»232.
Это письмо Толстого вызвало в Тургеневе недоумение. В бытность его в Ясной Поляне, по-видимому, не возникал разговор об отношении Толстого к его прежним художественным произведениям, и отрицательное суждение о них Толстого явилось для Тургенева полной неожиданностью. Он помнил Толстого писателем, центром жизни которого было художественное творчество. Ему была неизвестна та душевная работа, которая привела Толстого к перемене взгляда на свои прежние художественные произведения, и он принял на свой счет все, что Толстой писал по этому поводу. 15 (27) ноября он отвечал Толстому: «Хоть Вы и просите не говорить о Ваших писаниях — однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось „даже немножко“ смеяться над Вами; иные Ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились233; иные, как например, „Казаки“, доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смеяться? Я полагал, что Вы от подобных „возвратных“ ощущений давно отделались»234.
Письмо Тургенева не понравилось Толстому. Он увидел, что Тургенев, как и прежде, недостаточно чутко относится к его душевному
515
состоянию, и 22 ноября он написал Фету: «Вчера получил от Тургенева письмо. И, знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный»235.
На это письмо Тургенева Толстой, по-видимому, не ответил.
XXVIII
По возвращении из Самары Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Писать не пишу и не желаю»236. Август Толстой провел в изучении исторических материалов для своего романа.
Между тем слух о том, что Толстой пишет или уже написал новый роман, проник в печать, и он начал получать письма от редакций журналов с просьбой предоставить им его новое произведение.
Первым обратился к Толстому 31 июля редактор «Русской старины» М. И. Семевский, предлагая ряд печатных материалов по декабристам и прося взамен предоставить «Русской старине» от одного до трех печатных листов нового романа. С подобной же просьбой обратился к Толстому 24 августа издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич, узнавший о новом романе Толстого из письма Тургенева.
«Таких писателей, как Вы, — писал Стасюлевич, — редакции журналов не выбирают: наоборот, они выбирают себе редакцию. „Вестник Европы“ очень будет счастлив, если когда-нибудь Ваш выбор падет на него. Если Вы по этому поводу обвините меня в навязчивости, то я, в свое оправдание, могу сказать одно, что в настоящем случае всякий найдет мою навязчивость похвальною с точки зрения выгод читателей „Вестника Европы“»237.
28 августа с такой же просьбой, как Семевский и Стасюлевич, обратился редактор «Отечественных записок» М. Е. Салтыков. Свое обращение к Толстому Салтыков начал словами:
«Милостивый государь, граф Лев Николаевич.
Было время, когда я пользовался Вашим знакомством: может быть, Вы вспомните. Но если б Вы даже и совсем позабыли о моей личности, все-таки я считаю себя вправе как литератор к литератору обратиться к Вам с следующей просьбою... И мне лично, и всей редакции нашей было бы очень приятно и дорого, если б Вы приняли в нашем журнале участие своими трудами. Слухами земля полнится, и из этих слухов мы знаем, что Вы написали или пишете новый роман. Если Вы еще не распорядились им, то, поместив его в „Отечественные записки“, крайне обязали бы редакцию». И Салтыков просит Толстого уведомить
516
о его условиях и о том времени, когда роман может быть передан в редакцию238.
Толстой отвечал каждому из трех названных редакторов, но до нас дошел его ответ только Стасюлевичу, Которому он писал: «Писание мое еще лежит для меня в таком дальнем ящике, что я и не позволяю себе загадывать о его печатании»239.
В таком же духе, очевидно, Толстой отвечал и Семевскому и Салтыкову.
Получив письмо Толстого, Салтыков отправил ему второе письмо, в котором высказал свое «чувствительнейшее огорчение» по поводу того, что Толстой не мог обещать предоставить редакции его журнала еще неоконченный роман, и выражал надежду на то, что у Толстого «может случиться и другая конченная работа», которая также «могла бы быть полезна» для «Отечественных записок». «Поверьте, — писал далее Салтыков, — что я не ради рекламы желаю Вашего участия в журнале, а просто потому, что ценю высоко Вашу литературную деятельность».
Толстой, без сомнения, ответил и на это письмо Салтыкова но ответ его до нас не дошел.
XXIX
27 августа Толстой делает в записной книжке запись240, которую датирует (что встречается очень редко в записях этого года), свидетельствующую о том, что план начатого романа подвергся существенным изменениям. Указывается время действия романа: «1824-й год, весна». Далее перечисляются высшие должностные лица того времени: министр юстиции, председатель Государственного совета, министр народного просвещения, обер-прокурор и обер-секретарь Синода. Затем записываются данные о местопребывании в том же 1824 году Пушкина, Ермолова, Карамзина, Александра I.
Существует вторая редакция этого плана, более распространенная241. Здесь, во-первых, названы новые лица: министр внутренних дел Ланской, член Государственного совета Мордвинов, великий князь Константин, начальник Главного штаба Дибич, министр иностранных дел Нессельроде, декабрист Тургенев, директор театра Шаховской и другие. Во-вторых, записаны новые подробности относительно лиц, названных в первой редакции плана («Ермолов на Кавказе и усмиряет бунт Дагестана», выход 10 и 11 томов «Истории государства Российского»
517
Карамзина). Наконец, отмечаются некоторые события того времени, имевшие общественное значение, как, например: «Тургенев отпустил на волю людей», подписка в пользу голодающих крестьян Смоленской губернии, «милльоны выданы из казны князю Разумовскому, 17 миллионов отдано в Варшаву [на украшение города]», «К. Булгаков — почтдиректор в Москве — у него решают назначения [на государственные должности]», приезд Пестеля в Петербург. Наконец, отмечаются главные события в жизни европейских государств, как смерть Наполеона, война Франции с Испанией в 1823 году, смерть Ипсиланти, приезд Байрона в Грецию.
Внешним поводом к тому, чтобы начать действие романа с 1824 года, послужило для Толстого то, что в числе судебных дел, им полученных, было одно, в состав которого входило разбирательство в 1824 году тяжбы о земле между помещиком и крестьянами, и этим делом Толстой решил воспользоваться для своего романа.
Однако работа над романом и по новому плану началась не скоро. «Очень хочется писать и понемногу принимаюсь», — писал Толстой Страхову 5 сентября242. Фету Толстой писал в тот же день: «Мне ужасно хочется писать, но нахожусь в тяжелом недоумении — фальшивый ли это, или настоящий аппетит»243.
Он продолжал изучение печатного и рукописного материала по истории декабристского восстания. В сентябре он получил от Ивана Евгеньевича Оболенского, сына известного декабриста Евгения Петровича Оболенского, очень ценное собрание писем декабристов (всего около двух тысяч). Письмо к Толстому И. Е. Оболенского от 19 сентября при посылке этого собрания сохранилось в архиве Толстого.
Но работа долго не налаживалась. 27 сентября Софья Андреевна записала в дневнике: «Занятия его [Льва Николаевича] еще не идут, и у него болит спина»244. Но уже 3 октября она писала сестре Т. А. Кузминской: «Левочка перешел в комнату мальчиков со сводами, восхищается все тишиной и пытается все заниматься, раза три писал»245. Затем 6 октября Софья Андреевна записывает в дневнике: «Утром взошла к Левочке, он сидит внизу за столом и пишет что-то. Это он начал — говорит, в десятый раз — начало своего произведения. Начало это — прямо разбирательство дела, в котором судятся мужики с помещиком. Дело это он вычитал из подлинных документов и даже числа оставил. Из этого дела, как из фонтана, разбрызгается
518
действие и в быт крестьян, и помещика, и в Петербург, и в разные места, где будут играть роль разные лица»246.
Этот вариант «Декабристов»247 начинается словами: «1824 года января 23 было назначено к слушанию в Департаменте духовных и гражданских дел Государственного совета и в общем собрании... Комитета министров дело экономических крестьян Симбирской губернии села Излегощ с помещичьим селом Жегаловым о землях».
Как писала Софья Андреевна в своем дневнике, Толстой в данном варианте проставил ту же дату разбора дела крестьян в Государственном совете, какая была указана в подлинном деле, которым он пользовался; дело это, однако, не удалось найти в фонде архива Министерства государственных имуществ.
В варианте рассказывается история этой тяжбы крестьян с помещиком, тянувшейся с 1807 года. В 1823 году в заседании Сената дело было решено в пользу крестьян. Помещик, сначала названный графом Чернышевым, а потом князем Адуевским, был присужден к тому, чтобы возвратить крестьянам землю, которой он владел неправильно, и возместить убытки, понесенные ими за много лет, в сумме вместе с процентами 110 тысяч рублей. Помещик проиграл дело потому, что он «ненавидел судиться, ненавидел и презирал тот темный мир, в котором копошились грязные, с продажной совестью приказные».
Замечательна характеристика, даваемая здесь автором поверенному крестьян, искусному дельцу Мирону Иванову.
Еще будучи волостным писарем, Мирон Иванов, имея дело с судами в низших инстанциях, «постигнув значение распоряжений властей, так увлекся этим миром власти, тем миром, в котором одни слова, написанные известным лицом в вицмундире на гербовой бумаге, делали то, что один человек получал вдруг, как в волшебной сказке, много денег, а другой попадал в тюрьму или под кнут, так удивился сначала, а потом пленился этим миром, что весь отдался ему... Он, как художник, с любовью, с страстью занимался этим делом».
Со стороны помещика действовал поверенный Илья Митрофанов, «такой же охотник до сутяжничества, как и Мирон Иванов». Этот Илья Митрофанов — действительное лицо, поверенный Толстых, ведший их судебные дела во время опеки. Он описан Толстым в «Воспоминаниях».
Вариант обрывается на том, что обе стороны усиленно готовятся к назначенному на 23 января заседанию Государственного совета, в котором будет разбираться их дело. Обе стороны «подготовляли членов Совета и действовали на Истомина и простых секретарей». (В. К. Истомин — знакомый Толстого, впоследствии
519
правитель дел московского губернатора; его-то Толстой считал подходящим прототипом для изображения обер-секретаря Государственного совета.)
Сохранилось еще два начала романа о декабристах, действие которых относится к 1824 году.
В первом из этих вариантов248 рассказывается об освобождении из тюрьмы четырех крестьян, арестованных за драку с землемером, который приехал отрезать у крестьян землю, присужденную судом помещику, и проводить новую межу. Автор дает интересную характристику всем четырем крестьянам, осужденным за драку с землемером: «Иван Деев — он всегда был спорщик, старик Копылов — непокорный мужик, Болхин — отчаянная голова», а Анисима посадили «за его упрямство».
Все эти крестьяне названы именами действительно существовавших и знакомых Толстому яснополянских крестьян. У Анисима Житкова были сыновья Иван и Григорий, так и названные в варианте.
Анисим Житков — представитель того типа патриархального русского крестьянина, который сделался особенно мил Толстому после перелома в его мировоззрении. Уходя из острога, Анисим «сходил к смотрителю, поблагодарил его за его милости тремя рублями, а хозяйку его поблагодарил холстом деревенским. Потом попросил прощенья у своих сторожей и товарищей, роздал им пироги деревенские, привозные, помолился богу, надел новую шубу, а кафтанишка старый (их посадили летом) подарил Кирьяку дурачку». Анисима сердечно провожали все — и бывшие товарищи по заключению, и сторожа. Похож на отца и приехавший за ним сын Анисима Григорий, который подходит к отцу, «сняв шапку, низко кланяясь».
Так был оборван этот небольшой вариант.
XXX
Не более продвинулся и третий вариант начала «Декабристов», действие которого относится к 1824 году.
Вариант также описывает освобождение из тюрьмы четырех бунтовавших крестьян249, имена которых названы: Михайла Кондрашов, Федор Резунов, Петр и Василий Прохоровы. Все это яснополянские крестьяне; Михайла Кондрашов — это яснополянец Михаил Фоканов.
Освобождение крестьян в приговоре Сената мотивируется тем, что «межевание, от которого возродилось сие следственное
520
дело [т. е. решение спорного дела о земле в пользу помещика], найдено неправильным», а также и тем, что «если крестьяне за ослушание и подлинно заслуживали наказание, то оное может быть им заменено долговременным содержанием под стражею».
Имена пострадавших крестьян здесь иные, чем в предыдущих вариантах. Главное лицо из них Михайла Кондрашов, который так же, как Анисим Житков предыдущего варианта, характеризуется автором положительными чертами, но иными, чем Житков. Михайла Кондрашов — из первых мужиков в селе, в семье его слушали, «хоть он не дрался и дурным словом не бранился». Он попал в тюрьму «по своей справедливости». Когда на меже вышла драка с землемером и один из мужиков замахнулся вехой на правительственного чиновника, Михайла унимал его и других мужиков; но когда исправник призвал всех мужиков к себе на квартиру и стал их уговаривать, чтобы они отказались от спорной земли, Михайла отказался подписаться и был арестован.
Все три варианта не получили продолжения и не содержат ни одного намека на то, как автор представлял себе развитие действия начатого романа.
Что два последних варианта неразрывно связаны с тем, который начинается упоминанием о слушании в Государственном совете тяжбы крестьян с помещиком из-за спорной земли, ясно доказывается планом романа, обнимающим содержание всех трех вариантов250. План носит название «Борисовка» — та деревня, где будет происходить действие задуманного романа.
В плане прежде всего помечено освобождение из тюрьмы Анисима Бровкина. Толстой хотел описать некоторые подробности тюремной жизни Анисима и других арестованных крестьян; им были намечены вопросы: «Впускали ли баб? Как одеты? Работали ли? Как выпускали?» Ответы на эти вопросы он думал найти в мемуарах современников.
Далее предположено описание заседания в Сенате, на котором делает доклад сенатор, покровитель Адуевского, после чего следует характеристика отца и сына Адуевских.
Тема переселения крестьян и здесь не оставлена. В плане записано: «Решает подать прошение о переселении государю в Царском» (кто решает — не сказано). Далее помечено: «Возвращение с новых мест» — вероятно, ходоков, посланных миром осмотреть земли, на которые предположено переселиться. Далее — картина весенних крестьянских работ, светло-христово воскресенье, любовь (вероятно, будущего декабриста) и, наконец, заметки, относящиеся к придворной жизни: приезд царя, господство мистического направления при дворе и т. д.
521
XXXI
11 октября Софья Андреевна записывает: «Левочка много читает матерьялов к новому произведению, но все жалуется на тяжесть и усталость головы и писать еще не может»251. Далее 16 октября: «Левочка не занимался сегодня, только утром мне сказал: „Как это хорошо будет“»252. 18 октября: «Левочка... вял, молчалив и сосредоточен. Все читает»253. 21 октября: «Вчера он немного писал что-то, мне еще не показывал»254. 23 октября: «Левочка нынче говорит, что столько читал матерьялов исторических, что пресыщен ими и отдыхает на чтении «Мартин Чеззльвит» Диккенса. А я знаю, что когда чтение переходит у Левочки в область английских романов — тогда близко к писанью»255. 24 октября: «Левочка... желчен и вял... Писать еще он не может. Нынче говорит: „Соня, если я что буду писать, то так, что детям можно будет читать все до последнего слова“»256. 27 октября Толстой писал Страхову: «Не мог ничего делать всё это время... Работа все нейдет»257. 29 октября С. А. Толстая записывает: «Левочка пытался заниматься»258.
Только 31 октября Толстой написал новое начало произведения. Об этом узнаем из следующей дневниковой записи Софьи Андреевны от 1 ноября: «Вчера утром Левочка мне читал свое начало нового произведения. Он очень обширно, интересно и серьезно задумал. Начинается с дела крестьян с помещиком о спорной земле, с приезда князя Чернышева с семейством в Москву, закладка храма Спасителя, богомолка — баба-старушка и т. д.»259.
2 ноября С. А. Толстая писала Страхову: «Начало нового произведения написано; работа умственная Льва Николаевича идет самая усиленная, а план нового сочинения, по-моему, превосходен»260. В тот же день Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской: «Левочка... теперь совсем ушел в свое писанье. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно неспособен думать».
Новое начало сохранилось в двух редакциях261. Опять говорится о тяжбе крестьян с помещиком — на этот раз снова
522
с Григорием Ивановичем Чернышевым (на одной странице черновой редакции фамилия Чернышева переделана на Адуевский). В Сенате дело решено в пользу крестьян, и Чернышев приехал в Москву просить Царя, который должен был присутствовать на торжестве закладки храма Христа Спасителя, о пересмотре дела в Государственном совете.
Но хотя в Сенате дело и было решено в пользу крестьян, шесть излегощинских мужиков, осужденных за драку на меже с землемером, продолжали сидеть в остроге. Старуха Тихоновна, жена одного из арестованных, Михаила Герасимова, решила идти к угоднику молиться за старика. Тихоновна — только слегка очерченный любимый Толстым тип старой крестьянской женщины прежнего времени. Это — всегда спокойная, «благовидная» старуха, шагающая «легко и бодро», как молодая женщина, ловкая во всех движениях. Такой тип впервые появляется у Толстого в данном наброске.
Дорогой Тихоновна сошлась с дьяконицей из их села, и дьяконица посоветовала ей просить самого царя. Тихоновна отправилась в Москву к угодникам и узнала, что царь в Москве. Дьяконица посоветовала ей пойти к старой княгине Чернышевой, которая «всех странных принимает». Тихоновна так и поступила. Ее поместили в «черную кухню» (т. е. в кухню, где готовился обед для дворовых). Здесь Тихоновна (она называется иногда Николавна) встретилась со стариком-земским, который за рублевку обещал написать ей прошение царю. Очень живо описаны все посетители «черной кухни» — дворовые князя. Тут же Тихоновна увидела на печке молодого малого Кузьку, слугу княжеского камердинера, которого за пьянство сегодня же хотели наказать розгами. Уже пришел приказчик, Иван Васильевич — «толстый, свежий, легкий, чистый, господский». «Иди», — строго сказал он Кузьме. Но в этот момент «весь красный», запыхавшись, прибежал молодой барин, который сказал Ивану Васильевичу, что «папенька сказал, что это не надо, и что совсем оставить его, вот и все». «Молодой барин» — это, конечно, будущий декабрист Захар Григорьевич Чернышев.
Этот эпизод показывает, что Толстой в «Декабристах» был намерен более ярко изобразить бесправие и приниженность крепостных дворовых, чем это было сделано им в «Войне и мире». Отцу будущего декабриста приходится отменять распоряжение жестокого приказчика, не признававшего иных мер воздействия на подчиненных ему крестьян, кроме розог.
Далее рассказано, как, увидев незнакомую ему женщину, молодой Чернышев спросил, откуда она. «Николавна, как из тумана просияло солнце, лаской просияла на барина и на вопросы
523
стала рассказывать ему». Одна эта фраза говорит о том, какими красками Толстой хотел нарисовать портрет будущего декабриста.
На этом первая редакция нового варианта была оборвана. Вторая редакция не была доведена даже и до этого эпизода.
XXXII
После творческого подъема, как это часто бывало у Толстого, наступил временный упадок. 4 ноября С. А. Толстая записывает в дневнике: «Левочка не пишет почти и упал духом»262.
Но Толстой продолжал обдумывать новое начало задуманного романа. 6 ноября Софья Андреевна записывает: «Левочка... скучает, что не может писать; вечером читал Диккенса «Domby and Son» [Домби и сын] и вдруг мне говорит: «Ах, какая мысль мне блеснула!» Я спросила, что, а он не хотел сказать, потом говорит: «Я занят старухой, какой у ней вид, какая фигура, о чем она думает, а надо, главное, ей вложить чувство. Чувство, что старик ее Герасимыч сидит безвинно в остроге, с половиной головы обритой, и это чувство ее не оставляет ни на минуту»263. Затем 7 ноября: «Левочка... повеселел, и мысли его для писанья уясняются»264. 11 ноября: «Левочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, типы все оживают, он нынче работал и весел, верит в свою работу»265. 16 ноября: «Левочка говорит: „Все мысли, типы, события, — всё готово в голове“. Но ему все нездоровится, и он писать не может»266.
22 ноября Толстой пишет Фету: «Вы поняли мою тоску с полуслова, но боюсь еще, что не разрожусь»267. Страхову 23 ноября: «Не пишу я вам только оттого, что нечего. Попытки, искания, очарования и разочарования мои при работе моей не годится рассказывать. А остальное всё меня не интересует в это время»268. Ему же Софья Андреевна писала 6 декабря: «А мой муж иногда мрачен от напряжения умственного, он очень работает и очень устает. Пишет еще мало, но в голове здание все растет и растет. Вы не можете себе представить, как сложен и труден даже просто механизм нового задуманного им произведения»269.
О «механизме нового задуманного произведения» Толстой, очевидно, рассказывал жене устно. Некоторое представление
524
о сложности этого «механизма» дает оставшийся от того времени работы план «Декабристов»270.
План охватывает четыре года предыстории декабрьского восстания — с 1817 по 1820 год. К весне 1817 года относится действие уже написанных вчерне глав: «Говенье — Драка на меже» и намеченной: «Светло-христово воскресенье, Татьяна, Бабочки, Любовь, Религиозное чувство». Под именем Татьяны нужно, вероятно, разуметь привлекшую внимание Толстого Н. Д. Апухтину, вышедшую замуж за немолодого генерала Фонвизина и считавшую себя прообразом пушкинской Татьяны271.
Далее по плану к осени того же 1817 года относится действие написанной частично главы: «Москва, Закладка храма, Тихоновна — прошение» и ненаписанной: «Любовь и религиозное чувство Татьяны забыто. Увлечение чувственное».
1818 год по намеченному плану должен был открываться описанием политического события — собрания членов Союза благоденствия; после него — возвращение к истории Тани («равнодушие жениха») и описание переселения крестьян в Оренбургскую губернию.
Еще большее место политические события должны были занять в части романа, посвященной 1819 году. Здесь «Мракобесие. Магницкий. Бунт в Чугуеве. Казни». Между всеми этими государственными событиями — «разрыв свадьбы с Татьяной».
Под 1820 годом в плане значатся только политические события: бунт Семеновского полка и «Пестель в Петербурге».
По всей вероятности, Толстой набросал и продолжение плана, относящееся к 1821—1824 годам, но оно не сохранилось в его архиве. Сохранился только очень неясный набросок плана, относящийся к ноябрю 1825 года. Некий Митенька, занятый хозяйством, знакомится с декабристом Муравьевым, и ему «открывается новый мир». Какому-то мужику он советует бежать, мужик бежит и терпит бедствия. Митенька 14 декабря едет в Петербург.
За исключением нескольких указанных выше глав, относящихся к 1817 и 1818 годам, никаких попыток что-нибудь написать по этому плану Толстым сделано не было.
XXXIII
В бытность свою в Ясной Поляне в августе 1878 года Тургенев сообщил Толстому, что редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич выпускает томики серии «Русская библиотека», содержащие выдержки из сочинений наиболее известных
525
современных русских писателей. Тургенев предложил Толстому дать согласие напечатать в «Русской библиотеке» томик из его сочинений; Толстой согласился. Он попросил Страхова взять на себя как подбор выдержек, так и все сношения с издателем «Русской библиотеки».
11 октября Страхов извещал Толстого, что Стасюлевич просит дать портрет, и Страхов дал ему фотографию; «просит биографических сведений, и я обещал ему просить вас об них». «Сведения, — разъяснял далее Страхов, — должны составить род послужного списка, и я думаю, графиня отлично может его сделать. А окончательный вид дам я, и мне хочется поместить туда описание Ясной Поляны — сухое по тону, но содержащее скрытое восхищение»272.
16 октября С. А. Толстая записывает в дневнике: «Я взялась составить краткую биографию Левочки для нового издания Русской библиотеки, кратко составленного из произведений его по выбору Страхова... Оказалось, писать биографию дело нелегкое. Я написала немного, но плохо. Мешали дети, кормление, шум и незнание жизни Левочки до моего замужества достаточно подробно для биографии. Взяла в образцы биографии Лермонтова, Пушкина и Гоголя»273.
24 октября Страхов послал Толстому список тех выдержек из его сочинений, которые он подобрал для «Русской библиотеки».
25 октября С. А. Толстая записывает в дневнике: «Вечером вдвоем делали обзор всей Левочкиной жизни для биографического очерка. Он говорил, а я записывала. Дело это шло весело, дружно, и я так рада, что мы это сделали»274. Написанный Софьей Андреевной «обзор» был ею озаглавлен: «Краткий биографический очерк, написанный со слов графа Л. Н. Толстого женой его гр. С. А. Толстой 25 октября 1878 года».
27 октября Софья Андреевна опять записывает, что она «писала Левочкин биографический очерк»275.
На письмо Страхова от 11 октября Толстой отвечал 27 октября: «Очень вам благодарен за хлопоты обо мне; но простите великодушно, когда дошло дело до биографии, до портрета, я живо представил себе всё, да и дело есть, то я испугался. Ради бога, нельзя ли на попятный»276. Страхов, по-видимому, написал Толстому какой-то ответ на это письмо, в котором доказывал, что идти «на попятный» уже поздно, и посылал программу для составления краткого биографического очерка. Письмо это не сохранилось.
526
29 октября С. А. Толстая отметила в дневнике окончание работы над биографическим очерком Толстого. 2 ноября она писала Страхову: «Я написала для издания Русской библиотеки краткий биографический очерк жизни Льва Николаевича, но ему все кажется не довольно кратким. Хотел он вас просить прислать для образца сочинения Салтыкова, жизнеописание которого самое краткое из всех, но занимался все утро, очень устал, пошел на охоту и вам не написал»277.
Этот составленный Софьей Андреевной биографический очерк Толстого, а также и письмо ее к Страхову не были посланы адресату.
На два последних письма Страхова Толстой отвечал 10 ноября: «Выбор превосходный... Одно — биография. Как бы обойтись без нее. Если уже никак нельзя, то какой minimum ее возможен?»278. Страхов отвечал 21 ноября: «Биография, конечно, чем короче, тем лучше; и самая короткая заставит расхвалить книжку, так как об Вас сложились какие-то мифы»279.
16 ноября Софья Андреевна записывает: «Все пристаю к Левочке поправить написанный мной его биографический очерк и не допрошусь». 19 ноября Толстой «перечел свою биографию и сказал, что не совсем плохо, но еще не поправил»280.
23 ноября Толстой писал Страхову: «Жена написала биографию и вам письмо, но дала мне перечесть, и я остановил и то и другое — на время. Биография, для которой она спрашивала меня и справлялась по письмам и дневникам, вышла превосходная для меня, и для меня только. Мне интересно восстановить в памяти свою жизнь. И если бог даст жизни и я когда-нибудь вздумаю писать свою историю, то это будет для меня канва чудесная; но для публики это немыслимо. Мы выберем на днях по вашим вопросам факты и пришлем вам»281. В тот же день С. А. Толстая, как она отметила в дневнике 24 ноября,
527
написала «новый биографический очерк, но длинно и опять потому не годится»282.
Только 28 ноября Толстой, наконец, послал Страхову составленный его женой и им слегка поправленный биографический очерк, который Софья Андреевна озаглавила: «Еще один самый краткий биографический очерк, написанный мною под диктовку мужа 28 ноября 1878 года для издания „Библиотека для чтения“».
Памятуя намерение Страхова прибавить от себя к биографии несколько слов, скрыто выражающих восхищение Страхова Ясной Поляной, Толстой в приписке к биографическому очерку писал: «Если годится, то отдайте, но ничего не прибавляйте, а если нужно, выкиньте, что лишнее»283.
Страхов, разумеется, не нарушил воли Толстого и напечатал его биографический очерк без всяких своих дополнений.
Книжка вышла в начале 1879 года.
XXXIV
6 декабря Толстой, как в тот же день писала Страхову Софья Андреевна, поехал в Москву. Цели этой поездки неизвестны; быть может, целью были переговоры с московскими издателями относительно выпуска нового издания собрания его сочинений. Как это видно из письма Толстого к П. Н. Свистунову от 25 декабря, в эту поездку он виделся со Свистуновым и взял у него какую-то религиозную книгу французского писателя Вине.
В том же письме Толстой задавал Свистунову вопрос: «Не вспомнится или вам из декабристов какое-нибудь лицо бежавшее и исчезнувшее?» И тут же спрашивал о полковнике Ф. А. Уварове, женатом на сестре декабриста Лунина: «Что он был за человек? Когда женился? Какое было его отношение к обществу? Как он пропал? Что за женщина была Катерина Сергеевна? Когда умерла, остались ли дети?»284.
Федор Александрович Уваров, о котором Толстой читал в мемуарной литературе, хотя и не принадлежал к числу декабристов, был именно одним из лиц, «бежавших и исчезнувших», какими в то время начал интересоваться Толстой. Участник Бородинского сражения, где он был ранен в голову, Уваров, живший в Петербурге, 7 января 1827 года вышел из дома и более не возвращался. Одни думали, что он покончил с собой, бросившись в Неву, другие — что он уехал за границу или в Сибирь. Впоследствии было высказано предположение, что известный старец Федор Кузьмич, которого считали удалившимся
528
от власти Александром I, живший в Сибири и умерший там в 1864 году, был не кто иной, как Ф. А. Уваров285.
Интерес, проявленный Толстым к лицам бежавшим и исчезнувшим, в частности к Ф. А. Уварову, указывает на существенное изменение, какое в его творческом сознании претерпел замысел романа о декабристах. Теперь Толстого привлекает тема ухода из дома и разрыва с семьей человека привилегированного положения, решившего раствориться в народной среде.
Пьер Безухов вынужденно на время отказался от барского положения, находясь в плену у французов, но и этот его временный отказ, как изображено в «Войне и мире», имел для него самые благотворные последствия. Теперь уже Толстой сам мечтает о том, чтобы отказаться от своего привилегированного положения и вести образ жизни человека, который «не дорожит ничем в жизни» (письмо к Страхову 6 ноября 1877 года), и его тянет к художественному изображению такого типа.
Толстой был очень увлечен новым направлением, в котором он теперь хотел продолжать свой роман. В том же письме к Свистунову он писал: «Работа моя томит и мучает меня, и радует и приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения; но ни днем, ни ночью, ни больного, ни здорового мысль о ней ни на минуту не покидает меня... Дело, которое занимает меня, для меня теперь почти так важно, как моя жизнь».
К этому времени относится рукопись, озаглавленная «1818 год. Пролог»286, в которой рассказывается о «неожиданной, странной и неясной» смерти князя Василия Федоровича Гагарина и горе его вдовы Марии Яковлевны. Князь умер в июне 1818 года в Новгороде, где поблизости у него было имение. Камердинер князя прискакал в Москву и рассказал, что князь, проходя по улице, неожиданно упал и тут же скончался.
Жена князя по некоторым признакам напоминает жену Уварова: у нее, как у княгини Уваровой, два сына — Александр и Федор (сыновей Уваровой звали Александр и Сергей). Что же касается обстоятельств внезапной смерти князя Гагарина, то здесь Толстой повторяет тот рассказ об обстоятельствах смерти своего отца, который он слышал от своей воспитательницы, Т. А. Ергольской: та же смерть на улице (только не в Новгороде, а в Туле), те же два камердинера, Петруша и Матюша, на которых несправедливо пало подозрение в том, что они отравили своего барина, те же векселя, принесенные вдове князя какой-то нищей. В «Прологе» действуют и мать князя (бабушка Толстого также пережила смерть своего сына), и его приятель Семен Иванович Езыков, как и у Н. И. Толстого был приятель, Семен Иванович Языков. Смерть князя Гагарина, так же как
529
и Н. И. Толстого, происходит в июне (год изменен — 1818 вместо 1837). Сказано, что жена князя прожила в замужестве с ним семнадцать «счастливых и чистых лет»; Н. И. Толстой прожил со своей женой Марией Николаевной пятнадцать лет, также «счастливых и чистых».
Но, по-видимому, по замыслу Толстого далее в романе должен был следовать рассказ о том, что князь Гагарин в действительности не умер, а скрылся в народе и начал вести трудовой образ жизни.
Свидетелем необычайного увлечения Толстого новым началом романа явился Н. Н. Страхов, гостивший в Ясной Поляне с 25 декабря 1878 по 3 января 1879 года. 9 марта 1879 года он писал П. Д. Голохвастову: «На святках я ездил к Л. Н. Толстому и провел у него дней десять. Вот где творятся чудеса — я уверен, что новое его произведение будет настоящим чудом. Он вложит туда всю свою душу, не так, как в „Анну Каренину“, которую даже писал не с полной охотой. Действие должно происходить между 1816 и 1836 годами. Он сам говорил, что никогда работа так не занимала его, как эта. Но в каком положении дело, не знаю. Когда я уехал, еще ничего не было написано — только пробы, начала, сцены»287.
Подтверждением того, что действительно Толстой в то время хронологическими рамками начатого романа намечал 1816—1836 (или 1833) годы, служит письмо его к А. А. Толстой около 25 января 1879 года. В этом письме Толстой просил Александру Андреевну сообщить ему биографические сведения о государственном деятеле Льве Алексеевиче Перовском. Ему было «нужно знать», где Перовский служил и находился с 1816 по 1833 год, а также время его женитьбы и обстоятельства его семейной жизни288.
Граф Лев Алексеевич Перовский (1792—1856), родной брат В. А. Перовского, по окончании Московского университета поступил на военную службу, участвовал в войне 1812 года, был в сражениях под Красным, Бородином, Малоярославцем, в «битве народов» под Лейпцигом. Состоял членом Союза благоденствия, но вышел из него и не принимал участия в декабрьском восстании. В 1826 году — член Совета Департамента уделов, в 1829 году — вице-президент Департамента уделов, с 1840 года — член Государственного совета и товарищ министра внутренних дел, в 1841—1852 годах — министр внутренних дел, в 1852—1856 — министр уделов. Участвовал в 5-м секретном комитете 1846 года по пересмотру законоположений о крестьянах. Во второй книге «XIX век», изданной П. И. Бартеневым (1872), напечатана его записка по крестьянскому вопросу, в которой он предлагал постепенное освобождение крестьян
530
с землею путем уравнения их в правах с государственными крестьянами, однако так, чтобы не обеднить и помещиков.
Вторым подтверждением является просьба Толстого Стасову, переданная ему устно Страховым, — найти списки приглашенных на придворный бал в 1816 году289.
Между тем сведения, которые Толстой получил от П. Н. Свистунова об обстоятельствах исчезновения полковника Уварова, должны были его разочаровать. В письме от 30 декабря Свистунов писал, что камергер Уваров, которого считали человеком ограниченным, узнав о том, что декабрист Лунин, присужденный к каторжным работам, по своему духовному завещанию передал имение двоюродному брату, а не своей сестре, на которой был женат Уваров, написал жалобу Николаю I. Жалоба царю не понравилась, и он велел передать Уварову, чтобы тот впредь не смел ему так писать. Уваров, «как истый царедворец, пришел в отчаяние, вышел из дома и больше не возвращался»290.
Эти сведения, которые Толстой переписал себе в записную книжку, должны были заставить его отказаться от намерения сделать Уварова героем своего романа.
Из письма В. В. Стасова от 15 июня 1878 года Толстой узнал, что в архивах хранится подлинное дело декабристов, к которому до того времени был допущен только военный историк М. И. Богданович. В бытность Страхова в Ясной Поляне Толстой просил его разузнать, есть ли возможность познакомиться с этим делом. Страхов отвечал ему 23 января 1879 года, что «дело декабристов недоступно», хотя его и видел, кроме Богдановича, другой военный историк, Н. Ф. Дубровин291.
Еще не дождавшись ответа Страхова, Лев Николаевич около 25 января с той же просьбой обратился к А. А. Толстой. «Есть ли надежда, — писал он, — чтобы меня допустили к этому делу? И если есть, то кого и как просить об этом?»292. А. А. Толстая уже 3 февраля сообщила Льву Николаевичу, что она обращалась по его делу к шефу жандармов генералу Дрентельну, от которого получила ответ: «Допущение графа Л. Н. Толстого в архив 3-го отделения представляется совершенно невозможным»293.
XXXV
В феврале 1879 года Толстой прекратил работу над романом из эпохи декабристов.
531
На письмо Стасова от 8 февраля, при котором Стасов посылал ему выписку из камер-фурьерских журналов за 1815 и 1817 годы о придворных балах и собраниях, а также указывал другие материалы для его романа, Толстой 16 февраля ответил: «Из того, что вы предлагаете и за что очень вам благодарен, мне ничего не нужно теперь»294.
Ни в одном письме к своим друзьям — Страхову, Фету, А. А. Толстой — Лев Николаевич ни одним словом не обмолвился о причинах, приведших его к прекращению произведения, которым он так напряженно был занят в течение целого года. По какой-то причине он как бы стеснялся говорить об этом.
Фет как монархист тяжело переживал тогда участившиеся террористические акты против членов правительства. Особенно он был взволнован покушением на Александра II, совершенным народным учителем Соловьевым 2 апреля 1879 года. Под свежим впечатлением этого события он пишет Толстому 9 апреля: «Из немногих брошенных Вами слов я составил себе — дай бог, чтобы превратное, — понятие о Вашем новом капитальном труде. Общественное мнение 55 лет привыкло смотреть на декабристов как на олигархов, т. е. как на своекорыстных мечтателей. Вы, быть может, с большим историческим правом смотрите на них как на мечтателей самоотверженных, и в силу последнего качества они возникают перед Вами в венцах из звезд, как в Полярной звезде Герцена, отказавшегося под конец от солидарности с этой темой. Если бы Вы имели дело со мной или Страховым, Вы были бы совершенно правы. В художественном произведении мы не стали бы во что бы то ни стало доискиваться исторической правды. У Байрона Авель свинья, а Каин высокий герой и спаситель человечества, как Прометей. Нам и в голову не придет оспаривать Байрона и его Каина, хотя книга Бытия нам его представляет в некрасивом виде. Но ведь никогда толпа не смотрит с этой стороны... И чем выше голос говорящего, тем ужасней последствия недоразумения его речей. — Я ужасаюсь мысли, что теперешние цареубийцы могут подумать, что Вы их одобряете и напутствуете благословением их растление несчастных женщин, глупеньких юношей и покушения силой и насилием проникнуть в народ, который всей массой, по простому прямому историческому чувству, знает, что нам без царя на престоле и в голове жить нельзя... — Может быть, я подымаю бурю в стакане воды. — Но успокойте меня на этот счет хоть словечком»295.
Толстой, как и следовало ожидать, вопрос о терроре перенес из области политической в область нравственную. На письмо Фета он ответил 17 апреля: «Декабристы мои бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал и писал, то льщу
532
себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества»296.
Даже когда друзья спрашивали его о причинах прекращения работы над романом о декабристах, Толстой не отвечал на их вопросы. 5 мая А. А. Толстая писала Льву Николаевичу: «Скажите мне непременно, действительно ли вы совершенно оставили ваших декабристов. В таком случае я буду неутешна. Что за дело, что они не русские, а французы или западники. Разве это тоже не исторический и характерный факт той эпохи?»297
Письмо осталось без ответа.
Такая же участь постигла и письмо (аналогичного содержания) В. В. Стасова, который 12 августа 1879 года писал Толстому: «Тут было у нас сто нелепых слухов, будто Вы бросили „Декабристов“, потому, мол, что вдруг вы увидали, что все русское общество было не русское, а французятина!?! Может ли это быть, я никогда не верил»298.
Но сохранились некоторые записанные мемуаристами краткие устные сообщения Толстого о том, почему им была оставлена работа над «Декабристами».
С. А. Берс, находившийся в постоянной переписке со своей сестрой Софьей Андреевной, в своих воспоминаниях, упомянув о том, что роман из эпохи Петра не был закончен Толстым потому, что он разочаровался в Петре и в его государственной деятельности, рассказывает далее о работе Толстого над «Декабристами» и говорит:
«Но вдруг Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после Французской революции. Она и воспитывала потом всю русскую аристократию в качестве гувернеров. Этим объясняется, что многие из декабристов были католики. Если все это было привитое и не создано на чисто русской почве, Лев Николаевич не мог этому симпатизировать»299.
В январе 1880 года, когда Лев Николаевич был в Петербурге, А. А. Толстая задала ему тот же вопрос: отчего он не продолжал роман «Декабристы»? Толстой на это ответил: «Потому что я нашел, что почти все декабристы были французы»300.
Посетившему его 24 августа 1883 года Г. А. Русанову Толстой говорил: «Так и не удалось мне написать исторического
533
романа после „Войны и мира“. Сначала я хотел написать роман из эпохи Петра Великого, а потом из эпохи декабристов. Из петровской эпохи я не мог написать потому, что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они непохожи на нас. А из эпохи декабристов я не мог написать потому, что она, наоборот, оказалась чересчур недавнею, слишком близкою ко мне. Декабристы были слишком всем известные люди, осталась масса записок, мемуаров, писем их эпохи, и я положительно терялся в этой массе»301.
Наконец, в 1892 году в Москве в присутствии П. А. Сергеенко на вопрос одного из гостей, правда ли, что он хочет опять приняться за «Декабристов», Толстой «неохотно» ответил: «Нет, я навсегда оставил эту работу..., потому что не нашел в ней того, чего искал, т. е. общечеловеческого интереса. Вся эта история не имела под собой корней»302. Начало этой записи П. А. Сергеенко представляется не вполне достоверным — выражение «общечеловеческий интерес» не в стиле Толстого; последние же слова этой записи: «Вся эта история не имела под собой корней» — вполне в духе Толстого.
Итак, перед нами записи четырех мемуаристов, и три из этих записей в основном вполне согласны друг с другом. Запись Г. А. Русанова выделяется из всех остальных; однако она указывает на внешнюю, а не на внутреннюю причину прекращения Толстым работы над романом. Хотя, несомненно, чрезвычайное обилие эпистолярного и мемуарного наследия декабристов затрудняло работу Толстого, но все же эта трудность сама по себе не могла привести автора «Войны и мира» к прекращению работы над начатым романом. Что же касается внутренней причины, указанной в записях трех других мемуаристов, а также в письмах А. А. Толстой и В. В. Стасова, то эта причина представляется до известной степени вероятной.
А. А. Толстая после приведенных слов Толстого о причине прекращения им работы над романом пишет: «Действительно, в то время воспитание детей высшего круга было более западным; но этот исторический факт, который, разумеется, нельзя было обойти, нисколько, по моему мнению, не должен был помешать написать роман из столь интересной эпохи».
Это рассуждение А. А. Толстой логически совершенно бесспорно, но она не знала того, что у Толстого к этому времени
534
сложилось иное отношение к русскому трудовому крестьянскому народу, чем было раньше. В поисках смысла жизни Толстой обратился к окружавшему его трудовому крестьянству и принял то жизнепонимание, которого в большинстве своем придерживалось трудовое крестьянство того времени. Народ стал теперь для Толстого учителем жизни.
Рационалистическое, лишенное религиозной основы миросозерцание большинства декабристов, подчеркнутый автором рационализм князя Андрея — человека с декабристской психикой, рационализм будущего декабриста Пьера Безухова в эпилоге «Войны и мира» теперь уже не удовлетворяли Толстого. Не удивительно, что при том религиозном настроении, которым тогда был проникнут Толстой, представители декабристского движения, при всем его уважении к их личностям, не могли вдохновить его до такой степени, чтобы он сделал их центральными героями своего романа.
Была еще одна существенная причина, по которой роман о декабристах был оставлен в самом начале работы. Это была причина, нисколько не связанная с идеологией декабристов, — причина психологическая. Она заключалась в том, что, выражаясь словами Толстого в его письме к А. А. Толстой от 4 апреля 1878 года, ему в то время часто недоставало той «энергии заблуждения, которая нужна для всякого земного дела». Как писал он в тот же день Фету, он в то время нередко переживал такое душевное состояние, когда не чувствовал «интереса к жизни».
Когда Толстой писал «Войну и мир», его господствующим настроением было спокойное расположение духа и радостное приятие жизни во всех ее проявлениях; теперь же, когда он испытывал «сомнение во всем», такое настроение лишь изредка посещало его, и тогда он вновь принимался за работу и писал большей частью совершенно новые начала задуманного романа.
Верный друг Толстого Н. Н. Страхов, живя вместе с ним на его самарском хуторе в июле — августе 1878 года, вскоре заметил, что Толстой был «не в очень хорошем духе». Ту же грусть замечал Страхов и в позднейших письмах Толстого.
«Нет-нет, да и прозвучит у вас, бесценный Лев Николаевич, грустная нота, которая так и хватает меня за сердце», — писал Страхов Толстому 2 декабря 1878 года303.
Это грустное настроение, проистекавшее от разочарования в той жизни, которую ему приходилось вести, и много неразрешенных сомнений и вопросов мешали Толстому уверенно и спокойно, как это было во время работы над «Войной и миром», продолжать начатый роман.
535
XXXVI
Хотя роман о декабристах и не был закончен, напряженная работа над ним, продолжавшаяся в течение целого года, оставила глубокий след в сознании Толстого. Нравственная высота лучших деятелей декабристского движения изумляла Толстого и приводила его в восторг. Особенно восхищался он твердостью и стойкостью декабристов на каторге. Восторгался Толстой несокрушимой энергией бывшего полковника кавалергардского полка декабриста Лунина, о чем он рассказывал своим домашним. После того как Лунин в одном из писем с каторги к своей сестре Уваровой осмеял назначенного министром графа Киселева, и письмо было перлюстрировано и сделалось известным в Петербурге, Лунин был прикован к тачке. И тем не менее смотритель каторги ежедневно приходил с осмотра работ, долго смеясь остротам Лунина304.
Уже через двадцать лет после прекращения работы над романом о декабристах Толстой дважды упоминал в письмах об этой своей работе. 6 марта 1897 года он писал высланному за границу своему другу П. И. Бирюкову: «В моем начатом романе „Декабристы“ одной из мыслей было то, чтобы выставить двух друзей, одного, пошедшего по дороге мирской жизни, испугавшегося того, чего нельзя бояться, — преследований и изменившего своему богу, и другого, пошедшего на каторгу, и то, что сделалось с тем и другим после тридцати лет: ясность, бодрость, сердечная разумность и радостность одного и разбитость и физическая и духовная другого, скрывающего свое хроническое отчаяние и стыд под мелкими рассеяниями и похотями и величанием — перед другими, в которые он сам не верит»305.
В другом письме, от 24 февраля 1901 года, сосланному в Сибирь духобору И. Е. Конкину Толстой писал: «Довелось мне видеть возвращенных из Сибири декабристов, и знал я их товарищей и сверстников, которые изменили им и остались в России и пользовались всякими почестями и богатством. Декабристы, прожившие на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после тридцати лет бодрые, умные, радостные, а оставшиеся в России и проведшие жизнь в службе, обедах, картах, были жалкие развалины, ни на что никому не нужные, которым нечем хорошим было и помянуть свою жизнь»306.
536
Выше уже было сказано, какое восхищение вызывал у Толстого рассказ про декабриста М. И. Муравьева-Апостола, который в 1820-х годах уничтожил телесные наказания в своей роте.
Это глубокое уважение к декабристам Толстой сохранил до конца жизни. В «Воскресении» он устами Крыльцова выразил сочувствие мысли Герцена, что «когда декабристов вынули из обращения, понизился общий уровень»307.
Когда в 1904 году в газете «Новое время» появилась статья, в которой было сказано, что Толстой «не нашел в фигурах декабристов достаточно характерных русских черт, да и вообще достаточной важности, чтобы можно было из них сделать центр большого эпического создания»308, внук декабриста Григорий Михайлович Волконский обратился к Толстому с вопросом, верно ли это сообщение «Нового времени». В своем ответе Г. М. Волконскому, датированном 1 июля 1904 года, Толстой назвал сведения «Нового времени» «неточными» и далее писал: «Декабристы больше, чем когда-нибудь, занимают меня и возбуждают мое удивление и умиление»309.
Читая в 1905 году мемуары и статьи декабристов, Толстой говорил: «Это были люди все как наподбор — как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул»310.
В истории творчества Толстого его незаконченный роман 1878 года из времени декабристов имел большое значение.
В этой работе Толстой совершенно не воспользовался тем началом романа, которое было им написано в 1860 году. И содержание, и общий тон произведения были совершенно иные, чем в 1860 году. В то время как написанные в 1860 году главы романа посвящены исключительно изображению возвращающегося из ссылки декабриста и его семьи, в большинстве начал романа 1878 года главными героями являются представители народа — крепостные крестьяне. Из всех семнадцати вариантов начала «Декабристов», написанных в 1878 году, в двенадцати действие начинается в крестьянской среде.
В первых двух вариантах (№ 8 и 9 по семнадцатому тому Полного собрания сочинений) Толстой хотел описать переселение крестьян на новые места — изобразить «завладевающую силу» русского народа. При этом автор особенно подчеркивал роль «мира» в решении спорных вопросов, касающихся крестьян
537
всей деревни или села. «Нам мир забывать нельзя, — говорит один из переселяющихся мужиков, Никифор. — Что мир приказал, мы исполняли».
Главное содержание следующих вариантов составляет столкновение крестьян с помещиком из-за спорной земли, чего раньше не было в произведениях Толстого из крестьянской жизни. Отношение крестьян к помещикам враждебно. «А ты его слушай, он у тебя и кобылу-то твою отберет», — говорят крестьяне про помещика (вариант № 11). Крестьяне проявляют солидарность в отстаивании своих прав на отобранную у них помещиком землю. На окрик исправника: «И ты бунтовать?» — старый крестьянин, Михаил Кондрашов, спокойно отвечает: «Что люди, то и я».
Типы бунтующих крестьян Толстой изображает с явным сочувствием. Михаил Кондрашов попал в это дело «по своей справедливости», — говорит от себя автор в другом варианте (№ 18). Один из бунтующих мужиков, Анисим Житков, является вместе с тем представителем любимого Толстым типа старого русского патриархального крестьянина. Толстой впервые рисует тип такой же крестьянки — Тихоновну или Николавну.
К особенностям начатого романа следует отнести также и то, что Толстой приписал отцу будущего декабриста, Ивану Петровичу Апыхтину, свое отношение к религии. «Он, — говорит автор, — как и многие люди того времени, да и всех времен, чувствовал себя в неясности относительно веры»311.
В период работы над эпилогом «Анны Карениной» Толстой не чувствовал — или старался уверить себя, что не чувствовал, — никаких сомнений в истинности православной веры. Теперь автор «Декабристов» считает уже, что религиозные сомнения не только были свойственны людям изображаемой им эпохи, но неизбежно возникают у мыслящих людей всех времен.
Когда Толстой писал эти строки, он уже отвергал евхаристию, этот центральный пункт учения православной церкви. И Иван Петрович, отражая неверие автора, стоя в церкви и готовясь к причастию, вспоминает анекдот о том, как «молодой турок отвечал, что бога нет, потому что он съел последний кусок»312.
Незаконченный роман из эпохи декабристов, начатый в 1878 году, является первым произведением Толстого, написанным в период перелома, происшедшего в его мировоззрении. И в своем содержании, и в отношении автора к изображаемым лицам и событиям роман носит явные следы этого перелома.
538
XXXVII
Около 15 января 1879 года Фет посетил Толстого. 16 января он писал Н. Н. Страхову, что провел «отличный день у хворающего Льва Николаевича», которого — как писал он в другом письме, 28 января — «застал заваленным всякого рода источниками того времени»313.
Чтение исторических материалов продолжалось и в феврале. 1 февраля Толстой писал брату Сергею Николаевичу: «Я всё читаю историческое и много прекрасного»314.
В половине января Толстой принялся за новый исторический роман, не имеющий ничего общего с начатым в предыдущем году романом о декабристах.
Просматривая составленную П. Д. Долгоруковым «Российскую родословную книгу», вышедшую в 1855 году, Толстой узнал, что у его бабки Пелагеи Николаевны Толстой, урожденной княжны Горчаковой, жены его деда Ильи Андреевича Толстого, родившейся в 1762 году, было три брата — Михаил, Василий и Александр. По семейным преданиям, один из них за какие-то темные дела был судим и приговорен к ссылке в Сибирь. Он-то и должен был стать центральным лицом нового задуманного Толстым романа.
Но как звали этого Горчакова и за что он был сослан — Толстой не знал, и он обращается ко всем, к кому может, с просьбой достать ему сведения об этом заинтересовавшем его лице.
Прежде всего он, как и следовало ожидать, обратился к своему главному в то время помощнику и советчику в литературных делах — Н. Н. Страхову. В письме к Страхову от 17 (?) января Толстой просит его найти судебное дело о Горчакове, который, по его словам, «судился, вероятно, в Сенате» в конце XVIII столетия, «не ранее 80-х годов, так как родился около 60-го». Он выражает готовность обратиться по этому делу к какому-нибудь влиятельному лицу и даже самому поехать в Петербург, если это окажется нужным, для розысков дела о Горчакове и ознакомления с ним.
В объяснение своего чрезвычайного интереса к делу Горчакова Толстой пишет Страхову, что дело это ему «до-зареза нужно, необходимо». И далее прибавляет: «Вы, вероятно, заметили за мной способность увлекаться чтением чего-нибудь и воображать себе, что какое-нибудь недостающее мне сведение для меня особенно важно, а потом про это забывать. Ради бога не думайте, что и теперь так. Это сведение для меня необычайно важно.
539
Это лицо — узел всего... И мне нужно узнать, что может быть известно. Если ничего, то я свободен»315.
18 января Толстой уехал по своим делам в Москву. На другой день, 19-го, он решил было ехать в Петербург разыскивать дело Горчакова, о чем телеграфировал жене в Ясную Поляну, но потом раздумал и вернулся домой.
По возвращении Толстой пишет все по тому же занимавшему его вопросу своему двоюродному дяде, брату Александры Андреевны Толстой, Илье Андреевичу Толстому. Он просит графа Илью Андреевича сообщить годы рождения и смерти всех трех братьев Горчаковых и, если возможно, найти дело о том из них, который был осужден к ссылке в Сибирь. Дело это, по предположениям Толстого, должно храниться в архиве Сената. «Мне это ужасно нужно», — прибавлял Толстой316.
В том же письме Толстой просил Илью Андреевича сообщить, «через кого и как» можно обратиться к государственному канцлеру А. М. Горчакову, старейшему в роде Горчаковых, чтобы получить от него какие-либо сведения и о том Горчакове, который судился, и о его братьях, и об их отце, князе Николае Ивановиче Горчакове (прадеде Толстого), и его братьях и матери. Очевидно, все эти лица должны были играть какую-то роль в новом, задуманном Толстым романе. Илья Андреевич Толстой был в то время тяжело болен и не ответил на письмо Толстого.
Тогда же Толстой написал письма с теми же вопросами о Горчаковых своему троюродному брату, князю Дмитрию Сергеевичу Горчакову, и его сестре, княжне Елене Сергеевне Горчаковой. Письма Толстого к этим двум лицам до нас не дошли, но сохранились их ответы Толстому. Д. С. Горчаков ответил, что он ничего не знает об этих лицах, и только Е. С. Горчакова в письме от 8 февраля сообщила Толстому, что брата его бабки, который был осужден, звали Василий Николаевич и что, по слухам, его судили за то, что он привез из-за границы фортепиано, набитое фальшивыми ассигнациями.
Толстого очень привлекала мысль написать роман, в котором главным действующим лицом был бы Василий Николаевич Горчаков. Сохранились четыре начала такого романа, не получившие продолжения317. Первое начало озаглавлено «1757 год». Это — предположенный Толстым год рождения князя Василия Горчакова (в действительности В. Н. Горчаков родился в 1771 году).
Здесь кратко рассказываются обстоятельства рождения сына у князя Николая Ивановича Горчакова и его жены Натальи
540
Петровны и описываются приготовления к крестинам. Намечалось подробное описание торжественного ужина в доме князя по случаю крестин новорожденного. На полях этой небольшой рукописи (всего два листа) Толстым был набросан следующий конспект описания ужина и последующих событий в доме князя: «Какой был князь. Ужин. Разговор о разбойнике. О войне. Старичок о Петре, юродивый (светло еще). Легли спать. Княгиня молится. Сказки старика, молитву. Всполох»318.
Под словами «сказки старика» Толстой разумел, очевидно, сказки, которые какой-то дворовый (может быть, упоминаемый в конспекте «старичок») на ночь рассказывал князю, подобно тому как слепой сказочник Лев Степанович, как это описано у Толстого в его «Воспоминаниях», рассказывал на ночь его бабушке Пелагее Николаевне сказки «1001 ночи». А под словом «всполох», как это видно из следующих вариантов, следует разуметь волнение в доме князя, вызванное тем, что в то же утро во владениях князя найден был младенец, подкинутый неизвестной женщиной.
Намеченный в конспекте план осуществлен не был; обозначен только переход к следующей главе в таких словах: «Князь Николай Иванович Горчаков, хотя и был князь и старого и знаменитого рода, был <не знатен>».
Следующий вариант носит название «Терентий Николаев». Здесь в первой главе рассказывается кратко о прадеде Толстого, слепом князе Николае Ивановиче Горчакове (портрет его висит в зале яснополянского дома). Говорится, что он очень страдал оттого, что, имея двух дочерей, не имел ни одного сына, как затем у него один за другим родились трое сыновей, двое из которых умерли еще в детстве от оспы, после чего остался только один старший, Василий, как отец старался дать ему приличное по тому времени воспитание, как Василий, возмужав, уехал в Петербург и огорчал отца тем, что стал «пить и играть». Но жизнь Василия Горчакова в Петербурге описана не была — отрывок продолжения не получил.
Терентий Николаев — это, по-видимому, имя того подкидыша, судьба которого представлялась Толстому как-то связанной с судьбой князя Василия Горчакова.
Отрывок написан простым народным языком; он изобилует такими выражениями, как, например: «Суворов тогда забирал силу», «за женским полом рано стал бегать», «награждая сына и зятьев» и т. п. Московская улица Сретенка называется «Устретенка».
Конечно, такой стиль начатого романа возник у Толстого не случайно.
541
Повести и рассказы, написанные языком, близким к народному разговорному языку, мы находим среди произведений Толстого 1861—1862 годов. Таковы: «Тихон и Маланья», «Идиллия», некоторые страницы «Поликушки» и начала неоконченных рассказов: «Все говорят — не делись», «Прежде всех вернулись в деревню плотники», «Как скотина из улицы разбрелась», «Это было в субботу». Все это были повести и рассказы из крестьянской жизни. Повести, рассказы и романы из жизни людей привилегированных классов Толстой в то время писал установившимся литературным языком.
В 1871—1872 годах, работая над детскими рассказами для «Азбуки», предназначавшейся главным образом для крестьянских детей, Толстой так полюбил русский народный язык, что одно время решил и «для взрослых» писать таким же языком, каким написан его рассказ «Кавказский пленник»319. Но намерение это выполнено не было. Роман «Анна Каренина», начала романа из времени Петра I и начала романа «Декабристы» были написаны тем же литературным языком, как «Казаки» и «Война и мир».
И только с 1879 года Толстой стал писать народным языком начала исторического романа и повестей из эпохи XVIII века. Это изменение языка произошло вследствие изменения точки зрения автора. Теперь уже на все события жизни прошлой и настоящей, на положение народа и на условия жизни привилегированных классов Толстой смотрит глазами русского трудового крестьянина. Этой перемене точки зрения автора соответствовало и изменение языка его произведений.
Данный отрывок датирован автором 15 января, но дата эта вызывает сомнения. В отрывке указаны точно имя жены князя Н. И. Горчакова и имена его сыновей, между тем как не только в письме к Страхову от 17 (?) января, но и в письме к И. А. Толстому, написанном в конце января 1879 года, видно, что в то время Толстой не знал их имен. Как сказано выше, имя Горчакова, бывшего под судом, Толстой узнал только из письма Е. С. Горчаковой от 8 февраля 1879 года. Но, быть может, подобно тому, как Толстой предположительно (и неверно) определял дату рождения Василия Горчакова, точно так же предположительно (и верно) он определил и его имя? Ответа на этот вопрос за неимением данных дать не можем.
Третий и четвертый варианты «Терентия Николаева» начинаются с описания имения князя Н. И. Горчакова в селе Вяземском, после чего автор сразу переходит к рассказу о подкинутом ребенке, найденном в бане на седьмой день после рождения сына у князя. Младенца этого берет жена земского. Так заканчивается первая глава начатого романа.
542
Во второй главе дается биография и характеристика князя Н. И. Горчакова. В одном из зачеркнутых мест этой главы сказано, что князь Н. И. Горчаков и его братья были воспитаны «в отвращении к двору и власти, перешедшей от безбожного <и распутного злодея> Петра к чухонской шлюхе и Меньшикову и потом к немке Анне Ивановне и ее любовнику».
Третья глава должна была содержать описание крестин и торжественного обеда в доме князя, но из этой главы было написано только несколько строк, и отрывок был оставлен.
И в этой редакции начатого романа заметно желание автора приблизить язык своего произведения к народному разговорному языку. Мы встречаем здесь выражения: «Село Вяземское сидело по обе стороны реки Зуши», «73 двора перешли внуке его», «барский дворишко», «амбары загибались на правую сторону», «аржаной ворох», «люди тутошние», «живота у него совсем не было», «руки сильные, складные» и другие.
Последний вариант озаглавлен «Труждающиеся и обремененные» и снабжен эпиграфом из Евангелия на церковнославянском языке: «Возьмите иго мое на себе и научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». Новое заглавие начатого романа взято из предшествующего стиха той же одиннадцатой главы Евангелия от Матвея («Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы»).
Автор предполагал разделить свое произведение на главы и каждой главе дать пространное название наподобие тех, какие находим в повести «Юность». Первая глава сначала была озаглавлена: «Рождение желанного сына и в то же время рождение нежеланного сына от девки Арины». Это заглавие тут же зачеркивается и заменяется следующим: «Родится молодой князь, и в то же время родится ему слуга».
В первой главе рассказывается о рождении сына у князя Николая Ивановича Горчакова, названного Василием, и о подкинутом младенце, матерью которого была «девка», принадлежавшая соседней помещице. Младенца взял земский в свою семью, а его мать была выдана замуж за вдовца.
Вторая глава получила название: «Как Васька обидел молодого князя, и как Ваську сослали к матери». Из этой главы узнаем, что когда пришла пора учить молодого князя, с ним вместе, чтобы ему не было скучно, стали обучать и приемыша Ваську и еще двух сироток, живших у князя. Васенька проявлял необыкновенные способности, так что его учитель, поп Евграф, «дивился на него». Васька тоже учился хорошо, и молодой князь любил его больше всех своих товарищей.
Продолжение главы написано не было. Несомненно, что по замыслу автора жизнь князя Василия Горчакова и жизнь Васьки-приемыша в дальнейшем должны были протекать в неразрывной
543
связи одна с другой. Несомненно также и то, что связь эта была связью по контрасту, а не по сходству. Василий-приемыш был бы изображен «труждающимся», а князь Василий Горчаков — «обремененным» «бременем пресыщения»320 и поклонения ложным кумирам, которым он служил всю жизнь, т. е. погоней за богатством и почестями, что и привело его к преступлениям и тяжелым страданиям.
Но отсутствие всяких достоверных данных о суде и последующей судьбе князя Василия Горчакова затормозило работу Толстого. Он продолжал надеяться на то, что Страхову с помощью его знакомых ученых удастся найти судебное дело Горчакова. 13 февраля он писал Страхову: «Благодарю очень за ваши хлопоты и ожидаю многого»; 1 марта сообщал ему же, что Горчаков был сослан, «кажется, за фальшивые ассигнации»; 17 апреля уведомлял, что Горчаков «был генерал-майор Василий Николаевич и попал под суд в нынешний век, 1801 или 2-м»321. Но Страхову так и не удалось разыскать судебное дело о Горчакове, чем он был очень огорчен. За отсутствием всяких материалов о суде и жизни в Сибири Василия Горчакова написанное начало романа было оставлено. В январе или в первой половине февраля 1879 года Толстой начинает новое произведение.
XXXVIII
Не имея возможности, за отсутствием необходимых материалов, продолжать роман из времени второй половины XVIII века, с главным героем Василием Горчаковым, Толстой возвращается к оставленной им в 1873 году эпохе начала XVIII века.
Первый вариант нового произведения первоначально начинался словами: «В царствование Петра I-го в Крапивенском уезде Московской губернии, в деревне Ясная Поляна прихода <Кочаков> жило крестьянское семейство <по прозвищу Болхины>». Но Толстой тут же зачеркивает написанное и начинает произведение сравнением Ясной Поляны 1879 года с Ясной Поляной 1709 года. К этому году (1709), который Толстой называет
544
«самым бурным временем царствования Петра I-го», относится действие задуманного романа или повести.
Толстой рассказывает о всех изменениях, происшедших за 170 лет в природе и быте яснополянских крестьян: речки переменили свое течение, изменился состав лесов, окружающих Ясную Поляну, были проведены новые дороги на Москву и на Киев; во многом изменился уклад жизни крестьян, появились заработки, которых прежде не было, произошла перемена в одежде мужиков и баб; крестьянские избы в 1709 году были меньше теперешних и все топились по-черному; семьи были большие — по двадцать и больше душ в одном дворе, — помещики не позволяли делиться; урожаи были гораздо больше, чем теперь. За 170 лет «только бугры, лощины остались на старых местах, а то всё переменилось».
Ясная Поляна тогда еще не принадлежала Волконским, ею владели пять помещиков, из которых только один жил в деревне. Автор сообщает краткие сведения об имущественном положении всех владельцев Ясной Поляны322.
На этом набросок был оборван.
Надо думать, что при всем том интересе, который представляло сравнение Ясной Поляны 1879 года с Ясной Поляной 1709 года, Толстой все же нашел, что было бы неуместно начать художественное произведение этим сравнением, и он решил начать новое произведение иначе — с картины весны 1708 года в той же Ясной Поляне.
Как всегда, описывая наступление весны в деревне, Толстой не ограничивается картиной пробуждения новой жизни в природе, но изображает также и радостное весеннее настроение людей: «Зазеленелась осенняя травка, стала пробивать новая, скотину уже выпустили на выгоны, и мужики поехали пахать и свою и господскую и радовались на мягкую и рассыпчатую разделку земли под овсяный посев... Было тепло, светло, весело. Птица еще не разобралась по местам и все еще летела над полями, лесами и болотами. На выгоне кричали ягнята, в поле ржали жеребята, отыскивая маток; чижи, жаворонки, щеглята, пеночки со свистом и песнями перелетали с места на место. Бабочки желтые и красные порхали над зеленеющими травками, пчела шла на ракиту и носила уже поноску. Молодой народ работал и веселился, старые люди — и те выползли на солнышко и тоже, поминая старину хлопотали по силе мочи. Если и было у людей горе, болезни, немощь и смерть, их не видно было, и в полях и в деревне все были радостны и веселы».
545
Но это весеннее радостное настроение пашущих мужиков было нарушено приездом на барский двор воеводы с наборщиком, которые ехали забирать рекрутов старых наборов. Узнав об этом, все мужики, пахавшие землю, побросали свои сохи и занялись разговором о том, что им теперь будет. «Начальство, — пишет Толстой, — и всегда было страшно мужикам, но теперь было особенно страшно». По Ясной Поляне в прежний набор не было выставлено четырех рекрутов, а один из двух забранных бежал и находился теперь дома. «Рассчитывали мужики, что беглых возьмут да за укрывательство передерут всех, да еще остальных четырех не из кого как из них возьмут».
Продолжения начатого отрывка не последовало.
По-видимому, роман был задуман очень широко. На отдельном листе Толстым был написан конспект к данному варианту следующего содержания: «В Ясной Поляне. Бежали от рекрутчины. Волконский в баню Бабаедихи. Василий отдается. Дмитрий раскольник. — Башкирцы и Булавин»323.
Как известно, восстание донского казачества, поднятое атаманом Кондратом Булавиным и принявшее очень большие размеры, происходило в 1707—1708 годах — в то самое время, к которому относится данный отрывок. Толстой, следовательно, имел в виду как-то связать действие своего романа не только с русским народным движением — старообрядчеством, но и с восстанием казачества. Все, что касается казачества, всегда очень интересовало Толстого.
Второй вариант324 носит следы чтения автором книги П. Мрочек-Дроздовского «Областные управления России до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года», изданной в Москве в 1876 году. По этой книге Толстой знакомился с системой воинской повинности, установленной Петром. Книга сохранилась в яснополянской библиотеке; в ней много помет Толстого на страницах, сообщающих сведения по интересовавшему его вопросу. Порядок набора, введенный Петром, последовательность и хронологические даты наборов, жестокие меры, введенные Петром для предупреждения бегства рекрутов и поимки беглых (заковывание рекрутов в ручные и ножные кандалы, накалывание на левую руку креста и натирание его порохом, смертная казнь для зачинщиков бегства, ссылка целыми семьями поручителей в случае бегства рекрутов на работы во вновь построенные города), — все эти вопросы, освещенные в книге Мрочек-Дроздовского, интересовали Толстого.
Во второй вариант данного наброска Толстой включил заимствованное из той же книги сведение о том, что при Петре
546
с 1705 по 1709 год (у Толстого описка: по 1708 год) было произведено пять наборов солдат.
Можно думать, что к данному периоду работы Толстого над романом из времени Петра I относится также отрывок, озаглавленный «Стрельцы».
Этот отрывок сохранился в двух вариантах325.
Первый вариант начинается с рассказа о рождении царя Алексея Михайловича и о его семейной жизни с первой и со второй женами. Рассказывается, как вторая жена царя, по слухам, отравила двух его сыновей от первой жены и пыталась отравить двух других; подозревали ее и в отравлении самого царя. Глава заканчивалась рассказом о смерти царя Федора Алексеевича и воцарении его брата Иоанна, после чего следовало краткое описание организации стрелецких полков, в Москве.
Во второй главе, едва начатой, рассказывается о том, как на Красную горку в Стрелецкой слободе за Москвой-рекой венчались две свадьбы. «Народ был весь на улице, которые родные, соседи и ближние смотрели свадьбу в церкви... толклись у церкви, поджидая свадьбу; которые постарше сидели на приступочках и у ворот, сошедшись по-двое и по-трое; которые молодые ребята играли за церковью на кладбище. В кабаке на площади стон стоял от пьяного народа».
Продолжения этот вариант не получил.
Во втором варианте более кратко рассказывается о семейной жизни Алексея Михайловича, но более ярко изображаются придворные интриги после смерти царя Федора. «Когда и простой человек помирает, — говорит от себя автор, — то много бывает раздора и греха промежду родных о том, кому достанется наследство после покойника; а после царей наследство остается большое — все царство, и греха бывает еще больше».
Нет никакого сомнения, что при продолжении этого начала Толстой не ограничился бы описанием одних стрелецких свадеб, а дал бы в той или другой форме изображение также и стрелецкого бунта; весьма возможно, что те самые стрельцы, которые венчались в церкви Казанской божьей матери у Калужских ворот, оказались бы в числе казненных.
Язык обоих вариантов — тот же простой, близкий народному разговорному языку, каким написаны все начала исторических романов Толстого 1879 года. Мы встречаем здесь такие выражения, как «остер в науке», «свой род выправляли и правду закрывали», «была взята она из грязи», «как хватил яду», «вдруг свернулся и помер», «прямое тогда дело было», «царствовал не хуже противу отца и деда», «женский пол щелкал орех» и т. д.
547
XXXIX
13 февраля Толстой пишет Страхову: «Работаю очень много и страстно, хотя ничего не пишу»326.
Слова «работаю очень много и страстно» нужно понимать, по-видимому, в смысле обдумывания нового произведения, которое было начато, возможно, на другой день после этой записи — 15 февраля. Толстой начинает роман, по своей основной мысли представляющий как бы новую редакцию романа «Труждающиеся и обремененные». Он решил предпослать новому роману предисловие, излагающее общее миросозерцание автора и раскрывающее те задачи, которые он ставил перед собою в этом романе.
Сначала предисловие было написано в форме краткого конспекта. Вот этот конспект:
«Страх смерти отбивает охоту жизни. Одно спасение — или забыть смерть, или найти в жизни смысл, не уничтожаемый смертью.
Забыть смерть можно, отдаваясь страстям, возбуждая их. Смысл жизни, не уничтожаемый смертью, — вера и подчинение ее учению своей жизни. В борьбе между этими двумя направлениями воли — весь смысл и интерес как всякой частной жизни, так и жизни народов».
После этого Толстой ставит черту и далее говорит: «Хочу описать эту борьбу за 100 [первоначально было: 150] лет жизни русского народа. Для этого буду описывать жизнь многих людей разных положений. В числе этих лиц будут лица исторические, правительственные, цари, управители. Цари и правители представятся иначе, чем они представляются историками.
Различие произошло от многих причин. Историки подчиняются обману, подготавливаемому правителями, власть всегда восхваляема, но главная причина это то, что историки смысл жизни, не уничтожаемый смертью, видят в государственном усилении, обособлении. Но это неверно для христианского мира. Это — остаток римского варварства. Обособление государственное не даст смыслу жизни. Напротив»327.
За этим кратким конспектом в рукописи Толстого следует первая глава первой части нового романа.
Вскоре, быть может, на другой же день, Толстой развил мысли, высказанные в кратком конспекте, в небольшую статью, датированную им 16 февраля 1879 года328.
Исходная точка автора в этом рассуждении — неизбежность смерти, делающая жизнь бессмыслицей. «Мой удел — страдать, мучиться и умереть».
548
Далее Толстой повторяет сказанное им в конспекте, что для того, чтобы продолжать жить, зная неизбежность смерти, есть только два средства: одно в том, чтобы «не переставая так сильно желать и стремиться к достижению радостей этого мира, чтобы все время заглушать мысль о смерти»; другое — в том, чтобы «найти в этой временной жизни, короткой или долгой, такой смысл, который не уничтожался бы смертью». «Путь, направляющий стремления человека так, чтобы жизнь получала смысл, не уничтожаемый смертью..., есть вера». «Всякая вера есть объяснение смысла жизни такое, при котором смерть не нарушает его», и «указание на то, какое должно быть направление этой жизни», «указание, что добро и что зло».
Понятие «вера» Толстой определяет очень широко. Он полагает, что если человек преодолевает свою страсть «в пользу общего блага», то хотя бы этот человек считал, что «отверг всякую веру», в действительности у него есть верование, и стремление к общему благу придает его жизни смысл, не уничтожаемый смертью. По мнению Толстого, всякая жизнь как отдельного человека, так и целых народов состоит в борьбе «между слепым стремлением к удовлетворению страстей, вложенных в человека», и «требованием закона добра, попирающего смерть и дающего смысл человеческой жизни». «Вечный вопрос всякого человека — насколько он служил богу или мамоне».
«И об этой борьбе между похотью и совестью отдельных лиц и всего русского народа я хочу написать то, что я знаю», — говорит Толстой, прибавляя, что «судить людей» он не будет.
В конце предисловия Толстой счел нужным указать на то, что в своем произведении он будет описывать как частных, так и государственных лиц, но предварительно «должен устранить» «всегда ошибочные суждения, составившиеся о государственных лицах», которых ему придется описывать. Он хочет указать причины, вызывающие «преждевременные, необдуманные суждения о лицах, облеченных властью». Таких причин он находит несколько.
Первая причина состоит в «присущем человеку, в особенности первобытному, свойстве приписывать значение и даже достоинство силе и власти». Хотя всем известны случаи приобретения власти «по наследству, по любовным интригам, по случайности», все же не только первобытный человек, но и человек образованный «легко впадает в это заблуждение, как только способ приобретения власти хотя несколько скрыт от глаз наблюдателя».
В действительности «обладание властью есть одно явление, а достоинство — другое, и одно вовсе не вытекает из другого и не имеет даже ничего, связующего их». «Не все то золото, что блестит».
549
Вторая причина состоит в том, что историю пишут те лица, которые находятся около людей, имеющих власть, и разделяют ее выгоды. Эти люди, описывая властителей, отбрасывают «все черное» и выставляют «одно белое», во-первых, для того, чтобы «оправдать перед самими собой те выгоды, которыми они пользуются», во-вторых, для того, чтобы «оправдать свое подчинение и унижение».
Третья причина та, что люди, «облеченные властью, в особенности если они тщеславны, как Людовик XIV, Наполеон, Петр, Екатерина..., сами пишут свою историю или подготовливают для нее матерьялы, старательно устраняя все невыгодное и разглашая очень часто ложное в свою пользу, чему, очевидно, содействуют, пересаливая в своем усердии, их льстецы».
Четвертая причина состоит в том, что историки, занимающиеся «исследованием жизни народов и государств», прилагают к деятельности правителей не то мерило, которое «прилагается всеми людьми ко всем людям», то есть мерило борьбы между страстями и совестью, но совсем другое: мерило большего или меньшего содействия известным «государственным или народным целям», как их представляют себе историки. Здесь под словами «народные цели» Толстой, несомненно, подразумевал цели национальные, понимаемые как шовинизм и агрессивность — восхваление и возвеличение своего народа над всеми остальными народами, стремление к захвату чужих земель и т. д. Но «мерило историческое не может совпадать с мерилом человеческим». «То, что хорошо для процветания германского народа, не может быть хорошо для французов и т. п.» В этих словах Толстым в первый раз обосновано теоретически то обличение захватнических войн, которое художественно дано в «Войне и мире» и которое впоследствии заняло такое большое место в его работах.
Вообще, по мнению Толстого, «деятельность государственная по существу своему большей частью противоположна требованиям совести». В этих словах Толстой впервые с такой решительностью высказал свой взгляд на противоречие политической деятельности нравственному закону — взгляд, который впоследствии станет его твердым убеждением.
«Восхваление человека низкого как человека, — пишет Толстой далее, — ...восставление такого лица на место идеала и образчика добра, не говоря о вредном влиянии на общество, есть самое непростительное святотатство».
Толстой намерен «с помощью божьею» описывать государственных лиц так же, как и всех других людей, «следя в них за их борьбой между похотью и совестью».
Итак, Толстой задумывает совершенно новое и по содержанию и по форме художественное произведение. Это не будет исторический роман, так как задача автора не в том, чтобы
550
художественно изобразить исторические события и исторических деятелей, а в том, чтобы показать внутреннюю борьбу между эгоизмом и требованиями совести, происходящую в душах всех людей, в том числе и исторических лиц.
По форме это был бы, вероятно, не роман, а скорее очерки об отдельных лицах, в которых наиболее типично проявлялась бы интересующая автора внутренняя борьба. При этом, разумеется, очерки были бы написаны так, чтобы возбудить в читателе желание начать и усилить борьбу в самом себе требований совести с эгоистическими побуждениями.
На последней странице данной рукописи находим заметки, не связанные с рассуждением, но представляющие собою конспективные записи к задуманному художественному произведению. Вот эти записи:
«Он помнил себя там-то, семья. События — голод. Брат солдат, бабушка умерла. Посты — праздник. Его рост, работы, лошади, соха, топор, косьба, женитьба.
Казнь попа. Самогоны. Старик, солдат петровский (не опасность, а нужда). Вошь заела, грамота, монастырь. Потемкин шут, сын попа, падение (Аксинья)329. Староверы. [Не разобрано одно слово], голодные года».
XL
В первом небольшом (7 страниц) варианте нового произведения, озаглавленном «Сто лет»330, после заглавия значится: «1 часть. I глава. Рождение Ивана». Действие относится к 1723 году. Главное действующее лицо — крестьянин Анисим, проживающий в Чернском уезде Тульской губернии. Имя Анисим тут же переменяется на Дмитрий. Дмитрий приезжает из ночного в ожидании родов жены. Он опасается, что жена, как и раньше, принесет ему девочку. Самые роды не описываются, и только из названия главы мы узнаем, что опасения Дмитрия были напрасны и у него родился сын, названный Иваном.
Таким образом, большое художественное произведение в несколько частей, действие которого должно было бы простираться на целое столетие, было начато Толстым не с истории жизни какого-нибудь представителя привилегированных классов, а с истории жизни крепостного крестьянина, который, очевидно, должен был играть в развитии сюжета одну из главных ролей.
Начало художественного произведения, в первом варианте названного «Сто лет», с рождения сына Ивана у крепостного
551
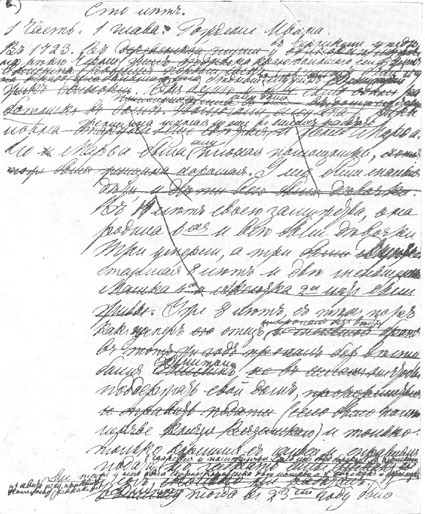
Начало романа «Сто лет» (1879)
552
крестьянина Анисима (или Дмитрия Петрова) сохранилось еще в трех неозаглавленных вариантах331.
В первом из этих вариантов описаны только роды жены Анисима, Марфы. Марфа одна в избе с маленькими девочками — дочерьми, муж и свекровь уехали возить рожь с поля. Роды Марфы — это не то, что роды Кити, под наблюдением доктора и акушерки, с применением всех современных средств медицины. Чувствуя приближение родов, Марфа вышла из избы и пошла в поле, где нашла «лежку», то есть место, где раньше паслась скотина, разгребла руками сырую от ночного дождя землю, устроила лунку и улеглась в нее, с трудом удерживая стоны, чтобы не слыхали находившиеся по соседству бабы. Роды продолжались недолго. Когда роды кончились, Марфа поднялась, сделала с новорожденным все, что нужно, и понесла мальчика в избу. Проходя через сени, захватила свежей соломки, постелила ее на лавку, положила на нее мальчика, достала из чугуна воды, вымыла мальчика, достала из сундучка чистую рубаху, надела ее на сына, покормила его и заснула. Проснувшись, приготовила ужин и стала поджидать мужа и свекровь.
Следующий вариант имеет то же обозначение, что и первый: «1 часть. I глава». Действие происходит в том же 1723 году. в деревенской глуши, но не в Чернском, а в Мценском уезде, в 200 верстах от Москвы. Здесь живет с женой и матерью крестьянин Анисим (или Дмитрий, как он далее называется) Марков.
Рассказывается, как в самый день родов жены Дмитрий до рассвета собрался ехать в поле возить рожь. Его жена, Марфа, сходив к соседке за солью, «сбегала в избу одеться», «надев на ходу кафтан», вбежала в сени и, выбежав обратно, бросила в телегу веревку. Муж тронул лошадь, и Марфа, «хоть и кругла уже была, но живо ухватившись за грядку и подпрыгивая одной ногой по дороге, пока приладилась другой стать на чеку, вскочила, взвалилась» в заднюю телегу. Но оказалось, что они забыли вилы, и Марфа сбегала за вилами. Когда приехали в поле, Марфа начала кидать Дмитрию на телегу тяжелые «знакомые ей, ею нажатые, ею навязанные снопы». Она «подтаскивала ловко сноп за снопом, подкидывала ему так скоро, что он не успевал с ними разбираться». Перешли к другой копне, и Марфа так же перекидала ее почти всю, «но вдруг остановилась и оперлась на вилы, вложив локоть в развилину». «Кидай что ль? — крикнул муж. — Аль умираешь?» — «Держи! — крикнула баба, вдруг тряхнув головой, чтобы поправить кичку, и докидала последние снопы».
553
Они увязали последний воз и приехали домой. Марфа была «красна и потна, как будто в самую жару, и шла неровно». Когда приехали на гумно, «Марфе отлегло», она встала на воз и начала скидывать снопы и, скинув последний сноп, упала в телегу. Больше она уже не могла работать и пошла домой. Муж и свекровь уехали в поле, девочка побежала за повивальной бабкой, и Марфа осталась совсем одна. Бабки не оказалось дома, и роды Марфы протекали без всякой помощи. Только позднее явилась свекровь, убрала и вымыла мальчика и положила его на лавку на свежепостеленную соломку.
Каким беспредельным сочувствием к трудной жизни крестьянской женщины и восхищением перед ее моральной и физической выносливостью проникнуто это описание родов! Раньше Толстой не писал так о русской крестьянской женщине.
Вариант был оборван на том, как Дмитрий едет за попом, чтобы окрестить младенца.
Этот вариант, как и предыдущие, написан простым языком, с употреблением народных слоев и выражений, как, например: «спожинки», «стало вёдро», «бабы уже были вставши», «запряжомши», «приказав матушке свекрови девчонок», «хлеб отбился от рук», «росно» и др.
Несмотря на то, что действие начатого художественного произведения помечено 1723 годом, мы не находим в нем почти никаких черт Петровского времени, за исключением отдельных фактов, еще не связанных с общим течением произведения, как, например: «старшего [брата Анисима] в первый набор отдали в солдаты», а «меньшой брат бежал»; или: «Савоська рассказывал..., как вчерась приезжал на барский двор воеводский писарь [беглых] описывать».
Наконец, существует еще один вариант, в котором главным действующим лицом является крестьянин Анисим Иванов Бодров. Этот вариант начат в ином плане, чем предыдущие, — рассказом о детстве Анисима Ивановича по его воспоминаниям. Далее Толстой, очевидно, имел в виду рассказать всю историю жизни Анисима до описываемого момента.
Только после того, как в начатом художественном произведении была изображена жизнь крепостного крестьянина, Толстой перешел к героям из привилегированного класса.
XLI
В новом варианте332 рассказывается, как в то самое время, когда в Вяземской слободе родился Иван Анисимов, Вяземское перешло к новым владельцам. Часть Вяземского перешла к
554
княгине Настасье Федоровне Горчаковой, урожденной Баскаковой, которую прозвали Баскачихой.
С этой Баскачихой «случилась беда». Мценский воевода донес, что ее сын Иван «отлынивает» от военной службы. Ивана Горчакова арестовали. Но Баскачиха отомстила Вяземскому тем, что запутала его в дело обер-фискала Нестерова; воеводу также арестовали и отправили в Преображенский приказ. А Баскачиха на четырех возках, в которые были впряжены четырнадцать лошадей, уехала в Петербург хлопотать у самого царя об освобождении сына. В Петербурге с ней и произошло несчастье. На новом проспекте, куда, сидя в переднем возке, «в параде» выехала княгиня, на нее налетел верховой солдат в синем кафтане и приказал сворачивать, потому что «не «велено».
Какая именно «беда» случилась с княгиней Горчаковой, неизвестно, так как продолжение нового варианта не сохранилось и рукопись оборвана на полуслове. Но уже начатый текст говорит о том, что Толстым была задумана широкая историческая картина, в которой должны были занять свое место и арестованный обер-фискал Нестеров, и соучастник в его темных делах мценский воевода Вяземский, и важная княгиня Горчакова с сыном, и, очевидно, еще ряд лиц, среди которых Горчакова будет добиваться свидания с царем, и, вероятно, сам царь Петр. Здесь впервые в написанных началах романа из времени Петра должно было появиться описание новой столицы, Петербурга.
Отрывок написан в форме рассказа пожилого крестьянина каким-то неизвестным слушателям о событиях, хорошо ему известных.
Ни в одном из набросков нового романа, относящихся к 1879 году, не выступает с такой силой, как в данном отрывке, стремление автора все события в жизни изображаемых лиц рассматривать с точки зрения трудового крестьянина. Это стремление проявляется в пренебрежительном на всем протяжении отрывка наименовании княгини Горчаковой «Баскачихой», в таком же пренебрежительном отношении к ее «любезному поповичу», подьячему Скрынину, в народном отношении к правительственному суду, выраженном в словах автора: «Как только Вяземский попал [под суд], то ему целым нельзя было оттуда выбраться, как в шестерню подолом попал» (вспомним Платона Каратаева — «Где суд, там и неправда»).
Весь отрывок написан простым народным языком и был бы вполне понятен всякому крестьянину. Даже иностранные фамилии передаются так, как их переделывал народ: «перешел к немцу Брантову», «для своего служителя Монсова».
По-видимому, Толстой не придавал большого значения этим наброскам нового произведения и считал их как бы ненаписанными. «Я ничего не написал. Все пухну замыслами», — сообщал
555
он Страхову 1 марта333. То же Лев Николаевич писал А. А. Толстой в первых числах марта: «Я ничего не пишу, хотя и много тружусь»334.
Труд, которым теперь был занят Лев Николаевич и о котором он писал А. А. Толстой, состоял в изучении исторических материалов для задуманного художественного произведения и в обдумывании его сюжета, композиции, характеров. 5 марта С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка читает, читает, читает... пишет очень мало, но иногда говорит: „Теперь уясняется“; или: „Ах, если бог даст, то то, что я напишу, будет очень важно! “ Но эпоха, которую он взял для своего произведения, простирается на сто лет! Этому, стало быть, конца не будет».
XLII
Вероятно, к марту 1879 года относятся новые варианты произведения «Сто лет», связанные с делом обер-фискала Сената Нестерова, которым Толстой заинтересовался именно в этом месяце. Обер-фискал Сената А. Я. Нестеров, один из самых близких Петру I лиц, был богатейшим помещиком, имения которого находились в 16 уездах разных губерний. В 1722 году он был арестован за взяточничество и в 1724 году казнен.
Упоминание о Нестерове находим прежде всего в том варианте, который, по мысли автора, явился бы второй главой начатого романа, первой главой которого было описание родов Марфы.
Вторая неоконченная повесть, входившая в общую серию, получившую название «Сто лет», в которой упоминалось имя обер-фискала Нестерова, была озаглавлена «Корней Захаркин и брат его Савелий». Она сохранилась в двух вариантах335.
Действие обоих вариантов происходит в 1723 году в деревне Сидоровой, Мценского уезда. Главное действующее лицо — крестьянин Корней Захаркин, брат которого, Савелий, отдан в солдаты. Образ Корнея в основных чертах повторяет образ Анисима (или Дмитрия) предыдущих набросков ходожественного произведения «Сто лет»: то же семейное положение — работников только двое, он да жена; та же бедность, несмотря на непрестанный упорный труд; то же имя жены — Марфа; те же, к огорчению отца, появляющиеся одна за другой дочери (во втором варианте уже не две, как у Анисима и Дмитрия, а семеро, из которых четверо умерло) и ни одного сына. Толстой,
556
очевидно, решил для нового варианта воспользоваться нарисованным им в оставленном варианте образом главного героя.
По первому варианту деревней, в которой жил Корней, владеют пятеро помещиков. Рассказывается, как вечером во время работы — возки овса — у жены Корнея начались роды и Корней свез ее домой, а сам, поужинав, отправился в ночное. Время стояло тревожное. Под самый Ильин день (20 июля) разбойники ограбили троицкого помещика и увезли семь подвод награбленного добра; бабы, ходившие за малиной, наткнулись в лесу на «недобрых людей»; лесник встретил в лесу «троих с ружьем» и насилу ушел от них.
Отыскав мужиков, уехавших в ночное, Корней в темноте вдруг услыхал чей-то знакомый голос, окликавший его. Корней испугался и погнал лошадь к мужикам, караулившим ночное. Мужики спросили его, не видел ли он «недобрых людей». Корней ответил, что кто-то окликнул его. Через некоторое время один из караульщиков, услышав под горой крик товарища, закричал ему «держи» и пошел под гору.
На этом отрывок был оборван.
Судя по второму варианту, окликнул Корнея его брат Савелий, отданный в солдаты и бежавший со службы. Савелий и был, очевидно, одним из «недобрых людей», встреченных женщинами в лесу.
По второму варианту деревней Сидоровой владеет богатый помещик Нестеров, который жил «в новом городе Петербурхе при царе в большой чести». Указан размер оброка, который сидоровские крестьяне платили Нестерову натурой и деньгами.
Как и в первом варианте, ночью, когда Корней вместе с женой возил овес с поля, у жены начались роды. Корней отвез ее домой и послал за бабкой, а сам уехал в ночное. В ночном Корней спутал своих «замученных», как подчеркивает автор, лошадей и пустил их пастись, а сам разговорился с другими мужиками.
Сосед Корнея, прозванный Щербатым, передавал ходившие в народе толки о введенных Петром наборах солдат и о солдатских походах. Он рассказывал, что в Персии336 много солдат погорело. «Пришли на такое место, где из земли огонь полыхает, все и погорели». Щербатый переводит разговор на царя и говорит, что по слухам он «не заправский царь, а подмененный», и произведена эта подмена была «в стекольном городу» (так в народе называли Стокгольм). На это другой мужик, Евстигней, также сосед Корнея, замечает, что нечего «пустое болтать, чего не знаешь» и что он слышал от капрала, который стоял у него на квартире, что их барин, Нестеров, «нынче в беде» и что их
557
могут у него отобрать, на что Щербатый отвечает: «А нам что же: отберут — за другим запишут. Все одно — подати платить».
Щербатый отходит, а Корней с Евстигнеем начинают разговор о хозяйстве и предстоящих работах. Корней жалуется на свою трудную жизнь, а Евстигней в назидание ему рассказывает библейскую историю Иова многострадального, которую он слышал от прохожего, «божьего человека», ночевавшего у него в прошлом году. Потом рассказывает про себя, как много ему пришлось перенести на своем веку, как староста Андрей Ильич жестоко выпорол его — так, что домой «на кафтане снесли», а потом староста разорил его дом и послал в работу и его и жену. (Староста Андрей Ильич — «грузный, брюхо — на тройке не увезешь» — это, конечно, оставивший по себе у Толстых недобрую память приказчик во время опеки над малолетними Толстыми; он выведен так в «Романе русского помещика»).
Порке был подвергнут Евстигней «еще при том царю, при Лексее Михалыче», когда «забунтовали на низу, какой-то Степан Тимофеич проявился», и был слух, что «за старую веру поднимается народ». В это-то время у Евстигнея заночевали двое, «незнамо какие люди», которых уже после схватили, и Андрей Ильич стал его допрашивать, что ему говорили эти прохожие люди. «А чего говорили? — рассказывал Евстигней. — Поужинали, покалякали об Степане Тимофеиче, что он город взял какой-то, больше и речи не было».
Разговор переходит на брата Корнея, Савелия, который охотой пошел в солдаты.
Мужики легли спать, но только что Корней стал засыпать, как услыхал, что собака Евстигнея «не путем брешет, бросается к дороге».
Продолжение начатого варианта не было написано. Очевидно, по замыслу Толстого, проезжие, на которых так взъелась собака, были царские слуги, посланные ловить беглых солдат и делать дополнительный набор. Корней Захаркин, очевидно, должен был пострадать за своего брата, Савелия. Этот Савелий должен был где-то встретиться с братом.
Драматическая судьба обер-фискала Нестерова также должна была быть изображена в начатом художественном произведении.
Так же как и другие наброски 1879 года, начало повести «Корней Захаркин и его брат Савелий» написано языком, близким к народному разговорному языку. Здесь встречаем выражения: «солдатка сбежала», «одинокому мужику было трудно тянуть», «нечего приждать было», «мужицкая работа самая тяжелая бывает от Ильина дни и до Успенья», «еще круче свалилось все в одно время», «жена не проста» (т. е. беременна), «ухватистый», «стала приставать [т. е. уставать] лошадь», «воздохнул», «четверых бог прибрал» и др.
558
XLII
8 января 1891 года Толстой записал в дневнике: «Христианская истина открылась мне сознанием братства и моего удаления от него. Какая была радость и восторг и потребность осуществления!»337.
Сознание братства и своей отдаленности от него появилось у Толстого прежде всего по отношению к тем яснополянским крестьянам, которые жили по соседству с его усадьбой. Еще 1 мая 1877 года С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской, что Лев Николаевич «грустит, что мужикам плохо».
Теперь Толстой старался оказывать материальную помощь местным крестьянам.
В записной книжке Толстого 1879 года читаем такие записи: «Александру — лошадь. Городенской — лошадь. Кормилице — соломы. Дров — Сергевне. Евдокиму — слег»338.
Об одном случае такой помощи Толстого яснополянским крестьянам, относящемся, по-видимому, к 1878 году, рассказывал Д. П. Маковицкому крестьянин Федор Еремичев: «Я спросил его, — пишет Д. П. Маковицкий, — как он познакомился с Львом Николаевичем. Он рассказал, что 27 лет тому назад его отцу поездом оторвало ногу, когда он пьяный шел по рельсам. Лев Николаевич отправил его в Тулу, платил за него в больницу, нанимал для него рабочих в рабочую пору, дал его семье корову, похоронил.
«Мне тогда полтора года было, — сказал Федор, — заботился о нас, как отец родной. И с графиней к нам ходили»339.
Сохранилась записная книжка Толстого с 9 марта по 30 апреля 1879 года, содержащая записи встреч и разговоров Толстого с разными людьми340. По этой записной книжке мы можем составить себе представление о том, в каком обществе преимущественно проводил свое свободное время Толстой в этот период его жизни. Общество это — местные крестьяне, тульские ремесленники, странники и прохожие по Киевскому шоссе, соединяющему Москву с Киевом.
Толстой заходит к самому бедному из яснополянских крестьян, Константину Зябреву, прозванному Белым, узнает, что у него в доме только один кафтан, и тот в дырах; две девочки (другие дети умерли); нужда такая, что мать тяготится и этими девочками. «Хоть бы и эти померли — всех одеть, обуть надо», — говорит она. Слушая Константина Белого, Толстой приходит к выводу, что только «бедные помогают друг другу, но не богатые».
559
Толстой заходит к отцу своей молочной сестры, Петру Осипову, и слушает его рассказы о неурядице в его семье.
Проходя по деревне, прислушивается к разговорам, происходящим в избах и доносящимся до него через открытые окна.
Два раза присутствует на волостном суде, где внимательно слушает все дела и заносит в записную книжку содержание разбираемых дел и характеристики обвиняемых и судей.
Побывал Толстой в тульской тюрьме, где зорко всматривался в лица арестантов, стараясь понять настроение и особый душевный склад каждого из них. Осенью Толстой смотрел в Ясенках рекрутский набор, наблюдая типы призываемых рекрутов, и в тех же Ясенках долго ходил по ярмарке, чтобы ознакомиться с крестьянским обиходом, и записал в книжечку названия всех продаваемых на ярмарке товаров.
В Туле Толстой заходит к рабочему оружейного завода и расспрашивает его о технике работы на заводе.
На шоссе, расположенном вблизи Ясной Поляны и проходившем на Москву и на Киев, Толстой встречается с прохожими и странниками, отправлявшимися «к святым местам». Здесь были мужчины и женщины, пожилые, старые и очень старые, из Вологды, Киева, Оренбурга, Рязани, Старой Руссы, Суздаля, Нижнего Новгорода, Костромы и других мест. Толстой заговаривал с ними и проходил вместе часть пути. Его простая одежда, простой язык и привычка много ходить пешком не изобличали в нем барина, и беседа его со странниками протекала свободно и непринужденно.
Некоторые из странников, так же как некрасовский Влас, носили на себе тяжелые вериги. Так, один из странников, который на своем веку похоронил шестнадцать «душ» своих родных, носил на себе шестипудовые вериги на протяжении ста верст. Толстой слушал рассказы странников о их житье-бытье, о причинах, по которым они предпринимали такое далекое путешествие, слушал рассказ о «Лукерьюшке» — 90-летней старухе, которая с 19 лет лето и зиму ходила босая, о «прозорливце» отце Ионе, о монастырях, в которых побывали странники. Один из странников, старик девяноста четырех лет, направлявшийся в Киев, где он был уже четыре раза, оказался бывшим старшиной в военных поселениях у «Ракчеева». Он рассказывал Толстому про смертные казни бунтовщиков-поселенцев, при которых всем велено было присутствовать: «Спервака жутко. Так жутко, руки, ноги трясутся, а наглядишься — все равно как не человека мучают. Известно — за напрасно»341.
Религиозное настроение паломников вполне гармонировало с настроением Толстого, который переживал тогда такой подъем религиозного чувства, до которого он, быть может, уже
560
не доходил во всю свою дальнейшую жизнь. Хотя он и перестал говеть, однако все еще верил, что учение православной церкви, которому он следовал, «была истина»342, а потому продолжал ходить к церковным службам, каждый день дома становился на молитву, в молитве поминал умерших родных и друзей; читал Библию; переписываясь с А. А. Толстой по вопросам веры, о своих начатых работах, писал ей в таких выражениях: «Если богу угодно будет то, что я задумываю» и т. д.
Религиозное настроение поддерживалось в Толстом чтением Четьи-Миней и Прологов, которые, как писал он в «Исповеди», стали в то время его «любимым чтением». «Исключая чудеса, — писал Толстой, — смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слово о путнике в колодце343, о монахе, нашедшем золото, о Петре Мытаре; там истории мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви»344.
Всего ярче религиозное настроение Толстого того времени проявилось в следующем наброске, написанном им поспешно на незаполненной странице письма архивиста Д. Позднышева от 24 марта 1879 года: «Что я здесь, брошенный среди мира этого?345 К кому обращусь? У кого буду искать ответа? У людей? Они не знают. Они смеются, не хотят знать, — говорят: «Это пустяки. Не думай об этом. Вот мир и его сласти. Живи!» Но они не обманут меня. Я знаю, что они не верят в то, что говорят. Они так же, как и я, мучаются и страдают страхом перед смертью, перед самими собою и перед тобою, Господи, которого они не хотят назвать. И я не называл тебя долго, и я долго делал то же, что они. Я знаю этот обман, и как он гнетет сердце, и как страшен огонь отчаяния, таящийся в сердце не называющего тебя. Сколько ни заливай его, он сожжет внутренность их, как сжигал меня. Но, Господи, я назвал тебя, и страдания мои кончились. Отчаяние мое прошло. Я проклинаю свои слабости, я ищу твоего пути, но я не отчаиваюсь, я чувствую близость твою, чувствую помощь, когда я иду по путям твоим, и прощение, когда отступаю от них. Путь твой ясен и прост. Иго твое благо и бремя твое легко, но я долго блуждал вне путей твоих, долго
561
в мерзости юности моей я, гордясь, скинул всякое бремя, выпрягся из всякого ига и отучил себя от хождения по путям твоим. И мне тяжело и твое иго, и твое бремя, хотя я и знаю, что оно благо и легко. Господи, прости заблуждения юности моей и помоги мне так же радостно нести, как радостно я принимаю, иго твое»346.
Наблюдая жизнь окружающих, Толстой старался уяснить себе их отношение к вере.
Отношение к вере людей привилегированных классов не удовлетворяло его. По его понятиям, настоящая вера должна прежде всего привести к изменению жизни, но жизнь верующих из привилегированных классов продолжала оставаться такою же, какою она была раньше. «Я ясно чувствовал, — рассказывает Толстой в „Исповеди“, — что они обманывают себя и что у них... нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить пока живется и брать все, что может взять рука... И я понял, что вера этих людей — не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни».
И Толстой «стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками». И здесь он увидал совершенно обратное тому, что он наблюдал в жизни верующих из привилегированных классов.
«Вся жизнь верующих нашего круга, — писал Толстой, — была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла, жизни, который давало знание веры...
И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить...
Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни и вере, и я все больше и больше понимал истину…
И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его»347.
XLIV
Религиозное настроение нисколько не мешало Толстому так же чутко, как и раньше, воспринимать красоту природы. Как и в предыдущие годы, он с 12 апреля 1879 года по 7 июня 1880 года ведет особую записную книжку, в которую записывает
562
наиболее яркие впечатления от окружающей природы348. Вот некоторые выдержки из этих записей Толстого.
«24 мая. Зашел дождик дробненький. Еще не миновал, а соловушка уже высвистывает».
«27 мая. Колосья ржи поднялись, вытянулись неровно. Незабудки зацвели мелко, и сурепка зацвела. Волнуется крупными волнами рожь. Васильки».
«30 мая. Утренние морозы... Конопли скрыли землю. В овсах ворона спрячется... 4 часа утра. Обозначилось место солнца. Еду лощиной на западе, вдруг пашня зарумянилась и посветлела. Выехало солнце на круг над землей».
«4 июня. Луга засерелись, ровно бисером унизаны пухом... Ясно, ветер. Воздух колыбается. На солнце шины, палицы, как лучи горят. По ржам, как копоть, чернизина. В овсах желтизна. Кашка красней малины. Дворовый расковыренный навозный дух... Рожь зацветает».
«10 июня. Жарко, пыль. Грозовито. На листах пятна красные. Желтый цвет расцвел, похож на Иван-чай».
«22 июня... Садится солнце, отражается в болоте воды — смотреть нельзя».
«23 июня. Розаны, рдеется середка, края бледны».
«25 июня. Ночи с ветром, дождь. На утро рывом дует. Овес треплется, как бешеный, как цыганка плечами. Меж дворов и овинов сплошная крапивно-зеленая река конопель. Посредине плывет бабочка в аленьком платочке и низких наплечиках. Должно там дорожка. Пахнет зерном».
«28 июня... Везде народ сено убирает... Пчела гудит вверху лип».
«30 июня. 7 часов утра. Ливень с вечера и ночью. По лесу покос на рядах. Мокрые, теплые ряды духовито преют».
«3 июля... Липовый цвет в разгаре, малина, побеги красноватые на осине».
«4 июля. Пчела летит на липу низко, споро. После дождя зашел в липняк, дурманит запах липового цвета».
«8 июля... Пчела стонет на липе. Осыпная малина спелая и орех».
«11 июля. Жары несколько дней, кузнечики. Липовый цвет, малина. Льны изумрудно-зелены, белые гречи, и янтарится рожь. В припадочку пью у Потапкина болота в ключе. Не видать воды, только на днище кипит из дыры в орех, поднимает и кружит крупинки земли, зерен, соломы».
«12 июля... Рябина расцвела ярким желтым цветом».
«15 июля. Дожди. Овес забелелся, лег, ласточки низко снуют. Малина осыпается, оголяя стебельки, рыжики».
«17 июля. Зной. Хлеб узревает. Зори свежие. Вода стынет.
563
На осине красные побеги куржавеются. Малина рассыпуха… Зерна круглые, сочные. Снизу на малине глядишь — просвечивает, сквозит на солнце ягодка».
«2 августа... В болоте тихо, собака шуршит и торкает хвостом по листу».
«10 августа... Голубок трещит крыльями, а потом вжигает».
«11 августа... Багряный шар солнца, светлая середка».
«13 августа. Ветер северо-западный ломит деревья. Ясно… После полдня ветер, нагоняет дождь».
«18 августа... Везде молотят, по ветру доносит — жужжит колос под цепами».
«28 августа... Ясно, тепло, солнце, ночью морозы, западный ветер. Рябина кирпичная. Вяз облетел».
«8 ноября. 9 утра. Чернотроп, кое-где снег. Морозец. Туманчик поднимается, солнце проглядывает, пахнет дымом, далеко слышен благовест».
«7 декабря. Мороз, вечер. Иду мимо строенья. Скрыпят шаги, отзывает в строеньи».
XLV
19 марта 1879 года Толстой уехал в Москву по двум делам: 1) «набрать дров для своей печи», т. е. достать нужные ему для работы исторические материалы, и 2) получить с книгопродавцев деньги за находящиеся у них на комиссии его книги.
В Москве он направился к историку С. М. Соловьеву, но не застал его дома. Судя по письму, которое Толстой 25 марта, уже по возвращении в Ясную Поляну, написал Соловьеву, он хотел узнать у Соловьева, где находится дело обер-фискала Нестерова, казненного в 1724 году, и его сообщника, провинциального фискала Саввы Попцова, также обвиненного в злоупотреблениях по службе и казненного. Также не застал Толстой дома и редактора «Русского архива» П. И. Бартенева, с которым он, однако, в тот же день увиделся в Английском клубе.
Побывал Толстой за нужными ему материалами также и у историка Е. В. Барсова, у которого встретил олонецкого сказителя былин, Василия Петровича Щеголенка349. Толстой слушал, как Щеголенок пел былину про Ивана Грозного, а также его рассказ про помещика, «провалившегося на льду и молящегося последнему Миколе». Толстой спросил Щеголенка, как он сам молится, тот ответил, что он молится часа по два; Толстой записал его молитву. Эта запись не сохранилась350. Толстой
564
пригласил Щеголенка летом приехать погостить к нему в Ясную Поляну.
20 марта Толстой подал прошение управляющему московским Архивом Министерства юстиции о допущении его к занятиям в Архиве. Разрешение было дано в тот же день, и Толстой условился с начальником I и II отделений Архива И. Н. Николевым о снятии по его указаниям копий с хранящихся в Архиве документов. Ознакомившись с описями, Толстой тогда же заказал Николеву сделать копии с некоторых дел.
24 марта Толстой вернулся из Москвы, очень довольный своей поездкой. На другой день он писал Страхову, что в Москве «дров набрал чудных» «для своей печи». Далее Толстой сообщал: «Работаю много и радостно, но без всякого заметного следа работы вне себя», и затем спрашивал, где может находиться дело обер-фискала Нестерова351. Почти в тех же выражениях Толстой в тот же день писал Фету о своей работе: «Я делаю что-то такое, что не оставляет никаких следов вне меня»352.Того же числа Лев Николаевич писал А. А. Толстой, прося ее помочь ему получить доступ к архивам секретных дел времен Петра, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. «Мне сказали, — писал он, — что без высочайшего разрешения мне не откроют архивов секретных, а в них все меня интересующее: самозванцы, разбойники, раскольники». Из этого перечня видно, что Толстого в то время интересовали преимущественно народные движения первой половины XVIII века353.
В том же письме Лев Николаевич обращался к А. А. Толстой еще с другой просьбой — содействовать освобождению трех престарелых старообрядческих архиереев, уже в течение двадцати двух лет заточенных в тюрьме Суздальского монастыря354. О судьбе этих архиереев Толстой узнал от тульского старообрядческого епископа Савватия, с которым встречался в Туле.
А. А. Толстая, как всегда, быстро исполнила обе просьбы Льва Николаевича. Относительно доступа к секретным архивам она переговорила с министром иностранных дел Н. К. Гирсом, который обещал ей исполнить просьбу Толстого при условии получения от него соответствующего заявления. 14 апреля Толстой написал Гирсу письмо, в котором просил исходатайствовать ему разрешение «для рассмотрения» секретных дел, хранящихся «как в Петербургском Государственном архиве, так и в
565
московских — Главном и Архиве Министерства юстиции355. Ответ на свое письмо Гирсу Толстой получил от товарища министра иностранных дел А. Г. Жомини. В письме, датированном 11 мая, Жомини сообщал, что Толстому разрешено «воспользоваться для исторического труда некоторыми сведениями из секретных бумаг, относящихся ко времени Петра Великого и Анны Иоанновны и хранящихся в Государственном и Московском главном архиве Министерства иностранных дел»356.
Что же касается просьбы Толстого об освобождении старообрядческих архиереев, то хлопоты А. А. Толстой в этом направлении оказались неудачны. Она обратилась к министру внутренних дел графу Д. А. Толстому, который при ней направил кому-то из высших должностных лиц письмо по этому делу, но архиереи не были освобождены. Тогда она обратилась к императрице, которая рассказала Александру II о ее просьбе. Александр II приказал сделать доклад о заточенных архиереях, и на этом дело остановилось357.
Толстой, конечно, понимал всю грандиозность поставленной им перед собой задачи — написать художественное произведение, действие которого простиралось бы на целое столетие, — и грандиозность этой задачи смущала его. 17 апреля он писал Страхову, что работа его «всё нейдет», и прибавлял: «Всё читаю и всё хочу сделать то, что не велит Прутков: обнять необъятное». Но в том же письме Толстой сообщал, что «ничего не делав всю зиму», он все мечтает, «противно прежним годам, хоть что бы нибудь сделать летом»358.
Работа не продвинулась и в мае. «Я всё по-старому ничего не делаю очевидного и этим скучаю», — писал Толстой Страхову 2 мая359. Ему же 20 мая: «Работа моя не работается»360.
Между тем И. Н. Николев продолжал по указанию Толстого досылать ему выписки из дел Сыскного приказа и архива Сената. Всего с 23 марта по 26 мая Николев послал Толстому выписки из 54 дел, относящихся к 1723—1746 годам. Дела эти касались следующих преступлений: убийства, побеги колодников и колодниц, раскол, разбой и убийство, разбой и пристано-держательство, блуд, блуд и убийство, мужеложество, волшебство, отцеубийство, мужеубийство, женоубийство, грабеж
566
и разбой, побег и кража, побег из ссылки и убийство, детоубийство.
Кроме того, Николев послал Толстому несколько выписок из дела обер-фискала Нестерова и его сообщников361.
Как видим, все выписки, посланные Толстому, касались ярких фактов частной и меньше — политической жизни русских людей первой половины XVIII века. Посылались Николевым по требованиям Толстого справки о роде Горчаковых и об их имущественном положении, о яснополянских помещиках и их владениях, о предке Льва Николаевича, графе Петре Андреевиче Толстом.
Но во второй половине мая Толстой просил передать Николеву, чтобы он пока прекратил дальнейшие выписки вплоть до уведомления, которое ему будет сделано. По-видимому, противно своим ожиданиям, Толстой и в летнюю пору 1879 года не чувствовал себя в силах продолжать начатую работу. 5 июня он писал А. А. Толстой: «Я ничего не пишу, а только думаю писать».
В том же письме Лев Николаевич отвечал А. А. Толстой на ее мнение о его работе над романом о декабристах и над романом из времени Петра I, высказанное ею в письме от 5 мая. В этом письме А. А. Толстая, выразив сожаление по поводу того, что Толстой прекратил работу над романом о декабристах, далее писала: «Признаюсь вам со стыдом, что Петр Великий интересует меня гораздо менее. Не смею сказать: этот сюжет уже избит, потому что вы, конечно, сделаете из него что-нибудь новое, но я никогда не долезала до этого величия по женской своей глупости, и меня останавливали на полдороге все возмутительные факты этого времени, с которыми не могу примириться. Ум сознает, но душа отворачивается. Смейтесь надо мной сколько угодно — я не могу притворяться»362.
На это мнение А. А. Толстой Лев Николаевич в письме от 5 июня 1879 года363 отвечал: «Вы говорите: время Петра неинтересно, жестоко. Какое бы оно ни было, в нем начало всего. Распутывая клубок, я невольно дошел до Петрова времени — в нем конец».
Это суждение Толстого о времени Петра как о начале новой русской истории говорит о том, что, потратив много времени на обдумывание художественного произведения под названием «Сто лет» с этической темой, лежащей в его основе, Толстой в
567
мыслях вновь вернулся к теме исторической — о Петровом времени, к которой он пришел, «распутывая клубок» новой русской истории.
XLVI
В конце письма к А. А. Толстой от 5 июня Лев Николаевич сообщил ей о своем намерении летом ехать в Соловецкий монастырь. Он еще 20 мая в письме к Страхову приглашал его поехать вместе в Соловки, предполагая добыть там какие-нибудь сведения о своих предках — графе Петре Андреевиче и его сыне Иване Петровиче, заточенных в тюрьму этого монастыря в 1727 году. Но Страхов отказался от поездки, не собрался поехать в Соловки и Толстой. Летом 1879 года он осуществил другую задуманную им поездку — в Киев.
Еще 25 марта Толстой писал Фету, что намерен ехать в Киев и дорогой заехать к нему в его Воробьевку. То же повторил Толстой и в письме к Фету от 17 апреля.
В том религиозном настроении, в котором находился тогда Толстой, Киев привлекал его как место чтимых православным народом святынь, а киевские монастыри привлекали тем, что в них монахи и схимники, по рассказам странников, жили подвижнической жизнью по образцу древних христиан.
Толстой выехал 10 июня и на другой день был уже в Воробьевке.
Фет всегда любил поговорить в кругу знакомых364; к старости эта его склонность еще более усилилась. Так было, очевидно, и на этот раз. Но Толстой весь был полон мыслями о Киеве. «Боюсь, что в Киеве не успею осмотреть и узнать и 1/10 того, что хочется, судя по рассказам», — писал он от Фета жене 11 июня365. При таком настроении Толстого многословие Фета было ему тяжело. «От Фета, его болтовни устал так, что не чаял как вырваться», — писал он жене 13 июня из Курска366.
Сосредоточенное, молчаливое настроение Толстого, разумеется, не укрылось от Фета. 20 июня Фет писал Толстому: «В последний приезд вы вообще как будто были не в духе и даже не ответили мне, почему графиня не может в этом году быть у нас».
Фет не замедлил рассказать Страхову, который побывал у него во второй половине июня, о настроении Толстого, и когда Толстой в письме от 12 июля уведомил Фета, что Страхов ему давно не писал, Фет ответил 18 июля: «Полагаю, что и Страхов
568
прижался из опасения попасть с письмом к вам не в добрый час»367.
В письме от 13 июня Толстой писал жене: «Киев очень притягивает меня».
Он пришел в Киев «очень усталый» в 8 часов утра 14 июня и прежде всего направился в Киево-Печерскую лавру. Но здесь его постигло полное разочарование. Вечером того же дня он писал жене: «Все утро, до трех ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того... В семь пошел... опять в лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного. Что даст бог завтра»368.
Утром того же дня Толстой осмотрел Киевский церковно-археологический музей. Об этом посещении в отчете Музея появилось следующее сообщение: «В числе посетителей был известный наш писатель граф Лев Толстой, автор сочинений «Война и мир», «Анна Каренина» и других, изучающий в Киеве народно-религиозную жизнь для задуманного им произведения»369.
О посещении Толстым церковно-археологического музея оставил воспоминание хранитель музея, профессор Н. И. Петров. К сожалению, воспоминания эти писались много лет спустя — в 1910 году, а исправлены были еще позднее — в 1916 году, и в памяти автора остались очень немногие подробности о посещении Толстым этого музея. Вот как описывает Петров свою первую встречу с Толстым: «Я работал в музее один-одинехонек в рабочем костюме и с молотком в руках... Вдруг около 11 часов утра отворяется дверь музея, входит господин высокого роста и плотного сложения в подержанном сюртуке, рекомендуется графом Толстым. Я спросил его имя и отчество и, узнав, что передо мною стоит знаменитый писатель, отвесил ему чуть не поясной поклон, прося извинения за мой костюм и некоторый беспорядок в музее... Свою беседу со мною граф Л. Н. Толстой начал тягучими фразами, как бы запинаясь и подыскивая слова. Он интересовался знать, что привлекает народ в Киев? Как он понимает религию? Какую духовную пищу получает он здесь? Я, конечно, сказал, что Киев привлекает к себе народ своими вековыми святынями. Прежде всего привлекает Киево-Печерская лавра с нетленными мощами».
Потом Н. И. Петров рассказал Толстому о вновь открытом монастыре, названном Ионинским, в котором проживает отец Иона, «заживо считаемый святым». «Этот монастырь привлекает к себе массы простого народа». — «Был и там», — ответил граф, слегка улыбаясь».
569
По словам Петрова, Толстой пробыл в музее около двух часов, обратил внимание на икону XVII века работы строгановских крепостных живописцев «Зачатие святой Анны», на большую глиняную статую Венеры Кипрской VI—VII века до н. э. и на некоторые другие экспонаты и делал заметки в своей записной книжке. Рассматривая статую Венеры Кипрской, Толстой заметил, что он и сам «в молодости грешил этим — пробовал заниматься лепкой»370.
Н. И. Петров передает рассказ одного из монахов Киево-Печерской лавры, что Толстой участвовал в общем обеде, устраивавшемся лаврой для богомольцев под открытым небом. Это происходило, очевидно, во второй день его пребывания в Киеве, так как в первый день он обедал у своей казанской знакомой Е. Д. Загоскиной, директрисы Казанского Родионовского института, в котором воспитывалась некогда его сестра (об этом Толстой сообщил жене в письме от 14 июня).
Впоследствии Толстой неоднократно вспоминал о своей поездке в Киев. Он рассказывал, что когда он был в лавре, в монастырской гостинице везде было полно; он жил в башне у привратников. Привратников было двое, они по очереди дежурили каждую ночь, и одна постель оставалась свободной; на ней-то и спал Толстой. По его рассказам, один из привратников был толстый малый, бессарабец, другой — малоросс, высокий, с длинными волосами, богатырь, красавец, лет сорока; участвовал в Турецкой войне, пошел туда из монастыря как на хорошее дело — воевать с басурманами — и после войны возвратился опять в монастырь. «Они оба и монах в пещерах, молодой вятский крестьянин, произвели на Льва Николаевича самое хорошее впечатление. Все трое были смиренные, простые, добрые люди, а прочие монахи, и особенно высокопоставленные, схимник, считавшийся прозорливым, — отталкивающее впечатление произвели».
«К схимнику, — рассказывал Лев Николаевич, — я пришел в сереньком пальто и имел вид приказчика. Когда я сказал, что хочу побеседовать, он закричал: „Мне некогда беседовать“. А если бы я представился ему графом Толстым, охотно поговорил бы»371.
Художник М. В. Нестеров, присутствовавший во время рассказа Толстого о его пребывании в Киеве, так передает его в одном из писем: «Одетый простым богомольцем, в лавре пришел он к «старцу» с намерением поговорить о вере. Тот, занятый с другими богомольцами, не подозревая, что к нему обращается знаменитый писатель Л. Н. Толстой, ответил: «Некогда,
570
некогда, ступай с богом». Таково неудачно кончилась попытка Толстого побеседовать о вере с лаврским старцем. Однако Лев Николаевич все же был утешен простецом-привратником. Тот ласково принял любопытствующего в своей сторожке в башне. Монах-привратник был отставной солдат, дрался под Плевной. Две ночи искателя веры, Л. Н. Толстого, в сторожке привратника ели блохи, вши, а он, Лев Николаевич, всем остался доволен, дружелюбно попрощался со своим знакомцем»372.
Посещение Киева нанесло второй чувствительный удар православию Толстого, не менее сильный, чем тот, который он испытал за год до этого, когда причащался в последний раз в жизни. В Киево-Печерской лавре Толстой не только не нашел подвижничества, но увидел сознательный обман народа, которому внушалось благоговейное отношение к несуществующим святыням — будто бы нетленным мощам святых, которые в действительности оказывались подделками, устраиваемыми самим духовенством. В статье «Церковь и государство», написанной в ноябре 1879 года, Толстой решительно утверждает, что «киевский митрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников»373. Это же свое утверждение Толстой вскоре повторил в другой работе в таких выражениях: «...Не видят теперь попы в Киеве, что их набитые соломой мощи суть, с одной стороны, поощрение веры, с другой — главные преграды для веры»374.
16 июня Толстой уехал из Киева.
В Ясной Поляне он застал Страхова, приехавшего в день отъезда Толстого из Киева и пробывшего у Толстых четыре дня. Толстой был так занят своими мыслями и сомнениями, что очень мало побеседовал со Страховым. 27 июля Толстой писал ему:
«Я совсем как будто не видал вас в ваш первый приезд; я слишком был занят своим делом в это время и совсем потерял вас»375. Но, разумеется, при той близости, какая существовала в то время между Толстым и Страховым, Толстой не мог не сообщить Страхову хотя бы в общих чертах о том, что он увидал в Киеве, и, в связи с этим, о нарастающей перемене в своем отношении к учению православной церкви (Страхов, конечно, хорошо помнил письмо к нему Толстого, написанное в январе 1878 года, в котором Толстой признавал себя членом православной церкви, вполне разделяющим учение церкви, хотя и в особом понимании его).
Вскоре после отъезда из Ясной Поляны Страхов 21 июня писал Толстому:
571
«Новый Ваш фазис только на первую минуту удивил меня, но потом я удивился только необыкновенной живучести Вашего внутреннего труда и верности Вашего пути. Что бы ни вышло, — все будет хорошо, не только хорошо, а чудесно, несравненно — глубоко и сильно. Дай Вам бог всего, что для этого потребно»376.
Толстой в то время шел к полному разрыву с учением церкви. В «Исповеди» он писал:
«Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью, и что я не могу принять ее в таком виде.
...Первое время, когда я, как оглашенный, только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою»377.
Кроме мучивших его не вполне разрешенных религиозных вопросов, Толстой страдал еще от сознания несоответствия своей жизни с новым усвоенным им миросозерцанием. 12 июля он писал Фету: «Всё ломаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь; и думаю, что не так ли, как Василий Петрович [Боткин], покойник, доведется и мне заполнить пробел да и умереть; а всё не могу не разворачивать сам себя»378.
В следующем письме к тому же адресату от 27 июля Толстой раскрывает отчасти, чем он был недоволен в своей жизни. Здесь он отвечает на письмо Фета от 17 июля, в которое Фет вписал придуманный им «эпилог» о соколе. Был один сокол, который взлетал в небо так высоко, что его мог видеть только зоркий глаз охотника. Охотник радовался, что сокол залетал так высоко, но сокол забирал каждый день все выше и выше и наконец ушел в такую высь, что даже и опытный глаз сокольничего не мог за ним уследить. «Так и ушел от него сокол. Тут-то охотник и подумал: хорошо летать высоко, да надо же и на землю спускаться». Этот сокол — Толстой, охотник, зорким глазом следящий за ним, — Фет.
572
Но Толстой не согласился с мыслью этого «эпилога». «Если я этот сокол, — писал он Фету, — и если, как выходит из последующего, залетание мое слишком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, и что 9/10 труда, полагаемого на удовлетворение этих потребностей, — праздный труд».
Толстой отвергает обычный довод в пользу более высокой оплаты умственного труда по сравнению с трудом физическим, состоящий в том, что результаты умственного труда особенно нужны и полезны людям. «Мне бы очень хотелось, — пишет Толстой, — быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них. Но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилием своего труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мой труд есть и самый нужный и трудный)».
И Толстой избирает иной, с его точки зрения, более надежный путь. «Я желал бы, — говорит он, — как можно поменьше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей; и думаю, так легче не ошибиться»379.
Однако Толстой лишь в ограниченных размерах мог осуществить в своей жизни это новое, установленное им для себя правило — как можно меньше брать от людей, уменьшая свои потребности. Он был не один, у него была семья, и его жена и подрастающие дети привыкли уже к тому укладу дворянско-помещичьей жизни среднего достатка, который он сам после женитьбы установил для своей семьи.
Сложным и трудным путем он шел к полному разрыву со своим классом, а следовательно, и с тем укладом жизни, который был типичен для этого класса. Его семейным была чужда и непонятна происходившая в нем мучительная работа мысли и чувства. Не переживая ни в какой степени того, что переживал он, семейные Толстого не могли пойти по его пути.
Следует сказать, однако, что того, что обычно называется роскошью и комфортом, было очень немного в быту семьи Толстых и в обстановке яснополянского дома. Подыскивая к своим детям гувернантку-англичанку, Лев Николаевич в апреле 1878 года писал А. А. Толстой: «Кроме главных нравственных качеств, желательно как можно меньше прихотливости насчет вещественного комфорта, так как мы им не богаты»380.
573
Но, разумеется, Толстой не мог не видеть, что по сравнению с бедностью и нищетой крестьян окрестных деревень условия его жизни действительно являются роскошью, с которой он, при его изменившемся мировоззрении, не мог мириться. С годами жизнь в барских условиях становилась для него все более и более мучительной, и так продолжалось до самого дня его ухода из Ясной Поляны — 28 октября 1910 года.
Приведенное письмо к Фету примечательно еще и в других отношениях. Во-первых, нельзя не обратить внимания на то, что, говоря о своем труде, Толстой совершенно не упоминает о своей работе писателя, как бы не придавая ей значения. Во-вторых, Толстой говорит не только о том, что «большая доля» его жизни направлена на удовлетворение искусственно развитых потребностей, но то же самое он говорит и о жизни Фета. Толстой, следовательно, критикует вообще условия жизни помещиков того времени.
XLVII
18 июля Толстой вместе со старшим сыном поехал к своей теще, Любови Александровне Берс, в ее имение «Утешенье», находившееся в Крестецком уезде Новгородской губернии, где прожил пять дней, и вернулся в Ясную Поляну 24 июля.
Как везде и всегда, Толстой и здесь присматривался к народной жизни и любовался красотами природы. Катаясь вечером по озеру Льняному, он записывает в записную книжку: «Фейерверк от лодки на озере. Просвет белой луны в лесу». А на другой день пишет: «Темно-синее, как синюжник, озеро в зеленых берегах». Толстой находил, что новгородские крестьяне «грамотнее и вообще развитее наших тульских, но испорчены Петербургом, куда они постоянно ездили на заработки. У них уже не было ни старинных песен, ни народной одежды»381.
Летом 1879 года у Толстого гостил олонецкий сказитель былин Василий Петрович Шевелев, по прозванию Щеголенок. Неграмотный крестьянин деревни Боярщина Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, Щеголенок был более всех других сказителей былин известен собирателям народного творчества. На протяжении 26 лет — с 1860 по 1886 год — пять собирателей записали исполнявшиеся им былины. Всего разными собирателями записано от Щеголенка 14 былин в 31 варианте.
По ремеслу Щеголенок был сапожник и своим мастерством славился на всю округу. «Своему поэтическому искусству Щеголенок отдавался всей душой. Многие из кижан не понимали этого его увлечения и считали сказителя каким-то «балованным», занимающимся не совсем серьезным делом... Отличаясь острой наблюдательностью и метким языком, Щеголенок давал всем,
574
кто ему встречался, очень удачные прозвища, чем очень славился в своей округе»382.
Толстой в письме к В. В. Стасову от 2 августа 1879 года, рекомендуя Стасову Щеголенка, который ехал в Петербург по своим делам, называет его «очень умным и хорошим стариком»383.
Хотя Толстой и называет Щеголенка в письме к Стасову «певцом былин», ни об одной из былин, которые, несомненно, пел Щеголенок в Ясной Поляне, нет упоминаний в записях Толстого. В то же время Толстым было записано со слов Щеголенка множество легенд и рассказов из действительной жизни. Отличить легенды и рассказы Щеголенка среди других записей Толстого очень нетрудно на основании встречающихся в них многочисленных географических названий, характерных для Олонецкого края, точнее — для полуострова, вдающегося в северную часть Онежского озера, известную под названием Заонежье (Кижи, Сенная губа, Яндомозеро и другие).
Всегда восхищаясь русским народным языком, Толстой старался рассказы Щеголенка записывать слово в слово, но он не поспевал за рассказчиком, и ему приходилось записывать, конспективно только самое существенное, причем иногда он не выписывал то или другое слово целиком, а помечал его только первыми буквами384.
Впоследствии некоторые легенды и рассказы Щеголенка послужили Толстому материалом для его народных рассказов. Так, легенда Щеголенка «Архангел» явилась основой для легенды Толстого «Чем люди живы» (1881), рассказ «Два странника собрались в Ерусалим...» — для рассказа «Два старика» (1885), легенда «Инок молился в пустыне...» — для рассказа «Молитва» (1905), легенда «Старик в церкви» — для не озаглавленной Толстым, но появившейся в печати под тем же названием (1907). В 1902 году Толстым была обработана рассказанная ему Щеголенком легенда о разрушении ада. По церковному преданию, воскресший Христос сошел в ад и освободил всех томящихся там грешников. Народ присоединил к этой легенде следующее антицерковное содержание, сообщенное Щеголенком: «Ад застонал», но Христос сказал: «Не стони, ад. Будешь наполнен попами, дьяками, неправеднымч судьями»385.
По-видимому, от Щеголенка Толстой слышал также легенду, впоследствии изложенную им под названием «Три старца».
575
Хотя сюжет этой легенды и не записан в его записной книжке, но в «Исследовании догматического богословия», писавшемся в январе — марте 1880 года, Толстой говорит, что его «трогает молитва трех пустынников, про которых говорит народная легенда»386.
Кроме легенд, Щеголенок рассказывал Толстому и действительные факты из жизни своих односельчан и жителей окрестных деревень. Так, он рассказал о бунте при Екатерине II крестьян села Кижи, не соглашавшихся «подписаться под заводы». Против бунтовщиков было послано войско, и бунт был подавлен артиллерийской стрельбой387.
Сильное впечатление произвел на Толстого рассказанный Щеголенком случай, в котором и самому Щеголенку пришлось принять некоторое участие. Этот рассказ Щеголенка Толстой записал в свою записную книжку под названием «Иван Павлов». Действие происходит в той же деревне Боярщина, откуда был родом Щеголенок. Здесь жил богатый мужик Иван Павлов, который занимался сначала перевозкой товаров по рекам на своем судне, а затем взял подряд на винный откуп в Вологде, а сам поселился в Петербурге. Его сосед снял у него один из кабаков. На святках выручка этого сидельца в кабаке доходила до 500 рублей в день. Он привез деньги хозяину в Петербург и рассказал Павлову, что оставшаяся дома его жена забеременела. Павлов был потрясен. Когда сиделец приехал с выручкой второй
576
раз, он сказал Павлову, что жена его родила. Павлов свел его в трактир. «Ну, — говорит, — первый дом мой, а жена что сделала!» Сиделец отвечает: «Молодость горами качает, и ты не так жил». — «Я, — говорит Павлов, — качнусь своей стороны ради жениного посмеха». И запел: «Не кукушечка во сыром бору куковала». И заплакал. «И решил свое житье».
Прошло много лет. «Я, — рассказывал Щеголенок, — сижу, сучу пряжу. Пришел старик, рослый, белый». Его спросили, откуда он, но он не сказал правду. Щеголенок его узнал. Ему подали милостыню — хлеба. Он ничего не сказал и пошел в свой дом. Попросился ночевать, его пустили, накормили ужином, он всех детей одарил гостинцами, а наутро пошел дальше. Утром сын старика, Логин, пришел к Щеголенку заказывать сапоги. Щеголенок заговорил о старике с белой бородой. Узнав от Щеголенка, что это был его отец, Логин послал младшего брата в ближайшие деревни отыскивать «старика пропащего». Он нашел его в ближайшей деревне. «Тужил, попа взяли и помер. Накрыто тряпкой. И немытый».
Целых двадцать пять лет Толстой не мог забыть рассказа Щеголенка об Иване Павлове. В записи дневника от 13 декабря 1897 года в числе сюжетов, «которые стоит и можно обработать, как должно», находим и рассказ «Петровича» (так Толстой называл Щеголенка) о «муже, умершем странником»388. В 1905 году, составляя список рассказов, которые он имел намерение написать для сборника «Круг чтения», Толстой прежде всех других вспомнил сюжет, услышанный им от Щеголенка: «Ушедший странствовать от жены»389.
Такой продолжительный интерес Толстого к сюжету о богатом человеке, «ушедшем странствовать», объясняется тем, что сам он уже с 1877 года мечтал о том, чтобы закончить жизнь бездомным странником. Только в феврале 1905 года Толстой принялся за обработку долго волновавшего его сюжета и создал рассказ «Корней Васильев».
По возвращении на родину Щеголенок отправил Толстому написанное с его слов местным писарем (сам Щеголенок был неграмотный) следующее письмо:
«От души благодарю вас, ваше сиятельство, за ваш радушный, отеческий прием и за все ваше доброе! Часто, очень часто я вспоминаю о своей жизни у вас и рассказываю здесь своим знакомым, как гостил я у графа Льва Николаевича... В настоящее время я живу в Олонецкой губернии, но мыслями своими летаю по тем местам, где прогостил это лето, и своей священной обязанностью считаю молитву о вас — моих благодетелях»390.
577
XLVIII
«Я жив, здоров и всё понемножку копаюсь,» — писал Толстой В. В. Стасову 2 августа 1879 года391.
«Копался» Толстой, несомненно, над романом из эпохи XVIII века, но над каким вариантом — нам неизвестно.
6 или 7 августа 1879 года в Ясную Поляну приехал Н. Н. Страхов. Он оставался гостем Толстых до 25 или 26 августа.
В письме к П. Д. Голохвастову от 8 августа, упомянув о своем намерении спорить с ним об «Анне Карениной», Страхов писал: «Я живу теперь под сильнейшим очарованием самого автора, Л. Н. Толстого, который теперь в удивительном духе. Когда будете здесь, то узнаете новые предположения и работы этого неутомимейшего и глубочайшего работника... Между прочим, он усердно занимается народным языком и, верно, наделает чудес»392.
Более подробно свои впечатления о пребывании у Толстого Страхов изложил в письме к Н. Я. Данилевскому от 23 сентября 1879 года. «Толстого, — писал он, — я нашел на этот раз в отличном духе. С какою живостию он увлекается своими мыслями! Так горячо ищут истины только молодые люди, и могу положительно сказать, что он в самом расцвете своих сил. Всякие планы он оставил, ничего не пишет, но работает ужасно много. Однажды он повел меня с собою и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолок и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и если попадутся хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы. Верстах в двух есть небольшие поселки и там есть два постоялые двора для богомольцев (содержатся не для выгоды, а для спасения души). Мы зашли в один из них. Человек восемь разного народа, старики, бабы, и делают, что кому нужно: кто ужинает, кто богу молится, кто отдыхает. Кто-нибудь непременно говорит, рассказывает, толкует, и послушать очень любопытно. Толстого, кроме религиозности, которой он очень предан (он и посты соблюдает и в церковь ходит по воскресеньям) занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Все это, я уверен, даст богатые плоды. Были мы с ним также на волостном суде, часа три слушали, и я вынес оттуда величайшее уважение к этому делу...»393.
578
Памятником упорного труда Толстого по изучению русского народного языка осталась его объемистая записная книжка, относящаяся к 1879—1880 годам, с многочисленными записями народных слов и выражений. Книжка содержит 118 разрозненных листков, исписанных большей частью с обеих сторон394.
В этой книжке записано более двух с половиной тысяч народных слов и оборотов речи, поразивших Толстого силой, красотой, ясностью, точностью, меткостью, оригинальностью выражений. Впоследствии во многих своих произведениях, особенно в тех из них, которые предназначались для народа, Толстой воспользовался этими записями. Сюда относятся: «Чем люди живы», «Где любовь, там и бог», «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях», «Упустишь огонь — не потушишь», Предисловие к «Краткому изложению Евангелия» и более всего — «Власть тьмы».
В драму «Власть тьмы» внесено Толстым из записной книжки 36 народных слов и выражений. Тут и Анюткино «однова дыхнуть»; и Никиты — «была бы дыра сквозь землю», «в питье не запью, в еде не заем, во сне не засплю», «и пить будем, и гулять будем»; и Петрово — «малый-то не к рукам»; и Акима — «притаманно», «душа надобна»; и Анисьи — «она тебе намазала», «чистяк какой, ишь ты!», «в косы руками увяз», «с висюгой своей»; и Матрены — «остробучилась баба», «оплошки не делай», «не малина, не опанет», «девка, как литая», «у меня язык помягче», «ни кот, ни кошка, ни поп Тимошка», «терта перетерта»; и Митрича — «раздробить» (в смысле — растолковать), и др.
Отдельные слова и выражения из этой записной книжки Толстого встречаем и в его «Исповеди», и в «Крейцеровой сонате», и в «Плодах просвещения», и в «Отце Сергии», и в «Воскресении» («вздумала», «баба ухватистая», «из рук не вывалится», «как пьем — все видят, а как работаем — никто не видит» — слова рабочего Нехлюдову в вагоне железной дороги).
В той же записной книжке находим народные пословицы, поговорки и прибаутки, отдельные стихи из народных песен и некоторые нравственные сентенции, как, например: «Плоти убыток — душе барыш», «С жиру и неблажной блажит», «Меньше говори — меньше греха, и больше услышишь».
Запись слов, услышанных Толстым на Киевском шоссе от странников и прохожих, делалась им тут же, на месте, карандашом, поспешно и неразборчиво и часто в сокращенной форме. Позднее Толстой переписал наиболее обратившие на себя его внимание народные слова и обороты речи чернилами на отдельных листах. Таких листов в архиве Толстого сохранилось
579
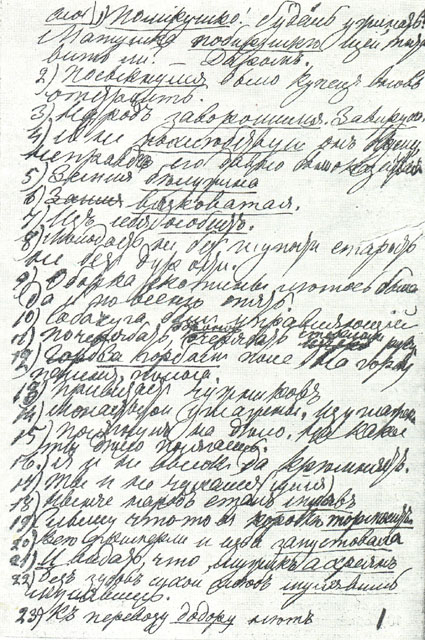
Лист с записями народных выражений (1879)
580
пятнадцать; на них записано пронумерованных им 233 отдельных слова и оборота речи395.
Кроме услышанных от крестьян и прохожих народных слов и выражений, в его записной книжке находим большое количество записей, свидетельствующих о том, как он серьезно изучал русский народный язык и старался понять его законы. Здесь Толстой:
1) пытается определить тонкие различия синонимов по их смыслу, например: «Горе, печаль, кручина, скорбь, зазноба, тоска, скука. Горе — злосчастье. Горе — судьба горькая. Духовное — скорбь. Печаль — о других. Кручина — временная от других. Тоска — недовольство собой. Скука — небольшое горе, отсутствие забот сердечных. Зазноба — физическое — любовь»;
2) подбирает синонимы, не указывая отличий их по смыслу один от другого («малоумен, глуп, дурковат, дурашин, несмышлен, простоват»; или: «невразумительно, непонятно, путанно говорит»);
3) старается понять значение употребительных в народе, но неясных по смыслу слов («притча — случай»);
4) пытается слова народного языка сблизить со словами языка литературного («дума, думка = воображение»);
5) пробует выяснить происхождение того или другого слова («то-перво = топерь = теперь»; «до воли = довольно);
6) старается определить значение приставок в глаголах (указывает, что приставка «за» означает начало действия: «запил, забрал, запахал, задумал, занялся» и т. д.);
7) чтобы наглядно представить себе все богатство русского языка, пробует все глаголы, произведенные от основного глагола путем многочисленных приставок. Так, он выписывает 18 глаголов, произведенных с помощью различных приставок от глагола «вести». То же самое он проделывает и с другими глаголами: лить, ступать и т. д. Приводит образцы глаголов с малоупотребительной двойной приставкой «обез»: «обезхлебил, обезлошадил, обезсилил, обездомил»;
8) с той же целью приводит многочисленные образцы глаголов и существительных с приставками: на, о (об), пере, при, про и другими;
9) дает примеры иронического обращения, имеющего обратный смысл: «Хорошо ты делаешь», «Много ты смыслишь», «Большой твой капитал» и др. и указывает на то, что в этих случаях «эпитет» выражается «первым словом»;
10) обращает внимание на типические обороты речи в разговорах тех или других лиц («У старика нищего вся речь вопросительна: «Разве добрых людей мало?»);
581
11) в некоторых случаях проводит сравнение оборотов русского народного языка с соответствующими оборотами греческого, французского и английского языков;
12) делает большие выписки из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Всего около 200 слов и оборотов речи, начинающихся на буквы: Б, В, Г, Д, Ж, З, К, М, Н, О, П, С, Т, У, Х, Щ, Я.
XLIX
Кроме выписок из словаря Даля, Толстой в записной книжке делал выписки и из некоторых других книг. Так, из древней книги пророка Исаии выписано ставшее знаменитым изречение: «Раскуют мечи свои на орала и копия на серпы»396.
Много выписок сделано Толстым из «Жития» протопопа Аввакума и других его писаний397. Толстого нисколько не интересовали обрядовые споры Аввакума с «никонианцами» — двумя или тремя перстами возлагать на себя крестное знамение, двоить или троить аллилуйя и пр., но литературные достоинства писаний Аввакума — особенно его «Жития» — и сама могучая личность борца-протопопа должны были привлечь внимание Толстого.
Он выписывает из «Жития» образцы живой русской народной речи: «я только выволокся в Москву», «такой же замотай», «по тонку николи писать», «ведаю его стряпанье», «поглядеть заломя голову» и т. д. Конечно, всеми этими и многими другими подобными словами и выражениями Аввакума Толстой так же восхищался, как и записанными им словами богомольцев и прохожих на Киевском шоссе. Еще раньше, читая выдержки из «Жития» Аввакума в «Истории России» С. М. Соловьева, Толстой в своих заметках определил стиль Аввакума словами: «Быстрая речь, на волоске шутка мрачная»398.
Толстой выписывает дословно художественное, хватающее за сердце описание убийственных условий десятилетней каторжной жизни Аввакума в Сибири под началом воеводы Пашкова: «Реки мелкие, плоты тяжелые, пристава немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные — лишь станут мучить — он и умрет». При этом Толстой хочет обратить внимание на гуманное отношение Аввакума к своим мучителям, на его старание уверить читателя, что «не их то дело», но врага рода человеческого.
582
Преклонявшемуся перед мученичеством Толстому были понятны и близки призывы Аввакума к своим единоверцам и ученикам: «Мучьтесь за Христа хорошенько. Не оглядывайтесь назад. Не тужите о безделицах мира сего».
Толстой, без сомнения, был глубоко растроган тем, что этот суровый аскет и фанатик находил такие ласковые слова в обращении к своей «духовной дочери» и другу, боярыне Морозовой. «Некого четками постегать и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке погладить. Нет миленького сударика», — делает Толстой выписку из письма Аввакума к боярыне Морозовой. Но и боярыню Морозову Аввакум поощрял к мученичеству. «Побоярила, — писал он ей, — надо попасть и в небесное боярство».
И, наконец, глубокое уважение вызывало в Толстом достойное и свободное обхождение Аввакума с царем Алексеем Михайловичем. «Не покручинься, царь, — писал Аввакум в своей челобитной царю, — ты раб зауряд со всеми. Прости, Михалыч-свет. В тюрьме мне что надобно? Разве смерть. Ей так».
Известно, что Толстой высоко ценил язык протопопа Аввакума и советовал писателям, намеревающимся писать для народа, учиться языку между прочим и у протопопа Аввакума. Когда в 1885 году был задуман «Народный журнал», Толстой 17 сентября писал предполагаемому редактору этого журнала П. И. Бирюкову:
«Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте — не то, чтобы он был однообразен, а напротив — чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык... попа Аввакума, но только не наш газетный»399.
Приведенные выписки из писаний Аввакума (всего Толстым была сделана 51 выписка из писаний Аввакума) свидетельствуют о том, что Толстой не только высоко ценил Аввакума как писателя, но и высокие личные качества замечательного русского человека XVII века, его стойкость и мужество вызывали горячее сочувствие Толстого. Недаром Горький, перечисляя те разнообразные «свойства сложной русской психики», которые воплотились в Толстом, указывал и на то, что в Толстом «горит фанатизм Аввакума»400.
L
По отъезде из Ясной Поляны Н. Н. Страхов писал Толстому 14 сентября:
«Нынешнее посещение Ясной Поляны было необыкновенно радостно и плодотворно для меня. Я редко видал Вас таким
583
здоровым и бодрым, а сила Вашей внутренней жизни меня поразила. Ваши мысли волнуют Вас так, как будто Вам не 50, а 20 лет»401.
Настроение Толстого продолжало оставаться сосредоточенным и далеким от жизни окружающих. В середине августа он писал А. А. Толстой: «У меня полон дом народа, репетиции для театра. И более чуждым всему этому человека трудно себе представить»402. В письме к Фету от 31 августа Толстой рекомендовал ему три произведения древней еврейской письменности, входящие в состав Библии: Притчи Соломоновы, Книгу премудрости Соломоновой и Экклезиаст, также приписываемый Соломону, с его знаменитым «Суета сует, всяческая суета» и «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» — «Новее этого трудно что-нибудь прочесть», — писал Толстой.
Но в конце этого письма Толстой сообщал Фету: «У нас после приезда Страхова были гость на госте, театр и дым коромыслом, 34 простыни были в ходу для гостей и обедало 30 человек, и всё сошло благополучно, и всем и мне в том числе было весело»403.
Очевидно, дружное искреннее веселье молодежи, устраивавшей спектакль, передалось и Толстому и на время отвлекло его от волновавших и угнетавших его мыслей.
Выше уже была приведена выдержка из письма Н. Н. Страхова к Н. Я. Данилевскому о том, что в течение августа 1879 года Толстой ничего не писал; однако мысль о продолжении начатого романа не оставляла его. 20 августа он обратился к министру юстиции Д. Н. Набокову с заявлением, в котором сообщал, что, «начав исторический труд из времен конца XVI и начала XVII века» (описка Толстого: должно быть «конца XVII и начала XVIII века»), он нуждается в ознакомлении с секретными делами из Архива Министерства юстиции и просит разрешить ему доступ к этим делам404. 17 сентября администрацией московского Архива Министерства юстиции было сделано распоряжение о допущении Толстого к занятиям секретными делами, хранящимися в архиве405.
Собираясь в конце сентября в Москву, Толстой был намерен встретиться с историками (в их числе с И. Е. Забелиным), чтобы получить от них сведения по ряду вопросов, относящихся к изображаемому им периоду русской истории. Эти вопросы для памяти были им записаны в записной книжке406. Вот некоторые
584
из этих вопросов: «Где стан? Назовите станы в какой-нибудь губернии. — Почты. Какие тракты? Где почтовые станции (петербургские знаю). — Кто архимандрит печерский в 1716? — Как колесуют? — О муже Анны Иоанновны, герцоге Курляндском. — Живой мост в Москве? — Хорошенько узнать, что такое правеж? Как? — Древние XVII лубочные картины. — Где Преображенское? Где Измайлово?» и др.
27 сентября Толстой приехал в Москву и пробыл здесь до 2 октября.
В этот приезд он побывал в Архиве Министерства юстиции, где сделал указание И. Н. Николеву о выписке для него выдержек из дел Преображенского приказа. К этому времени относится и встреча Толстого с историком и фольклористом Е. В. Барсовым.
Было еще одно важное дело, ради которого Толстой приехал в Москву, — беседа с представителями высшей иерархии об учении православной церкви.
Теперь уже не догматическое учение церкви занимало Толстого, но, как рассказывает он в «Исповеди», «явились вопросы жизни, которые надо было разрешить».
Первым вопросом было отношение церкви к войне в связи с только что закончившейся русско-турецкой войной 1877—1878 годов. «Русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учители веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры».
Второй вопрос — отношение церкви к смертным казням. В это время очень обострилась борьба народовольцев с правительством, и все чаще и чаще выносились революционерам смертные приговоры. Толстой «видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников», одобрявших смертные казни.
Третий вопрос — нетерпимое отношение церкви к верующим других исповеданий: католикам, протестантам, старообрядцам, сектантам и др.
Опасаясь, что он чего-нибудь не знает из учения церкви, что объяснило бы ему отношение церкви к этим вопросам, Толстой в разговоре со Страховым в бытность его в Ясной Поляне в августе 1879 года выразил желание побеседовать с учеными богословами. Страхов назвал ему несколько имен.
По рекомендации Страхова Толстой беседовал с митрополитом московским Макарием (Булгаковым) и с викарным архиереем Алексеем (Лавровым-Платоновым). 1 октября Толстой поехал в Троице-Сергиеву лавру для встречи с наместником лавры Леонидом Кавелиным, с которым он в 1874 году переписывался
585
относительно издания памятников древней русской литературы.
О посещении Толстым Троицкой лавры сохранились воспоминания епископа Никона (бывшего тогда в числе лаврских монахов), которому было поручено показать графу достопримечательности лавры и ризницу. «Покойный о. наместнйк лавры архим. Леонид приглашал его откушать хлеба-соли в своих кельях. Но граф пожелал отобедать вместе с народом, в странноприимной палате. При осмотре ризницы, рассматривая вериги, какие носили древние подвижники, Толстой спросил меня: «А ныне есть ли такие подвижники?» Я отвечал, что в наше время небезопасно носить вериги; лучше терпеть те скорби, какие бог кому попустит. Он однако же не удовлетворился сим ответом и как будто с иронией настаивал на вопросе: знал ли я хоть одного такого веригоносца? Тогда я указал на покойного уже тогда коновийского подвижника простеца схимонаха Филиппа (в монашестве Филарета). С большим любопытством граф меня расспрашивал о нем и, когда узнал, что я составил биографию его, просил меня прислать ему, что потом я и исполнил. После осмотра достопримечательностей граф пожелал наедине поговорить с о. архимандритом. Довольно долго длилась эта беседа. Когда он ушел, покойный старец со вздохом сожаления сказал мне: „Заражен такою гордыней, какую я редко ветречал. Боюсь, кончит нехорошо“»407.
В лавре Толстой посетил собрание профессоров Московской духовной академии.
Профессор истории философии В. Д. Кудрявцев задал ему вопрос: «Скоро ли вы подарите нас таким произведением, как „Война и мир“ или „Анна Каренина“?» На что Толстой, пользуясь выражением ап. Петра, ответил, что он не хочет, «как пес, возвращаться на свою блевотину»408.
Это — первый из известных нам отрицательных отзывов Толстого о своих прежних художественных произведениях, высказанный после происшедшего в нем перелома.
LI
2 октября Толстой вернулся в Ясную Поляну и на другой день писал Страхову: «По вашему совету и по разговору с Хомяковым (сыном)409 о церкви был в Москве и у Троицы
586
и беседовал с викарием Алексеем, митрополитом Макарием и Леонидом Кавелиным. Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь, метусь и борюсь духом и страдаю; но благодарю бога за это состояние»410.
Напряженная работа мысли и душевные страдания приводили к болезненному состоянию и упадку сил. 28 сентября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской, что Лев Николаевич «последнее время совсем расстроился здоровьем, все голова болит, ничего не ест, мрачен... С ним что-то сделалось, но я думаю, что это — нервное».
На письмо Толстого Страхов отозвался следующим письмом от 16 октября:
«Очень меня поразило Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич. В сущности оно грустное, и хотя я почувствовал опять наплыв любви к Вам, к этой душе, так неустанно и глубоко работающей, но вместе я пожелал, чтобы как-нибудь уменьшилась страшная тяжесть, которую Вы несете. Архиереи не помогли — вот Вы увидели это жалкое умственное состояние. Они люди верующие, но эта вера подавляет их ум и обращает их рассуждения в презреннейшую софистику и риторику. Они не признают за собою права решать вопросы, а умеют только все путать, все сглаживать, ничему не давать ясной и отчетливой формы, много говорить и ничего определенного не сказать»411.
«Убеждение», в котором Толстой, как писал он Страхову, «укрепился», — это его разрыв с учением православной церкви. Беседы с московскими иерархами об отношении церкви к важнейшим вопросам жизни нанесли последний удар его вере в православие. «И я обратил внимание, — писал он в «Исповеди», — на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся»412.
LII
Исполняя задание Толстого, И. Н. Николев в течение октября 1879 года прислал Толстому копии 24 дел из архива Преображенского приказа, которые все относятся к последнему десятилетию XVII века и первым годам XVIII века; лишь одно дело относится к 1721 году. Сам Толстой в течение всего октября ни разу не появлялся в Архиве Министерства юстиции для занятий413.
587
Большинство выдержек, присланных Толстому Николевым, было извлечено из дел по обвинению разных лиц в произнесении «непристойных слов» по адресу Петра и в порицании его распоряжений и введенных им порядков, а также его образа жизни и поведения.
Так, крестьянин Евтихий Шишкин обвинялся в том, что он говорил: «Ныне-де спрашивают с крестьян наших подводы, а и так-де мы от подвод и от наборов и податей разорились..., а ныне-де еще сухарей спрашивают. Государь-де свою землю разорил и выпустошил. Только-де моим сухарем он, государь, подавитца. А живет-де он, государь, все в немцев и думу думает с ними. И выбранил-де Евтифий его, государя, матерно».
Многие пострадали за то, что называли Петра антихристом — потому, между прочим, что он не соблюдает постов, а некоторые — за «укоризну против брадобрития». Усманский солдат Гаврила Шмуйлев говорил, что пришли последние времена: «ныне-де знатно [очевидно] антихрист государь, потому что людей своими руками бьет». Некая Подшивалова была бита батогами за то, что «тужила о казненных стрельцах». Старец вологодского Спасского монастыря Герасим говорил: «Лучше бы государя убили, так бы-де службы не было, и мир бы отдохнул»414.
Эти выдержки дают ясное представление о том, чего искал Толстой в архивных делах Преображенского приказа. Его интересовало отношение народа к Петру и его нововведениям. Толстой, следовательно, оставил тему романа «Сто лет» и вновь вернулся к историческому роману из времени Петра I.
Но все присланные Николевым материалы остались неиспользованными, и Толстой к продолжению романа из времени
588
Петра I больше не возвращался. Он был всецело поглощен вопросами религии и ставил перед собой теперь две задачи: 1) изучить во всех подробностях учение церкви и написать опровержение догматического, нравственного и общественно-политического учения церкви; 2) изучить во всех подробностях Евангелия и написать для себя изложение основ христианского учения.
Октябрь 1879 года следует считать временем окончательного разрыва Толстого с учением православной церкви.
К этому же времени был вполне завершен отход Толстого от взглядов своего класса.
«Я отрекся от жизни нашего круга, — писал Толстой в «Исповеди», — признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей».
«...Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства — все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его»415.
589
Глава седьмая
БОРЬБА С ЦЕРКОВЬЮ
(1879—1881)
I
Порвав с учением церкви, Толстой, стремясь «дойти до корня» открывшейся ему лжи, решил основательно изучить все те древние книги, на которых церковь основывала свое вероучение.
Он проштудировал Символ веры (IV в.), «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина (VIII в.), «Послание патриархов православной и кафолической церкви о православной вере» (XVII в.), «Православное исповедание кафолической и апостольской церкви восточной» (XVII в.), «Православное учение или сокращенную христианскую богословию» митрополита Платона (XVIII в.) и, наконец, «Православный христианский катехизис» митрополита Филарета (1823). Изучая эти книги, Толстой подвергал их строгой критике разума. «Я исписал много бумаги, — рассказывает Толстой в черновой редакции «Исследования догматического богословия», — начиная от слова до слова анализировать сначала Символ веры, потом катехизис Филарета, потом „Послание восточных патриархов“...»
Большая часть рукописей этих критических замечаний Толстого на древние изложения учения православной церкви не сохранилась.
Одновременно Толстой изучал Библию и особенно Евангелия, стараясь уяснить себе основы христианского учения.
Изучал Толстой также и историю церкви, начиная с первых веков христианства.
Первое упоминание о работе Толстого над большим сочинением религиозно-философского содержания находим в письме С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 21 октября 1879 года. Она писала, что Лев Николаевич пишет «об Евангелии и о божественном вообще, что очень жаль. Все у него голова болит».
Что касается самого Толстого, то он был так поглощен своей новой работой, что ему трудно было оторваться, чтобы написать письмо. После письма к Страхову от 3 октября в течение всего месяца он не написал своим друзьям ни одного письма.
590
Только 2 ноября, считая себя обязанным уведомить Страхова о получении от него гонорара за помещенные в издании «Русская библиотека» отрывки из его произведений, Толстой коротко извещал Страхова: «Получил деньги и письмо и очень благодарю за письмо. Напишите свою жизнь; я всё хочу то же сделать. Но только надо поставить — возбудить к своей жизни отвращение всех читателей. Я очень занят, но не скажу, что пишу, но здоровье лучше. Будьте вы здоровы»1.
Фет, пославший Толстому 8 октября через железнодорожного кондуктора два тома Библии во французском переводе с комментариями Рейса, тщетно в трех письмах просил Толстого уведомить о получении книг. Наконец, в четвертом письме Фет писал 4 ноября: «Дорогой граф! Уж я-то не считаюсь с вами ни личными, ни письменными визитами, но est modus in rebus. Я четвертое письмо пишу вам и каждый раз с газетами ожидаю напрасно строчки. Здоровы ли вы и у вас? Что делаете? Получили ли книги и перчатки?»2.
Получив это письмо, Толстой, возможно в день получения (6 ноября), кратко уведомил Фета о получении книг и перчаток и в объяснение краткости своего письма прибавил: «Голова болит, устал, но надо было написать хоть два слова»3. О своей работе Толстой, зная, что Фет не будет ей сочувствовать, не написал ни слова.
7 ноября С. А. Толстая пишет сестре:
«Левочка все работает, как он выражается, но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы доказать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил, и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть, предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».
15 ноября С. А. Толстая писала ей же, что Лев Николаевич «пишет все свое божественное».
После письма Страхову от 2 ноября Толстой долгое время никому не пишет. Только 22 ноября он находит возможным поставить Фета в известность (хотя и в очень неясных выражениях) относительно своей новой работы. «Я очень занят, — писал он. — Из занятия моего ничего не выйдет, кроме моего удовлетворения, но все-таки очень занят»4.
591
Вероятно, в тот же день Толстой писал и Страхову: «Очень занят работой для себя, которую никогда не напечатаю»5. Это письмо не было отправлено адресату. Взамен его Толстой вскоре (может быть, в тот же день) написал другое письмо Страхову, в котором уведомлял своего друга: «Я очень занят, очень взволнован своей работой. Работа не художественная и не для печати»6.
29 ноября Софья Андреевна пишет сестре: Лев Николаевич «много пишет, но все то же объяснение на Евангелие и религиозные работы какие-то, которыми я почти что не могу интересоваться».
Сам Толстой 12 декабря вновь пишет Страхову о своей работе: «Я очень занят и очень напрягаюсь. Все голова болит»7.
18 декабря Софья Андреевна уже более сочувственно пишет в дневнике о новой работе Льва Николаевича:
«Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе церкви с христианством. Читает целые дни... Все разговоры проникнуты учением Христа. Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное. «Декабристы» и вся деятельность в прежнем духе совсем отодвинута назад, хотя он иногда говорит: „Если буду опять писать, то...8 напишу совсем другое. До сих пор все мое писание были одни этюды“»9.
Последнее упоминание Толстого о его первой большой неозаглавленной работе религиозно-философского содержания находим в его письме к брату от 21 декабря 1879 года, где он писал об этой работе в таких выражениях: «Я все так же предавался своему сумасшествию, за которое ты так на меня сердишься. Только теперь роды [жены] выбили меня из колеи. Постараюсь только впредь, чтобы мое сумасшествие меньше было противно другим и чтоб не производить на тебя неприятного впечатления»10.
В то время как жена Толстого в общем несочувственно относилась к его новой работе, а брат — прямо враждебно, друзья же не были посвящены в его занятия и он чувствовал себя совершенно одиноким со своими мыслями, Толстой переживал состояние высокого душевного подъема. 28 октября он записал в записной книжке:
«Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеоны — пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но все по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно
592
поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся — хорошие идеалисты. Есть с большими сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья — воспарит высоко. Помоги бог. Есть с небесными крыльями, нарочно, из любви к людям спускающиеся на землю (сложив крылья), и учат людей летать. И когда не нужно больше — улетит. Христос»11.
II
«Я вырос, состарился и оглянулся на свою жизнь. Радости преходящи, их мало, скорбей много, и впереди страданья, смерть».
Такими словами начал Толстой свое первое законченное неозаглавленное религиозно-философское сочинение12. Судя по относящимся к этой работе записям в записной книжке, можно думать, что введение к ней было написано позднее следующих частей работы.
Далее Толстой рассказывает о том состоянии полного отчаяния, доходящего до мысли о самоубийстве, к которому он пришел в поисках смысла жизни, и о том, как, ища спасения от отчаяния, он обратился к вере — прежде всего к вере окружавших его людей из привилегированного класса.
«Если бы были одни люди нашего круга, верившие в бога, — говорит далее Толстой, — то я бы не остановился на них, отыскивая смысл тех бессмыслиц, которые они говорили. Во-первых, их мало; во-вторых, все они очень жирны, и весь тот вздор, который они говорили, можно было объяснить как всякую дурь людей, живущих в избытке и бесящихся с жиру. Выдумывали же они магнетизм животный, месмеризм, спиритизм».
Но он видел вокруг себя, рассказывает Толстой, миллионы верующих из народа, «которые и прежде и теперь живут большей частью в нужде (стало быть, в самых невыгодных для счастия условиях) и счастливы, спокойны и так твердо уверены в своем знании, что никогда не колеблются в своей вере, из-за этой веры лишаются всех благ жизни в монастырях и умирают за нее. Эти заставили меня задуматься и не откидывать сразу их верования как бессмыслицу, а разобрать их хорошенько».
Во второй главе Толстой переходит к разбору «Катехизиса» Филарета. Здесь он на первых же страницах сталкивается с понятием «истинной церкви», в котором он увидел «обман грубый, пошлый».
593
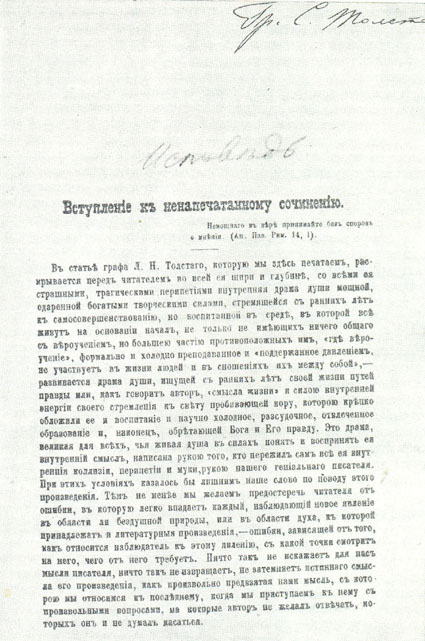
Первая страница запрещенной цензурой статьи Толстого «Исповедь»
594
«В исповедании веры, — писал Толстой, — я нашел ложь хуже, чем я ждал, — яркую, режущую глаза ложь. Но вера в эту ложь — вот чудо... Чудо, совершающееся на наших глазах. Бессмысленно так, что петух не стал бы верить, а верят...»
Кто управляет церковью? — спрашивает Толстой. И отвечает: «Сыны попов, снедаемые честолюбием, попавшие в епископы, роскошно живущие и собирающиеся в Петербурге в безгрешной деревне13 под руководством чиновника прокурора, командующего ими, как солдатами, и сам под начальством царя. Вопросы церкви решаются светской властью. Не буду говорить о теперешней, но пойдем назад — и волос дыбом станет, когда вспомнишь этих светских русских властителей, управляющих церковью... Блудник, бешеный Павел — служащий обедню. Его мать — мужеубийца, ужасающая развратом — правительница церкви. И пастыри наши не знают, как побожественнее восхвалять ее, и потакают ей. Потом опять ряд блудниц, и пастыри, это верное хранилище священного предания, во всем потатчики.. Эти пастыри засекают, сжигают, блудят, обжираются, раболепствуют во все время, известное нам...».
«Взглянешь на хранителей этих в Византии, — пишет Толстой далее, — еще хуже было. Еще больше разврату между этими попами. Соборы — ряд насилий, отменяют один другой, дерутся, подчиняются власти. И так идет до Никейского собора, до Константина святого и бога языческого, и так скрывается во мрак первых веков, о которых почти ничего не знаем. Так что и блюсти-то нечего было, кроме преданий нашей корысти и разврата, да и сосуды-то во все время были гнилы и вонючи. Поглядишь на латинство14 — еще хуже, еще ужаснее сосуды, хранившие предание. И что же, давно уже бросили этот вздор люди, насмеялись над ним? Нет, умирают за святость этого предания. Вот это чудо. И должно быть что-нибудь тут особенного, и стоит искать разгадку...»
Далее, отвлекаясь от темы своей работы, Толстой рисует картину жизни европейских народов, будто бы исповедующих христианство.
«Государства, народы Европы, — пишет Толстой, — живут, называя себя христианами. Т. е. живут, утверждая, что они веруют в бога отца, сына и святого духа, что сын показал им пример жизни и дал заповеди, без которых нельзя спастись: пример жизни — любовь к ближнему, отречение от собственности, отечества; учение — любовь, чистота, неосуждение, самоотвержение. Ну и что же, как живут эти христиане? — Живут каждый народ отдельно, ненавидя друг друга. Ненавидеть чужого до убийства на войне считается достоинством и поощряется.
595
Буду говорить про нас. Оттого, что мы христиане, мы идем убивать турок, завтра — немцев, и все во имя Христа одобряют и восхищаются. Оттого, что христиане, мы вешаем 20-летних мальчиков, и все одобряют, восхищаются... Оттого, что мы христиане, мы блуд разрешаем. Оттого, что мы христиане, мамона есть наш бог. Ему мы одному служим. Оттого, что девству учил Христос, мы оголяем женщин и учреждаем такую жизнь, точно богиня наша одна Венера. Оттого, что мы ученики Христа, блажившего нищих15, мы их гнушаемся и пьем их кровь и пот. Оттого, что Христос, наш учитель, велел последнему быть первым, мы все хотим быть первыми и так учим детей. Оттого, что не велел быть учителями, наши учителя церкви ходят в бриллиантах и бархате. И что же, увидав это противуречие нашей жизни с Христом, мы сбросили эту шелуху? Нет, мы только что воевали за христиан16, у нас церкви, монастыри ломятся от богатств...»
После этого отступления, в котором Толстой впервые высказался как обличитель всего политического и социального строя во всех европейских государствах, называющих себя христианскими, он возвращается к своей основной теме, к вопросу о том, чем объясняется вера миллионов людей в очевидные бессмыслицы церковного учения. Объяснение этого явления Толстой находит в том, что предания об Иисусе, называемом Христом, изложенные в Евангелиях, представляют собой «ужасную, соблазнительную смесь высоких понятных вещей и безобразнейших, бессмысленнейших учений». Христианство — «явление, произведшее такие на 2000 лет громадные последствия»; «мы до сих пор не можем дышать другим воздухом духовным как Христа». Но книги, содержащие предания об Иисусе, — Евангелия и апостольские послания, «после 1800 лет существования лежат перед нами в том же грубом, нескладном, исполненном бессмыслиц, противоречий виде, в каком они были, когда появились случайно, в разных концах земли, с своими частными целями».
И Толстой ставит перед собой задачу — представить в чистом виде учение, приписываемое Иисусу и изложенное в Евангелиях. С этой целью он приступает к свободному изложению всех четырех Евангелий, выбирая из них только те места, которые говорят о жизни и учении Иисуса, и пропуская все то, что не относится к этому предмету, а также все чудеса, пророчества и все неясные места.
Поучения Иисуса излагаются Толстым в форме скорее беседы, чем проповеди. Все изложение написано совершенно простым, разговорным, близким к народному, языком, как, например:
596
«Так оно так и есть», «Это бы ничего», «Ну вот ты понял», «Поймите все и раз навсегда», «Ужасайтесь — не ужасайтесь, это так» (о том, что богатый не войдет в царство небесное), «Заботься — не заботься, ты не знаешь, что будет», «Защищаясь, не хитрите, а говорите то, что на сердце» и т. д.
Иногда Толстой в изложении учения Христа пользуется даже вульгаризмами, как, например: «Чему же быть, как только тому, что вы все подохнете». Иногда беседа принимает характер дружеского спора или ласкового упрека, как, например: «Каково! вас соблазняет именно то, что должно убедить»; или: «Если вы этого не понимаете, то вы не поняли ничего из того, что я говорил вам».
Таким языком излагает Толстой учение Иисуса не только потому, что все, что он писал в том году, написано был простым языком; здесь была еще особая цель. Цель эта состояла в том, чтобы, отказавшись от того выспреннего, торжественного языка, каким большей частью говорит Христос в Евангелиях, снять с личности Христа ореол божественности, который, по мнению Толстого, препятствовал исполнению в жизни христианского учения. Однако в некоторых случаях (правда, только в двух) Толстой, затрудняясь точным изложением христианского учения, прибегает к кантовской фразеологии («царство небесное вне времени и пространства», «бог вне времени и пространства»).
Иногда Толстой вместо установившихся церковных терминов, имеющих определенный смысл, употребляет другие слова: вместо «грех» — ошибка, вместо «соблазн» — препятствие. В то же время Толстой прилагает все усилия к тому, чтобы точно передать основы нравственного учения Христа. В сомнительных случаях он справляется с греческим текстом Евангелий.
Некоторые места Евангелий сопровождаются комментариями Толстого. С большим воодушевлением пишет он пояснения к одному из самых близких для него евангельских рассказов — обличению Христом книжников и фарисеев. Толстого удивляет в этом обличении «то предвиденье, та глубина воззрения на сущность дела, которые сделали то, что обличение фарисеев и законников 1800 лет тому назад точно написано в каждый из последующих 1800 годов и для нас, в нашем 1879 году кажется написанным прямо против наших архиереев, митрополитов, попов во вчерашней газете, ускользнувшей как-то от цензуры. Читая это Евангелие по нашим церковным изданиям, особенно с толкованием, — пишет Толстой, — мне всякий раз кажется, что это место будет пропущено или изменено. Но способность заблуждения людей необычайна. Как рассказывал сатирик, что он читал свои сатирические портреты тем самым лицам, с которых он писал их, и что оригиналы смеялись и не думая узнавать себя, так и в этом обличении всегда удивительно, как могут церковные пастыри читать это место без гнева или стыда. Но они
597
представляют себе каких-то других обманщиков, а к себе не относят того, что не только портрет, но тождество».
В своих комментариях на евангельские тексты Толстой не избегает юмора. Так, по поводу евангельского рассказа о том, как во время крещения Иисуса «разверзлись небеса», Толстой остроумно замечает: «Сказать: небеса разверзаются — все равно что сказать: земля стреляется».
После изложения учения Иисуса Толстой делает краткий общий обзор его жизни по евангельским преданиям. Толстой подчеркивает ту сторону жизни Иисуса, которая в то время была для него особенно привлекательна, — его страннический образ жизни. Евангельское изречение: «Сын человеческий не имеет где голову преклонить» — Толстой излагает следующим образом: «И всю свою жизнь он [Иисус] ходит из места в место и ночует где дома, где под шапкой. Когда есть что — поест, а когда натощак ложится спать».
Подчеркивает Толстой и другую, восхищавшую его в то время особенность жизни Иисуса — отсутствие семьи. «Он учит, — пишет Толстой, — что надо бросить жену и детей и идти за ним, и сам не женится и не имеет семьи».
Наконец, третье, чему особенно сочувствует Толстой в истории жизни Иисуса, это то, что он не имел никакой собственности. «Блаженны те, — передает Толстой поучение Иисуса, — которые ничего не имеют: ни семьи..., ни богатства, — нищие, и плохо богатым; и потому надо стараться избавиться от этих зол. От семьи — «враги человеку домашние его»; от богатств — по совету [богатому] юноше».
При этом Иисус в изображении Толстого совсем не аскет. Он не брезгает никаким удовольствием — «ни свадьбой, ни ужином, ни праздником Пасхи». Цель жизни Иисуса одна — «добро и любовь».
В заключительной части своей работы Толстой говорит о своем личном отношении к учению Христа — с одной стороны, и к церковной вере — с другой. «Я справился, — пишет он, — что такое христианская вера, и из книг, определяющих эту веру, убедился, что то, что они называют христианской верой, есть ряд ужасающих бессмыслиц, вроде бреда сумасшедшего, что мне был один выбор: или сойти с ума, чтобы согласиться, или отбросить это как бред. Я взял источник всех бредней — христианские книги и стал читать их, откидывая все непонятное и держась ясного и понятного».
Изучение Евангелия привело Толстого к несомненному выводу, что церковь извратила учение Христа. «Царство церквей» есть «царство дьявола и тьмы».
Но «Иисус пошел на казнь не затем, чтобы уверить людей, что надо попам в парчевых мешках лопотать бессмысленные речи в домах с крестами, и всем купаться, мазаться маслом
598
и есть с ложечки пшеничные крошки с вином, и десяткам монахов спасаться в пустыне, и всему миру жить по-старому». Это рассуждение Толстого по форме предваряет описание богослужения в «Воскресении». И там и тут «парчевые мешки», которые надевают на себя попы, и там и тут употребление простых, обыкновенных слов («купаться, мазаться маслом» и др.) для описания церковных обрядов, совлекающих с этих обрядов ореол священнодействия.
Далее, вновь обращаясь к русской действительности 1879 года, Толстой говорит, что при существующем государственном устройстве все требования христианства «презрены». Под предлогом «блага людей» совершаются ужасные злодеяния17.
«Теперь у нас, — пишет Толстой, — будочник хватает студента, про которого ему сказали, что он злодей, и вяжет и тащит в тюрьму, тюремщик запирает злодея, он знает, что это нужно для блага мира. Судья судит для блага человечества. Начальник велит задавить его веревкой для блага мира. Палач давит для того же блага. Первосвященник говорит речи, что это хорошо, и для блага же с крестом, на котором распят был Иисус, в память Иисуса одобряет убийство и благословляет тем же знаком креста, на котором распят Иисус, благословляет убийц. Все для блага людей. Книжник и законник мудрствует и доказывает, что для блага людей нужно убивать «таких злодеев». Приходит старшина, тащит молодого мужа от молодой жены, жившего своим трудом, никого не обижавшего, тащит в город, его стригут, одевают в пестрое платье для блага людей, учат убивать людей для их блага и посылают бить их, или его убивают, если он этого не хочет делать, все для блага людей. И в этом насилии и жестокости и соблазне принимают участие тысячи, от прапорщика мальчика до старика царя. Книжники и законники мудрствуют и доказывают, что это убийство есть добро и [делается] для блага людей». «Не заботьтесь о мнимом благе других, — излагает Толстой учение Христа, — спасайте каждый себя».
«Что же будет тогда?» — задает вопрос Толстой (т. е. тогда, когда будет осуществляться в жизни учение Христа) и отвечает на этот вопрос: «Причин вражды: собственности, славы людской, государств, царей, начальников, учителей [веры] нет, каждый желает делать другим то, что он себе хочет... Если люди не будут видеть блага в славолюбии, богатстве, власти, то труд уменьшится так, что труд не будет тяжесть, но радость».
Последние страницы неозаглавленного первого законченного религиозно-философского произведения Толстого все посвящены
599
обличению церкви. Хотя Толстой и обещал в начале своей работы, что, разбирая церковное учение, он будет «воздерживаться особенно от взволнованного, восторженного или негодующего тона», но, подводя итоги своей критике учения церкви, он не может сдержать глубочайшего возмущения и негодования.
«Да, — писал Толстой в заключении к своей работе, — они — те самые мнимые учителя христианской церкви, мнимые наследники Христа, те самые, которых из всех людей одних проклял Иисус, сказав, что все простится, кроме хулы на святого духа. И нельзя было ему не проклясть их... Что же сделали эти наследники Христа? Они назвали себя учителями, взяли ключ понимания, сами не вошли, других не пускают и выдумали царство небесное, исполненное лжи и зла, и уверяют, что это-то их царство небесное есть то самое, о котором говорил Иисус, что другого и нет, и что вот это отворено всем тем, которые будут признавать нас. Как же было не проклясть их? Но им мало было этого, они сами открыто отреклись от учения того, кого они называют своим учителем, и главное, они во имя его стали творить, творили и творят те самые дела, от которых приходил Иисус спасти людей. Осуждение за веру, самое злое из всех осуждений — это первое их дело. Их тысяча толков, и каждый проклинает и осуждает все другие... Ненависть — они и сами чувствуют и возбуждают... Война — огромное убийство. А они и возбуждали и возбуждают войны. Гордость. Какая хуже гордость может быть той, которая утверждает, что она одна знает истину истин, а другие все заблуждаются, а они все говорят это. Сластолюбие, сребролюбие — мамон. Где больше найдешь богатств не для целей других, а богатств для любви богатств, как у них? У кого мягче и белее руки, на ком дорогие парчи, шелки, бриллианты? На блудницах и на них. Величание себя. Кто председательствует на собраниях? Генерал-губернатор — палач — и они. Кому кланяются в землю? Их идолам и им. Кому целуют руки? Им и блудным женам.
Учение их — напыщенный вздор, но не просто вздор, а вздор лживый, сознательно обманчивый, имеющий целью подтвердить их значение.
Жизнь их во все времена до наших — ряд пороков и преступлений...
Изложение веры учителями этой веры и их тупоумие и мерзкая жизнь еще смолоду оттолкнули меня от веры, и то их учение, которому меня в виде катехизиса учили насильно, заслонило от меня надолго всякую надежду найти что-нибудь путное в их учении. Я искал везде: у греков и римлян. У философов, у Вольтера, везде, только не у них; потому что в их учении была бессмыслица, насилие, гордость, и детское и юношеское чутье мое верно чуяло, что у них все ложь. То, что со мной случилось, случилось с теми тысячами сверстных мне людей,
600
случается теперь с другими десятками тысяч и будет случаться до тех пор, пока не будет распутана та ложь, которой они окружили истину, пока не будет выкинут навоз, которым они облепили святыню и в котором мажутся, как свиньи. По их милости, я на 30 лет моей жизни был лишен единственной истины, доступной людям и дающей смысл жизни, и после 30 лет заблуждений, порока, страданий душевных, когда я рассуждением и наблюдением над людьми был приведен к убеждению, что все-таки в ней, в христианской вере есть единая истина, и взялся за изложение сам этой христианской веры, я опять был оттолкнут от нее тем безобразием лжи и сознательного обмана, который представился мне при первом рассмотрении того, что они выдают за учение Христа. Я был так одарен упорством и досугом и был так близок к отчаянию и самоубийству, что я не отвернулся в другой раз от учения тогда, когда уже я был убежден, что если есть где истина, то только здесь, я догадался, что самая очевидность бессмысленности доказывает истинность, и не отбросил всего учения из-за поповского вздора и постарался, откидывая ложь, понять истину. И понял простую, ясную, понятную всем, в сознании которой я почувствовал себя единомышленным со всеми верующими, и получил то самое успокоение, которое прельщало меня в других»18.
«Православная церковь?
Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями. Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать по моему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем этом я должен спроситься у них — у этих праздных, обманывающих и невежественных людей. В моей жизни, в святыне души моей у меня руководитель — пастырь, мой приходский священник, выпущенный из семинарии, одуренный,
601
малограмотный мальчик, или пьющий старик, которого одна забота собрать побольше яиц и копеек. Велят они, чтобы на молитве дьякон половину времени кричал многая лета правоверной, благочестивой блуднице Екатерине II, или благочестивейшему разбойнику, убийце Петру, который кощунствовал над Евангелием, и я должен молиться об этом. Велят они проклясть, и пережечь, и перевешать моих братьев, и я должен за ними кричать анафема. Велят эти люди моих братьев считать проклятыми, и я кричи анафема. Велят мне ходить пить вино из ложечки и клясться, что это не вино, а тело и кровь, и я должен делать.
Да ведь это ужасно! Ужасно, если бы возможно было. На деле же этого нет, но не от того, чтобы они ослабели в своих требованиях — они все так же орут анафема, кому велят, и многая лета, кому тоже велят; но на деле давно, давно их никто не слушает. Мы, люди так называемые образованные (я помню свои 30 лет вне веры), даже не презираем, а просто не обращаем никакого внимания, даже любопытства не имеем знать, что они там делают и пишут и говорят. Пришел поп — дать полтинник. Церковь, построенную для тщеславия, святить, — позвать долгогривого архиерея, дать сотню. Народ еще меньше обращает на них внимания. На маслянице надо блины есть, на страстной говеть; а если возникнет вопрос душевный для нашего брата, идем к умным, ученым мыслителям, к их книгам, или к писанию святых, но не к попам; люди же из народа, как только в них проснется религиозное чувство, идут в раскол — штундисты, молокане. Так что давно уже попы служат для себя, для слабоумных и плутов и для женщин. Надо думать, что скоро они будут поучать и пасти только друг друга».
«Учительство церкви... теперь есть злейший враг христианства; пастыри ее служат чему хотите, только не учению Иисуса, потому что отрицают его. Учение о церкви учительской есть теперь учение чисто враждебное христианству. Отступив от духа учения, оно извратило его до того, что дошло до его отрицания всей жизнью: вместо унижения — величие, вместо бедности — роскошь, вместо неосуждения — осуждение жесточайшее всех, вместо прощения обид — ненависть, войны, вместо терпения зла — казни. И все отрицают друг друга».
«Церковь — все это слово — есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. И другой нет и не может быть церкви».
Таково содержание первой законченной религиозно-философской работы Толстого. Взгляды Толстого в области религии, философии и этики, выраженные в этой работе, сводятся к следующему.
Он не признает никакой религиозной метафизики, кроме представления о непостижимом боге как «источнике всякой жизни».
602
Он говорит, что к признанию бога он приведен не верой, но разумом; признание бога стоит «на пределе разума». Он отвергает все церковные догматы и все внешнее богопочитание: храмы, богослужение, таинства, обряды, посты, молитвы и самое существование иерархии, т. е. духовенства, учителей веры. Церковные догматы «уродуют и закрывают все учение Христа».
Истинная жизнь человека — не плоть, а то, что противоположно плоти. «Что такое эта жизнь, — говорит Толстой, — что она сама в себе, я не знаю», но «лучше не умею назвать ее, как дух»19. «Дух этот свободен»; «он един во всех людях». «Другой [человек] — я же». «Я в них, и они во мне».
Цель жизни — «только единение со всеми проявлениями духа любовью». «Любовь к другому есть любовь к себе, есть сознание единства».
«Учение его [Христа] в одном: не противиться злу, не судить, не казнить, не величаться, а унижаться, не приобретать богатства, не других заставлять на себя работать, а самому на других работать».
«Всякие определенные связи, отношения с людьми: государство, общество, семья, собственность, — все это мешает истинной жизни». «Он [Христос] учит, что надо не любить мир, что мир с делами его есть зло, и ни разу не признает его». «Отвергает всякое участие в делах мира, говоря, что он не поставлен делить и судить их».
Что выйдет из того, что человек будет исполнять заповедь непротивления злу, этого мы не можем знать. Если я отдам рубашку тому, кто хочет взять у меня кафтан, то «может быть, он даст мне дюжину кафтанов». Но может быть и то, что «если я не дам ему рубашку, он насильно снимет ее, а, может быть, и убьет». Но смерти не надо бояться: «подольше, поменьше вы проживете — это совершенно все равно». Но, поступая по закону любви, «я наверно получаю единую истинную жизнь».
«Живите только настоящим, любя всех, покоряясь всем, ничего не имея». «Ищите царства небесного и правды его в своей душе, и все будет хорошо».
Все внимание Толстого обращено на исполнение учения любви без всякой мысли о последствиях. Здесь нет и намека на позднейший столь частый у Толстого призыв к неисполнению требований властей, если они противоречат религиозно-нравственному закону. Нет «пассивного противления» (термин, употребленный Ганди на английском языке в письме к Толстому от 4 апреля 1910 года и повторенный Толстым в его ответном письме Ганди от 25 апреля (8 мая) 1910 года).
603
III
В октябре 1879 года Толстой записал в записной книжке:
«Церковь, начиная с конца [т. е. с настоящего времени] и до III века, — ряд лжей, жестокостей, обманов».
«30 октября 79. Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему, — птица живая та, что летает».
«Вера отрицает власть и правительство — войны, казни, грабеж, воровство, а это все сущность правительства. И потому правительству нельзя не желать насиловать веру. Если не насиловать — птица улетит».
Лютеранство, кальвинизм, англиканство — все это «не вера, а форма насилия. Истинны только угнетенные: павликиане, донаты, богомилы и т. п.».
«Церковная история — насилие, зло, ненависть, гордость».
«Христианство насиловано при Константине, при разделении Запада и Востока».
«Кому какую пользу сделало толкование священного предания? Открыло оно сердца людей? Нет. Нищие духом спасаются и творят дела без толкования. А сделало ли вред? Неисчислимый. Соблазны. Распри. Злоба. Убийства»20.
Все эти заметки были развиты Толстым в статье «Церковь и государство», которую поэтому, а также и по самому содержанию следует датировать концом октября — началом ноября 1879 года21.
Определив понятие веры: «вера есть смысл, даваемый жизни, есть то, что дает силу, направление жизни», Толстой далее переходит к раскрытию понятия «церковь» и утверждает, что «из всех безбожных понятий и слов нет понятия и слова более безбожного, чем понятие церкви». «В христианстве весь обман построен на фонтастическом понятии церкви, ни на чем не основанном и поражающем с начала изучения христианства своей неожиданной и бесполезной бессмыслицей».
Обращаясь к истории, Толстой утверждает, что церковь становится «делом обмана» с IV века, когда царь Константин принял церковное христианство и объявил христианство государственной религией. Царь Константин созывает вселенский собор епископов, на котором были установлены догматы церковной веры, обязательные для всех верующих. С тех пор огромное большинство христиан «отреклось от своей веры» и «пошло с христианским именем по языческой дороге и идет до сих пор». «Принятие христианства без отречения от власти есть насмешка над христианством и извращение его. Освящение власти
604
государственной христианством есть кощунство, есть погибель христианства».
Вот уже 1500 лет всякими сложными софизмами, «везде в угоду власти изуродовав все учение Христа, чтобы оно могло ужиться с государством», пытаются «объяснить святость, законность государства и возможность его быть христианским. В сущности же слова «христианское государство» есть то же, что слова «теплый, горячий лед». Или нет государства, или нет христианства».
С беспощадным сарказмом рисует Толстой историю возникновения союза церкви с государством:
«Было разбойничье гнездо в Риме; оно разрослось грабительством, насилием, убийством; оно завладело народами. Разбойники и потомки их, с атаманами, которых называли то Кесарем, то Августом, во главе — грабили и мучили народы для удовлетворения своих похотей. Один из наследников этих разбойничьих атаманов, Константин, начитавшись книг и пресытившись похотной жизнью, предпочел некоторые догматы христианства прежним верованиям. Принесению людских жертв он предпочел обедню, почитанию Аполлона, Венеры и Зевса он предпочел единого бога с сыном Христом и велел ввести эту веру между теми, которых он держал под своей властью.
«Цари властвуют над народами, между вами да не будет так. Не убей, не прелюбодействуй, не имей богатств, не суди, не присуждай. Терпи зло». Всего этого никто не сказал ему. «А, ты хочешь называться христианином и продолжать быть атаманом разбойников, бить, жечь, воевать, блудить, казнить, роскошествовать? Можно».
И они устроили ему христианство. И устроили очень покойно, даже так, что и нельзя было ожидать. Они предвидели, что, прочтя Евангелие, он может хватиться, что нам требуется все это, т. е. жизнь христианская, кроме построения храмов и хождения в них. Они предвидели это и внимательно устроили ему такое христианство, что он мог, не стесняясь, жить по-старому, по-язычески. С одной стороны — Христос, сын бога, затем только и приходил, чтобы его и всех искупить. Оттого, что Христос умер, Константин может жить, как хочет. А этого мало — можно покаяться и проглотить кусочек хлебца с вином, это будет спасенье, и все простится. Мало того, — они еще его власть разбойничью освятили и сказали, что она от бога, и помазали его маслом. Зато и он им устроил, как они хотели — собрание попов, и велел сказать, какое должно быть отношение каждого человека к богу, и каждому человеку велел так повторять.
И все стали довольны, и вот 1500 лет эта самая вера живет на свете, и другие разбойничьи атаманы ввели ее, и все они помазаны,
605
и все, все от бога. Если какой злодей пограбит всех, побьет много народа, его они помажут — он от бога. У нас мужеубийца, блудница была от бога, у французов — Наполеон. А попы зато — не только уж от бога, но почти сами боги, потому что в них сидит дух святой. И в папе, и в нашем синоде с его командирами чиновниками.
И как какой помазанник, т. е. атаман разбойников, захочет побить чужой и свой народ, — сейчас ему сделают святой воды, покропят, крест возьмут (тот крест, на котором умер нищий Христос за то, что он отрицал этих самых разбойников) и благословят побить, повесить, голову отрубить.
И всё бы хорошо, да не умели и тут согласиться и стали помазанники друг друга называть разбойниками (то, что они и есть), и стали попы друг друга называть обманщиками (то, что они и есть); а народ стал прислушиваться и перестал верить и в помазанников, и в хранителей св. духа, а выучился у них же называть их, как следует и как они сами себя называют, т. е. разбойниками и обманщиками».
Статья заканчивается указанием на ненужность, даже вред церковных догматов и благотворность нравственного учения Евангелия.
«История для нас, — пишет Толстой, — поверка истинности учения, поверка даже механическая. Догмат непорочного зачатия богородицы — нужен он или нет? Что от него произошло? Злоба, ругательства, насмешки. А польза была? — Никакой. — Учение о том, что не надо казнить блудницу, нужно или нет? Что от него произошло? Тысячи и тысячи раз люди были смягчены этим напоминанием».
Перечитав 28 декабря 1890 года статью «Церковь и государство» уже в печатном виде, Толстой остался удовлетворен написанным. В этот день он записал в дневнике: «Читал вечером Церковь и Государство. Всё там сказано» (по вопросу об отношениях между церковью и государством)22.
IV
Из писем Толстого, написанных в ноябре и декабре 1879 года и не связанных с его работой, обращают на себя внимание три письма — два к Н. Н. Страхову, первое из которых не было отправлено, и письмо к Тургеневу.
Н. Н. Страхов, по совету Толстого решивший начать писать историю своей жизни, обдумывая предстоящую работу, прислал Толстому длинное письмо-исповедь, в котором называл себя «во всех сферах неудавшимся», «безжизненным, в котором мало
606
души, нет воли в смысле живых стремлений» и «настоящая душевная жизнь очень слаба»23.
Это унылое письмо Страхова, полученное Толстым в то время, когда он жил кипучей внутренней жизнью, очень огорчило его. «...Вы совсем спутаны, — писал он в ответе Страхову между 19 и 22 ноября. — Вы хотите добра, а жалеете, что в вас мало зла, что в вас нет страстей. Вы хотите истины, а жалеете и как будто завидуете, что у вас нет ничего хищного». (Здесь Толстой намекает на принадлежавшее Аполлону Григорьеву и разделявшееся Страховым деление людей на «хищных» и «смирных)». И Толстой советует Страхову: «Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный, [чтобы] все цели вашей жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела божии, исполняйте волю отца, и тогда вы увидите свет и поймете... И бремя пресыщения и перегрузка свалится с вас, и вам станет легко»24.
Это было первое письмо Толстого проповеднического характера. Еще за полтора года до этого письма — 2 июня 1878 года — Толстой записал о своем желании проповедовать: «Господи, даруй мне его [познание истины] и дай мне помочь другим познать его!»25.
Но в данном случае Толстой в самом письме выразил сомнение в том, отправит ли он это письмо адресату или нет. Вероятно, проповеднический тон по отношению к своему «дорогому единственному духовному другу», как назвал Толстой Страхова в письме от 27 ноября 1877 года, показался ему неуместным, и письмо не было отправлено. Вместо него Толстой тогда же написал Страхову другое письмо, более сдержанное и более краткое, в котором советовал ему «полюбить себя», «вашу жизнь добра саму в себе, которую я люблю в вас, в себе, в боге и которую одну можно любить». «От души люблю вас, — заканчивал Толстой свое письмо, — и надеюсь, что вы найдете иго, которое легко, и бремя, которое добро, и найдете покой душе вашей».
Вместе с тем Толстой находил, что Страхову «нельзя» «писать свою жизнь», так как он не знает, «что хорошо, что дурно»26.
Разумеется, Страхов нисколько не обиделся на письмо Толстого и в ответном письме от 1 декабря только высказал огорчение тем, что Толстой не послал ему свое первое письмо. «Уверяю Вас, — писал Страхов, — не могу придумать, как я могу обидеться на какие бы то ни было Ваши мысли»27.
607
Толстой, вполне удовлетворенный этим письмом Страхова, в ответном письме от 12 декабря писал, что он никак не может «помириться с мыслью», что Страхов не знает, зачем он живет, «и что́ хорошо, что́ дурно». «Мне не только кажется, но я уверен, что вы всё это на себя выдумываете», — писал Толстой28. И, опасаясь, что он все-таки в какой-то мере задел Страхова своим письмом, Толстой в конце декабря послал ему телеграмму с приглашением приехать в Ясную Поляну для встречи Нового года, на что Страхов, разумеется, с восторгом согласился.
В те несколько дней, которые Страхов на этот раз провел в Ясной Поляне, Толстой вкратце рассказал ему о своих работах и изложил свое понимание христианского учения. И то и другое вполне удовлетворило Страхова, и по возвращении в Петербург он 8 января 1880 года писал Толстому:
«Вы не только удивили меня, бесценный Лев Николаевич, как это много раз бывало, но Вы на этот раз меня успокоили и согрели. Я как будто чувствую, что найдена твердая точка, на которой следует стоять, которую нужно отыскивать в случае волнения и колебания; я действительно стал спокойнее и радостнее. Меня как будто что-то вдруг озарило, и я все больше и больше радуюсь и все вглядываюсь в этот новый свет... Мне становится понятным, как Вы могли наконец достигнуть Вашей теперешней точки зрения. До нее можно было дойти только силою души, только тою долгою и упорною работою, которой Вы предавались.... Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем; но Вы, сверх того, самый цельный и последовательный человек... Неизменная, всегдашняя Вам благодарность и любовь за то, чем Вы были и есть для меня!»29.
Письмо Страхова очень обрадовало Толстого: ведь это был первый сочувственный отклик на его новое направление и на работы в этом направлении. 15 января он отвечал Страхову: «Давно я не испытывал такой радости, какую доставило мне ваше письмо». Из письма Страхова Толстой понял, что его «мучительная духовная работа не напрасный труд». «Очень я рад»30.
В половине или в конце декабря 1879 года Толстой написал Тургеневу письмо, остающееся для нас неизвестным, как и большинство писем Толстого к Тургеневу. Из ответного письма Тургенева от 28 декабря 1879 года (9 января 1880 года) узнаем, что Толстой просил Тургенева передать какую-то сумму денег известному революционеру-семидесятнику Н. В. Чайковскому, что Тургенев и исполнил, вручив Чайковскому сто франков. Далее Тургенев сообщал, что в Париже вышел французский перевод «Войны и мира», прибавляя: «Я на днях в 5-й
608
и 6-й раз с новым наслаждением перечел Ваше поистине великое произведение».
Толстой при его напряженных занятиях и появившемся уже в то время отрицательном отношении к своим прежним художественным произведениям едва ли обратил большое внимание на это сообщение Тургенева. Но, несомненно, он был доволен тем, что Тургенева «очень тронуло сочувствие», выраженное ему Толстым в этом не дошедшем до нас письме по поводу оскорбительной заметки про Тургенева в «Московских ведомостях». Заметка, принадлежавшая реакционному беллетристу Б. М. Маркевичу и напечатанная в № 313 «Московских ведомостей» от 9 декабря 1879 года, была вызвана предисловием Тургенева к воспоминаниям эмигранта И. Я. Павловского «En cellule. Impressions d’un nihiliste» («В одиночном заключении. Воспоминания нигилиста»), помещенным в парижской газете «Le Temps». В своем предисловии Тургенев писал: «Эти нигилисты, о которых говорят в последнее время, и не так черны и не так ожесточены, как их обыкновенно изображают». Маркевич в своей заметке, написанной в форме корреспонденции, обвинял Тургенева в «кувыркании перед молодежью» и называл его «адвокатом русских нигилистов».
Относительно статьи Маркевича Тургенев писал Толстому: «Я, с своей стороны, почти готов радоваться ее появлению, так как оно побудило Вас сказать мне такие хорошие дружелюбные слова»31.
V
9 декабря 1879 года у Толстого происходила беседа с тульским архиереем Никандром. Нам неизвестен повод, по которому состоялась эта беседа, но известно до некоторой степени ее содержание.
По словам тульского священника Александра Иванова, слышавшего об этой беседе от самого архиерея, предметом беседы была народная вера, русское паломничество и русское подвижничество последнего времени32. Кроме того, Толстой в разговоре возмущался нетерпимостью и фанатизмом русской церкви и поставил перед архиереем вопрос, почему бы всем христианским исповеданиям не соединиться в самых главных положениях веры, которые они все одинаково признают, а в менее важных пунктах, в которых они расходятся, предоставить каждому вероисповеданию полную свободу. Архиерей выразил согласие с этой мыслью Толстого, но сказал, что «такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной
609
власти — блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков»33.
Кроме того, по словам священника Иванова, Толстой поставил перед архиереем вопрос, не должен ли он, по слову Евангелия, передать свое имение бывшим своим крепостным и другим окрестным крестьянам. — «А вы готовы это сделать?» — спросил архиерей. — «Готов хоть сейчас», — последовал ответ Толстого. «Говоря это, — рассказывает Иванов, — он изумил преосвященного решительностью тона»34. «Подумавши немного», архиерей сказал Толстому, что он не имеет нравственного права это сделать, потому что его имение принадлежит не только ему, но и его семье.
По-видимому, были затронуты и другие вопросы об исполнении христианского учения в существующих условиях жизни — вопросы, относительно которых архиерей внутренне признавал правоту Толстого, хотя на словах и не соглашался с ним. О таком направлении беседы можно заключить по рассказу архиерея Никандра о его разговоре с Толстым, переданному им другу Толстого, бывшей классной даме тульского епархиального училища, Марии Александровне Шмидт (разговор происходил в середине 1880-х годов). «Я его уважаю, — говорил архиерей, — но его проповедь — это бог знает что такое... Ведь Лев Николаевич у меня был, только давно уже... Был он тогда очень верующим... Столько задавал жгучих вопросов! Он меня ими к стене, как гвоздями, пригвоздил. Разве можно без компромиссов жить?» — рассуждал владыка-оппортунист. — «Это ошибка Льва Николаевича — полное отрицание компромиссов и отклонение от православия»35.
На прощание архиерей рекомендовал Толстому по вопросу о русском подвижничестве и по всем недоуменным вопросам относительно православной веры обратиться к тульскому ученому священнику Иванову.
Беседа с тульским архиереем также не удовлетворила Толстого, как и его беседы с московскими иерархами. Но совет обратиться к священнику Иванову Толстой исполнил, направившись к нему прямо от архиерея.
А. Иванов в статье 1901 года вспоминает, что к нему «лет двадцать тому назад» «совершенно неожиданно» пришел граф Л. Н. Толстой и сказал, что архиепископ Никандр рекомендовал ему побеседовать с Ивановым об интересующих его вопросах веры. Оказалось, рассказывает Иванов, что в то время графа
610
Льва Николаевича «занимали взгляды и понятия нашего простого народа о религии, русском паломничестве и русском современном нам подвижничестве». Толстой рассказал свои планы относительно издания для народа религиозных книг, в том числе книг о русском подвижничестве того времени; он пригласил Иванова стать сотрудником в этом деле. Иванов подобрал ему из своей библиотеки несколько брошюр о жизни современных подвижников и указал литературу по данному вопросу.
Продолжая начатый у архиерея разговор, Толстой, по словам Иванова, «сильно упрекал и нашу православную и всю вообще христианскую церковь за то, что церкви разных исповеданий спорят из-за догматов, часто из-за самых маловажных особенностей вероисповедания — не только спорят, но и ссорятся, ненавидят друг друга». «В христианстве, — говорил граф, — есть нечто главное, в чем почти все вероисповедания сходятся. Нужно настоять на том, чтобы все сошлись на самом главном; это главное, конечно, нужно установить, а в неглавных пунктах вероучения предоставить всем полную свободу и считать их совершенно безразличными».
Иванов посоветовал Толстому обстоятельно ознакомиться с православным вероучением по двум лучшим руководствам: «Православное догматическое богословие» митрополита Макария и «Догматическое богословие» Филарета Черниговского.
— Хорошо, я это сделаю, — сказал Толстой, и этим закончилась беседа36.
VI
Первое издание «Православного догматического богословия» Макария (тогда еще епископа) появилось в пяти томах в 1849—1853 годах. Книга поступила на рассмотрение херсонского архиепископа Иннокентия, который дал о ней самый блестящий отзыв.
«Рассматриваемое нами сочинение, — писал Иннокентий в своем отзыве, — представляет самое редкое и самое отрадное явление в нашей богословской литературе, подобного коему она давно не видела на своем горизонте и, по всей вероятности, не скоро увидит опять... У преосв. Макария каждый догмат обозревается и раскрывается со всех сторон, с каких он только может явиться с пользою в науке... Нравственные выводы из догматов, какими заключается у автора каждая глава, везде являются в приличной полноте, проникнуты христианским чувством... Вообще «Православное догматическое богословие» преосв. Макария представляет труд совершеннейший из всех, какие являлись у нас доселе на том же поприще... Воздвигнуто стройное и громадное
611
целое, которое при всем желании подобных явлений, по всей вероятности, надолго останется единственным... Труд, удовлетворяющий всем современным требованиям науки по стройной системе и выводу всех частей и истин из одного начала, по глубокой и обширной учености автора, по господствующему историческому направлению, столь сродному богословию как науке положительной, по отличной ясности и вразумительности в способе раскрытия истин»37.
Академия наук присудила автору «Православного догматического богословия» полную Демидовскую премию. Книга выдержала пять изданий; последнее появилось в 1915 году.
Слава первого русского богослова настолько утвердилась за митрополитом Макарием, что известный церковный писатель архиепископ херсонский Никанор в некрологе его писал: «Макарий был не только великий, а пока и беспримерный по некоторым чертам богослов... Со времени Иоанна Дамаскина никто ни в православной восточно-греческой, ни в российской церкви не дерзал дать другую — другую, конечно, не по смыслу, но по самому объему, по распорядку изъяснения — систему нашей веры до последних веков... Макарий беспримерен по полноте своей выработанной в определенных научных рамках и законченной богословской системы»38.
Тульский священник, следовательно, не ошибся, когда рекомендовал Толстому «Православное догматическое богословие» митрополита Макария как самое авторитетное изложение вероучения православной церкви.
И Толстой поспешил приобрести два объемистых тома книги Макария и засел не за чтение, а за самое добросовестное и подробное штудирование этой книги. Приведенная выше запись С. А. Толстой в ее дневнике от 20 декабря 1879 года: «читает целые дни» — относится именно к книге Макария.
«Я долго трудился над этим, — писал Толстой, — и, наконец, достиг того, что выучил богословие, как хороший семинарист, и могу, следуя ходу мысли, руководившей составителей, объяснить основу всего, связь между собой отдельных догматов и значение в этой связи каждого догмата и, главное, могу объяснить, для чего избрана именно такая, а не иная связь, кажущаяся столь странною»39.
К каким же заключениям пришел Толстой в результате такого подробного и основательного изучения «Богословия» Макария? Нашел ли он в этой книге, как писали архиереи, «отличную ясность и вразумительность в способе раскрытия»
612
богооткровенных истин, необходимых для спасения человека, «христианское чувство», которым проникнуто изложение каждого догмата?
Нет, в результате добросовестного изучения книги митрополита Макария Толстой пришел к совершенно противоположным выводам.
«Я понял, — писал Толстой, — что все это вероучение есть искусственный (посредством самых внешних неточных признаков) свод выражений верований самых различных людей, несообразных между собой и взаимно друг другу противоречащих. Я понял, что соединение это никому не может быть нужно, никто никогда не мог верить и не верил во всё это вероучение... Я понял и отчего это учение там, где оно преподается — в семинариях — производит наверно безбожников40, понял и то странное чувство, которое я испытывал, читая эту книгу.
Я читывал так называемые кощунственные сочинения Вольтера, Юма, но никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословий... И я понял, наконец, что всё это вероучение, то, в котором мне казалось тогда, что выражается вера народа, что всё это не только ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющий определенную и низменную цель»41.
Но ведь Филарет и Макарий в своих книгах излагали не свои личные верования, ведь это «обман, сложившийся веками», — это то, во что верят миллионы, для которых вера в божественность Христа и в искупление им рода человеческого — «вопрос огромной важности»42.
И у Толстого является мысль — пойти на открытое единоборство с могущественной тогда организацией православной церкви. Он ставит своей задачей написать подробный разбор «Православного догматического богословия» митрополита Макария, в котором раскрыть всю нелепость церковных догматов, принятых еще в четвертом веке на церковных соборах, на протяжении веков утверждавшихся в сочинениях так называемых отцов церкви и изложенных в книгах современных богословов. И этот разбор, этот вызов православию и «святейшему» синоду опубликовать во всеобщее сведение.
Тульский священник А. Иванов рассказывает, что через год
613
после первого посещения Толстой вторично явился к нему, «и почти первые слова его были: «Я внимательно прочитал догматическое богословие Макария» ...Справляюсь, что же было результатом этого чтения? И к удивлению моему на этот вопрос получаю ответ графа, что он не только не убедился в истине православной догматики, а напротив, больше чем прежде убедился в противном. «Я пишу критику на „Богословие“ Макария и напечатаю за границей...» Когда я привел в подтверждение своих слов тексты из «Деяний апостольских», он прямо сказал, что напрасно я ссылаюсь на апостольские книги: апостолы исказили учение Христа, и прочие „безумные глаголы“...»43.
Итак, вопрос о печатании разбора «Богословия» митрополита Макария был решен.
Но Толстой чувствовал, что появление в печати его, знаменитого романиста, с книгой религиозного содержания, раскрывающей бессмысленность церковных суеверий, вызовет недоумение большинства читателей «Войны и мира» и «Анны Карениной». Разбору «Богословия» митрополита Макария должен был предшествовать рассказ автора о его религиозных исканиях и об его отношении к христианскому учению.
Так возникло знаменитое сочинение Толстого, впоследствии названное «Исповедь».
VII
За те несколько дней, какие Страхов в самом начале января 1880 года провел в Ясной Поляне, Толстой посвятил его в свои работы. Он дал ему прочесть свое первое неозаглавленное религиозно-философское произведение и, по-видимому, рассказал о той новой начатой работе, которая впоследствии получила название «Исповедь», и о планах дальнейших работ. Так можно заключить из следующих строк письма Страхова к Толстому от 8 января 1880 года по возвращении в Петербург:
«Меня, разумеется, многие расспрашивают об Вас, и я в большом затруднении. Я говорю обыкновенно, что Вы теперь в сильном религиозном настроении, что Вы дошли до него самым правильным путем — через изучение народа и сближение с ним, что Вы пишете историю этих Ваших отношений к религии — историю, которая не может явиться печатно»44.
«Истории отношения к религии» и посвящена «Исповедь».
По-видимому, во время перерыва в работе, вызванного родами жены, у Толстого созрел план нового сочинения, к которому он и приступил после того, как улеглись волнения и прекратились заботы и хлопоты, связанные с появлением на свет пятого сына.
Таким образом, начало «Исповеди» следует отнести к последним числам декабря 1879 года. Сам Толстой, подготовляя
614
«Исповедь» к печати в марте — апреле 1882 года, на последней странице поставил дату: 1879. В том состоянии необычайного душевного и умственного подъема, в каком находился тогда Толстой, произведение было написано в течение нескольких дней и закончено не позднее первых чисел января 1880 года.
В основу своей новой работы Толстой положил те несколько страниц автобиографического характера, которыми начинается его первое религиозно-философское сочинение. Но в то время как автобиографическая часть первого религиозно-философского сочинения начинается прямо с описания душевного кризиса, пережитого автором в возрасте около пятидесяти лет, новое произведение Толстой начал с рассказа о своем отношении к религии еще в детские и молодые годы.
Первый вариант автобиографии, посвященный истории своего отношения к религии и озаглавленный «Что я?»45, Толстой написал еще раньше, но, очевидно, в том же 1879 году. В этом наброске Толстой очень простым языком рассказывает об отношении к религии своего отца, теток и его самого, когда он был еще мальчиком, до отъезда в Казань. Этот небольшой отрывок, очень живо написанный, был оборван на полуфразе. Не исключена возможность, что этот отрывок был начат Толстым для журнала «Детский отдых», издававшегося братом С. А. Толстой П. А. Берсом (в том же 1879 году Толстой написал для этого журнала легенду «Чем люди живы»).
Теперь Толстой решил написать краткую историю своего отношения к религии на протяжении всей жизни. Советуя Н. Н. Страхову в письме от 2 ноября «написать свою жизнь», Толстой прибавлял: «Я все хочу то же сделать»46.
Он рассказывает, как еще пятнадцатилетним мальчиком, готовясь к вступительным экзаменам в Казанский университет, он, «гуляя по Черному Озеру», молился богу о том, чтобы выдержать экзамен по «закону божию», «и, заучивая тексты катехизиса, ясно видел, что весь катехизис этот — ложь»47.
Толстой затрудняется определить, когда он «совсем перестал верить». Он полагает, что его «отречение от веры» произошло в нем несколько сложнее, чем оно происходит «поголовно во всех умных людях нашего времени». По его наблюдениям, отречение образованных людей от веры в большинстве случаев происходит так, что «знания самые разнообразные и даже не философские — математические, естественные, исторические, искусства, опыт жизни вообще <нисколько не нападая на вероучение> своим светом и теплом незаметно, но неизбежно растапливают искусственное здание вероучения». Тем более что религия
615
не оказывает на жизнь так называемых верующих никакого влияния. «Даже напротив — в большей части случаев нравственная жизнь, честность, правдивость, доброта к людям встречались и встречаются чаще в людях неверующих. Напротив, признание своего православия и исполнение наглядное его обрядов большей частью встречается в людях безнравственных, жестоких, высокопоставленных, пользующихся насилием для своих похотей — богатства, гордости, сластолюбия. Без исключения все люди власти того времени, да и теперь тоже искренно или неискренно исповедывали и исповедуют православие. Так что в жизни как руководство к нравственному совершенствованию православная вера не имеет никакого значения; она только внешний признак».
«Искусственное здание вероучения, — говорит далее Толстой, — исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, которая бывает у людей пытливого ума, склонных к философии. Я с шестнадцати лет начал заниматься философией, и тотчас вся <шутовская> умственная постройка богословия разлетелась прахом, как она по существу своему разлетается перед самыми простыми требованиями здравого смысла».
Но вместе с этим отречением от церковной веры, как говорит далее Толстой, в нем «очень долго» жила «какая-то религиозная любовь к добру, стремление к нравственному совершенствованию». Откуда появилась во мне эта любовь к добру? — спрашивает Толстой и отвечает на этот вопрос: может быть, из прочитанных книг древних и новых авторов, а может быть, это было «последствием» его «детской веры». Но, «на чем бы оно ни было основано, — продолжает Толстой, — первые десять лет моей молодой жизни прошли в этом стремлении к совершенствованию. И это искание и борьба составляли главный интерес всего того времени». «У меня еще сохранились, — пишет Толстой — дневники всего того времени, ни для кого не интересные, с Франклиновскими таблицами, с правилами, как достигать совершенства».
Это те самые, будто бы «никому не интересные» дневники яснополянской, московской, кавказской и севастопольской жизни Толстого 1847—1855 годов, которые в настоящее время служат главным источником для его биографии указанного периода.
Так Толстой незаметно для самого себя перешел от воспоминаний об отношении к религии к воспоминаниям о всем направлении своей жизни в молодости.
Вспоминая свои молодые годы, Толстой говорит, что ему хотелось бы подробно рассказать «и трогательную и поучительную» историю этих десяти лет его жизни. «Я всей душой желал быть хорошим, — пишет он, — готов был на все, чтобы быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, и я был один,
616
совершенно один с своими стремлениями. Я был смел, но всякий, всякий раз, когда я пытался высказать то, что было во мне хорошего, я встречал презрение и насмешку; как только я отдавался самым гадким страстям, меня принимали в открытые объятия. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие — это все уважалось... Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах».
И далее Толстой в порыве крайнего самообличения дает такую характеристику своей жизни в молодые годы, кончая севастопольским периодом: «Не было пороков, которым бы я не предавался в эти года; не было преступления, которого бы я не совершил. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство — я все совершал, а желал одного добра; меня считали и считают мои сверстники сравнительно очень нравственным человеком. Я жил в деревне, пропивая, проигрывая в карты, проедая труды мужиков, казнил, мучил их, блудил, продавал, обманывал, и за все меня хвалили... И я делал одно дурное, любя хорошее».
Бросается в глаза, очевидно, не замечаемое автором крупное противоречие в этой его характеристике своих молодых лет. Сказав о том, что главный интерес его молодых лет составляли «искания и борьба», Толстой вслед за этим дает такую преувеличенную картину своих «пороков» и даже «преступлений», которая рисует его каким-то нравственным чудовищем.
Эта сделанная Толстым характеристика его молодых лет, хотя и написанная с полной искренностью, без малейшей рисовки и с самыми добрыми побуждениями, внесла большую путаницу в представление читателей «Исповеди» о молодом Толстом.
Две причины вызвали появление в «Исповеди» этой преувеличенной картины недостатков молодого Толстого.
В уже цитированном письме к Страхову от 2 ноября 1879 года Толстой высказал взгляд, что писать свою автобиографию надо так, чтобы «возбудить к своей жизни отвращение всех читателей». По такому правилу и писалась «Исповедь».
Другая причина заключалась во всегдашней особенности душевного склада Толстого, присущей ему еще с молодых лет и указанной им самим в «Юности». Рассказывая о всех ожиданиях и мечтах о счастии, пережитых им в первой молодости, герой «Юности» Николенька Иртеньев говорит, что одним из самых главных чувств его было «отвращение к самому себе и раскаяние». «Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему, — рассказывает Николенька, — и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего»48.
617
Далее в «Исповеди» Толстой рассказывает о своем приезде в Петербург по окончании Восточной войны, о сближении с писателями, об их вере в поэзию, о своем разочаровании в писателях вследствие того, что «почти все жрецы [писательской веры] были люди самые безнравственные и большинство — люди плохие, ничтожные по характерам, много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной военной жизни. А гордости была бездна».
Затем Толстой кратко рассказывает о своих педагогических занятиях, о женитьбе и семейной жизни в течение пятнадцати лет и продолжении литературной работы. По словам Толстого, он в эти пятнадцать лет считал писательство «пустяками», а писал, «главное, потому, что кто раз вкусил соблазна писательства — того же, как и соблазн актерства, кто вкусил соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд, тот не может отречься от него».
Нечего и говорить, насколько это утверждение великого писателя расходится с тем, что он сам писал раньше о своей работе над созданием «Войны и мира» и «Анны Карениной», что писали в своих воспоминаниях и письмах его близкие друзья, и — главное — с самим содержанием этих бессмертных творений.
В окончательной редакции «Исповеди» Толстой говорит, что он начал писать «из тщеславия, корыстолюбия и гордости»49.
Вся дальнейшая часть первой редакции «Исповеди» рассказывает о том состоянии ужасного отчаяния, к которому Толстой пришел в возрасте около пятидесяти лет, затем о его попытках вновь найти утраченный смысл жизни в вере и о том, как он «стал искать в массах народа»50.
Вот как описывает Толстой свое сближение с народом:
«Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к простому народу, заставившей меня понять его и увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать — это повеситься, я понял, наконец, пробил эту стену, отделявшую меня, ученого и мудрого, от глупых и невежд, и очнулся, как из душного колодца выскочил на свет божий».
618
VIII
Будущее «Исследование догматического богословия» в первой редакции явилось непосредственным продолжением «Исповеди», служившей вступлением к новой работе. Непосредственно за последними строками «Исповеди»: «Что в учении есть истина — это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому» — в рукописи автора следует первая строка новой работы: «Я был приведен к исследованию учения о вере православной церкви неизбежно». Заглавие «Исследование догматического богословия» рукопись получила только по окончании трактата.
Работа была начата, вероятно, в первых числах января 1880 года. Весь январь, февраль и начало (а может быть, и первую половину) марта Толстой был занят исключительно работой над будущим «Исследованием догматического богословия». 4 февраля он писал Н. Н. Страхову:
«Работа моя очень утомляет меня. Я все переделываю — не изменяю, а поправляю с начала и боюсь, что много пишу лишнего и каждый день думаю о вашем суде»51. Страхов отвечал 14 февраля:
«То, что Вы пишете, конечно, необходимая вещь. От всей души желаю Вам хороших сил и хороших дней, но в неотразимости (как и всего, что Вы пишете) я заранее уверен».
«Но Вы ужасно живете, — писал далее Страхов в том же письме, — жжете себя беспощадно — можно ведь похвалить Вас за это, но мне хочется бранить»52.
2 марта 1880 года Толстой писал Страхову:
«Каждый день собираюсь писать вам, и каждый день так устану от работы, что тяжело взяться за перо.
...Я очень много работаю. Бумаги измарал много с большим напряжением и не скажу радостью, но с уверенностью, что это так нужно. Особенно тяжело мне было то, что, начав все перерабатывать сначала, я отдел обзора православного богословия должен был расширить. И я изучил хорошо богословие и теперь вот кончаю разбор его. Если бы мне рассказывали то, что̀ я там нашел, я бы не поверил. И все это очень важно»53.
Содержание трактата «Исследование догматического богословия» Толстой впоследствии формулировал в следующих словах: «Исследование христианского учения по толкованиям церкви вообще, апостолов, соборов и так называемых отцов церкви и доказательства ложности этих толкований»54.
619
Начав изучать «Православное догматическое богословие» митрополита Макария с целью ознакомиться с учением православной церкви в его современном выражении, Толстой увидел, что современный ему богослов почти ничего не говорит от себя, а излагает учение православной церкви так, как оно выражено в сочинениях отцов церкви, как оно сформулировано на церковных соборах четвертого и последующих веков и как оно изложено в апостольских посланиях, приводя из всех этих писаний многочисленные цитаты. И Толстой пришел к признанию ложности церковного учения не только в том виде, в каком оно излагалось современным ему русским богословом, но во многом также и в изложении древних учителей веры и апостолов. Лишь изредка Толстой в своем разборе православной догматики делает известную разницу между изложением веры современным богословом и писаниями древних церковных авторов — в пользу древних писателей.
«Чтение этих книг, — писал Толстой во вступлении к «Исследованию догматического богословия», имея в виду все книги по догматике церковного учения, — стоило мне огромного труда — не столько по тому усилию, которое я делал, чтобы понять ту связь между выражениями, ту, которую видели в них пишущие эти книги, сколько по той внутренней борьбе, которую я должен был постоянно вести с собой, чтобы, читая эти книги, воздерживаться от негодования»55.
Хотя Толстой и писал в первой редакции своей работы, что он «твердо решился не отдаваться чувству насмешки и негодования», он тут же признавался, что «не мог воздержаться» от этих чувств. «Когда подумаю, — писал он, — сколько миллионов людей жили и теперь живут лишенные всякого учения веры благодаря этим людям, это выводит меня из себя»56.
В первой редакции «Исследования догматического богословия» мы находим в ряде случаев самые резкие выражения по адресу автора «Богословия» и менее резкие — по адресу «отцов церкви», как, например: «Писатель... тут очевидно и сознательно лжет». Или: «Тот вздор, который говорит Макарий в своей книжке, основывая его на таких же, хотя и менее глупых, книжках». Или: «Видно, нет ничего похожего на доказательства [признания божественности Иисуса по Евангелиям], когда нужно так бессовестно лгать и вилять». Или: «И далее приводятся жалкие по слабости мысли своей слова какого-то отца церкви». Рассуждения о догматах — это «споры заблудшихся людей», которым «нужна не истина, а что-то другое». И т. д.
620
Самым резким образом Толстой критикует и церковные догматы. Так, о догмате троичности лиц божества он говорит: «Это ложь, гадкая, преступная, кощунственная ложь». О рассказе о сотворении мира: «Как будто нарочно ту самую мысль, которая прежде была для меня главным камнем преткновения, мысль о том, что бог сидел, сидел и задумал сотворить мир, эту самую глупость навязывают мне, требуют, чтобы я признавал ее».
Имея в виду напечатать свой труд за границей57, Толстой в следующих редакциях смягчил резкость некоторых выражений, но не резкость критики церковных догматов по существу и изложения их митрополитом Макарием. Так, он указывает на «умышленное смешение понятий» автором «Богословия», на искажение им «не только смысла, но и слов священного писания», на «недобросовестность», «игру слов», на «непонятные, превратные, запутанные слова», на «величайшую бессмыслицу», на «неясность выражений, противоречия, облеченные словами, ничего не разъясняющими, принижение предмета, сведение его в самую низменную область», на «самые пошлые уловки обмана», на «жалкую мошенническую подтасовку», на «пренебрежение к требованиям разума» и т. д.
Догматы — это «странные, дикие изречения». И т. д.
Догмат о троичности лиц божества — это «противный человеческому разуму», «бессмысленный», «страшный, кощунственный догмат». «Нравственное приложение» этого догмата — «набор бессмысленных слов, ничем между собою не связанных»58. И т. д.
Удрученный бессмысленностью, безнравственностью и «кощунством», как он выражался, церковных догматов, Толстой не раз порывался прекратить начатую работу критики церковного учения, но, считая эту работу своей обязанностью, преодолевая себя, вновь принимался за ее продолжение.
Так, начав рассматривать главу «Богословия» о троичности лиц божества, Толстой, прерывая свою критику, вдруг записывает: «Хочется бросить все и избавиться от этого мучительного кощунственного чтения и неудержимого негодования; но дело слишком важно. Это — то учение церкви, которому верит народ и которое дает ему смысл жизни. Надо идти дальше».
Разбирая главу о «существе божием», Толстой пишет: «Как ни мучительно трудно анализировать такие выражения, в которых что ни слово, то ошибка или ложь..., что ни соединение предложения
621
с другим, то или ошибка или умышленный обман, но это необходимо сделать».
То же повторилось при разборе следующей главы «Богословия» — «О свойствах божиих». «Не бросить ли? — задает Толстой себе вопрос, сделав выписку из Макария. — Ведь это бред сумасшедшего. Но нет — я сказал себе, что прослежу строго, точно все изложения „Богословия“»59.
В «Исследовании догматического богословия» встречаются выражения, которые верующими могут быть приняты за умышленное издевательство над их верой, но которые в действительности являются не чем иным, как пересказом простым разговорным языком библейских рассказов, написанных в торжественном тоне, как, например: «Отец, сын и дух приходили в гости к Аврааму», «Бог разговаривал втроем с сыном и духом», «Бог ходил к Адаму в рай в гости» и т. д.60
Вторая часть «Богословия» рассказывает о спасении Христом смертью на кресте всего рода человеческого. Но так как, говорит Толстой, «спасение это только воображаемое, так как в действительности люди после искупления остаются точно такими же... каковы были и суть люди всегда... то и все это учение второй части не есть уже учение о вере, а чистое баснословие». «Доказывать несправедливость этого учения было бы то же самое, что доказывать, что неправ тот, кто утверждает, что у меня четыре ноги»61.
Критические замечания Толстого к этой части «Богословия» становятся еще более резкими, чем его замечания на первую часть. Он говорит об отдельных главах второй части:
«Это — ложь сознательная».
«Эта умышленная ошибка чтения считается доказательством».
«Передавать своими словами этого уже нельзя. Тут уже идет бред сумасшедших».
«Приводятся доказательства того, чего нельзя понять».
«В этой части замечательно уже не только совершенное равнодушие писателя к тому, имеют ли какой-нибудь смысл слова, но прямо как будто желание собрать такие слова, которые не могут иметь никакого смысла».
«Связно передать это учение о благодати, как оно изложено, невозможно. Чем больше внимаешь, тем меньше понимаешь».
«Богословие признается само в том, что оно ничего не понимает само из того, что оно наговорило, но оно считает, что надо верить в эту тайну, то есть в что-то такое бессмысленное и противоречивое, чего даже и выразить нельзя».
622
Богословию «нужно ввести еще новое звено в эту цепь обмана».
«Наше богословие» отличается «совершенной свободой от всяких связей логики».
«Нравственное приложение этого догмата более смешно, чем обыкновенно»62.
«...Я уже привык к тону книги и знаю, что это игривое вступление — «не трудно доказать» — именно значит то, что здесь-то писатель чувствует, что доказательств нет, и что он все силы своей изворотливости употребит на то, чтобы запутать и отвести глаза»63.
С особенным негодованием и возмущением говорит Толстой об одном из самых диких догматов церковной религии — о вечных посмертных мучениях грешников в аду. В этом догмате, по словам Толстого, «учение выразилось в ужасающем безобразии»64.
Рассмотрев все приводимые «Богословием» доказательства догмата божественности Христа, Толстой приходит к заключению, что «этой мысли даже — о божестве Христа — не было ни у него, ни у учеников его». Только в четвертом веке «грубые люди» — епископы, заседавшие на первом и втором церковных соборах, не понимавшие христианства, построили «свое учение» о божестве Христа и «насилием закрепили это ужасное заблуждение».
Далее, разобрав все рассуждения «Богословия» о так называемых таинствах, Толстой приходит к выводу, что в Евангелии нет ни одного слова в пользу установления Христом каких-либо таинств и что все таинства «выдуманы иерархией». «Таинства, — говорит Толстой, — суть чисто внешние действия, как заговоры от зубов, действующие на людей, и о духовном ни со стороны заговорщиков зубов, ни тех, которые лечатся, нечего думать и говорить. Надо делать руками и губами какие-то движения, и благодать сойдет»65.
Считая вторую часть «Богословия» сплошным баснословием, Толстой в изложении и в критике догматов, о которых идет речь в этой части, часто не удерживается от иронического тона. Догмат об искуплении Христом рода человеческого своей смертью он излагает в таких словах: «Христос искупил род человеческий с барышом — остался остаток; кроме того, святые прикопили
623
своей хорошей жизнью еще к этому остатку. Так что набралось добра порядочно... Вот этими-то барышами, которых уже девать некуда, церковь, руководимая всегда святым духом, и платит богу за грехи своих членов, а члены ей за это платят уже не чем-нибудь таинственным, а просто деньгами». Или: «Причина смерти есть грехопадение первого человека, а от первого мы все взяли эту привычку». Или: умершие «есть такие, которых уж нельзя выручить молитвою, а есть такие, которых можно». Или: «Бог-человек спас людей», но «люди воспользоваться этим спасением должны умеючи»66.
Общественно-политические вопросы почти совершенно не затрагиваются в «Богословии» Макария, за исключением предписания повиноваться властям высшим и низшим, а также приписывания Христу «царского служения». По этому поводу Толстой замечает: «Почему Христос называется таким несвойственным ему именем царя, которое не только бог Христос, но и всякий нравственный человек не захочет принять, на это нет никакого другого ответа, как то, что так написано в прежних катехизисах». Церковь приписывает «царский чин» тому, который говорил: «Что велико перед людьми, то мерзость перед богом»67.
Подводя итог всей своей работе по разбору церковной догматики, Толстой в заключительной части своей работы писал:
«На вопрос мой о том, какой смысл имеет моя жизнь в этом мире, ответ [„Богословия“] такой: бог какой-то странный, дикий, получеловек, получудовище, по прихоти сотворил мир такой, какой ему хотелось, и человека такого, какого ему хотелось; и все приговаривал, что хорошо, и все хорошо, и человек хорошо. Но вышло все очень нехорошо. Человек подпал под проклятие и все потомство его; и бог благой все продолжал творить людей в утробах матерей, зная, что они все или многие погибнут. И после того, как он придумал средство спасти их, осталось то же самое. Еще хуже, потому что... если я родился иудеем, буддистом и случайно не подпал под освящающее действие церкви, я наверно пропал и вечно буду мучиться с дьяволами; мало того — если я даже и в числе счастливчиков, но я имею несчастье считать требования своего разума законными, а не отрекаюсь от них, чтобы поверить учению церкви, я тоже погиб... Смысл моей жизни по этому учению есть совершеннейшая бессмыслица, без сравнения худшая той, которая мне представлялась при свете одного моего разума»68.
Толстой утверждает, что ни в кругу образованных людей, ни в народе иерархия не пользуется никаким авторитетом. Отношение к ней — «совершенное равнодушие и презрение».
624
«Иерархия все более и более остается одна с своими божественными истинами и божественным устройством. Никто не знает этих истин — именно никто, ни народ, ни ученые. (Я в пятьдесят лет читал Богословие как новость и рассказывал из новенького самые для всех новые и необыкновенные вещи). Никто не повинуется управлению пастырей. Пастыри эти — посмешище для народа и какой-то непонятный, бессмысленный остаток древности для ученых. Если кого-нибудь занимают вопросы веры, то идут к Хомякову, Редстоку69, к мальчику Соловьеву, который читает лекции о вере70, к французу-проповеднику, к Ренану. Народ идет к расколоучителям, к безграмотным пустынникам, а никто не идет к пастырям. Я уверен, что кроме семинаристов, готовящихся к экзаменам, я один прочел Богословие Макария. И пастыри продолжают изрекать истины друг другу и кем-то управлять, как тот кудесник, который на сорока глазах показывал публике, как он из одного волоса богородицы намотал 500 аршин»71.
Общее впечатление, которое Толстой вынес из своего изучения и разбора «Православного догматического богословия», можно выразить следующей цитатой из его книги: «Я ошибся, думая найти у церкви ответ и разрешение на мои сомнения. Я думал идти к богу, а залез в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, озлобления и негодования»72.
«Исследование догматического богословия» Льва Толстого стоит совершенно особняком во всей религиозной литературе. Никогда еще у церковной религии не появлялся такой противник, который, с одной стороны, строго критиковал все церковные догматы согласно требованиям законов разума, и с другой стороны, основываясь точно на текстах Евангелий, совершенно неоспоримо доказал, что церковные догматы, таинства и обряды не имеют никаких оснований в Евангелиях.
Произведенный Толстым критический разбор церковного учения и «Богословия» митрополита Макария поражает несокрушимостью доводов. Он не простил автору «Богословия» и его учителям ни одного отступления от законов разума, ни одной неточности выражений и неточности приводимых цитат, ни одной передержки, ни одного умышленного обмана, ни одного софизма. Всё здание церковной догматики, воздвигавшееся в течение столетий, оказалось разрушенным до самого основания. Тот, кто внимательно прочтет и усвоит основные положения
625
«Исследования догматического богословия», не может уже верить ни в один из догматов православной, католической, лютеранской или какой-либо другой церкви.
В церковной литературе «Исследование догматического богословия» (вышло в заграничном издании в 1891 и 1896 годах) не получило ни одного отклика.
IX
17 января 1880 года Толстой поехал в Москву для переговоров с издателями о «выпуске нового собрания его сочинений.
20 января он уехал в Петербург для переговоров с петербургскими издателями, а также для окончательной расплаты с Бистромом за купленную у него в Самарской губернии в 1877 году землю.
Посвятив день 21 января деловым свиданиям, Толстой утром 22 января направился к своему старому другу, Александре Андреевне Толстой, чтобы поделиться с нею тем, что в то время было для него дороже всего, — новым своим отношением к религии. По воспоминаниям А. А. Толстой, Лев Николаевич заявил ей: «В моей душе открылось окно, — в это окно я вижу бога, и затем, мне ничего, ничего более не нужно». Повторяя это слово, он подчеркнул его и голосом, и движением руки. (Под словом «ничего» Толстой разумел, конечно, церковь с ее догматами и обрядами.)
Эти речи Толстого сильно взволновали его друга.
«Сердце мое билось молотком, — рассказывает А. А. Толстая в своих воспоминаниях... — Но когда Лев стал мне доказывать не только бесполезность, но и вред, приносимый церковью, и дошел, наконец, до того, что отрицал божественность Христа и спасение через него, я готова была плакать и рыдать... Между нами, действительно, завязалась борьба, продолжавшаяся целое утро»73.
В тот же день Толстой побывал в Публичной библиотеке, где виделся недолго со Страховым и Стасовым. Стасов сообщил ему, что художник В. В. Верещагин очень желает с ним познакомиться. Толстой просил Верещагина прийти на другой день в определенный час в Публичную библиотеку.
Потом Толстой ездил смотреть выставленную картину Семирадского «Светочи христианства».
Вечером Лев Николаевич вновь отправился к А. А. Толстой, и между ними продолжался тот же разговор и спор. Речи Толстого представились Александре Андреевне «невероятными, невообразимыми». «Признаюсь, — писала она Льву Николаевичу 29 января, — страшно мне было видеть, как вы дерзновенной рукой вычеркивали из Евангелия все то, что не
626
сходилось с настоящим складом вашего ума и ваших воззрений»74.
Этот спор так взволновал Толстого, что он не спал половину ночи и на другой день, 23 января, рано утром уехал в Москву, не простившись с А. А. Толстой, но отправив ей письмо. В письме он просил «старого милого друга» простить его, если он оскорбил ее; но далее следовала оговорка, менявшая характер всего письма: «Но если я сделал вам больно, то за это не прошу прощенья. Нельзя не чувствовать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторваться от лжи привычной и покойной. Я знаю, что требую от вас почти невозможного — признания того прямого смысла учения, который отрицает всю ту среду, в которой вы прожили жизнь и положили все свое сердце, но не могу говорить с вами не во всю, как с другими, мне кажется, что у вас есть истинная любовь к богу, к добру и что не можете не понять, где он»75.
Это было первое письмо Толстого (если не считать неотправленного письма к Страхову от 22 ноября 1879 года) проповеднического и обличительного характера. Незаметно для самого себя он вступил на путь обличения и проповеди.
А. А. Толстая ответила Льву Николаевичу в тот же день коротким письмом, в котором упрекала его за «внезапное исчезновение», за то, что он «не протянул руки при прощании, когда каждая разлука может быть последняя»76. Вскоре (29 января) она написала второе письмо, в котором старалась смягчить происшедшую размолвку, и в то же время писала, что она верит каждой строчке Библии, что она не чувствует никакой лжи в своем отношении к религии, и заканчивала письмо словами: «Боюсь я того, что вы теперь пишете, боюсь за вас и за тех, которых вы можете увлечь своим умом, искренностью и неправильностью своих взглядов»77.
На это письмо Толстой ответил 3 февраля78. В своем письме он высказал уважение к народной вере, но вместе с тем оговорился, что, по его мнению, мужчина образованный не может верить в церковную веру. «Про женщин не знаю», — писал он.
О себе Толстой писал, что его вера состоит в том, чтобы «каждый час и день своей жизни помнить о боге, о душе и потому любовь к ближнему ставить выше скотской жизни». «Фокуса для этого никакого не нужно», — писал Толстой, разумея под «фокусом» церковные обряды и таинства. Надо «идти не
627
назад..., а вперед... идти вперед жизнью, каждым днем, часом, исполняя открытую мне волю божию...
Я только чуть-чуть со вчерашнего дня стал это делать, и то вся жизнь моя стала другая и все, что я знал прежде, все перевернулось, и все, стоявшее прежде вверх ногами, стало вверх головами».
Допуская, что его друг искренне верит в церковную веру, и признавая, что все, что он говорил ей, было напрасно, Толстой все-таки находит нужным сказать, что повторять «то, что говорит церковь», — этого «не нужно, не должно, нельзя, грех, делать» и что говорить про Христа, что он бог, второе лицо троицы, — «кощунство, ложь и глупость».
А. А. Толстая ответила 23 февраля. Она писала своему другу: «Вы мне так близки, так близки по сердцу, что и сказать не могу». Но в этом же письме она выражала уверенность, что Толстой впоследствии вернется к церкви79.
Такое непонимание его внутренней жизни огорчало Толстого, и дальнейшая переписка представилась ему бесцельной. Он не ответил на письмо А. А. Толстой.
Почти через год переписка, по инициативе А. А. Толстой, возобновилась, но отношения уже были надломлены и прежний свободный и откровенный обмен самыми дорогими мыслями и чувствами сделался невозможен.
И у Толстого одним близким, чрезвычайно преданным ему другом стало меньше.
Для душевного состояния Толстого того времени очень характерно его письмо к В. В. Стасову, написанное, вероятно, в один день с письмом к А. А. Толстой и к Н. Н. Страхову.
Письмо Стасову было вызвано резким письмом художника В. В. Верещагина, который укорял Толстого за то, что, назначив ему день и час для встречи в Публичной библиотеке, он не явился, и Верещагин, прождав его понапрасну несколько часов, почувствовал себя оскорбленным (письмо Верещагина неизвестно).
Не зная ни адреса, ни имени-отчества Верещагина, Толстой написал Стасову: «Скажите ему [Верещагину], пожалуйста, что на меня сердиться нельзя, потому что у меня теперь одно желание в жизни — это никого не огорчить, не оскорбить, никому — палачу, ростовщику — не сделать неприятного, а постараться полюбить их и заставить себя полюбить, а что его я люблю без усилия и потому не мог сделать ему неприятного. Но, видно, я отрицательно нечаянно сделал ему больно тем, что не пришел и не написал, и прошу его простить меня не на словах только, а так, чтобы и не иметь ко мне никакого неприязненного чувства»80.
628
Для Толстого поездка в Москву и Петербург, продолжавшаяся неделю, послужила разрядкой умственного напряжения, в котором он долгое время находился, приводившего его к непрекращающимся головным болям. «Поездка моя в Петербург, — писал он Страхову 3 февраля, — и за этими гадкими денежными делами и вся эта суета испортила меня значительно нравственно, но поверите ли, этот упадок нравственный облегчил меня. Кроме того, во время моей поездки я, чтобы поддерживать свои силы, много ел, пил вино и, вернувшись, продолжал тот же образ жизни, и мне стало лучше во всех отношениях»81.
X
Перелом в мировоззрении Толстого привел к охлаждению в отношениях между ним и Фетом.
Дружба Толстого с Фетом, начавшаяся еще в 1856 году в Петербурге, с годами укреплялась все больше и больше. 5 марта 1877 года Толстой писал Фету: «Давно от вас нет известий, и мне уж чего-то недостает и грустно»82. Ему же 14 апреля того же года: «Ваше последнее письмо забрало меня за живое — т. е. дружбу к вам»83. Затем 10 мая: «Не смею мечтать о радости увидать вас у нас на обратном пути — уж слишком мне этого хочется сердцем»84.
В свою очередь и Фет чувствовал в Толстом близкого человека.
16 октября 1876 года он в письме уведомлял Толстого, что в вагоне железной дороги встретился с И. С. Аксаковым, и далее прибавлял: «Темой разговора были Вы. Это для меня критериум человека»85.
В 1876—1879 годах Фет посылал Толстому одно за другим ряд своих новых стихотворений: «В звездах», «Alter ego», «Далекий друг, пойми мои рыданья», «Отошедшей», которые все очень понравились Толстому.
О стихотворении «В звездах» Толстой писал автору 10 января 1877 года: «Это одно из лучших стихотворений, которые я знаю»86. Стихотворение «Alter ego» Толстой в письме к Фету от 27 января 1878 года называет «прекрасным»87. Стихотворение «Далекий друг, пойми мои рыданья» названо Толстым в письме к автору от 16 февраля того же года «вполне
629
прекрасным»88; также и стихотворение «Отошедшей» оценено Толстым в письме к Фету от 22 ноября того же года как «прекрасное, роженное»89.
Не так, как стихотворение «Отошедшей», понравилось Толстому стихотворение Фета «Никогда» — «и по форме (не так круто, как то), и по содержанию», с которым Толстой не мог согласиться. Так он писал Фету 1 февраля 1879 года90. В этом стихотворении сказалось отличие философских взглядов Фета от религиозно-философских взглядов Толстого. На это отличие Толстой указал Фету в том же письме, но Фет в своем ответе обошел молчанием эту часть письма Толстого.
В следующем письме от 16 февраля Толстой настойчиво просил Фета высказаться, признает ли он религиозное отношение к жизни. Фет ответил уклончиво.
Свидание Толстого с Фетом летом 1879 года в имении Фета Степановке, как сказано было выше, оказалось неудачным. Видя равнодушие Фета к религиозным вопросам, Толстой мало рассказал ему о волновавших его религиозных исканиях, и Фету показалось, что Толстой просто «не в духе». По возвращении Толстого в Ясную Поляну Фет 10 августа 1879 года писал ему: «Надеюсь, что и Ваш сплин уступает ясным дням. Это очень горестное и тяжелое состояние»91.
4 октября 1879 года, вернувшись из Москвы, Толстой пишет два аналогичных по содержанию письма — Страхову и Фету. Но в то время как Страхова Толстой извещал о том, что только что приехал из Москвы, где беседовал о вере с московскими иерархами, и что благодаря этим беседам он еще больше укрепился «в своем убеждении», то есть в отходе от церковной религии, Фету Толстой написал только:
«Я все это время духом смущен, растерян. Должно быть, нездорово тело. Я ездил в Москву, советовался с Захарьиным и буду исполнять его советы»92. И в то время как Страхов в ответном письме Толстому от 16 октября выражал свою любовь к «этой душе, так неустанно и глубоко работающей», Фет на письмо Толстого отозвался 9 октября только такими словами: «Вчера вернулся из Крыма, нашел Ваши строки, которые меня опечалили... Я все время чувствовал, что Вам физически не по себе». И далее наивный совет: «Бросайте на время мысль о писании, читайте, пишите письма».
4 ноября Фет снова пишет Толстому письмо, где сообщает о своей переписке с юристом консерватором Цитовичем, в котором
630
он видит «совершенное подобие Чернышевских, Добролюбовых и т. д.; та же семинарская бесшабашность, тот же натиск, только с гораздо более солидным образованием и в противоположную сторону». И в конце письма опять дается тот же совет: «Будьте здоровы, это главное, и не хандрите. Второе, вытекающее из первого»93.
Такое полное непонимание внутренней жизни Толстого и стремление объяснить все его тревоги и мучительные сомнения одним физическим недомоганием отбивали у Толстого охоту писать Фету, и оба эти письма Фета остались неотвеченными. Последнее письмо особенно не понравилось Толстому. По поводу него он записал в записной книжке: «Фет учит, осуждает. Что же он знает?»94.
Страхову очень хотелось рассеять непонимание Фетом того перелома, который произошел в миросозерцании Толстого. С этой целью он в январе — начале февраля 1880 года написал Фету письмо, которое остается нам неизвестным; но письмо это не достигло желанной цели. «Он [Фет], — писал Страхов Толстому 14 февраля 1880 года, — не может Вас понять. Я брался, было, объяснить, но ничего из этого не вышло — не успел и расписаться»95.
Письмо Страхова Фету произвело скорее обратное действие, чем то, на которое он рассчитывал. Из него Фет лучше понял новое направление Толстого и ясно увидел, что ему с Толстым не по пути. 10 февраля 1880 года он писал вдове поэта А. К. Толстого, Софье Андреевне Толстой: «За исключением Льва Толстого, я не знаю на Руси человека пера, чтобы не сказать — мысли, который бы находился в подобных мне условиях почти абсолютного одиночества. Но и Толстой несравненно более меня пользуется духовным общением, которого я за внезапным поворотом самого же Толстого по настоящему его направлению лишен окончательно»96.
Между тем Толстой только в марте 1880 года собрался ответить Фету на его письмо от 4 ноября 1879 года. Короткое письмо Толстого97, хотя и было написано в дружеском тоне, нисколько не напоминало те серьезные, задушевные письма, которые раньше в течение многих лет писал Толстой своему приятелю.
На письмо Толстого Фет ответил 19 марта. Он писал о своих хозяйственных делах, о предполагаемой поездке на охоту и в конце письма сообщал о своем намерении побывать в Ясной Поляне в таких выражениях: «Если не будете сердиться, заеду
631
с мальчиком и собакой к Вам, а то приеду, поцелую руки прелестной графини»98.
Это письмо Фета показалось Толстому не требующим никакого ответа, а странность выражений, в которых Фет писал о своем намерении посетить Ясную Поляну, должна была вызвать в Толстом некоторое чувство досады. И Толстой не ответил на письмо Фета и забыл про него.
Фет терпеливо ожидал ответа на свое письмо в течение оставшихся дней марта, весь апрель и почти весь май. Хотя он и убедился из письма Страхова, что жизненные пути его с Толстым разошлись далеко, все же при его внутреннем одиночестве ему было глубоко жаль тех дружеских отношений с Толстым, которые раньше такое важное место занимали в его жизни и которые, как он понимал, никогда уже более не возобновятся. Говорило и чувство обиды за то, что Толстой, как полагал Фет, так пренебрежительно относится к его письмам, что даже не отвечает на них.
И 27 мая Фет, не дождавшись ответа Толстого, пишет ему следующее письмо, которое сохранилось не полностью (некоторые части текста утрачены):
«Дорогой граф!
Не имея Вашего дара быть ясным в немногих словах, прошу извинить неизбежные для меня долготы. Шопенгауэр прекрасно обозвал человеческую душу с ее борьбой между бессознательной, непосредственной волей и другим посредствующим проводником [пропуск] [Вы обратились] ко мне со словами: «На вас сердиться нельзя»99. Что же изменилось в эти 20 лет? Не могу судить о Вашей перемене, что касается до меня, то я только все время старался привести к сознанию ту слепую волю, которой руководился всю жизнь, и найти ее, так сказать, разумное оправдание. В этом к душевному моему [пропуск] даже при самых интимных отношениях.
Что же произошло вне этих границ, об этом судить не могу; но факт налицо: Ваши редкие письма и окончательное молчание на сборы мои в Ясную Поляну не требуют толкований. Даже в настоящем я предоставил бы времени разгадку неизвестного. Но вежливость, сажая меня между двумя стульями, этого не дозволяет.
Мне нужно написать выехавшему в настоящее время из Питера Страхову несколько слов [пропуск] адресу в Ясную
632
Поляну. Писать тому, кто [не же]лает читать — невежливо. Писать в дом того, кому постоянно писал, не написавшему самому — невежливо; ибо равняется в переводе на общежительный язык словам: а к тебе писать не хочу. [Пропуск] дилеммы, не только еще более невежлив, но и вполне безосновен, то я поневоле впадаю в первый. Давным-давно я постиг слова nil admirari [ничему не удивляться], ибо сознал, что в мире нет ничего без причины, а если таковые есть, то явление неизбежно.
Прошу передать графине Софье Андреевне то неизменное глубокое уважение, которым она постоянно меня исполняла.
Ваш четверть столетия усердно шагавший с Вами в ногу
А. Шеншин».
Это письмо Фета очень взволновало Толстого, и он ответил на него немедленно (31 мая). Он писал, что не отвечал только «вследствие своих особенно напряженных занятий нынешнего года» и сожалеет, что, увидев из последнего письма Фета, что он в чем-то считает Толстого перед собой виноватым, не написал ему, прося объяснений, и что как-то «просмотрел» в письме Фета то место, где Фет писал о своем намерении побывать в Ясной Поляне. Теперь Толстой приглашал Фета «заехать», если он поедет «на праздник Пушкина»100.
Этим письмом разладившиеся отношения были вновь налажены, — склеены, как разбитый кувшин, но непрочно.
Интересна судьба письма Фета. До того времени Толстой сохранял почти все его письма, но это письмо не было сохранено. Оно было обнаружено при разборе яснополянской библиотеки Толстого в 1954 году в старинном сборнике «Пролог», содержащем жития святых и религиозно-нравственные поучения. Толстой разорвал письмо Фета на длинные узкие полосы и этими полосками пользовался как закладками при чтении «Пролога». Некоторые полоски оказались утраченными101.
XI
9 марта 1880 года Н. Н. Страхов писал Толстому из Петербурга:
«Здесь все толкуют о Вашем „обращении“ — и толкуют в Стасовском духе. Стасов недавно приходил и наговорил мне много глупостей, например, что он ценит Вас только как художника (и так, говорит он, надобно вообще ценить людей), что Вы теперь уже не можете писать романы и потому потеряли для
633
него всякое значение... С Менделеевым... тоже имел долгий разговор об Вас»102.
Но среди молодых писателей того времени нашелся один, которого очень заинтересовало «обращение» Толстого. Это был уже пользовавшийся в то время известностью благодаря своим рассказам, печатавшимся в «Отечественных записках», Всеволод Михайлович Гаршин.
Гаршин находился в то время в очень тяжелом душевном состоянии, вызванном участившимися террористическими актами народовольцев против членов правительства и казнями террористов. Гаршин считал террор как средство политической борьбы бесплодным; казни революционеров заставляли его глубоко страдать. «Он с ужасом и тоской смотрел на страшную борьбу», — пишет его друг М. Латкина103.
12 февраля 1880 года был назначен новый министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов, и уже 20 февраля было произведено террористом Млодецким покушение на его жизнь. Стрелявший был схвачен, и на другой день, 21 февраля, военный суд вынес ему смертный приговор.
Страшно потрясенный ожиданием казни, Гаршин пишет Лорис-Меликову письмо, в котором умоляет его «простить преступника». «В Вашей власти, — писал Гаршин, — не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виноватых и невиноватых... Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу — положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер»104.
Ночью Гаршину с большим трудом удалось проникнуть на квартиру Лорис-Меликова с тем, чтобы живым словом усилить действие своего письма. По словам Г. И. Успенского, Гаршин «стал умолять» Лорис-Меликова «на коленях, в слезах, из глубины души с воплем раздиравшегося на части сердца о снисхождении к какому-то лицу, подлежавшему строгому
634
наказанию»105. Гаршин, по рассказу одного из его друзей, М. Е. Малышева, умолял диктатора о подвиге прощения, заклинал его «начать вселенское, всечеловеческое дело мира и добра»106.
Лорис-Меликов обещал Гаршину что-то сделать, но не сделал ничего, и на другой день, 22 февраля, Млодецкий был казнен. Казнь эта была тяжелым ударом для Гаршина, и временно он даже заболел психически.
16 марта 1880 года, оправившись от поразившего его недуга, Гаршин из Тулы поехал в Ясную Поляну107.
Воспоминания о первой и единственной встрече Толстого с Гаршиным оставил сын Толстого, Илья Львович, которому в то время было четырнадцать лет. Несмотря на эксцентричность первых слов Гаршина (на вопрос Толстого: «Что вам угодно?» — он ответил: «Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки»), разговор быстро наладился. Гаршин назвал себя и сказал, что он тоже «немножко» писатель; Толстой уже читал его рассказ «Четыре дня», напечатанный в «Отечественных записках», и когда узнал, что перед ним автор этого рассказа, начал расспрашивать его, что ему пришлось видеть на войне108. «Рассказы его отличались живостью и слушались с интересом», — писал присутствовавший при разговоре Толстого с Гаршиным В. И. Алексеев109.
После общего разговора у Толстого с Гаршиным произошла беседа один на один, о которой первый биограф Гаршина Я. В. Абрамов писал, что Гаршин «ставил Толстому какие-то мучившие его вопросы»110.
Несколько лет спустя Гаршин в беседе с А. И. Эртелем «с чувством живейшего умиления» вспоминал о том, как из Тулы пошел он пешком в Ясную Поляну к незнакомому ему в то время Л. Н. Толстому, о разговоре с ним, длившемся всю ночь, и о том, что считает эту ночь «лучшей и счастливейшей в своей жизни»111.
В январе 1887 года Гаршин рассказывал писателю В. Бибикову, что, будучи в Ясной Поляне, он сообщил Толстому «свои планы об устройстве всемирного счастья. Планы Всеволода Михайловича не показались [Толстому] такими несбыточными, какими
635
они казались всем другим, знавшим болезнь Гаршина. Они долго говорили. Подробностей беседы В. М. не помнил, но помнил, что Толстой одобрил и приветствовал его начинания»112.
В 1906 году редактор издательства «Посредник» И. И. Горбунов-Посадов, а в 1909 году Н. Н. Гусев по просьбе биографа Гаршина, С. Н. Дурылина, расспрашивали Толстого о встрече его с Гаршиным. Толстой сказал, что плохо помнит подробности, но общее впечатление, которое он тогда вынес от Гаршина, выразил словами: «Это была вода на мою мельницу». Толстой почувствовал, что Гаршин, точно так же как он сам, захвачен исканием нравственной и религиозной истины и попытками осуществления ее в своей жизни. Гаршин, по словам Толстого, «был полон планов служения добру». «Лев Николаевич смутно припоминал, что Гаршин горячо говорил еще что-то против городов, мечтал о поселении в деревне и строил какие-то планы». «И в этом он тоже был мне близок», — говорил Толстой.
«След» от общения с Гаршиным остался в душе Толстого, прекрасный, душевный мир Гаршина был ему близок, но он затруднялся обозначить его чертами более определенными.
На вопрос Толстого, пишет ли он, Гаршин скромно ответил: «Кое-что пописываю». Особо отметил Толстой, что в Гаршине совсем не было видно писателя, «просто хороший, добрый, милый человек».
Запомнилась Толстому наружность Гаршина: «Прекрасное лицо, большие светлые глаза, все в лице открыто и светло»113.
1 апреля 1908 года приехавший в Ясную Поляну Илья Львович Толстой стал припоминать разные эпизоды из прошлой яснополянской жизни, вспомнил и приезд Гаршина. «Он очень понравился мне, — сказал Лев Николаевич. — У него была грусть в глазах. Но глаза красивые»114.
В 1909 году С. Н. Дурылин побывал в Ясной Поляне и расспрашивал Толстого о Гаршине. Он узнал от Толстого, что Гаршин ничего не сказал ему о своем письме к Лорис-Меликову и посещении его. Эта черта необыкновенной скромности Гаршина, сообщает С. Н. Дурылин, «помню, вызвала настоящее умиление во Льве Николаевиче. Он несколько раз в разговоре возвращался к ней»115.
Из Ясной Поляны В. М. Гаршин, по воспоминаниям его брата Евгения Михайловича, поехал верхом в город Новосиль Тульской губернии, где «как лицо подозрительное» был
636
задержан. Через несколько дней брат нашел его в имении А. И. Филатова Мураевка, Кромского уезда Орловской губернии. Здесь Всеволод Михайлович рассказал брату, что получил от Глеба Успенского предложение поехать в Самарскую губернию с тем, чтобы занять место писаря сельского ссудосберегательного товарищества, на что он охотно согласился. Он рассказал об этом Толстому, и Толстой одобрил его намерение. По рассказу Всеволода Михайловича, Толстой принял его у себя в кабинете, куда им подали обед, и беседовал с ним с глазу на глаз116.
По словам И. Л. Толстого, Гаршин через некоторое время еще раз приехал в Ясную Поляну, но уже душевнобольной. Он приехал верхом на неоседланной лошади, которую отпряг у какого-то тульского извозчика, и сказал, что на этой лошади он поедет в Харьков к матери. Толстого в это время в Ясной Поляне не было. Е. М. Гаршин отрицает сообщение И. А. Толстого, будто его брат приехал в Ясную Поляну на лошади, отпряженной у извозчика; он пишет, что у него хранилась расписка тульского извозчика в том, что он продал В. М. Гаршину лошадь и деньги от него получил сполна. Но Е. М. Гаршин относит покупку его братом лошади к первому его посещению Ясной Поляны, о втором посещении Е. М. Гаршин совершенно не упоминает.
Толстой продолжал интересоваться судьбой Гаршина. 8 февраля 1881 года С. А. Толстая по поручению Льва Николаевича запрашивала свою сестру Т. А. Кузминскую, жившую с мужем в Харькове, не находится ли в харьковском «сумасшедшем доме» Гаршин и как его зовут. «От ответа на этот вопрос (да еще на вопрос о том, есть ли в Харькове сектанты-штундисты), — писала Софья Андреевна, — может быть, зависит поездка Левочки в Харьков». Но Гаршина в то время уже не было в Харькове.
В конце января или в начале февраля 1884 года у Толстого был приятель Гаршина, естественник В. А. Фаусек. «Меня очень тронуло, — писал Гаршин матери 4 февраля 1884 года, — что Толстой меня помнит. Больше всего заинтересовало его, что я занимаюсь переплетением книг, и он очень много расспрашивал В. А. об этом»117.
В конце января или в начале февраля 1885 года Гаршин ездил в Москву только для того, чтобы повидаться с Толстым, но встреча не состоялась: Толстой в это время был в Ясной Поляне.
637
XII
В половине марта 1880 года Толстой писал Фету: «Ужасно давно не писал вам, как всегда, потому что откладывал с дня на день и очень много работаю. Утро все заработаюсь и вечером уже ничего не хочется делать, кроме как читать Пиквикский клуб или играть в винт»118.
Толстой, как и в прежних письмах, не написал Фету, над чем именно он работает. Было ли это окончание «Исследования догматического богословия», или новый пересмотр всего трактата, или новый труд — мы не знаем. Но скорее можно предположить, что речь идет о новой работе.
Из письма Толстого видно, что работа утомляет его, но не мучает его нравственно, как мучила работа над разбором богословия; он находится хотя и в сосредоточенном, но спокойном настроении.
И совершенно несомненно, что в письме к Страхову, следующем в томе писем Толстого вслед за его письмом к Фету и написанном 25 марта, речь идет о новой работе Толстого. В этом письме Толстой сообщал: «Я все работаю и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой»119.
Здесь говорится о новом начатом Толстым в то время труде — «Соединение и перевод четырех Евангелий». Содержание этой работы Толстой по окончании ее в 1881 году формулировал следующим образом: «Исследование христианского учения не по этим [церковным] толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях, перевод четырех Евангелий и соединение их в одно»120.
Толстой признал необходимость проверки церковного перевода Евангелий на основании того, что канонический текст Евангелий был принят церковью тогда, когда ею уже было утверждено ложное понимание учения Христа.
Работа по соединению четырех Евангелий в одно и новый перевод Евангелий с греческого языка очень увлекли Толстого. «Лев Николаевич, — писала С. А. Толстая Н. Н. Страхову 25 марта, — совсем себя замучил работой, ужасно устает и страдает головой, что меня сильно тревожит. Но оторвать его нет никакой возможности»121.
Но как ни утомляла Толстого его новая работа, он отдавался ей с отрадным чувством, особенно после того мучительного
638
душевного состояния, которое он непрерывно испытывал во время разбора православного богословия.
Работа подвигалась вперед настолько быстро, что уже 18 апреля Толстой смог написать Страхову, что находится «при конце работы». Но тогда же у него явились новые планы, которые значительно расширили рамки его труда.
Толстой знал, что существует ряд древних списков Евангелий, в которых имеются разночтения с принятым церковью каноническим текстом. Таких разночтений насчитывается около пятидесяти тысяч. И у него является мысль — изучить все эти разночтения с целью найти в них подтверждение правильности своего понимания отдельных мест Евангелий, а также правильности своих переводов. И 18 апреля он пишет Страхову следующее письмо:
«Ради бога, ради бога достаньте мне или купите, чего бы то ни стоило, или пришлите из библиотеки, или даже...122 украдьте — книгу или книги, из которых бы можно было узнать о самых древних греческих текстах четырех Евангелий, о всех выпусках, прибавках, вариантах, которые были сделаны. Я... знаю, что таковых есть много и не лишенных важности для правильного понимания сомнительных мест. Мне уж это давно нужно, а теперь, при конце работы, — особенно... Я сам не знаю, чего прошу, но воображаю и желал бы иметь вот какую книгу: по-гречески самый древний текст четырех Евангелий и в примечаниях те перемены, которые были сделаны. Или наоборот, т. е. канонический текст и прежние варианты»123.
Разумеется, Страхов немедленно исполнил просьбу Толстого. Он послал ему издание «Нового завета», подготовленное немецким ученым Иоганном Грисбахом, составившее эпоху в истории критики текстов «Нового завета».
В августе Страхов прислал Толстому другое, также считающееся классическим критическое издание «Нового завета», подготовленное немецким ученым богословом Константином Тишендорфом.
XIII
В письме от 4 мая Толстой извещал Страхова, что от него «только что уехал» Тургенев.
О цели этого своего приезда в Ясную Поляну Тургенев 24 апреля (6 мая) сообщал Анненкову: «На пути [в Спасское] я посещу Льва Толстого и постараюсь его убедить также приехать [в Москву на открытие памятника Пушкина], в чем едва ли успею»124.
639
Опасения Тургенева оправдались: Толстой поехать на пушкинский праздник отказался.
Этот приезд Тургенева и свой отказ поехать на пушкинский праздник Толстой вспомнил почти через тридцать лет — в 1908 году, когда готовилось торжественное чествование его восьмидесятилетия. В письме от 25 марта 1908 году в редакцию «Русских ведомостей» Толстой так объяснил причину своего отказа: «Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался... потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и, не скажу — ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям»125.
Тургенев привез с собой третью книгу журнала «Русское богатство» за 1880 год, где был напечатан рассказ Гаршина «Люди и война», впоследствии печатавшийся в собраниях его сочинений под названием «Денщик и офицер». Он рекомендовал Толстому Гаршина как лучшего из всех молодых писателей того времени, в чем Толстой с ним вполне согласился. Об этом сам Тургенев писал Гаршину 14 июня 1880 года: «Ваше последнее произведение (к сожалению, неоконченное) «Война и люди» окончательно утвердило за Вами в моем мнении первое место между начинающими молодыми писателями. Это же мнение разделяет и граф Л. Н. Толстой, которому я давал прочесть „Войну и людей“»126.
Разговор Толстого со старым другом касался не только литературных вопросов. В том же письме от 4 мая он писал Страхову:
«С Тургеневым много было разговоров интересных. До сих пор, простите за самонадеянность, все, слава богу, случается со мной так: «Что это Толстой какими-то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал». И всякий раз случается так, что советчикам станет стыдно и страшно за себя. Так, мне кажется, было и с Тургеневым. Мне было с ним и тяжело, и утешительно. И мы расстались дружелюбно»127.
Из этого письма видно, что Толстому, по его мнению, кое в чем удалось убедить Тургенева.
На пушкинском празднике среди писателей прошел пущенный Григоровичем слух, что Толстой помешался. 27 мая Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел»128.
640
На другой день, 28 мая, Достоевский вновь пишет жене: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было»129.
Вскоре из переданного ему Страховым письма Толстого с отзывом о «Записках из мертвого дома» Достоевский мог убедиться в полнейшей вздорности слухов о сумасшествии Толстого.
XIV
Толстой был так увлечен своей работой, что против обыкновения продолжал заниматься всю весну и начало лета. Но уже 10 июля он пишет Фету: «Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю»130.
Однако уже через месяц после этого письма, 10 августа, Толстой пишет Фету: «...Я прилаживаюсь к настоящей своей жизни, зимней работе»131. О том же и почти в тех же выражениях сообщал Толстой в тот же день и Страхову132.
Обращает на себя внимание в письме Фету выражение: «Прилаживаюсь к настоящей своей жизни, зимней работе». Летом Толстой в те годы занимался хозяйством, но теперь он уже не считал занятие хозяйством своей «настоящей жизнью».
Работа возобновилась не сразу. 3 сентября Толстой сообщал Страхову, что он не писал ему «от дурного состояния нервов»; по той же причине и работа его подвигалась медленно.
Что разумел Толстой, под словами «дурное состояние нервов» — сказать трудно. В том же письме к Страхову, сообщив о своей поездке в Москву в поисках учителя и гувернантки к детям, Толстой сейчас же вслед за этим говорит: «Все страннее и страннее мне становится людская жизнь, особенно где их много». Фраза эта, мимоходом включенная в письмо, очень показательна. Она говорит о том, как у Толстого все более и более нарастало отчуждение от окружающей его среды и протест против нее.
В том же письме к Страхову Толстой писал: «Работы, работы мне впереди — бездна, а сил мало. И я хоть и приучаю себя думать, что не мне судить то, что̀ выйдет из моей работы, и не мое дело задавать себе работу, а мое дело проживать жизнь так,
641
чтобы это была жизнь, а не смерть, — часто не могу отделаться от старых дурных привычек заботиться о том, что̀ выйдет, — заботиться, т. е. огорчаться, желать, унывать. — Иногда же, и чем дальше живу тем чаще, бываю совсем спокоен»133.
Ответ Страхова на это письмо Толстого неизвестен, но судя по письму к нему Толстого от 28 сентября, Страхов как городской житель вступился за Москву и москвичей, и Толстой так отвечал ему:
«Дорогой Николай Николаевич!
Я давно уж прошу вас ругать меня, и вот вы и поругали в последнем письме, хотя и с большими оговорками и с похвалами, но и за то очень благодарен. Скажу в свое оправданье только то, что я не понимаю жизни в Москве тех людей, которые сами не понимают ее».
И чтобы Страхов не составил себе превратного представления о его отношении к людям, Толстой далее совершенно определенно заявляет: «Но жизнь большинства — мужиков, странников и еще кое-кого, понимающих свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю».
В том же письме находим характерное для Толстого суждение о «Записках из мертвого дома» Достоевского: «На днях нездоровилось, и я читал Мертвый дом. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю»134.
Страхов исполнил просьбу Толстого и 2 ноября писал ему:
«Видел я Достоевского и передал ему Вашу похвалу и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено („лучше всей нашей литературы, включая Пушкина)“. „Как включая? “ — спросил он. Я сказал, что Вы и прежде были, а теперь особенно стали большим вольнодумцем»135.
26 сентября Толстой писал Страхову: «Я продолжаю работать все над тем же и, кажется, не бесполезно». В тот же день он писал Фету: «Я очень много работаю».
В сентябре в Ясную Поляну приехал новый учитель детей Толстого — окончивший Московский университет молодой филолог Иван Михайлович Ивакин, которого Толстой в недатированном письме к С. А. Юрьеву назвал «прекрасным и очень умным человеком»136.
642
Из разговора с Ивакиным Толстой убедился, что тот хорошо знает греческий язык. Это было находкой для Толстого. Он начал советоваться с молодым филологом относительно перевода затруднявших его мест в греческом Евангелии. В своих воспоминаниях Ивакин так рассказывает о работе Толстого над переводом Евангелия и о своей помощи ему в этой работе:
«Большая часть работы по Евангелию прошла на моих глазах; нередко мне приходилось перечитывать написанное сейчас же, как только он оканчивал. Как рад он был, если что скажешь насчет его работы, особенно если не согласишься с ним (несогласие он относил насчет того, что я бессознательно проникнут церковностью)! Он весь превращался в слух, так и впивался в тебя... Иное дело, если кто начинал оспаривать его взгляды в корне, в основе — тут не обходилось без крика, и громче всех кричал Лев Николаевич».
«Иногда он прибегал из кабинета с греческим Евангелием ко мне, просил перевести то или другое место. Я переводил, и в большинстве случаев выходило согласно с общепринятым церковным переводом. „А вот такой-то и такой-то смысл придать этому нельзя?» — спрашивал он и говорил, как хотелось бы ему чтоб было... И я рылся по лексиконам, справлялся, чтобы только угодить ему, неподражаемому Льву Николаевичу...».
«Общительность у него была удивительная: о своей работе он постоянно говорил, взглядов и результатов не скрывал».
«Все свои заметки, все переводы, словом, все, что ни удавалось ему написать, он, бывало, показывал мне тотчас же. Сожалею, что не имел в то время привычки записывать — нашлось бы, пожалуй, немало интересного. Помню, раз призвал он меня утром в кабинет и с восторгом начал по черновой рукописи читать толкование к искушению Христа в пустыне».
«С самого первого раза мне показалось, что начиная работать над Евангелием, Лев Николаевич уже имел определенные взгляды — я еще не успел узнать, что они изложены были в двух его рукописных сочинениях — в разборе Макариева „Богословия“ и в трактате „Государство и церковь“».
«Мне не раз приходилось быть свидетелем того, что называется муками рождения произведений. Иногда у Льва Николаевича не выходило. „Я это знаю, — говорил он, — не выходит — уж лучше бросить, оставить на время“. И он в таком случае бросал, приказывал оседлать лошадь и уезжал. Зато, если выходило, он являлся из кабинета веселый, сияющий. Помню, объяснение к притче о сеятеле ему ужасно как нравилось. „Одно слово — игрушечка! “ — говорил он мне и Василию Ивановичу [Алексееву]».
«Историческую, чудесную, легендарную сторону в Евангелии, как известно, он совершенно устранил, считал неважной, ненужной.
643
„Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? — говорил он. — Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес — ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить? “
Он очень не жаловал Ренана, да, кажется, и Штрауса за то, что они обращали свое внимание именно на фактическую сторону в Новом завете. Ренана он не любил еще и за то, что от „Vie de Jésus“ [Жизни Иисуса] отдавало будто бы парижским бульваром, за то, что Ренан назвал Христа promeneur [прогуливающийся] и charmant docteur [милый учитель], за то, что в переводах его из Евангелия все „так гладко, что не верится, что и в подлиннике так...“.
Он имел в виду только нравственную, этическую сторону...»137.
XV
Свое письмо к Фету от 26 сентября Толстой начал словами:
«Страхов пишет мне, что вы жалуетесь на меня. Вы жалуйтесь и ругайте меня и лучше всего мне самому — я это ужасно люблю; но по-прежнему пишите, заезжайте и любите меня»138.
Письмо Страхова, на которое ссылался Толстой, не сохранилось, но в письме от 30 июня, написанном после десятидневного пребывания у Фета, Страхов рассказывал, что пробовал, было, объяснить Фету новое миросозерцание Толстого, но потерпел неудачу: «Учение передавалось очень плохо. Он с первых же слов закусывал удила и обнаруживал не любопытство, а ярое желание говорить самому»139.
Письмо Толстого от 26 сентября Фет воспринял как вызов к тому, чтобы изложить Толстому свое отношение к его новым взглядам, что он и исполнил с большой быстротой в самый день получения письма Толстого — 28 сентября.
Эпиграфом к своему письму Фет взял афоризм Бентама: «Не надейтесь, что вам удастся заставить кого-нибудь пошевельнуть пальцем ради другого. Если он в этом не видит для себя выгоды или удовольствия, то он этого никогда не делал и не сделает». Доказательству этой мысли и было посвящено все письмо Фета.
«Жизнь индивидуума, — писал Фет, — есть смерть другого. Этот закон Дарвина, который он не выдумал, а который знает всякий, видевший хоть грача на пашне. Поэтому нельзя жить как-то по-новому, иначе, чем жил Адам, Моисей и индюшка».
«Евангелие, — писал далее Фет, — есть проповедь полнейшего аскетизма и отрицания жизни... Но как бы гениально ни было
644
уяснение смысла известной книги, книга остается книгой, а жизнь с миллионами своих неизбежных требований остается жизнью, и семя семенем, требующим расцвета. Поэтому отрицание не может быть руководством жизни и ее требований».
И уже прямо намекая на Толстого, Фет далее пишет: «Почему тот, для кого жизнь не имеет как наслажденье никакой цены, не выпрыгивает из нее вниз, что для него ни крошечки не страшное Ничто, страшно только бытие, то есть жизнь, а не ее отрицание. Отрицание жизни и небытие более чем близнецы. Это одно и то же».
Никак не может Фет примириться с отрицательным отношением Толстого к своим прежним художественным произведениям. «Равным образом, — пишет он, — я не могу понять, как можете Вы стать в ту оппозицию с такими капитальными вещами, как Ваши произведения, которые так высоко оценены мною. А меня не так-то легко подкупить или надуть в этом деле. Если бы я по вражде убил Вас, и тогда бы сказал, что это сокровищница художественных откровений, и дай бог, чтобы русское общество доросло до понимания всего там хранящегося. Или Вы шутите, или Вы больны. Тогда, как о Гоголе, сжегшем свои сочинения, надо о Вас жалеть, а не судить. Если же под этой выходкой таится нечто серьезное, тогда я не могу об этом судить, как о великом стихотворении на халдейском языке. Я понимаю тщету мира умом, но не животом, не интуитивно».
Закончил Фет свое письмо словами:
«Знаю, что на длинное мое марание Вы скажете: это все не туда, не к делу. Жизнь — наслаждение в лишении, в страдании. Но для Козловки [т. е. для Ясной Поляны] и полезно отрицание — страж на рубеже, который не надо переходить. А Вы меня туда [т. е. за рубеж, который не надо переходить] суете... Зимой заеду в Ясную. Пожалуйста, хоть изредка вспоминайте строчкой. Будьте здоровы и не сердитесь»140.
На письмо Фета Толстой ответил 15 октября большим письмом, в котором изложил основы своего жизнепонимания. Толстой отрицает утверждение Фета, будто бы христианство в его понимании есть «проповедь аскетизма». «Совершенно обратное, — говорит Толстой. — Евангелие есть возвещение о благе в жизни, — только в жизни». Нельзя «жить как попало»; надо различать ложное и настоящее благо. «Прежде, — говорит Толстой про себя, — я видел благо в Георгиевском кресте, потом в литературе, потом в десятинах земли, потом в семье, и все это оказалось не благом». «Я видел, что они не блага, — прибавляет Толстой к этим словам в исправленной редакции письма к
645
Фету, — но жмурился, чтобы не разрушить своих ложных привычек»141.
В этих словах Толстой, так определенно провозгласивший и в эпилоге «Войны и мира» и в «Анне Карениной» культ семейной жизни впервые заявляет, что по его изменившемуся миросозерцанию он уже не считает семью высшим доступным для человека благом. И он дает определенный ответ на вопрос, в чем он видит истинное благо для человека. Теперь ему «счастье представляется не в том, что может составлять хоть малейшее горе других людей, а в том, что прямо содействует радости и счастью других людей... Счастье в том, чтобы не противиться злу и прощать и любить ближнего».
Далее Толстой излагал Фету свои религиозно-философские взгляды. Он отрицает как церковное представление о боге внешнем, сидящем на небесах, так и основные концепции всех наиболее известных философских систем. Он говорит: «Разговоры о боге в природе, о боге, сидящем на небесах и творящем, о воле Шопенгауэра, о субстанции Спинозы, о духе Гегеля одинаково произвольны и ни на чем не основаны». «О том начале, которое произвело весь мир явлений, я ничего не знаю и не могу знать». Богом Толстой называет то разумение, которое есть в человеке. «То, что я знаю себя существующим, и все, что я знаю, происходит оттого, что во мне есть разумение, и его-то называю бог, то есть для меня начало «сего». «Разумение есть бог, и ни о каком другом боге мы не имеем права говорить».
Заканчивает Толстой свое письмо словами: «В последнем письме вашем я слышу раздражение. — Я виноват тем, что раздражил вас. Простите».
Это уже совсем не тот дружеский тон, в котором раньше писал Толстой свои письма к Фету. Чувствуется, что различие во взглядах наложило свою печать и на личные отношения бывших друзей.
Фет уже на другой день после получения письма Толстого, 18 октября, начал писать ему ответ142.
Фет возражает против религиозных взглядов Толстого, против его понимания евангельского учения, против положения о том, что «разумение есть бог». Но в одном вопросе он высказывает солидарность с Толстым: он признает правило нравственности — «не пожирай чужой жизни, которая ему так же
646
дорога, как тебе твоя». «Если таков смысл Евангелия, то я обеими руками подписываюсь», — прибавляет он.
Вновь выражает Фет свое решительное несогласие с тем отрицательным суждением Толстого о своих прежних художественных произведениях, которое он между строк прочел в его письме. «Я с Вами согласен, — писал Фет, — что литература — пошлость. Но с той точки, с которой Вы вели дело, она (то есть оно — писание) было откровение сущности явлений жизни человеческой».
Заканчивал Фет письмо словами: «Докажите, дорогой граф, на деле Вашу незлобивость и не сердитесь на то, что я не могу иначе. Да поможет мне бог». (Здесь Фет повторяет известное заявление Лютера.)
На это письмо Фета Толстой отвечал коротким письмом в конце ноября143. Чтобы прекратить бесполезный спор, он признал себя виноватым в том, что «неясно выразил свои мысли». «Хотелось бы, — прибавлял Толстой, — яснее выразить, но я это делаю в книге. А с вами побеседуем при свиданьи». И Толстой заканчивает письмо приглашением Фета в Ясную Поляну.
В конце 1880 и в первые месяцы 1881 года Фет прислал Толстому еще несколько писем, на которые Толстой ответил только 12 мая 1881 года144. Он просил Фета не сердиться на него за его молчание и вновь приглашал в Ясную Поляну. Тут же, как бы в оправдание своего молчания, Толстой прибавлял: «Я очень заработался и очень постарел нынешний год».
Этим кратким и бледным письмом закончилась продолжавшаяся ровно 23 года (первое было написано 12 мая 1858 года) переписка Толстого с Фетом-поэтом и Фетом-мыслителем. Место, которое Фет как отзывчивый собеседник по многим важнейшим вопросам философии и искусства занимал в жизни Толстого, осталось пустым. После этого Толстой и Фет изредка встречались в Москве и в Ясной Поляне, охотно беседовали, иногда спорили, но ничто уже не напоминало о той тесной и крепкой дружбе, которая соединяла их более двадцати лет.
XVI
15 сентября 1880 года В. В. Стасов обратился к Толстому с письмом, в котором просил позволения приехать в Ясную Поляну «часа на два — на три», когда он в конце сентября будет в Москве.
Толстой немедленно (18 сентября) ответил Стасову, что будет «очень рад» его приезду.
647
Стасов приехал в Ясную Поляну 2 октября и уехал на другой день. Некоторые сведения об этом первом посещении Стасовым Ясной Поляны находим в его письме к брату Дмитрию Васильевичу от 30 мая 1896 года145.
О первом дне пребывания в Ясной Поляне Стасов почти ничего не помнил, кроме своего ночного разговора с Толстым. По воспоминаниям И. М. Ивакина, Стасов за обедом много говорил о музыке, в частности о Мусоргском. Когда Стасов уже улегся спать в нижней комнате дома, на том самом диване, на котором родился Лев Николаевич, вдруг неожиданно к нему явился Толстой, тоже готовившийся лечь спать, с толстой тетрадью, писанной его рукой.
Это была его работа по исследованию Евангелий.
Но Толстой не знал, что Стасов был убежденный шестидесятник, материалист и атеист. Он вскоре заметил, что Стасову было совершенно неинтересно слушать то, что он ему читал, хотя Стасов, как он писал впоследствии, «упорно молчал», не произнося ни одобрения, ни порицания читаемому. Видя, что гостю неинтересно слушать, Толстой прекратил чтение. Так писал Стасов брату, но, по-видимому, дело происходило не совсем так, как он описывает. И. М. Ивакин в своих воспоминаниях рассказывает, что, уже улегшись спать (его кровать стояла за перегородкой в той же комнате, где спал Стасов), он слышал «громкий их спор».
На другой день утром Толстой повел Стасова на прогулку. Сначала прошли по деревне, заходили в некоторые избы, затем направились в лес, и тут, рассказывает Стасов, разговор как-то зашел о вчерашнем вечернем чтении, и через несколько секунд «разговор у нас стал каким-то враждебным, и мы оба друг на друга окрысились, как два петуха, которые готовы подраться». Стасов в резкой форме высказал отрицательное отношение к Евангелию вообще и заговорил о молитве «Отче наш», издеваясь над каждым ее словом. «Толстой же, — рассказывает Стасов, — немножко огрызался и отлаивался, главное — жаловался на «насмешку», «преувеличение» и «искажения». Наконец, дело кончилось тем, что мы и совсем разбесились друг на друга и перестали говорить... И мы вдвоем шли молча... может быть минут двадцать... Наконец, мы оба остыли; не знаю, как ему, а мне стало казаться и происшествие само и наше обоюдное положение порядком глупым... Вдруг пришла минута, что мы оба разговариваем о том, о сем, но, конечно, о прежнем предмете — ни слова, ни буквы. Хорошее, светлое расположение духа скоро тоже воротилось прежнее... Словно ровно ничего между нами не происходило и никаких неприятных, немножко озлобленных разговоров и тени не было. Обед прошел весело и оживленно».
648
После обеда разговор зашел о русской литературе, о Тургеневе и Достоевском, но Стасов, не зная мнения Толстого об этих писателях, из предосторожности не высказывал своего отношения к ним — «не ровен час, пожалуй, опять напорешься на историю».
Стасов передал Толстому рассказы Тургенева, с которым он виделся в Париже, о пушкинском празднике в Москве. Тургенев, только что вернувшийся из Москвы, говорил Стасову «с досадой и злобой и даже криком, как все тогда словно с ума сошли, придя в восхищение от нелепостей и безобразий, наговоренных Достоевским в речи, как все точно пьяные или наевшиеся дурмана чуть не на стену лезли от открытых Достоевским русского «всечеловека» Алеко и русской «всеженщины» Татьяны и плакали, и рыдали, и обнимались, словно в Пасху или радостное какое-то торжество... Вот это все я тут с досадой рассказывал Толстому — он крепко морщился».
Потом Стасов много рассказывал Толстому о молодом художнике Илье Ефимовиче Репине, в то время уже пользовавшемся известностью в интеллигентских кругах, преимущественно своей картиной «Бурлаки». Стасов рассказал Толстому сюжеты последних картин Репина, и Толстой высказывал свои мнения о сюжетах этих картин.
Кроме того, Толстой обратился к Стасову, служившему в Публичной библиотеке, с просьбой навести справки о книгах по истории евангельских текстов и о так называемых конкорданциях или симфониях (библейских словарях).
Стасов вернулся в Петербург 5 октября и, несмотря на воскресный день, сейчас же приступил к наведению справок в библиотеке по интересовавшим Толстого вопросам. На другой день, 6 октября, он уже послал Толстому письмо с нужными ему сведениями. В том же письме Стасов в таких словах описывал впечатление, произведенное на него Толстым:
«Знаете, какая пакость — вы мне совсем голову поворотили, и я вас нынче «обожаю» вроде институтки... Я страшно боюсь, чтобы вы как-нибудь не изгадились! В вас слишком необыкновенное (по крайней мере для русского) соединение и ума — и таланта, правды — и смелости, народности — и светлости головы. Мне, конечно, нет дела до ваших личных вкусов или капризов, и я даже думать не хочу про тот темный и непонятный для меня уголок, который равно и в 1-й и во 2-й день пугал и тревожил меня словно набежавшее бог знает откуда облачко, но зато какой великолепный, горячий, июльский день все остальное!
И жарко, и чудесно, и ослепительно.
Да, эти два дня я так пожил, как и не припомню»146.
649
На это письмо Стасова Толстой, поглощенный своей работой, ответил только 15 ноября. Он писал:
«Если бы я сказал: виноват, что давно не отвечал вам, вы наверно закричали бы басом: зачем вы говорите это? И потому не говорю, а думаю».
Это благодушное начало письма говорит о том, что, несмотря на то, что Стасов откровенно и решительно объявил себя атеистом, несмотря даже на его издевательства над молитвой «Отче наш», очень дорогой Толстому, он не только оставил благоприятное впечатление, но Толстой почувствовал в нем близкого человека.
Далее Толстой благодарил Стасова за список книг по интересовавшим его вопросам и прибавлял:
«Благодарю тоже за хорошее мнение обо мне; но не могу удержаться, чтобы не сказать, что все то хорошее, что вам таким кажется и так ужасно нравится во мне, все это явилось во мне только из того темного угла, который Вам так ненавистен»147.
Своими рассказами о художнике И. Е. Репине Стасов настолько заинтересовал Толстого, что тот выразил желание в свою ближайшую поездку в Москву, которая должна была состояться через несколько дней, познакомиться с Репиным и посмотреть его картины.
Проездом через Москву в Петербург Стасов уведомил Репина, что у него будет Лев Толстой, причем предупредил его, что у Толстого есть свои странности.
XVII
Толстой выехал в Москву 7 октября. Главной целью его поездки было подыскание гувернера детям. В первый же день по приезде Толстой смотрел картинную галерею Дмитрия Петровича Боткина, а вечером поехал к Репину.
На другой день, 8 октября, Репин пишет Стасову восторженное письмо о посещении Толстого. Он писал, что, прождав Толстого понапрасну два дня, он «был даже доволен, когда порешил окончательно», что Толстой у него не будет, потому что «боялся разочароваться как-нибудь, ибо уже не один раз в жизни видел, как талант и гений не гармонировали с человеком в частной жизни. Но Лев Толстой другое — это цельный гениальный человек; и в жизни он так же глубок и серьезен, как в своих созданиях...».
Толстой пришел к Репину вечером 7 октября. Репин сейчас же узнал его по портрету Крамского. О впечатлении, произведенном на него Толстым, Репин писал в том же письме
650
Стасову: «Я почувствовал себя такой мелочью, ничтожеством, мальчишкой! Мне хотелось его слушать и слушать без конца, расспросить его обо всем.
И он не был скуп, спасибо ему, он говорил много, сердечно и увлекательно.
Ах, все бы, что он говорил, я желал бы записать золотыми словами на мраморных скрижалях и читать эти записи поутру и перед сном...»
Уже закончив письмо и подписавшись, Репин приписал:
«(Он [Толстой] был глубоко растроган и взволнован, как мне показалось; и было отчего, он высказывал глубокую веру в народ русский). Странности никакой я в нем не заметил. Он был совершенно ясен и логичен»148.
17 октября Репин вновь наполняет почти все свое письмо к Стасову воспоминаниями о посещении Толстого. Он пишет: «Ах, Толстой, Толстой! Говорили мы тут о многом, т. е. он говорил, а я слушал, да раздумывал, понять старался. Многие слова его мне по уходе стали совершенно непонятны: например, хотя бы и то, что в нерадении нашего народа к своим интересам он видит только доказательство той великой идеи, которую он носит в себе.
Меня он очень хвалил и одобрял, но странно — как решил он, не видя, с Ваших слов, при том же, кажется, и остался. А более всего ему понравились малороссийские «досвитки» — помните, которую Вы и смотреть не стали, а он ее удостоил названием картины, прочие — этюды только. В «Запорожцах» он мне подсказал много хороших и очень пластических деталей первой важности, живых и характерных подробностей. Видно было тут мастера исторических дел. Я готов был расцеловать его за эти намеки, и как это было мило тронуто (т. е. сказано) между прочим! Да, это великий мастер! И хотя он ни одного намека не сказал, но я понял, что он представлял себе совершенно иначе «Запорожцев» и, конечно, неизмеримо выше моих каракулей...
«Крестный ход» ему очень понравился как картина, но он сказал, что удивляется, как мог я взять такой избитый, истрепанный сюжет, в котором он не видит ровно ничего; и знаете ли, ведь он прав!..
Да, много я передумал после него, и мне кажется, что даже кругозор мой несколько расширился и просветлел.
Моих «Запорожцев» он назвал этюдом — правда... Впрочем и «Бурлаков» и «Софью» он считает этюдами — и это все правда»149.
651
Свой разговор с Репиным о его картине «Крестный ход», названной впоследствии «Явленная икона», Толстой вспомнил позднее, когда работал над своим предисловием к рассказам Мопассана — в 1894 году. Здесь он писал:
«Помню, знаменитый художник живописи показывал мне свою картину, изображавшую религиозную процессию. Все было превосходно написано, но не было видно никакого отношения художника к своему предмету.
— Что же, вы считаете, что эти обряды хороши и их нужно совершать или не нужно? — спросил я художника.
Художник, с некоторой снисходительностью к моей наивности, сказал мне, что не знает этого и не считает нужным знать; его дело изображать жизнь.
— Но вы любите по крайней мере это?
— Не могу сказать.
— Что же, вы ненавидите эти обряды?
— Ни то, ни другое, — с улыбкой сострадания к моей глупости отвечал современный высококультурный художник, изображающий жизнь, не понимая ее смысла и не любя и не ненавидя ее явления»150.
Репин здесь не назван, но существует дневник одного из посетителей Толстого, А. В. Жиркевича, где записан со слов Толстого тот же его разговор с Репиным, причем имя Репина здесь названо. В своем дневнике от 20 декабря 1890 года Жиркевич записал следующие слова Толстого:
«Однажды, помню, Репин показывал мне свою картину „Крестный ход в лесу“. Видимо, самому Репину картина нравилась. А я спрашиваю его: «Вы человек православно верующий?» — «Что вы! — говорит, — за кого вы меня принимаете?» — «Ну, значит, вы хотели посмеяться над суеверной, невежественной толпой?» — «И не думал». — «Так зачем же вы писали эту картину?» — «Знаете ли, — говорит Илья Ефимович, — тут световые пятна так хорошо падали на толпу...» Репин, видимо, не преследовал здесь никакой идеи, а погнался за световыми эффектами»151.
Совершенно так же, как сам художник, расценивал картину «Явленная икона» его биограф И. Е. Грабарь. «Ее основной стержень, — писал И. Е. Грабарь об этой картине, — отношение пестрой, залитой солнцем толпы к темно-зеленой дубовой роще, сверкание риз духовенства на сочной зелени, игра солнечных пятен»152.
Свое первое письмо к Толстому, написанное 14 октября 1880 года, Репин начал словами:
652
«Я все еще под влиянием Вашего посещения. Много работы задали Вы голове моей. Вы были очень добры, снисходительны, хвалили и ободряли мои затеи, но никогда с такой ясностью я не чувствовал всей их пустоты и ничтожности.
Теперь, на свободе, — писал далее Репин, — раздумывая о каждом Вашем слове, мне все более выясняется настоящая дорога художника. Я начинаю предчувствовать интересную и широкую перспективу.
Как жаль, Вы пробыли у меня так мало, а живете так далеко; хотелось бы расспросить Вас о многом...»
Рассказав далее кратко о планах своих работ, Репин закончил письмо словами:
«Простите, что беспокою Вас. Цель этого письма — поблагодарить за посещение; в самом деле, Вы принесли мне громадную духовную пользу.
Вам обязанный многими высокими наслаждениями в Ваших произведениях
И. Репин»153.
В ответ на это письмо Толстой в октябре-ноябре прислал Репину два письма, которые, к сожалению, до нас не дошли. Судя по ответу Репина, Толстой писал ему о картине «Проводы новобранца», над которой тогда работал Репин. Толстой видел фотографию с этой картины, и картина показалась ему холодна.
«Еще раз благодарю Вас за Ваши письма, — отвечал Репин 19 ноября, — они меня очень ободряют; пожалуйста, не скупитесь на замечания, я их очень люблю, особенно Ваши драгоценны мне по своей глубокой правде и высокому строю мысли»154.
Много лет спустя Репин приступил к работе над воспоминаниями о своих встречах с Толстым. В начале своих воспоминаний он писал: «Для меня духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей. При нем, как загипнотизированный, я мог только подчиняться его воле. В его присутствии всякое положение, высказанное им, казалось мне бесспорным»155.
Это признание Репина вполне применимо и к его первой встрече с Толстым.
XVIII
28 января 1881 года умер Достоевский.
3 февраля Н. Н. Страхов писал Толстому:
«Чувство ужасной пустоты не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось
653
пол-Петербурга или вымерло пол-литературы... Тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого. Ах, как грустно!.. Он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за „соблазн и безумие“»156.
Скорбь друга об утрате близкого ему человека встретила живой отклик у Толстого. 5 февраля он отвечал Страхову:
«Как бы я желал уметь сказать всё, что я чувствую о Достоевском. Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. — Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу.
На днях, до его смерти, я прочел „Униженные и оскорбленные“ и умилялся»157.
Вряд ли, однако, Толстой в то время мог действительно найти себе опору в Достоевском.
А. А. Толстая писала ему 17 января 1881 года, что она «эту зиму очень сошлась с Достоевским». «Он любит вас, — писала А. А. Толстая, — много расспрашивал меня, много слышал об вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует»158. А. А. Толстая дала Достоевскому прочесть письма к ней Льва Николаевича, написанные в феврале 1880 года. В «Воспоминаниях» она рассказывает, какое впечатление произвело на Достоевского чтение писем Толстого:
«Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то, не то!..» Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича; несмотря на то, забрал все, что лежало писанное на столе: оригиналы
654
и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Льва Николаевича»159.
Конечно, все, что мы знаем о Достоевском, не дает никаких оснований полагать, чтобы он когда-нибудь согласился с взглядами Толстого. И совершенно невозможно предположить, чтобы Толстой, в своем «Исследовании догматического богословия» не оставивший камня на камне от учения православной церкви, когда-нибудь сошелся с Достоевским в признании православия.
Толстой скоро убедился в том, что с Достоевским ему не по пути. В августе 1883 года в беседе с Г. А. Русановым Толстой сказал о Достоевском, каким он был в последние годы жизни: «У него какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедыванием войны и преклонением пред государством, правительством и попами»160.
В конце 1870-х и в начале 1880-х годов среди окружавших Толстого лиц двое разделяли его взгляды. Это был учитель детей Толстого В. И. Алексеев и тульский вице-губернатор князь Л. Д. Урусов.
Что В. И. Алексеев был единомышленником Толстого — это удостоверено самим Толстым в письме к нему, написанном в июле 1884 года. «Я вас узнал, — писал Толстой, — первого человека (тронутого образованием), не на словах, но в сердце исповедующего ту веру, которая стала ясным и непоколебимым для меня светом»161.
Нечего и говорить, как дорого было Толстому такое сочувствие его взглядам в ту особенно трудную для него пору жизни. Когда в 1910 году В. И. Алексеев приехал навестить Толстого, Лев Николаевич представил его Чертковым со следующими словами: «Это мой близкий друг, с которым мы много пережили вместе»162.
В. И. Алексеев оставил после себя (он умер в 1919 году) воспоминания о своей жизни в Ясной Поляне в 1877—1881 годах. В его воспоминаниях дан живой облик Толстого того времени и так же живо изображены условия его семейной жизни данного периода163.
655
И. М. Ивакин в своих «Воспоминаниях» называет Леонида Дмитриевича Урусова «фанатическим поклонником Льва Николаевича». По мнению С. Л. Толстого, «Урусова можно назвать одним из первых толстовцев, хотя он был мало похож на последующих опростившихся толстовцев. Он сходился с отцом преимущественно в вопросах веры и философии. Он был всегда безукоризненно одет, щепетильно учтив и прекрасно говорил по-французски. Он жил скромно, был добр со всеми и старался в пределах возможного смягчать свои административные функции»164.
Позднее Урусов перевел на французский язык трактат Толстого «В чем моя вера?» и некоторые главы его же «Краткого изложения Евангелия»; кроме того, он перевел на русский язык с французского перевода «Размышления» Марка Аврелия — «Наедине с собой».
В начале 1880-х годов Урусов приезжал в Ясную Поляну каждую субботу и оставался на воскресенье. Эти еженедельные регулярные приезды Урусова, несмотря на близость его к взглядам Толстого, иногда бывали тягостны Льву Николаевичу, когда ему хотелось побыть «наедине с собой», поработать или просто отдохнуть от непрерывного напряженного умственного труда. Как записал И. М. Ивакин в своем дневнике, Толстой однажды сказал про Урусова: «Для меня он составляет большое обременение». «Но князь этого не замечал, — пишет далее И. М. Ивакин, — да и заметить было трудно, потому что в его присутствии Лев Николаевич и виду не показывал, а графиня — та была к нему всегда очень любезна».
В письме к жене от 6 февраля 1882 года Толстой жаловался на то, что утром приезд Урусова помешал ему работать, а вечером он «устал ужасно от разговоров»165. Но это были редкие случаи. «Урусов мил», — записал Толстой в дневнике 22 июня 1881 года.
«Урусов был платонически влюблен в Софью Андреевну», — пишет комментатор дневников С. А. Толстой166.
Уже после смерти Урусова С. А. Толстая 26 октября 1886 года записала в дневнике:
«Перечитывала вчера письма Урусова, и больно ужасно, что его нет. Доискивалась в них того, что и при жизни его хотелось всегда знать: как он относился ко мне? Знаю одно, что с ним всегда было хорошо и счастливо, а чем это давалось — не знаю»167.
В своей автобиографии «Моя жизнь» С. А. Толстая о своем отношении к Л. Д. Урусову писала:
656
«...У нас был еще в то время в гостях князь Леонид Дмит. Урусов, горячий последователь ученья Льва Николаевича о христианстве, частый посетитель Ясной Поляны и большой преданный друг всех ее обитателей... Урусов любил всякие религиозно-философские произведения и мысли. Он и меня приохотил тогда к чтению философов: Сенеки, Марка Аврелия, Платона, Эпиктета и других. Я жадно принялась тогда читать все подряд, делая выписки и буквально упиваясь философией... Мы с ним часто беседовали на всякие темы духовной жизни людей старого и нового времени, и когда впоследствии он переводил «В чем моя вера?», мы вместе проверяли перевод, и князь внушал мне все величие мышления моего мужа и предсказывал, что оно охватит со временем весь мир. Когда мы занимались с ним раз вместе, он вдруг мне сказал: „Не правда ли, графиня, что ничто людей так не сближает и не привязывает друг к другу, как совместная умственная работа?“».
Далее С. А. Толстая пишет:
«...Вторая эпоха моей духовной жизни — было это время познания мной красот философского мышления мудрецов... На этот путь поставил меня и потом вел и дальше князь Л. Д. Урусов, и я привязалась к нему и долго любила его за это и тоже не разлюбила его никогда, хотя он давно уже умер. Кроме того, связывала нас наша любовь к Льву Николаевичу и его интерес к религиозным работам...
Он был несчастлив с своей женой, которую, по-видимому, не переставал любить... Я ее знала, она бывала у нас... Во время своего пребывания в Ясной Поляне она раз сидит подбоченившись и курит, и я против нее. Она пристально уставила свои блестящие, какие-то зловещие и умные темно-серые глаза на меня и с злой улыбочкой сказала «J’ai grande envie de dire au comte, que ce ne sont pas ses principes, que mon mari aime, mais que c’est sa femme!» [«У меня большое желание сказать графу, что мой муж любит не его принципы, а его жену»]. На последнем слове она сделала сильное ударение и расхохоталась. Я придала этой фразе самый будничный характер, сказав ей спокойно, что я уверена, что князь меня немножко любит, как и я его, что мы очень дружны и одно другому не мешает.
Это была правда. Мы оба всегда радовались, когда встречались, или когда князь приезжал на субботу и воскресенье проводить эти дни в нашей семье.
Отношение его ко мне было рыцарски любезное, иногда немного восторженное. Никогда ни словом, ни жестом мы с ним не выразили друг другу ничего в смысле романа. Для князя Урусова я всегда заказывала более вкусный обед, надевала более красивое платье, прочитывала то, о чем собиралась поговорить с ним, и иногда кокетничала с ним более духовно, чем физически, стараясь ему нравиться. Но и только.
657
Князь приносил мне огромные букеты, привозил конфеты и книги и очень любил всем делать подарки: подарил мне особенно красивые ножницы, саксонскую фарфоровую куколку, веер из Парижа Тане и проч. Он дарил так весело и просто, как это редко умеют делать люди...
Вероятно, Таня замечала что-нибудь нежелательное для нее в отношении Урусова ко мне. Помню, я раз осенью, не помню в котором году, в отсутствие Льва Николаевича, получаю на его имя письмо от Урусова, что он возвращается из-за границы в Тулу. Я его прочла и вслух сказала при Тане о возвращении Урусова. Через несколько времени я хватилась для чего-то Тани и не могла ее найти. Вижу, сидит где-то и горько плачет, даже рыдает. «Приезжает опять Урусов, он в вас влюблен; а если вы в него влюбитесь, вы убьете себя».
Меня поразило ее знание моей души и честности. Я тоже заплакала и уверяла ее, что никакая любовь в мире не может быть мне дороже ее спокойствия, ее всякой пролитой ею слезы, и что я слишком люблю и ее отца и детей своих, чтобы потерять голову от новой любви. Вероятно, я так горячо и убедительно говорила, что успокоила ее, но на Урусова она всегда смотрела враждебно, говорила ему колкости и не любила его»168.
Утверждение М. С. Урусовой, будто ее муж ездил в Ясную Поляну только потому, что любил жену Толстого, разумеется, несправедливо. Л. Д. Урусов часто ездил в Ясную Поляну и тогда, когда жена Толстого бывала в Москве.
Толстого, по-видимому, нисколько не беспокоила эта «платоническая любовь» между его женой и его «милым другом», как он называл Л. Д. Урусова в письмах. По словам Софьи Андреевны, Лев Николаевич не ревновал ее к Урусову и однажды даже сказал ей: «Я понимаю и ничего не имею против, если ты его любишь, потому что я сам его люблю»169.
О близости Урусова к религиозным воззрениям Толстого говорят несколько строк, посвященных ему Толстым в письме к Г. А. Русанову от 21 марта 1886 года: «Урусов... умер и умирал так же, как жил, — с одним желанием: любовно исполнять волю бога»170.
XIX
Последние месяцы 1880 и первые месяцы 1881 года Толстой был занят исключительно работой над «Соединением и переводом четырех Евангелий».
658
«Помню, — вспоминает С. Л. Толстой, — как он выходил из своего кабинета после занятий — усталый, но радостный, найдя новое толкование того или другого места Евангелия»171.
«Я очень напряженно занят», — писал Толстой Страхову 16 ноября 1880 года172.
«Левочка вдался в свою работу», — писала Софья Андреевна сестре 28 ноября.
«Работа идет ровно, — писал Толстой Страхову 30 декабря. — Могу сказать, что я на половине. И рядом с работой все светлее и светлее становится»173.
«Я очень занят», — сообщал Лев Николаевич А. А. Толстой в кратком письме в начале января 1881 года174.
20 января 1881 года С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка все дома сидит, очень пристально занимается и ничем светским уже совсем не интересуется... Главное, что меня беспокоит в Левочке, — это его головные боли, почти ежедневные».
31 января Софья Андреевна записывает в дневнике:
«Всякий день садится он [Лев» Николаевич] за свою работу, окруженный книгами, и до обеда трудится. Здоровье его сильно слабеет, голова болит, он поседел и похудел в эту зиму»175.
2 февраля С. А. Толстая опять писала сестре: «Левочка совсем заработался, голова все болит, а оторваться не может».
Работа с перерывами продолжалась до лета 1881 года. 26 мая Толстой писал Страхову: «Все еще работаю и работы не вижу конца»176. И только в первых числах июля он мог уведомить Страхова, что «большое сочинение» (так он называл «Соединение и перевод четырех Евангелий») «кончил, и еще раз все прошел»177.
«Соединение и перевод четырех Евангелий» содержит предисловие, вступление, двенадцать глав и заключение178.
Во вступлении к своему труду Толстой, вновь подтвердив, что изучение богословских книг раскрыло ему, что «та вера, которую исповедует наша иерархия и которой она учит народ, есть не только ложь, но и безнравственный обман», объясняет причины, заставившие его взяться за новый перевод Евангелий с греческого языка. Причины эти в том, что, по мнению Толстого, книги, содержащие предания о жизни Иисуса и записи его учения, «после 1800 лет существования этих книг лежат перед нами
659
в том же грубом, нескладном, исполненном бессмыслиц и противоречий виде, в каком они были». Церковь учит, что каждое слово в этих книгах есть истина, и тем самым она «лишила сама себя права соединять, исключать, объяснять» Евангелия, что «составляло ее обязанность и чего она не делала и не делает». И церковь «впала в такие противоречия, из которых бы она никогда не вышла, если бы считала для себя сколько-нибудь обязательным здравый смысл».
И Толстой поставил перед собой задачу исследовать, где в преданиях об Иисусе заключается истина и где начинается ложь, искажающая смысл учения. С этой целью он решил изучить слово за словом все четыре Евангелия на греческом языке, на котором они дошли до нас, «обращаясь к этим книгам с самыми строгими разумными требованиями».
«Отыскивать я буду в этих книгах, — писал Толстой, — 1) то, что мне понятно, потому что непонятному никто не может верить, и знание непонятного равно незнанию; 2) то, что отвечает на мой вопрос о том, что такое я, что такое бог и 3) какая главная единая основа всего откровения». Под «откровением» Толстой понимал не что-то мистическое, сообщаемое человеку сверхъестественным образом, как понимает это церковь; под этим словом он разумел «то, что открывается перед разумом, дошедшим до последних своих пределов, — созерцание божественной, то есть выше разума стоящей истины».
Двенадцать глав работы Толстого содержат выдержки из всех четырех Евангелий, последовательно, в хронологическом порядке излагающих жизнь и учение Иисуса от его рождения до смерти. Каждая глава представляет собою цельное, тематически объединенное изложение преданий об Иисусе, относящихся к какому-либо периоду его жизни, и поучений его, относящихся к тому же периоду. Каждая глава имеет свое название. Кроме того, в каждой главе есть несколько ненумерованных разделов, также имеющих свои заглавия. В конце каждой главы дается «общее изложение» содержания данной главы. Все евангельские тексты даются в трех переводах: греческом, русском церковном и толстовском. В тех случаях, когда толстовский перевод отличается от церковного, Толстой дает филологические доказательства правильности своего перевода.
Имея в виду преимущественно народного читателя, Толстой старался давать свой перевод обычным разговорным языком; он не придерживался того торжественного стиля, которым во многих местах написаны Евангелия.
Вместо «лицемеры» он пишет «притворщики»; вместо «укоряли» — «стали они ругаться»; вместо «заключен в темницу» — «посажен в тюрьму»; вместо «взалкал» — «отощал»; вместо «я имею нечто сказать тебе» — «дай скажу тебе слово»; вместо «Неужели не разумеете?» — «Разве вы не знаете?» Выражение
660
«Изъясни нам притчу» Толстой заменяет выражением «Растолкуй нам эту притчу»; призыв: «Если кто имеет уши слышать — да слышит» передает словами: «Есть уши слышать — так понимай»; фразу (из притчи): «И подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» заменяет словами: «И подул ветер и ударил в дом, и завалился дом, и все загремело». Наставление: «Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» изложено Толстым так: «Тогда — ты сам знаешь — уже не выберешься, пока не отдашь последнюю копейку». Другое, очень известное наставление: «И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в своем глазу не чувствуешь?» в переводе Толстого читается так: «Что выглядываешь соринку в глазу брата твоего, а что в твоем глазу целая щепка, ты этого не чуешь».
Еще более заметно старание Толстого написать свой труд простым разговорным языком в «Изложениях», следующих за переводом каждой главы. Так, вошедшее в поговорку изречение Нафанаила: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Толстой распространенно передает следующим образом: «Нафанаил удивился тому, что избранник божий из соседней деревни, и говорит: «Ну, брат, мудрено что-то, чтобы из Назарета был избранник божий».
Иногда Толстой в пояснение евангельских текстов приводил русские пословицы. Так, после евангельского поучения: «Не можете ни на часок увеличить своего века» Толстой прибавляет в скобках: «Думка за горами, а смерть за плечами».
Однако работа Толстого в отношении языка далеко не была завершена. Нет сомнения, что если бы Толстой продолжал работать над соединением и переводом четырех Евангелий, язык его работы был бы значительно улучшен.
Кроме перевода евангельских текстов и филологических доказательств правильности своего перевода, Толстой во многих случаях дает еще (иногда довольно пространные) объяснения отдельных мест Евангелия. Часто эти объяснения сопровождаются полемикой с церковным пониманием тех же мест Евангелия, причем в этой полемике Толстой приводит и затем критикует обширные выдержки из двух книг: «Толковое Евангелие» епископа Михаила и «Комментарии к Евангелиям» протестантского богослова Э. Рейса, изданные на французском языке в Париже в 1874 году.
В объяснениях к отдельным главам и стихам Евангелий Толстой часто переходит к изложению своего понимания религиозных и нравственных положений, изложенных в Евангелиях, с которыми он выражает полное согласие.
На многих страницах Толстой пытается выяснить свое понимание того представления о боге, которое дается в Евангелиях. Он пишет:
661
«Слово „бог“ не надо и нельзя понимать как что-то понятное, определенное». «Под словом „бог“ в этом месте [Евангелия] никак нельзя разуметь не только нашего или еврейского бога, но никакое определенное существо». «Бог — это то неплотское начало, которое дает жизнь человеку». «Чтобы выразить то, что есть не плоть, Иисус употребил слово „дух“». «Где начало того всего мира земного, мы не знаем и не можем знать». «Источник разумения — бог... — не управляет людьми». «Иисус объявил, что бога — творца, законодателя и судью никакого никто не знает и не знал, а есть только в человеке дух, исшедший от бесконечного начала — сын духа, свет разумения, и в нем жизнь». «Этот дух в человеке, исшедший от бесконечного и относящийся к нему как сын к отцу, это бесконечное начало в человеке есть то, что должно обоготворить, то есть заменить вымышленного бога этим настоящим и единственным богом». «Всякое внешнее богопочитание вредно». «Все эти названия: 1) бог, 2) дух, 3) сын божий, 4) сын человеческий, 5) свет и 6) разумение имеют одно и то же значение и употребляются соответственно отношения, в котором находятся с предметом речи»179.
Толстому было очень радостно прийти к заключению, что в Евангелиях не содержится еврейского или церковного представления о боге — творце и судии и основой жизни — богом — признается разумение. Он усиленно настаивал на правильности своего перевода слова «логос» в первой главе Евангелия от Иоанна как «разумение», а не «слово», как было переведено в церковном переводе. По поводу перевода этого слова Толстой писал: «Пусть требуют объяснения не от меня, а от прежних переводчиков. Только желание подвести слова под вперед утвержденное мнение могло заставить переводчиков давать такой несвойственный языку и все-таки темный перевод этого места».
29 марта 1884 года он записал в дневнике: «Письмо... от Черткова. Он сердится за разумение вместо бога. И я с досадой подумал: коли бы он знал весь труд и напряжение, и отчаяние, и восторги, из которых вышло то, что есть»180.
Толстой утверждает, что «Иисус ничего никогда не говорил о жизни загробной; напротив, прямо отрицая ее, говорил: «Пускай
662
мертвые хоронят мертвых; бог есть бог живых, а не мертвых». Он говорил только то, что жизнь имеет один источник временный — плоть, другой невременный — дух, сын бога». Смерть есть жизнь вне света разумения. «Каждый имеет возможность стать сыном бога и не знать смерти». «Объективного зла нет. Субъективное зло есть удаление от разумения; оно же есть смерть». «Жизнь только настолько жизнь, насколько она есть разумение»181.
Нравственное учение, изложенное в Евангелиях, Толстой формулирует в следующих словах:
«Источник нашей жизни есть любовь».
«Учение Иисуса состоит в том, чтобы всякий шаг жизни направлять на дела добра людям». «Важнее всего человек и добрые дела».
«Воля духа бога есть добро. И для исполнения этого добра есть закон». Этот закон — «общий и вечный нравственный закон людей». «Исполнение закона дает жизнь истинную». «Закон этот в пяти правилах», указанных в Евангелиях. Все эти нравственные правила, которые проповедовал Иисус, выражены в форме противопоставления его заповедей древнему закону Моисея.
Первое правило (в изложении Толстого): «Не сердитесь, не бранитесь, а побранились — миритесь. И прощайте все, в чем виноваты перед вами люди».
Второе правило (в изложении Толстого): «Не ищи плотских утех; если есть жена, живи с ней одной». «Всякое распутство губит душу».
Эти два правила касаются личной и семейной жизни людей; остальные три правила относятся к общественной жизни.
Третье правило (в изложении Толстого): «Никогда никому ни в чем не присягай. Говори да, когда да; нет — когда нет, и знай, что если от тебя требуют клятву, то это для зла».
Этим правилом отрицалась всякая присяга: присяга на подданство, присяга в суде и другие. По утверждению Толстого, присягать нельзя потому, что если «я клянусь повиноваться Ивану Ивановичу», то может случиться, что «он велит мне убивать людей, а бог запрещает мне это». Но церковь, излагая учение Христа, лжет, защищая присягу на подданство, «и она знает, зачем: она знает, что устройство общества и ее устройство держатся на присяге, потому она не может не лгать». Церковь «умышленно унижает учение, уродует его и делает его слугою своих мерзких целей». «Присяга — то кажущееся невинным дело, которое ведет ко всем ужаснейшим насилиям»182.
663
Четвертое правило (в изложении Толстого): «Вы слышали, что сказано в старину: «око за око и зуб за зуб»... В старых книгах... сказано, что кто погубит душу, должен отдать душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, вола за вола, раба за раба и т. д. А я говорю вам: злом не борись со злом, и вы не только не требуйте вола за вола, раба за раба, душу за душу, а не противьтесь злу. Если кто хочет судом засудить у тебя вола, отдай ему другого; кто хочет вынудить у тебя кафтан, отдай рубаху; кто выбьет тебе из одной скулы зуб, подставь ему другую скулу».
Это четвертое правило, изложенное в Евангелиях, по мнению Толстого, говорит «об отношениях человека к своему государству и о законах государства». «Главный смысл» этого правила «есть только отрицание суда человеческого, утверждаемого ложным законом». «Вам нельзя судить, — излагает Толстой учение Иисуса об отношении к суду и наказаниям, — потому что мы все, люди, слепы и не видим правды». «Как бы тебя ни обижали, злом не туши зла, не суди и не судись, не наказывай и не жалуйся».
На основании анализа греческих слов, употребленных в Евангелии при изложении четвертого «правила», а также на основании общего смысла евангельского учения Толстой пришел к выводу, что в этом «правиле» содержится отрицание суда и наказаний. Такое понимание, по-видимому, было очень дорого Толстому, и он в своих толкованиях этого «правила» с разных сторон рассматривает вопрос. Он говорит:
По учению Христа, «людское правосудие есть зло». «Взяв статью из законов своего народа, Христос учит, что наказанием исправлять нельзя, а надо отдавать все, что у тебя берут, все спускать и никогда не судиться». Суды и наказания — это «старинные средства защиты от зла». «По закону Моисея справедливость достигалась судом и наказанием. Я же вам говорю, — учил Христос, — не защищайтесь от зла, тогда вы достигнете справедливости». «Не может убийство произойти от доброго желания; от доброго человека не может отродиться месть и наказание». «Тот, кто судит, то есть хочет мстить и наказывать, он тем самым, что судит, уже утверждает зло». «Суды и судья — это слепые вожди слепых учителей мести и злобы, не могущих ничему иному научить, как мести и злобе». «Иисус Христос учит всех прощать. Кто же будет наказывать, если он учит всех не противиться злу и не мстить?» «Не может же быть закон «не убий» и закон «убий» того-то и того-то». «Для того, чтобы достигнуть блага, не защищайтесь от злых людей». «Не боритесь со злом или, правильнее — не защищайся от зла этим путем, а делай обратное». «Злом нельзя уничтожить зло»183.
664
Пятое правило: «Не воюй» (текст в церковном переводе). «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
На основании значения греческих слов, при помощи которых выражено это «правило», Толстой понимает его не в смысле личных отношений между людьми, а в смысле отношений между народами.
Пятое правило, говорит Толстой, «относится до тех людей, которых мы называем неприятелями, когда наш народ в войне с ними, до чужих народов, до всего человечества; вражеских народов, неприятелей не должно быть для вас. Если они воюют с вами — подчиняйтесь, делайте добро и не воюйте». Христос «запрещает отдельность народов, пресловутую любовь к отечеству». «Речь Иисуса говорит только, что не должно защищаться от врагов и ни в коем случае не нужно воевать».
Смысл пятого «правила» в применении к современной жизни Толстой излагает в следующих выражениях: «Вам сказано: люби своего русского, а презирай жида, немца, француза. А я говорю: люби людей чужих народов, если даже они нападают на тебя, делай им добро». «Не признавай никакого различия народностей и из-за различия народностей не воюй, ни нападая, ни защищаясь». «К чужим народам соблюдайте то же, что я сказал вам соблюдать между собою. Вражеских народов, разных царств и царей нет, все братья, все сыны одного бога. Не делайте различий между разными народами, не знайте царей и царств»184.
665
«Все пять правил, — говорит далее Толстой, излагая евангельское учение, — сходятся в одно: то, что ты желаешь, чтобы делали тебе другие, то сам делай другим»185.
По Евангелиям, учение Христа могут исполнять только нищие и бродяги. «Иисус жил без дома и собственности»; он «всю жизнь был бродягой; он «сближается с нищими и проповедует нищим». «Для бродяг царство божие открыто, доступно — и закрыто от богачей». «Блаженство состоит в нищенстве». «Богатые, пресыщенные и восхваляемые не войдут в царство, потому что богатство, пресыщенность и слава удаляют царство божие». «Богатство, собственность есть источник зла, есть жестокость». «Только следуйте моему учению, — говорил Иисус, — и все зло будет побеждено в мире». «Учение мое, как огонь, запалит мир»186.
Там, где Толстому в своей работе по исследованию Евангелий приходилось говорить о церковном учении, он высказывался о нем так же резко, как и в «Исследовании догматического богословия».
Евангельский рассказ об изгнании Иисусом торгующих из храма Толстой понимает таким образом: «Он пришел в храм, выбросил все то, что нужно для их молитвы, точно так же, как
666
теперь бы сделал тот, кто, придя в нашу церковь, выкидал бы все просвиры, вино, мощи, кресты, антиминсы и все те штуки, которые считаются нужными для обедни... Он отрицает и богослужение и понятие еврейского бога... Не понять этого нельзя. Если место это не понято церквами, то не от глупости, а от большого ума. Таких умышленных нелепых толкований встретится много. Такие толкования бывают тогда, когда церковь узаконила то самое, что отвергал Иисус».
Относительно «таинства причащения», когда верующие, по толкованиям церкви, «вкушают тело Христа и пьют кровь его», Толстой замечает, что «таинство» это — «что-то необычайное, что-то такое дикое, чему подобного нельзя найти ни в какой дикой вере». Мимоходом Толстой упоминает о «бессмысленности и мерзости догматов», о «бессмысленном и безнравственном догмате искупления»187.
В заключительной части своей работы Толстой говорит главным образом о легенде о воскресении Христа и подводит итог всему своему труду по изучению и переводу Евангелий.
Толстой рассказывает, как, по его мнению, образовалась легенда о воскресении. «История зарождения этой легенды, — пишет он, — так ясна, как только может быть. В субботу пошли смотреть гроб. Тела нет. Евангелист Иоанн рассказывает сам, что говорили, что тело вынули ученики. Бабы идут к гробу, одна — порченая Мария, из которой выгнано семь бесов, и она первая рассказывает, что видела что-то у гроба: не то садовник, не то ангел, не то он сам. Рассказ переходит от кумушек к кумушкам и к ученикам. Через восемьдесят лет рассказывают, что, точно, видел его тот и тот, там и там, но все рассказы сбивчивы, неопределенны. Никто из учеников не выдумывает — это очевидно, но никто тоже из людей, чтущих его память, не решается и противоречить тому, что клонится, по их понятиям, к славе его и, главное, к убеждению других в том, что он от бога, что он любимец бога и что бог в честь его сделал знамение. Им кажется, что это — самое лучшее доказательство, и легенда растет, распространяется... Толпа, грубая толпа овладевает учением и, замазав его лживыми легендами, затемняет его...
Рассказ о чуде воскресения Христа... резко отличается своею низменностью, ничтожностью, просто глупостью от всего прежнего описания жизни Христа... Рассказ о воскресении и мнимых действиях и речах после его не имел уже основания жизни, а весь выдуман... Когда в основе описания нет уже ничего действительного, а только одни выдумки писателей, то низменность и грубость их является во всей своей наготе. Видно, что воскресить-то
667
они воскресили, но заставить его что-нибудь сказать и сделать достойное его не сумели».
От вопроса о мнимости чуда воскресения Толстой переходит к общему вопросу о Евангелиях. «Тот, кто читает теперь Евангелие, — говорит Толстой, — находится в странном положении. Тот, кто умышленно не закрывает глаза, тот не может не видеть, что если тут не все, что мы знаем и чем мы живем, то по крайней мере что-то очень мудрое и значительное. Но мудрое и важное это выражено так безобразно дурно, как говорил Гёте, что он не знает более дурно написанной книги, как Евангелие, и зарыто в таком хламе безобразнейших, глупых, даже непоэтических легенд, и умное и значительное так неразрывно связано с этими легендами, что не знаешь, что и делать с этой книгой».
Для себя Толстой нашел, «что делать с этой книгой»: «Все четвероевангелие, — пишет он, — подобно чудной картине, которая для временных целей закрашена слоем темной краски... Зная толщу слоя, состав его, надо подковырнуть его..., осторожно струпом содрать его со всей картины, тогда только мы поймем ее во всем ее значении, и это самое я пытаюсь сделать»188.
Впоследствии Толстой всегда вспоминал о времени своей работы над переводом и исследованием Евангелий как о светлом и радостном периоде своей жизни. В предисловии к первому изданию книги «Соединение и перевод четырех Евангелий», написанном 29 августа 1891 года, Толстой писал, что «в продолжение всей этой долгой работы» над книгой он переживал «сосредоточенное, постоянно восторженное душевное напряжение»189. Свое предисловие к новому изданию той же книги, написанное 26 марта 1902 года, Толстой начал словами: «Книга эта была написана мною в период незабвенного для меня восторга сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное, мучившее меня своими противоречиями учение, которое преподается церковью, а есть ясное, глубокое и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека»190.
Толстой был так же глубоко удовлетворен результатами работы по исследованию Евангелий, как и своим «Исследованием догматического богословия». 19 мая 1884 года он писал В. Г. Черткову: «Это сочинение — обзор богословия и разбор Евангелий — есть лучшее произведение моей мысли, есть та одна книга, которую (как говорят) человек пишет во всю свою жизнь»191.
668
Вместе с тем Толстой впоследствии испытывал некоторое недовольство своими переводами евангельских текстов с греческого языка, находя в них, как писал он английскому переводчику его сочинений Джону Кенворти 27 марта 1895 года, «излишние филологические тонкости»192. О том, как появились эти «излишние филологические тонкости», Толстой в августе 1887 года писал М. А. Новоселову: «Вообще в переводе моем грубых ошибок не думаю, чтобы было (я советовался с филологом, знатоком и тонким критиком)193, но много должно быть таких мест... где натянут смысл и перевод искусствен. Это произошло оттого, что мне хотелось как можно более деполяризировать, как магнит, слова церковного толкования, получившие несвойственную им полярность. Исправить это — будет полезным делом»194.
Несмотря на этот, признаваемый им самим недостаток своей работы по исследованию Евангелий Толстой продолжал так высоко ценить этот труд, что выделял его из всего им написанного. 10 июля 1895 года он писал Д. Кенворти: «Рискуя подпасть обычному парадоксу о том, что сам автор всегда ложно оценивает свои писания, я все-таки скажу, что это (Work) сочинение важнее в тысячу раз всего того, что я написал, и я знаю, что не ошибаюсь, потому что это сочинение стоило мне наибольшего радостного труда, было поворотным пунктом всей моей жизни и легло в основание всего того, что я писал после того»195.
XX
В письме к Страхову от первых чисел июля 1881 года Толстой сообщал, что им написано краткое изложение всего Евангелия и предисловие к нему. Это «Краткое изложение Евангелия» является извлечением из полного «Соединения и перевода четырех Евангелий». Оно появилось на свет при следующих обстоятельствах.
В. И. Алексеев заканчивал занятия со старшими детьми Толстого и уезжал из Ясной Поляны. Зная, что труд Толстого по цензурным условиям не может появиться в России, Алексеев обратился к нему с просьбой позволить ему списать для себя его работу. Но так как срок его отъезда из Ясной Поляны приближался, то Алексеев, видя, что он не успеет списать всю работу Толстого, решил переписать только все переводы евангельских текстов, сделанные Толстым, и «общие изложения» всех глав.
669
Таким образом, были опущены все филологические рассуждения и толкования отдельных мест.
Толстой просмотрел то, что было переписано Алексеевым, сделал ряд исправлений и написал предисловие к «Краткому изложению Евангелия».
В предисловии Толстой вновь повторяет, что «столь привычное нам представление о том, что Евангелия, все четыре, со всеми своими стихами и буквами суть священные книги, есть, с одной стороны, самое грубое заблуждение, а, с другой — самый грубый и вредный обман... Евангелия синоптические, как они дошли до нас, есть плод медленного нарастания посредством списывания и приписывания и соображений тысяч разных умов и рук человеческих, а никак не произведения вдохновения святого духа евангелистам».
В то же время Толстой предупреждает читателя, что он не разделяет «привычного в последнее время образованным людям исторического взгляда на Евангелия», но смотрит на христианство как на «учение, дающее смысл жизни».
Посвятив еще несколько страниц лжетолкованию Евангелия церковью, Толстой заканчивает свое предисловие словами, что те, кто внешне исповедуют церковную веру только «потому, что они считают исповедание и проповедание ее выгодным для себя, то пусть такие люди помнят, что сколько бы у них ни было единомышленников, как бы сильны они ни были, на какие бы престолы ни садились, какими бы ни называли себя высокими именами, они не обвинители, а обвиняемые — не мною, а Христом... Им не доказывать нужно, но оправдываться». Оправдываться в том, что они «лишили и лишают миллиарды людей того блага, которое принес людям Христос, и вместо мира и любви, принесенных им, внесли в мир секты, осуждения и всевозможные злодейства, прикрывая их именем Христа».
«Для этих читателей, — пишет Толстой, — только два выхода: смиренное покаяние и отречение от своей лжи, или гонение тех, которые обличают их за то, что они делали и делают. Если они не отрекутся от лжи, им остается одно: гнать меня, на что я, оканчивая свое писание, готовлюсь с радостью и со страхом за свою слабость»196.
Такими словами закончил Толстой свое предисловие к «Краткому изложению Евангелия».
Предисловие к «Краткому изложению Евангелия» явилось первым религиозно-философским произведением Толстого, опубликованным за границей.
Л. Д. Урусов, часто бывавший в Париже, передал переведенное им на французский язык предисловие Толстого к «Краткому
670
изложению Евангелия» в парижский журнал «La nouvelle Revue», где оно и было напечатано в томе XXIII в июле 1883 года. Редактор Julliette Lamber (Edmond Adan) предпослала переводу свое предисловие, в котором писала, что «Лев Толстой в ортодоксальной стране охвачен смелостью Лютера, Ивана Гуса и Кальвина».
В России «Краткое изложение Евангелия» распространялось в рукописных и литографированных копиях под заглавием, данным кем-то из переписчиков: «Новое Евангелие графа Л. Н. Толстого».
Толстой ожидал и желал того, чтобы правительство подвергло его преследованиям за эту книгу.
«Я очень, очень хотел бы, чтобы меня сослали куда-нибудь, или куда-нибудь засадили, очень хотел бы!» — говорил он в 1883 году197.
На многих читателей новое понимание социального смысла евангельского учения, изложенное Толстым в «Кратком изложении Евангелия», произвело сильное впечатление. Доказательством служит письмо художника И. Н. Крамского от 30 апреля 1884 года В. В. Стасову. Он писал:
«Я думаю, что граф Лев Николаевич Толстой оказал услугу своим современникам, переведя Евангелие. До сих пор думали наивные люди, усыпленные ортодоксальными комментаторами, что Евангелие есть мирная книга, теперь им с этим заблуждением придется распрощаться. Прочитав Евангелие на языке, всем понятном, уже не так удобно замазывать щели, уже ничем нельзя смягчить страшный революционный смысл учения Христа. Это очень и очень беспощадное учение, но беспощадное к эгоизму и лицемерию человеческому. По-моему, современники Христа, фарисеи и учители евреев отлично понимали, когда добивались его ареста и смерти, ведь они (по-своему) боролись за общество еврейское, за государство, за сохранение того, что и теперь еще выставляется как священное: алтарь отечества, Егова, порядок, церковь. Они чутьем понимали, что с торжеством учения Христа конец всем этим хорошим вещам. И позже римляне — опять то же самое. И опять тот же мотив: учение это расшатывает основы государства и общества. Я думаю, что наши старшие духовные и иных чинов люди только по чистейшему недоразумению исповедуют (по крайней мере на словах) христианское учение и говорят о нем с наружным уважением. Решительно Лев Толстой достоин теперь кары — и если еще не готовится на его голову бед, то опять-таки по недоразумению»198.
———
671
Разгромив до основания теоретическое и практическое учение церкви, Толстой приступил к беспощадному обличению всего современного ему общественного строя, основанного «на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»199.
672
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрамов Я. В. — 634
Абрамович М. И. — 503
Аввакум Петрович — 123, 581, 582
Авраамий — 127
Авсеенко В. Г. — 98, 99, 182, 378, 380, 387, 388, 390, 391, 398
— «Литературное обозрение» — 388
— «Млечный путь» — 379
— «Очерки текущей литературы» — 98, 132, 378
— «По поводу нового романа графа Толстого» — 379
«Азбука» графа Л. Н. Толстого, статья (в «Вестнике Европы») — 67
«Азбука» графа Л. Н. Толстого, статья (в «Гражданине») — 105
Аксаков И. С. — 243, 418, 425, 632
Аксаков К. С. «Сочинения» — 44
Аксакова А. Ф. — 243
Александр I — 482, 516, 528, 543
Александр II — 433—436, 531, 565
Александр III — 633, 665
Александров А. А. — 416
Александрович — 69
Алексеев В. И. — 77, 503, 504, 508, 634, 642, 654, 668
— «Воспоминания» — 634, 654
Алексей (Лавров-Платонов) — 584, 586
Алексей Михайлович, царь — 117, 124, 546, 557, 582
Алексей Петрович, царевич — 128, 129
Алекторов А., «История Оренбургской губернии» — 241
Алеша Попович, былинный персонаж — 6
Алмазов Б. Н. — 369
Алчевская Х. Д. — 422
— «Передуманное и пережитое» — 422
Амвросий (А. М. Гренков) — 26, 27, 439—441, 490
Амуров, «Новости журнальной литературы» — 373
«Английские народные сказки» — 208
«Англичанин о русской литературе», статья (в «Русском мире») — 389
Андерсен Г. — 67, 68
— «Новое платье короля» — 67
Анна Иоанновна, императрица — 8, 542, 564, 565, 584
«Анна Каренина», статья (в «Гражданине») — 392
Анна Леопольдовна, правительница России — 8
Анненков П. В. — 9, 133, 286, 384, 419—422, 638
Анненкова Л. Ф. — 317
Антокольский М. М. — 362
— «Христос перед народом», скульптура — 510
Антон Ульрих Брауншвейг-Люненбургский — 8
Антоний — 568
Антонович М. А. — 413, 414
— «Современное состояние литературы» — 413
Аполлон (миф.) — 604
Апрелева Е. И. (Е. Ардов) — 513
— «Из воспоминаний об И. С. Тургеневе» — 513
Апухтин Д. А. — 497
Апухтина Н. Д. См. Фонвизина Н. Д.
Аракчеев А. А. — 559
Арбузов С. П. — 442
Аристотель — 225, 226
Арсеньева В. В. — 79, 340
Аскольд — 94
«Астраханский справочный листок» — 373
673
Астряб О., «Лев Толстой — математик-методист» — 179
Ауэрбах Б. — 411
— «Дача на Рейне» — 411
— «Шварцвальдские деревенские рассказы» — 411
Афанасьев А. Н. — 5, 67
Ахматова Е. Н. — 94
Ашевский С., «Лев Толстой, как педагог, в критике 70-х годов» — 173, 187
Бабушкина А. П., «История русской детской литературы» — 67, 81, 112
Баженов В. — 214
Базилевский Б. А., «Из наблюдений над содержанием и стилем незавершенных исторических романов Л. Н. Толстого» — 126
— «Петр I в представлении Л. Н. Толстого» — 120
Базыкин К. А. — 481
Базыкина А. А. — 550
Байрон Д. Г. — 517, 531
— «Каин» — 531
Балакирев М. А., «Король Лир» — 362
Балуров Я., «Кижское восстание 1769—1771» — 575
Бальзак О. де — 252, 410
Бантыш-Каменский Д. Н., «Словарь достопамятных людей русской земли» — 119, 126
Барсов Е. В. — 563, 584
Бартенев П. И. — 14, 462, 473, 478, 497, 529, 563
Барятинский А. И. — 463
Барятинский А. П. — 479
Басистов П., «Для чтения и рассказа. Хрестоматия» — 68
Батеньков Г. С. — 470, 479
Батюшков Ф. Д. — 501
Башилов М. С. — 22
Белинский В. Г. — 457
Белозерский — 21
Беляев А. П. — 472, 473, 479
— «Воспоминания» — 473, 479
Бентам И. — 643
Беранже П. Ж. — 239
— «Mourir vient de soi-même» — 239
Берлиоз Г. — 247
Бёрнет, епископ — 119
Берс А. А. — 137, 197
Берс Л. А. — 474, 478, 573
Берс П. А. — 105, 478, 614
Берс С. А. — 28—31, 54, 115—117, 127, 128, 190, 436, 443, 461, 475, 481, 501, 532
— «Воспоминания о графе Л. Н. Толстом» — 28—31, 54, 115—117, 127, 128, 151, 190, 443, 475, 532, 535
Берхгольц Ф. — 120
— «Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год» — 120
«Беседа», журнал — 12, 40, 97
Бессонов П. А. — 45, 46
Бестужев А. А. (Марлинский) — 73, 479
Бестужев М. А., «Записки» — 479
Бестужев Н. А. — 479
Бетховен Л. — 245, 247
Бибиков А. А. — 459, 508, 509
Бибиков А. Н. — 54, 134, 135
Бибиков В. — 634
— «Рассказы» — 635
Бибиков М. И. — 471
Бибикова И. — 471
— «Из семейной хроники» — 471
Бибикова С. Н. — 470—472
«Библиография произведений Л. Н. Толстого», М., 1955 — 113
«Библиотека для чтения», журнал — 19, 72—74
«Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне», М., 1958 — 225
«Биржа», газета — 118
«Биржевые ведомости» — 144, 373, 382
Бирюков П. И. — 23, 26, 27, 39, 82, 134, 296, 441, 447, 533, 563, 582
— «Биография Л. Н. Толстого» — 23, 39, 134, 442, 443, 448, 563
Бисмарк О. Э. — 255
Бистром Р. Г. — 474, 477, 625
Битовт Ю., «Граф Л. Н. Толстой в литературе и искусстве» — 208
Блудов Д. Н. — 535
Блудова А. Д. — 243, 422
Боборыкин К. Н. — 366
Боборыкин П. Д. — 168, 413, 414
— «Мотивы и приемы русской беллетристики» — 413, 414
— «Толстой-вероучитель» — 414
Бобрннский А. П. — 235, 236
Бобрищев-Пушкин П. С. — 479, 495
Бобровская С. — 176
— «По поводу статьи гр. Л. Толстого «О народном образовании» — 176
Богдан Хмельницкий — 17
Богданович М. И. — 530
Боголюбов А. П. (Емельянов) — 485, 488
Болхин Г. И. — 452, 519
Борис Годунов — 124
Борисов И. П. — 19
Боткин В. П. — 571
674
Боткин Д. П. — 649
Брыкин И. — 481, 482
Булавин К. А. — 545
Булгаков В. Ф., «В осиротелой Ясной Поляне» — 657
Булгаков К. Я. — 517
Булгаков Ф. И., «Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений русская и иностранная» — 133
Бунаков Н. Ф. — 164, 170, 171, 175, 185, 186, 205
— «Моя жизнь. Записки» — 186
— «Письмо к редактору по поводу статьи гр. Л. Толстого» — 176
— «Родной язык как предмет обучения» — 170
— «Уроки чтения» — 170
Буняковский В. Я. — 96, 97, 204
Буренин В. П. — 97, 98, 182, 183, 398, 399
— «Журналистика» — 97
— «Литературные очерки» — 399
— «Текущая журналистика» — 183
Буслаев В. Ф., «Корреспонденты Л. Н. Толстого» — 342
Буслаев Ф. И. — 45, 356
— «Учебник русской грамматики» — 356
Бутлеров А. М., «Медиумические явления» — 357
Вагнер Н. П., «Медиумизм» — 357
Валуев П. А. — 366
Ван-Дейк А. (Вандик) — 152
Вано, «Анна Каренина» Толстого в социальном и педагогическом отношениях» — 416, 417
Василий Буслаев, былинный персонаж — 6
Вебер Х. Ф. — 123
— Дневник — 123
Вейкшан В. А., «Л. Н. Толстой о воспитании и обучении» — 111
Вейнберг П. И. — 386
— «Русская журналистика» — 387
Венгеров С. А. — 395
Веневитинов М. А. — 493
— «Роман декабриста» — 493
Венера (миф.) — 595, 604
Венера Кипрская, статуя — 569
Верещагин В. В. — 625, 627
Верн Жюль — 154
— «Дети капитана Гранта» — 154
— «Путешествие вокруг света в 80 дней» — 154
— «Путешествие на луну» — 154
— «Три русских и три англичанина» — 154
— «80000 верст под водою», — 154
Веселовский К. С. — 158
«Вестник Европы», журнал — 66, 102, 103, 106—108, 180, 366, 414, 515, 524, 630
Виардо П. — 511
Вирхов Р. — 459
Владимир, князь — 6
Владислав, король — 124
Власов В. К — 481
«Внутренняя почта», заметка (в газете «Биржевые ведомости») — 144
Воейков А. С. — 123
Воленс В. П. — 177
— «Арифметика» гр. Л. Н. Толстого» — 177
— «Руководство к арифметике» — 177
Волков Г. А. — 157
Волконские — 544
Волконский Г. М. — 536
Волконский С. Г. — 471
Вольга, былинный персонаж — 88—91
Вольта А. — 82
Вольтер Ф. М. — 218, 599, 612
Воронцов-Вельяминов И. А., «Систематический свод постановлений Тульского губернского земского собрания за XXXV лет» — 447
«Вперед», журнал — 145
Вревская Ю. П. — 422
Вревские, бароны — 307
«Всемирная иллюстрация», журнал — 99, 100
Вундт В. — 225, 226
— «Душа человека и животных» — 225
Вяземский — 554
Гаврилов М. — 575
Гайдн И. — 247
Гальвани Л. — 82
Ганди М. — 602
Ганешин С. В. — 162
Ганнибал А. П. — 123
Гартман Э. — 221
Гартунг М. А. — 301
Гаршин В. М. — 633—636, 639
— «Люди и война» («Денщик и офицер») — 639
— «Письма» — 634, 636
— «Четыре дня» — 634
Гаршин Е. М. — 635, 636
— «Свидание Всеволода Гаршина с Львом Толстым» — 636
Гасабов Е. — 177
— «Книга для обучения чтению» — 177
— «Письмо гр. Л. Н. Толстому по поводу его статьи «О народном образовании» — 177
675
Гацисский А. С. — 189, 190
Гегель Г. В. Ф. — 10, 56, 225, 236, 237, 645
Герасим, монах — 587
Геродот — 29, 30, 72, 108
Герцен А. И. — 218, 378, 457, 531, 536, 664, 665
— «Доктор Крупов» — 218
Гессен Л. А., «Работа Л. Н. Толстого над архивными материалами» — 481
Гёте И. В. — 7, 667
— «Ифигения в Тавриде» — 7
— «Страдания молодого Вертера» — 295
— «Фауст» — 188
— «Эгмонт» — 7
Гиляров-Платонов Н. П. — 406
Гиляровский В. А., «Москва и москвичи» — 563
Гинцбург И., «Художники в гостях у Л. Н. Толстого» — 148
Гирс Н. К. — 564, 565
Глаголев С., «О графе Льве Николаевиче Толстом» — 450, 585
Глинка М. И. — 192
Глосовский К. — 69, 70
Гнедич Н. И. — 24
Гоголь Н. В. — 43, 103, 250, 255, 361, 382, 400, 416, 418, 426, 431, 439, 441, 511, 525, 644
— «Вечера на хуторе близ Диканьки» — 87
— «Коляска» — 87
— «Мертвые души» — 384, 395
— «Ревизор» — 7
Голенищев-Кутузов А. А. — 418, 501
Голенищев-Кутузов П. В. — 501
Голицын — 123
Голицын Б. А. — 10, 123, 125
Голицын В. В. — 10, 124—126
Голицын Д. В. — 367
Голицын М. М. — 123
Головачев А. А., «Десять лет реформ» — 436
Головин Ф. А. — 123, 126, 130
«Голос», газета — 144, 207, 254, 380, 393, 399, 409, 411, 413, 415
Голосовская Ф. К. — 69
Голосовский К. — 69
Голосовский М. К. — 69
Голосовский П. К. — 69
Голохвастов П. Д. — 45, 46, 115—117, 135, 136, 169, 188, 191, 199, 201, 211, 225, 363, 455, 502, 505, 529, 577
— «Законы стиха русского народного и литературного» — 46
Гольденвейзер А. Б., «Вблизи Толстого» — 424, 450
Гомер — 23, 24, 76
— «Илиада» — 24, 25, 76
— «Одиссея» — 24, 25, 76
Гончаров И. А. — 372, 373, 405, 477
— «Обыкновенная история» — 79
Горбунова Е. Е. — 609
Горбунов-Посадов И. И. — 80, 296, 635
Гордон Д. П. — 129
Горчаков А. М. — 539
Горчаков А. Н. — 538
Горчаков В. Н. — 538—543
Горчаков Д. С. — 539
Горчаков И. Ф. — 554
Горчаков М. И. — 466
Горчаков М. Н. — 538
Горчаков Н. И. — 539—542
Горчакова Е. С. — 14, 539, 541
Горчакова Н. Ф. — 554
Горчаковы — 539, 566
Горький М. — 82, 354, 582
— «История русской литературы» — 582
— «О литературе» — 82
— «Фома Гордеев» — 354
Гофман Ф. — 67
Грабарь И. Е. — 651
— «Репин» — 651
«Гражданин», газета — 108, 144, 384, 392, 396
«Гражданин», журнал — 105, 174
«Грамотей», журнал — 177
Грановский Т. Н. — 414
«Граф Л. Н. Толстой как педагог и его „Новая азбука“», статья (в «Голосе») — 208
«Граф Толстой о грамотности», статья (в «Русских ведомостях») — 162
Грибоедов А. С., «Горе от ума» — 7
Григорович Д. В. — 477, 639
Григорьев А. А. — 606
Гримм, братья — 67
Грисбах И. — 638
Громека М. С. — 423—425
— «Последние произведения Л. Н. Толстого» — 423
Грубе А. В. — 104, 170, 179, 187
Гудзий Н. К. — 261, 264, 287
— «История писания и печатания «Анны Карениной» — 264, 287
Гурьев Д. А. — 481
Гус Я. — 669
Гусев Н. Н. — 504, 635
— «Авторские исправления в тексте «Войны и мира» — 140
676
— «Два года с Л. Н. Толстым» — 79, 467
— Л. Н. Толстой в расцвете художежественного гения» — 39, 403
— «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» — 3, 39, 72
— «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год» — 3, 34, 39, 328
— «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828—1890» — 9, 39
Гюго В. — 78
— «Неверующий» — 612
— «Les misérables» — 78
Давыдова А. — 245
Даль В. И., «Два сорока бывальщинок для крестьян» — 68
— «Письма к друзьям из похода в Хиву 1839 года» — 462
— «Толковой словарь живого великорусского языка» — 131, 581
Данила Ловчанин, былинный персонаж — 6
Данилевский Н. Я. — 196, 577, 583
Данилов Кирша — 5, 86, 247
Дарвин Ч. — 643
Деев, купец — 240—242
Деев И. — 519
Декарт Р. — 10, 11, 236, 602
«Дело», журнал — 145, 150, 181, 206, 382, 384, 412
«Детский отдых», журнал — 614
«Детский сад», журнал — 105
«Детское чтение», журнал — 68
Джоуль Д. — 47
Дибич И. И. — 516
Диккенс Ч. — 252, 411
— «Домби и сын» — 523
— «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» — 521
— «Замогильные записки Пиквикского клуба» — 637
Дир — 94
Дмитрий Ростовский — 123, 199
Дмитрий Самозванец. См. Отрепьев Г.
Добровольский В. и Миньковский В., «Л. Н. Толстой педагог-новатор» — 179
Добролюбов Н. А. — 630
Добрыня Никитич, былинный персонаж — 6, 123
Доде А. — 410
Долгорукий Яков — 120, 123
Долгоруков П. Д., «Российская родословная книга» — 538
Достоевская А. Г., «Воспоминания» — 477
Достоевский Ф. М. — 105, 144, 147, 191, 255, 323, 370—372, 391, 393, 403—406, 426, 439, 466, 477, 639—641, 648, 652—654
— «Дневник писателя» — 323, 403—405
— «Записки из мертвого дома» — 87, 640, 641
— «Письма» — 404, 639, 654
— «Подросток» — 191
— «Полное собрание сочинений» — 404, 406
— «Униженные и оскорбленные» — 653
Дрентельн А. Р. — 530
Дружинин А. В. — 19, 567
Дубровин Н. Ф. — 530
Дурылин С. Н. — 635
— «Вс. М. Гаршин» — 634, 635
Дьяков Д. А. — 162, 240, 305
Дэви Гемфри — 47
Дюбуа-Реймон Э. — 459
Дюк Степанович, былинный персонаж — 6
Дюма А., сын — 286, 288
— «L’homme-femme» — 286, 288
Дюма Ж. — 433
Евгеньев-Максимов В., «Из прошлого русской журналистики» — 243, 325
Евтушевский В. А. — 175, 177—179, 205
— «Методика арифметики» — 170
— «Ответ на статью графа Толстого «О народном образовании»» — 175, 177
Екатерина I — 122
Екатерина II — 16, 448, 549, 575, 601
Елизавета Петровна, императрица — 8, 564
Елизарова А. И. — 78, 110
— Рецензия на «Книгу для чтения» (в журн. «Печать и революция») — 78
Елпатьевский С. Я. — 244
— «Литературные воспоминания» — 245
Ергольская Т. А. — 14, 132, 167, 324, 528
Еремичев Ф. — 558
Ермак Тимофеевич — 71
Ермилин Т. — 452
Ермолов А. П. — 471, 516
Еруслан Лазаревич — 12
Ефросинья — 123
Жданов В. А. — 261, 266
677
— «Из истории создания романа «Анна Каренина» — 261
— «К истории создания «Анны Карениной» — 261
— «Творческая история «Анны Карениной» — 261, 288
Желябужский И. А. — 126
— «Записки» — 126
Жиркевич А. В. — 651
— «Дневник» — 651
«Житие преподобного отца нашего Давида, который прежде был разбойником» — 94—95
Житков О. Г. — 519
Житков Г. О. — 519
Житков И. О. — 519
Жомини А. Г. — 565
Жуковский В. А. — 24, 28, 462, 464
«Журнал Министерства народного просвещения» — 611
Забелин И. Е. — 583
— «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» — 123
— «Домашний быт русских цариц» — 119
— «Опыты изучения русских древностей и истории» — 123
Загоскин М. Н., «Юрий Милославский» — 133
Загоскина Е. Д. — 569
Зайденшнур Э. Е., «Работа Л. Н. Толстого над русскими былинами» — 91
Закревский А. А. — 471
Занд Жорж — 100
— «François le Charapi» — 100
— «La mâre au Diable» — 100
Зандер Н. А. — 317
«Заря», журнал — 19, 32, 40
Засодимский П. — 324, 325
— «Земский принцип и практическое его приложение» — 324
Засулич В. И. — 485, 488
Захарьин Г. А. — 250, 629
«Зачатие святой Анны», картина — 569
«Звездочка», журнал — 68
Зевс (миф.) — 604
«Земля и воля» — 466
«Знание», журнал — 366
Золя Э. — 410, 420
Зотов Н. М. — 130
Зябрев К. Н. — 558
Зябрев П. К. — 482
Зябрев П. О. — 559
И. А., «Л. Н. Толстой в Уральске» — 212
«И. Е. Репин и В. В. Стасов», М., изд. «Искусство» — 152, 361, 650
«И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Переписка» — 652
Ивакин И. М. — 156, 361, 641, 642, 647, 655, 661, 668
— «Записки» («Дневник») — 150, 156, 468, 643, 655
Иван Годинович, былинный персонаж — 6
Иванов А. — 608—610, 612
— «Письмо к гр. Л. Н. Толстому» — 608, 609, 612
Иванов С. — 444
Ивашев В. П. — 493
Игнатьев Н. П. — 565
«Из текущей жизни», заметка (в газете «Гражданин») — 145
Иловайский Д. И. — 369
Илья Митрофанович — 518
Илья Муромец, былинный персонаж — 6, 88, 89
Иннокентий, архиепископ — 610
Иоанн IV, Грозный — 490, 563
Иоанн V — 8, 546
Иоанн VI — 8
Иоанн Дамаскин — 611
— «Точное изложение православной веры» — 589
Иона — 568
Ипсиланти Д. К. — 517
Исаак Сирин — 490
Исаев Сильвестр — 21
«Искусство», журнал — 147
Иславин В. А. — 137, 232, 442, 457, 474, 478, 480, 481
Иславин К. А. — 40, 42
Исленьев А. М. — 474
Истомин В. К. — 116, 283, 466-468, 518
— «На закате» — 283, 467
«Историко-литературный временник Атеней» — 639
«История математических исследований», вып. XII — 96
К., «Из школьных воспоминаний» — 76
К. Л., «Азбука» графа Л. Н. Толстого» — 105
Кавелин К. Д. — 366
Кальвин Ж. — 669
Кант И. — 10—12, 227, 459, 500, 661
«Критика чистого разума» — 661
Каракозов Д. В. — 508
Карамзин И. М. — 43, 480, 502, 516, 517
— «Бедная Лиза» — 43
678
— «История государства Российского» — 516
Карл Фридрих — 120
Карр А. — 258
Каре — 435, 437
Катков М. Н. — 19, 74, 118, 145, 167, 191, 193, 197, 224, 231, 243—245, 257, 258, 304, 364, 387, 422, 640
— «От редакции» — 258
Кашкин Н. Н. — 470
— «Родословные разведки» — 470
Кашкин Н. С. — 470
Кенворти Дж. — 667, 668
Кир — 92
Киреевский П. В. — 5
Киселев П. Д. — 535
Климов Ф. Д. — 141
Клинов М. — 575
«Книга и революция», журнал — 296
Ковалевский М. М. — 423
— «Из воспоминаний об И. С. Тургеневе» — 423
Ковалевский П. О. — 149, 151
— «Встречи на жизненном пути» — 149, 151
Козлов Д. Ф — 452
Козьма Прутков — 565
Колосов М. А., «Рождение человека» — 332
Комаров — 295
Конде Л. И. — 543
Кони А. Ф. — 485, 488
— «Воспоминания о деле Веры Засулич» — 488
Конкин И. Е. — 535
Константин Великий — 594, 603, 604
Константин Павлович, вел. кн. — 516
Конт О. — 12, 104, 441
Коперник Н. — 82, 141
Коптева — 255
Копылов И. Е. — 519
Корб И., «Дневник» — 119, 122, 124, 129, 130
Королев Ф. Н. — 162
Короленко В. Г. — 501
Корф Н. К., «Наш друг» — 184
Костомаров Н. И. — 92
Котелянский Л., «Два дня» — 243
Крамской И. Н. — 146—152, 361, 362, 477, 649, 670
— «Письма» — 149, 150, 670
«Красный архив», журнал — 232, 421, 565
Крестовский В. В. — 168
Крыжановский Н. А. — 241
Крылов И. А. — 63, 178, 203, 417, 467
— «Волк на псарне» — 203
— «Две бочки» — 203
— «Зеркало и обезьяна» — 417
— «Кот и повар» — 203
— «Лебедь, щука и рак» — 203
— «Щука и кот» — 178 (цит.)
Ксенофонт — 23, 24, 25
— «Анабазис» — 25, 153
Кудрявцев В. Д. — 585
Кудрявцева Л. В. — 442
Кудряшов К. В., «Александр Первый и тайна Федора Кузьмича» — 528
Кузминская Д. А. — 136, 137
Кузминская Т. А., рожд. Берс — 20, 39—41, 54, 105, 115, 116, 133, 136, 137, 149, 158, 159, 190, 191, 204, 209, 211, 214, 220, 229, 231, 242, 244, 258, 283, 286, 301, 333, 434, 436, 447, 451, 482, 494, 506, 517, 521, 555, 558, 586, 589, 591, 636, 658
— «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — 283, 301, 305, 333
Кузминский А. М. — 20, 136, 153, 258, 305, 437, 451
Кулибин И. П. — 92
Кутузов М. И. — 131, 470
«Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», М., 1962 — 408, 531, 568, 590, 628—631, 644
Лавров П. Л. — 145
— «Избранные сочинения на социально-политические темы» — 145
Лазарев Е., «Моя жизнь» — 504
Лазурский В. Ф. — 25
— «Дневник» — 25, 476
Ламанский В. И. — 243
Ланской В. С. — 516
Лассаль Ф. — 366
Латкина М. — 633
— «Писатель» — 633
Лафонтен Ж. де — 63
«Лев Николаевич Толстой», сборник (1929) — 647
Лев Степанович — 540
«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка» — 480, 532, 648
Левенфельд Р. — 127, 128, 145
— «Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим» — 128
— «Gespräche über und mit Tolstoi» — 145
Ледантю К. — 493
Ледерле М. М. — 25, 94
Ленин В. И. — 78, 110, 344, 345, 670
— «Л. Н. Толстой и его эпоха» — 344
— «Полное собрание сочинений» — 345, 670
679
Леонид (Л. А. Кавелин) — 199, 200, 584—586
Леонтьев К. Н. — 296, 365
— «О романах Л. Н. Толстого» — 365
Леонтьев П. М. — 28
Лермонтов М. Ю. — 43, 76, 86, 466, 525
— «Воздушный корабль» — 86
— «Три пальмы» — 86
Лесков Н. С. — 418, 419
— «Собрание сочинений» — 419
Лессинг Г. Э. — 393
Лефорт Ф. Я. — 10, 120, 126, 128, 130
«Литература и журнализм», статья (в «Молве») — 392
«Литературное наследство», журнал — 194, 211, 232, 253, 266, 282, 361, 407, 651, 661
«Литературное обозрение», статья (в журн. «Всемирная иллюстрация») — 99
«Литературный архив», изд. АН СССР — 421
Ломоносов М. В. — 92, 192
Лорис-Меллков М. Т. — 633—635
Лоскут, казацкий старшина — 122
Лукьянович Н., «Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов» — 455
Лунин М. С. — 527, 530, 535
Лысцев Н. В. — 12, 13, 40
— «Из литературных воспоминаний» — 13, 40
Львов Е. В. — 173, 361
Лютер М. — 646, 669
М. В., «Новости русской литературы» — 377
«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке» — 421
Магницкий М. Л. — 524
Магнус — 82
Майдель Е. И. — 475, 488
Мазепа И. С. — 92, 123
Майков А. Н. — 191, 192, 208, 403, 404
Макарий, митрополит — 199
Макарий (М. П. Булгаков) — 584, 586, 611, 619—621, 623, 624
— «Православно-догматическое богословие» — 610—613, 619—624, 642
Макаров — 42
Макаров Г. В. — 63
Макаров И. К. — 301
Макарычев Д. М. — 452
Макарычев С. М. — 452
Маковнцкий Д. П. — 558
— «Яснополянские записки» — 28, 62, 246, 442, 468, 485, 536, 558, 569
Малахиева-Мирович В. Д. — 324
— «В Ясной Поляне» — 324
Маликов А. К. — 459
Малинин Н. П. — 160
Малышев М. Е. — 634
Мария Федоровна (жена Александра III) — 489
Мария Федоровна (жена Павла I) — 480
Марк Аврелий — 655, 656
— «Наедине с собой» — 655
Маркевич Б. М. — 608
Марко Вовчок — 103, 108
Марков Е. Л. — 102, 180, 181, 184, 409—411, 413, 415, 416
— «Литературная летопись» — 413, 416
— «Последние могикане русской педагогии» — 181, 184
— «Русский роман в ряду других» — 409
— «Тургенев и Толстой в основных мотивах своего творчества» — 254
Марлинский. См. Бестужев А. А.
Марфа Матвеевна, царица — 126
Маршак С. Я. — 112
— «Воспитание словом» — 112
Масанов И. Ф., «Словарь псевдонимов» — 395
Матвеев П. А. — 441
— «Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни» — 440, 441
Матюша — 528
Машковцев Н. Г. — 361
— «И. Н. Крамской» — 362
Медников Ф. Н. — 176, 184
— «О народном образовании», статья гр. Л. Н. Толстого» — 176
Мезенцов Н. В. — 489
Мейербер Д., «Роберт-Дьявол», опера — 231
Мекк Н. Ф. фон — 245, 246
Менгден Е. И. — 197, 198, 511
— «Встреча с И. С. Тургеневым» — 511
Менделеев Д. И. — 633
Меншиков А. Д. — 8, 123, 128, 542
Мережковский Д. С., «Петр и Алексей» — 131
Мещерский В. П. — 174, 419
— «Женщины» — 419
Мещерский Н. П. — 444, 445
Микулушка Селянинович (Микулушка-мужик), былинный персонаж — 7, 88, 89, 91
Миллер О. Ф. — 406
— «Гениальная маниловщина» — 406
— «Славянство и Европа» — 406
680
Милль Д. С. — 459
Милютин А. Д. — 367
Мирович В. Я. — 8
Миропольский С. И. — 184, 206, 207
— «Обучение русской грамоте» — 184, 206
— «Русские азбуки» — 207
Михаил, епископ, «Толковое Евангелие» — 660
Михаил Федорович, царь — 124
Михайло Потык, былинный персонаж — 6, 123
Михайловский Н. К. — 165—167, 175, 181, 183—185, 206, 366, 379, 380, 398
— «Записки профана» — 183
— «Из дневника и переписки Ивана Непомнящего» — 175
— «Литературные воспоминания и современная смута» — 165, 166, 380
Млодецкий И. О. — 633, 634
Модзалевский Б. Л., «Список членов Академии наук» — 157
«Молва», газета — 391
Мольер Ж. Б. — 6, 431
Монс V — 554
Монтель Ж. (Ньеф) — 502, 503, 508
Мопассан Ги де — 651
Мордвинов Н. С. — 516
Морозов В. С. — 68, 69
— «Как меня не взяли в Тулу» — 69
— «Солдаткино житье» — 68, 102
Морозов П. В. — 163
Морозова Ф. П. — 123, 582
«Москвитянин», журнал — 369
«Московские ведомости» — 109, 142, 143, 145, 154, 159, 243, 369, 384, 389, 466, 608
«Московские епархиальные ведомости» — 207
Моцарт В. А. — 247
— «Дон-Жуан», опера — 261, 292
Мрочек-Дроздовский П. Н., «Областные управления России до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года» — 545
«Музыкальный вестник» — 46
Муравьев А. М. — 471
Муравьев Н. М. — 470—472
Муравьев-Апостол Ип. И. — 471
Муравьев-Апостол М. И. — 468—471, 536
Муравьев-Апостол С. И. — 468, 469, 471
Муравьев-Карсский Н. Н. — 471
Муравьева А. Г., урожд. Чернышева — 470, 471
Мурин-дровосек — 94
Мухамед Шах — 211
Н. М., «Кавказский пленник (быль)» — 72—74
Набоков Д. Н. — 583
Нагорнов Н. М — 197, 205, 230, 437, 457
Нагорнова В. В., урожд. Толстая — 39, 70, 281
Наполеон I — 218, 517, 549, 591, 603
Наполеон III — 19
«Народная школа», журнал — 104, 176
«Народный журнал» — 582
Нарышкин Л. К. — 10
Нарышкины — 122
Настасья Микулишна, былинный персонаж — 6
Нахимов П. С. — 92
«Наша научная педагогическая критика», статья (в «Неделе») — 179, 180
«Неделя», журнал — 179
«Недра», альманах — 421
Некрасов Н. А. — 118, 147, 164—166, 169, 170, 174, 191, 203, 209—211, 347, 352, 392, 465—468
— «Автору «Анны Карениной» («Толстой, ты доказал...») — 392
— «Замолкни, муза мести и печали» — 467
— «Кому на Руси жить хорошо» — 468
— «Полное собрание сочинений и писем» — 169, 174, 210
— «Современники» — 347
— «Тишина» — 467
Нессельроде К. В. — 516
Нестеров А. Я. — 554—557, 563, 564
Нестеров М. В. — 569
— «Давние дни» — 570
Нестор, летописец — 94
«Неустрашимый мальчик», заметка — 69
Никандр, архиерей — 544, 608, 609
Никанор — 611
Николадзе Н. А. — 420
Николай I — 435, 455, 462—465, 472, 474, 476, 478—480, 483, 501, 502, 530, 535
Николев И. Н. — 564—566, 584, 586, 587
Никон, «Смерть гр. Л. Н. Толстого» — 585
Нильсон Х. — 264, 350, 351
«Новая азбука Л. Н. Толстого», статья (в «Московских епархиальных ведомостях») — 207
«Новое время», газета — 255, 258, 259, 398, 399, 406, 418, 536
Новоселов М. А. — 668
681
«Новости», газета — 144, 372, 377
Нольде Н. — 443, 444
Оболенская Е. В., урожд. Толстая — 282
Оболенский А. Д. — 299, 441
— «Две встречи с Л. Н. Толстым» — 299, 440, 441
Оболенский Д. А. — 440
Оболенский Д. Д. — 309, 367, 502
— «Отрывки» — 309, 367
— «По поводу казни декабристов» — 502
Оболенский Е. П. — 470, 471, 517
— «Воспоминания о Рылееве» — 479
Оболенский И. Е. — 517
Оболенский Л. Д. — 282
Обручев Н. Н. — 437
Овидий, «Метаморфозы» — 125
«Одесский вестник», газета — 381
Одоевский А. И. — 493, 497
Одоевский И. С. — 497
Оксман Ю. Г. — 633
— «Всеволод Гаршин в дни диктатуры сердца» — 633
Олеарий А., «Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах» — 117, 119
Оль В., «Русская периодическая литература» — 396
Онегин А. Ф. — 421
«Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», изд. АН СССР — 261, 271
Осташков А. — 367
Островская Н., «Новая азбука» гр. Л. Н. Толстого» — 207
Островский Ал. Н. — 367, 373, 478
Островский Ан. Н. — 478, 479
Остроградский М. В. — 192
«Отечественные записки», журнал — 118, 149, 150, 165—167, 169, 170, 174, 176, 181, 183—185, 187, 191, 192, 209, 210, 379, 382, 401—403, 420, 515, 516, 633, 634
Отрепьев Г. (Лжедмитрий) — 124
«П. И. Чайковский и Н. Ф. фон-Мекк. Переписка» — 245, 246
Павел I — 534, 594
Павловский П. Я., «В одиночном заключении. Воспоминания нигилиста» — 608
«Памяти Гаршина», сборник — 634
Парфений — 500
— «Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции и святой земле инока Парфения» — 500
Паскаль Б. — 495
— «Мысли» — 257, 495
«Патерик» — 199
Патти К. — 264, 292
Паульсон И. И. — 87, 186
— «Книга для чтения и практические упражнения в русском языке» — 68, 69, 87
«Педагогический листок», журнал — 66, 175
Пейкер М. Г. — 198
Пелагеюшкин С. М. — 481
Перевлесский П., «Практическая русская грамматика» — 68
«Переписка И. Н. Крамского. Крамской и Третьяков» — 148, 149, 152
«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой» — 249, 333, 463, 478, 489, 530, 532, 625—627, 653, 654
«Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» — 33, 55, 99, 116, 118, 136, 141, 156, 166, 169, 191, 194, 197, 205, 230, 231, 233, 234, 238, 239, 249, 250, 253, 255, 258, 298, 321, 352, 370, 379, 397, 399, 403, 425, 442, 465, 466, 475, 485, 488, 490, 502, 525, 526, 530, 534, 543, 571, 583, 586, 606, 613, 618, 630, 633, 637, 641, 643, 653
Перовский В. А. — 462—464, 474, 529
— «Отрывки писем из Италии» — 462
Перовский Л. А. — 529
Перро Ш. — 67
Перфильев В. С. — 194, 282, 283
Перфильева А. С. — 497
Перфильева П. Ф., урожд. Толстая — 282, 497
Пестель П. И. — 517, 524
Петр I — 7—10, 16, 21, 22, 114—132, 136, 502, 533, 540, 542—546, 549, 554—556, 564—567, 587, 588, 601
Петр II — 8
Петр III — 120
Петров Н. И. — 568, 659
— «Эпизод из паломничества Л. Н. Толстого» — 569
Петров Обросим — 9, 10
Петруша — 528
«Печать и революция», журнал — 111, 638
Пимен — 441, 459
Пирогова А. С. — 134, 135
Писарев Р. А. — 333
Писемский А. Ф. — 373
«Письма Толстого и к Толстому», сборник — 300, 494, 516
Плаксин С. — 34
Платон — 10, 24, 656
682
Платон, «Православное учение или сокращенное христианское богословие» — 589
Плеханов Г. В. — 466, 467, 617, 664
— «Искусство и литература» — 466, 467, 617
— «Н. А. Некрасов» — 567
— «Похороны Некрасова» — 466
— «Толстой и Герцен» — 664
— Плещеев (денщик Петра I) — 129
— Плутарх — 92
«По поводу самарского голода», статья (в журнале «Вперед») — 145
Погодин М. П. — 117
— Дневники — 117
Поджио А. В. — 471
Подшивалова — 587
Позднышев Д. — 560
Полевой Н. А. — 100
Полевой П. Н. — 100—102, 105, 107
— «Азбука» графа Л. Н. Толстого» — 100
— «История русской литературы» — 100
Поливанов А. К. — 34
Поливанов Л. И. — 153, 176, 177
— «О народном образовании» гр. Л. Н. Толстого» — 177
Полонский Я. П. — 196, 421
Поляков — 347
«Полярная звезда», журнал — 531
Попов В. А., «Историко-литературный источник «Кавказского пленника» — 72
Попов П. С. — 119, 124, 305, 587
— «Романы из эпохи конца XVII — начала XIX веков. История писания романов» — 587
Попцов С. — 563
Порецкий А. У. — 384, 404
— «Текущая жизнь» — 384
«Послание патриархов православной и кафолической церкви о православной вере» — 589
Посошков И. Т. — 127
— «О скудости и богатстве» — 127
Посошков Р. Т. — 127
«Посредник», изд-во — 80, 423, 635
Поссельт М. Ф., «Der General und Admiral Franz Lefort» — 119
«Правительственный вестник» — 146
«Православное исповедание кафолической и апостольской церкви восточной» — 589
«Про Святогора богатыря», побывальщина — 88
«Провинциальное обозрение», статья (в газете «Голос») — 144
Пролог — 560, 632
Прометей — 531
«Протоколы заседаний Московского комитета грамотности» — 160, 163, 164
Протопопов М. А. — 162, 163
Прохоров В. — 519
Прохоров П. — 519
Пругавин А. С. — 142, 565
— «В казематах. Очерки и материалы по истории русских тюрем» — 564
— «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством» — 564
— «О Льве Толстом и о толстовцах» — 142, 145, 565
Прудон П. Ж. — 398, 457
Пушкин А. С. — 6, 24, 43, 44, 73, 76, 77, 79, 86, 87, 109, 110, 132—134, 158, 192, 197, 250, 264, 301, 324, 329, 362, 363, 382, 400, 418, 431, 457, 466, 480, 511, 516, 632, 638, 639, 641
— «Барышня-крестьянка» — 87
— «Борис Годунов» — 6, 7, 86
— «Воспоминание» — 324
— «В 179. году возвращался я в Лифляндию...» — 133
— «Выстрел» — 133
— «Гости съезжались на дачу...» — 133—135, 264
— «Дубровский» — 87
— «Евгений Онегин» — 384, 395, 511, 524, 648
— «Египетские ночи» — 133
— «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет...») — 87
— «Кавказский пленник» — 73
— «Капитанская дочка» — 133, 134
— «Пир Петра Великого» — 511
— «Повести Белкина» — 132, 133, 136
— «Полтава» — 86
— «Разговор книгопродавца с поэтом» — 197
— «Туча» — 511
— «Цыганы» — 76, 648
Пущина А. К. — 472
Пыпин А. Н. — 158
Р., «Athenaeum» о русской литературе в 1875 г.» — 389
Раевская Е. И., «Дневник» — 203
Раевский И. И. — 287
Разин С. Т. — 122, 557
Разумовский А. К. — 517
Рафаэль С. — 359
Рачинский С. А. — 14, 109, 192, 194, 299—301, 364, 483, 493
— «Сельская школа» — 110
—Редозубов С. П. — 60
— «Краткий историко-критический
683
обзор методов обучения грамоте в русской школе» — 60
Редсток Г. — 198, 624
Резенер — 79, 104
— «Азбука» графа Л. Н. Толстого» — 80, 104
Резунов Н. Ф. — 452
Резунов Ф. Н. — 481, 519
Рей Жюль (Rey) — 211
Рейс Э. — 590, 660
— «Комментарии к Евангелиям» — 660
Ренан Э. — 624, 643
— «Жизнь Иисуса» — 56, 457, 492, 643
Репин И. Е. — 150—152, 361, 648—652
— «Бурлаки» — 648, 650
— «Далекое — близкое» — 151, 652
— «Запорожцы» — 650
— «Крестный ход в дубовом лесу» («Явленная икона») — 651
— «Проводы новобранца» — 652
— «Царевна Софья Алексеевна» — 650
Репнин Н. И. — 126
Рессель Ф. И. — 495
Решетников Ф. М. — 103, 108
Рис Ф. Ф. — 19, 40, 258
Робинзон — 451
Розен А. Е. — 471
Рольстон В. — 513
Росси Э. — 494
Рубинштейн Н. Г. — 245, 247, 440, 441
Русанов Г. А. — 12, 344, 424, 532, 533, 654, 657
— «Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 года)» — 75, 127, 424, 654
«Русская библиотека» — 524—526, 590
«Русская газета» — 416
«Русская мысль», журнал — 423
«Русская старина», журнал — 468, 473, 476, 479, 515
«Русские ведомости» — 162, 639
Русский, «Педагогические красоты нашего времени, или «наглядное обучение» — 177
«Русский архив», журнал — 462, 468, 473, 563
«Русский вестник», журнал — 19, 118, 189, 191—194, 196, 197, 230, 231, 233, 234, 239, 249, 250, 252—255, 257—259, 295, 304, 329, 357, 363, 364, 369, 370, 373—376, 379, 380, 387, 389, 390, 391, 393, 394, 401, 408, 418—421, 577
«Русский мир», газета — 389, 395, 398
«Русский народный учитель», журнал — 186
«Русский рабочий», журнал — 198
«Русское богатство», журнал — 417, 639
«Русь», газета — 425
Рыбников П. Н. — 5, 89, 90
— «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» — 88—90
Рыбников М., «Рассказы Л. Н. Толстого для детей» — 112
Рылеев К. Ф. — 472, 479, 533
Рюрик — 347
«С.-Петербургские ведомости» — 97, 106, 118, 165, 182, 371
Савватий — 564
Саводник В. Ф. — 200, 367
Салтыков-Щедрин М. Е. — 147, 352, 384, 416, 418—421, 426, 515, 516, 526
— «Благонамеренная повесть», «Влюбленный бык»; «Мои любовные радости и любовные страдания. (Из записок солощего быка)» — 420
— «Письма» — 420
Самарин Д. Ф. — 419, 447
Самарин П. Ф. — 466
Самарин Ю. Ф. — 28, 159, 193, 243
«Сборник сведений о кавказских горцах» — 224
Свербеев А. Д. — 500, 501
«Свет», журнал — 416
Свистунов П. К. — 468, 470—473, 475, 479, 494, 495, 502, 527, 528, 530
Свифт Д. — 218
Святогор, былинный персонаж — 88, 89
«Святогор и Илья», былина — 89
«Северные цветы», журнал — 462
«Северный вестник», журнал — 398, 423
«Сельское чтение», журнал — 69
Семевский В. И., «Крестьяне в царствование Екатерины II» — 575
Семевский М. И. — 473, 476, 479, 515, 516
— «Петр Великий как юморист» — 131
«Семейные вечера», журнал — 68
Семенов Д. Д. — 110
— «Избранные педагогические сочинения» — 110
— «Опыт педагогической критики русской элементарной учебной литературы» — 110
684
Семирадский Г. И., «Светочи христианства», картина — 625
«Семья и школа», журнал — 175, 176, 184
Сенека Л. А. — 656
Сент-Илер К. К. — 445, 446
Сергеенко Н., «Две недели в Ясной Поляне» — 635
Сергеенко П. А. — 533
— «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» — 533
Сергий Радонежский — 95
Серебренников А. П., «Л. Н. Толстой о курсах для подготовки народных учителей» — 447
Серов А. Н., «Юдифь», опера — 474
Серополко С. О., «Л. Н. Толстой и его попытка учреждения в Ясной Поляне педагогических курсов» — 447
Сеченов И. М. — 366
— «Рефлексы головного мозга» — 366
Сильвестр — 200
Синегуб С. С. — 489
— «Записки чайковца» — 489
Скабичевский А. М. — 183, 382, 384, 385, 392, 417
— «Граф Лев Николаевич Толстой как художник и мыслитель» — 417
— «Мысли по поводу текущей литературы» — 183, 385, 386
— «Разлад художника и мыслителя» — 417
Скайлер Е. — 5, 389
— «Граф Л. Н. Толстой» — 5
Скобелев М. Д. — 309
Слепцов В. А. — 413
«Слово», журнал — 243, 325, 413
«Слово о Филагрии...» — 94
Случевский К. К. — 99
Снегирев И. М. — 77
«Современник», журнал — 149, 170, 413
«Современность», газета — 104
«Современные известия» — 406, 407, 409
Соколов Ю. М., «Лев Толстой и сказитель Щеголенок» — 574
Соловьев А. К. — 531
Соловьев Вл. С. — 193, 210, 211, 214, 476, 477, 624, 633
— «Кризис западной философии. Против позитивистов» — 193, 211
— «Чтения о богочеловечестве» — 476
Соловьев Вс. С. — 371, 373—376, 390, 391
— «Наши журналы» — 372, 376
— «Современная литература» — 391
— Соловьев И. Г. — 115, 155
Соловьев Н. — 387
— «Чем обогатилась в 1876 году русская пресса» — 387
Соловьев С. М. — 16, 120, 122, 563
— «История России с древнейших времен» — 16, 17, 114, 119—121, 126, 129, 131, 581
Солон — 92
Софья Алексеевна, царевна — 10, 123—125
Спенсер Г., «Наше воспитание, как препятствие к правильному пониманию общественных явлений» — 366
Спиноза Б. — 10, 645
Спиридонов В. С. — 203
— «К истории педагогической деятельности Л. Н. Толстого» — 193, 447
— «И. И. Срезневский о Л. Н. Толстом» — 157
Срезневский И. И. — 157
Станкевич А. В. — 414—416
— «Каренина и Левин» — 414—416
Станкевич Н. В. — 414
Стасов В. В. — 116, 149, 152, 196, 249, 252, 255, 361, 394, 399, 400, 418, 420, 475, 478, 480, 484, 501, 502, 530—533, 574, 577, 625, 627, 632, 646—650, 670
— «Иван Николаевич Крамской» — 149
— «Иван Николаевич Крамской по письмам его и статьям» — 152
— «По поводу гр. Льва Толстого (письмо в редакцию)» — 400
— «Статьи и заметки» — 149, 152
Стасов Д. В. — 647
Стасюлевич М. М. — 421, 515, 516, 524, 525
Стендаль (А. Бейль) — 370, 371
Стечькин Н. Я. — 422, 423
— «Из воспоминаний об И. С. Тургеневе» — 422
Странник, «Литературная кунсткамера» — 384
Страннолюбский А. Н. — 178, 179
— «Курс алгебры, основанной на постепенном обобщении арифметических задач» — 178
Страхов Н. Н. — 13—15, 19—21, 32, 33, 40, 41, 43, 44, 46, 48—50, 53, 55, 56, 61, 68, 76, 80, 94, 96—100, 103, 105, 106, 114, 116, 118, 132, 133, 135—138, 140—142, 146, 149, 150, 154, 156, 158, 159, 164—169, 174, 183, 187, 188, 191—197, 201, 203—205, 211—215, 220, 222,
685
225—227, 230—240, 242—244, 249—252, 254—260, 265, 271, 278, 280, 296, 298, 312, 321, 335, 352, 356, 357, 364, 365, 369, 379, 381, 382, 394, 397, 399, 403, 404, 406, 407, 415, 417, 425, 426, 429, 433—437, 439, 441—443, 450—453, 455—457, 459, 462, 465—467, 474—479, 482—485, 488, 490—492, 500, 509, 512—514, 517, 521, 523, 525—531, 538, 541, 543, 547, 555, 564, 565, 567, 570, 577, 582—586, 589—591, 605—607, 614, 616, 618, 625—632, 637—641, 643, 652, 653, 658, 668
— «Взгляд на текущую литературу» — 426
— «Женский вопрос» — 13
— «Критические статьи» — 98, 104
— «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» — 429
— «Мир как целое. Черты из науки о природе» — 55
— «О народном образовании», статья гр. Л. Н. Толстого» — 183
— «Об основных понятиях психологии» — 500
Строгановы — 71
Струминский В. Я. — 58
— «Л. Н. Толстой в истории русской педагогики» — 59
Суворин А. С. — 151, 152, 164, 165, 183, 352, 380, 381, 389, 390, 392, 399, 400, 421, 526
— «Анна Каренина» — 390
— «Литературные очерки» — 400
— «Литературный портрет Л. Н. Толстого» — 130
— «Недельные очерки и картинки» — 152, 392
— «Очерки и картинки» — 183, 380, 526
Суворов А. В. — 92
Суворов И. В. — 28
Субботин Н. И., «Материалы для истории раскола» — 581
Сукин А. Я. — 479
Сутгоф А. Н. — 471
Сухман, былинный персонаж — 88
Сухотин С. М. — 194, 305, 436
Сухотина М. А. — 305
Сухотина Т. Л., урожд. Толстая — 34, 36, 39, 41, 42, 510, 657
— «Детство Тани Толстой» — 35
— «Друзья и гости Ясной Поляны» — 510, 511
«Тайные общества в России в начале XIX столетия. Сборник материалов, статей и воспоминаний» — 473, 530
Танеев С. И. — 246
Татищев В. Н. — 122
Тевяшевы — 533
Тимофеев П. — 122
Тиндаль Д. — 459
— «Теплота, рассматриваемая как род движения» — 47
Тихомиров Д. И. — 160—163, 176, 186
— «Гр. Л. Н. Толстой о народном образовании» — 176
— «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» — 163, 186
Тихонравов Н. С. — 563
Тишендорф К. — 638
Ткачев П. Н. — 181, 182, 381, 384, 392, 412—414
— «Избранные сочинения на социально-политические темы» — 181
— «Критический фельетон» — 382, 383
— «Народ учить или у народа учиться?» — 181
— «Салонное художество» — 412, 413
Толстая А. А. — 20, 32, 38, 40, 41, 46, 51, 52, 54, 57, 61, 65, 106, 114—116, 118, 138, 143, 145, 167, 168, 188, 192, 195, 218, 228, 231, 232, 234, 235, 237, 249, 256, 257, 288, 332, 333, 365, 434, 462—464, 474, 477, 478, 480, 483—485, 488, 489, 492, 504, 505, 509, 515, 529—534, 539, 555, 560, 564—567, 572, 583, 625—627, 653, 658
— «Воспоминания» — 478
Толстая В. Л. — 224
Толстая М. Л. (в замужестве Оболенская) — 26, 27, 39, 317, 565
Толстая М. Н., урожд. Волконская — 529
Толстая М. Н. (сестра Л. Н-ча) — 34, 168, 240
Толстая П. Н. — 538, 540
Толстая С. А., урожд. Берс — 5—10, 18, 22—30, 38—41, 46, 49, 54, 55, 106, 115—117, 119, 128, 132, 133, 135—137, 142, 145, 149, 153, 156, 158, 159, 162, 190, 191, 197, 198, 204, 209, 211, 214, 215, 220, 224, 225, 229, 230—232, 235, 241, 242, 244, 251, 252, 256, 258, 259, 288, 296, 329, 333, 340, 430, 434—436, 441, 442, 447—449, 451, 457, 464, 468, 472, 474, 480, 482, 483, 494, 503—512, 517, 518, 521, 523, 525—527, 532, 555, 558, 586,
686
587, 589—591, 611, 612, 614, 632, 636, 637, 655, 658
— «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891» — 5, 6, 8, 9, 23—26, 46, 49, 54, 106, 117, 119, 133, 135, 136, 150, 215, 244, 252, 256, 301, 435, 441, 442, 449, 451, 457, 461, 464, 472, 492, 506, 507, 517, 518, 521, 523, 525—527, 591, 655, 658
— «Краткий биографический очерк, написанный со слов графа Л. Н. Толстого женой его гр. С. А. Толстой 25 октября 1878 года» — 525, 526
— «Моя жизнь» — 150, 441, 512, 655, 657
— «Письма к Л. Н. Толстому» — 28, 272
— «Четыре посещения Л. Н. Толстым монастыря Оптина пустынь» — 441
Толстая С. А. (жена А. К. Толстого) — 630
«Толстовский ежегодник 1912 г.» — 670
«Толстой и Тургенев. Переписка» — 512, 514, 607, 608
Толстой А. К. — 467, 630
Толстой А. Л. — 457
Толстой В. П. — 34
Толстой Д. А. — 57, 96, 107, 193, 444, 446, 565
Толстой Д. Н. — 123, 334
Толстой И. А. (двоюродный дядя Л. Н-ча) — 539, 541
Толстой И. А. (дед Л. Н-ча) — 538
Толстой И. Л. — 19, 36—39, 41, 42, 153, 154, 212, 436, 508, 634—636
— «Мои воспоминания» — 19, 37, 38, 42, 154, 212, 242, 634
Толстой И. П. — 567
Толстой Л. Л. — 331, 361, 502, 508
Толстой Н. В. — 240
Толстой Н. И. — 528, 529
Толстой Н. Л. — 195
Толстой П. А. — 566, 567
Толстой П. Л. — 38, 153, 218
Толстой С. Л. — 23, 36—39, 41, 42, 46, 65, 133, 134, 212, 246, 282, 296, 305, 333, 483, 502—504, 508, 511, 655, 658
— «Лев Толстой и Чайковский» — 246
— «Об отражении жизни в «Анне Карениной» — 282, 283, 305, 333, 367
— «Очерки былого» — 36, 37, 39, 43, 46, 212, 213, 483, 503, 506, 511, 655, 658
— «Ясная Поляна в творчестве Толстого» — 66
Толстой С. Н. — 20, 46, 153, 218, 225, 345, 538
Толстой Ф. И. — 282, 497
Топоров А. В. — 421
Торнау Ф. Ф. — 73, 74
— «Воспоминания кавказского офицера» — 73, 74
Трепов Ф. Ф. — 485
Третьяков П. М. — 146—150
Трубецкой С. Н. — 471
«Труды Киевской духовной академии» — 568
Тулубьев А. А. — 301
«Тульские губернские ведомости» — 134
Туманский Ф., «Собрание разных записок и сочинений о жизни Петра Великого» — 124
Тургенев И. С. — 19, 103, 147, 152, 168, 216, 232, 249, 326, 352, 372, 373, 393, 418, 421—423, 426, 484, 487, 510—515, 524, 525, 605, 607, 608, 638, 639, 648
— «Бирюк» — 87
— «Дым» — 168
— «Новь» — 249, 393
— «Первое собрание писем» — 421, 423
— «Собака» — 511
— «Часы» — 232
Тургенев Н. И. — 516, 517
Тучков Н. П. — 31
«Тысяча и одна ночь», сборник — 67, 540
Тютчев Ф. И. — 31—33, 243
Тютчева Е. Ф. — 159
Уваров А. С. — 29
Уваров А. Ф. — 528
Уваров С. Ф. — 528
Уваров Ф. А. — 527, 528, 530
Уварова Е. С. — 527, 528, 535
Урусов Л. Д. — 565, 654—657, 669
Урусов С. С. — 19, 20, 27, 28, 193, 234, 235, 505
Урусова М. С. — 657
Успенский Г. И. — 89, 103, 413, 420, 633, 634, 636
— «Власть земли» — 89
— «Полное собрание сочинений» — 420
Успенский Н. В. — 103
Устрялов Н. Г., «История царствования Петра Великого» — 8, 119, 124, 126
Утин Я. И. — 481
Ушаков А. И. — 122
687
Ушинский К. Д. — 86, 98, 110, 164, 357
— «Детский мир. Хрестоматия» — 68, 86
— «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» — 357
Фарадей М. — 47
Фаусек В. А. — 636
Федор Алексеевич, царь — 126, 546
Федор Кузьмич — 527
Ферзен Г. Е. — 324
Фет А. А. — 7—9, 18, 20, 21, 23—25, 27, 30, 31, 33, 40, 41, 114, 115, 117, 118, 146, 147, 150, 153, 168, 188, 193—195, 201, 213, 216, 218, 221, 224, 231, 234, 238—240, 242—244, 252—254, 256, 257, 283, 305, 342, 363, 364, 368, 369, 391, 407—409, 417, 437, 455, 459, 462, 477, 484, 492, 500, 505, 509, 512—514, 517, 523, 531, 534, 538, 564, 567, 571—573, 583, 590, 628—632, 637, 640, 641, 643—646
— «В звездах» — 628
— «Далекий друг, пойми мои рыданья» — 628
— «Майская ночь» — 18, 20
— «Мои воспоминания» — 407, 513
— «Никогда» — 629
— «Отошедшей» — 628
— «Первый заяц» — 68
— «Песни кавказских горцев» — 224
— «После бури» — 20
— «Семейство Гольц» — 8
— «Что случилось по смерти Анны Карениной в „Русском вестнике“» — 342, 407
— «Alter ego» — 628
Фет М. П. — 18
Фигнер А. С. — 92
Филарет (Д. Г. Гумилевский), «Православно-догматическое богословие» — 610, 612
Филарет (В. М. Дроздов) — 192
— «Православный христианский катехизис» — 589
Филатов А. И. — 636
Фихте И. Г. — 10, 236
Флобер Г. — 253, 423
Фоканов К. М. — 519
Фоканов М. М. — 482, 519
Фонвизин М. А. — 494
Фонвизина Н. Д. — 494, 497, 524
— «Замечания» — 494
— «Исповедь» — 494
Фосс И. — 24
Франклин В. — 615
Фролков Я. А. — 482
Холевинская М. М. — 449, 450
Хомяков А. С. — 458, 585, 624
Хомяков Д. А. — 585
Худяков И. А. — 67
Цитович П. П. — 629
Цявловский М. А. — 157, 481, 493
— «Декабристы. История писания и печатания романа» — 481, 493
Чайковский А. И. — 418
Чайковский М. И. — 418
— «Жизнь П. И. Чайковского» — 246, 248
Чайковский Н. В. — 503, 509, 607
Чайковский П. И. — 245—248, 418
— «Буря» — 246
— «Дневник» — 247
— «Зимние грезы» — 246
— Квартет De-dur — 247
— «Письма к близким» — 419
«Чайковский. Танеев. Письма» — 246
Чарушин Н. А. — 489
Чачко М., «Язык детской литературы» — 111
Чевский В. Р. — 442
— «У гр. Л. Н. Толстого в Ясной Поляне» — 442
Челлини Б. — 253
Черемушкин, купец — 347
Чернышев Г. И. — 498
Чернышев З. Г. — 470, 497, 498, 522
Чернышевский Н. Г. — 413, 459, 630
Чертков В. Г. — 26, 129, 296, 654, 660, 667
Четьи-Минеи — 25, 94, 199, 560
Чехов А. П. — 361
— «Вишневый сад» — 346
Чехов Н. В., «Азбука Л. Н. Толстого» — 111
Чиворов М. — 575
Чичерин Б. Н. — 450
«Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения, составленный учительницами Харьковской частной женской воскресной школы» — 83, 84
Чуйко В. В. — 370, 373, 376, 380, 381
— Очерки литературы. Роман гр. Л. Н. Толстого: «Анна Каренина» — 371, 374, 376, 381
Чулков Г., «Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева» — 32
Чулков Н. П. — 586, 587
— «Л. Н. Толстой в московском
688
Архиве Министерства юстиции» — 583, 586
Чурила Пленкович, былинный персонаж — 6
Шакловитый Ф. Л. — 9, 10
Шатилов И. Н. — 160—162, 166, 248, 358
Шатилов Н. И. — 248, 358, 442
— «Из недавнего прошлого» — 249, 358, 442
Шафиров П. П. — 122
Шаховской А. А. — 516
Шекспир В. — 6, 7, 125, 255, 416, 431, 494
— «Гамлет» — 416
— «Генрих IV» — 7
— «Кориолан» — 7, 494
— «Король Лир» — 125, 416
— «Ромео и Джульетта» — 416
Шелгунов Н. В. — 206, 207
— «Вперед или назад?» — 206
— «Философия застоя» — 206
Шеллинг Ф. В. — 10, 236
Шенрок В. И., «Одна из жен декабристов» — 524
Шереметев Б. П. — 122
Шестаков И. А. — 403
Шидловские — 506
Шишкин Е. — 587
Шишкин М., «Л. Н. Толстой в памяти голицынских крестьян» — 367
Шмидт М. А. — 609
Шмуйлев Г. — 587
Шопенгауэр А. — 10—13, 15, 221, 236—238, 271, 343, 344, 459, 500, 631, 645
— «Мир как воля и представление» — 271, 343, 344
— «О воле в природе» — 13
— «Parerga und Paralipomena» — 15
Шостак А. Л. — 333
Шпильгаген Ф. — 411
— «На высотах» — 411
Штейн В. М., «Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX—XX веков» — 328
Штейнгель В. И., «Дневник путешествия из Читы в Петровск» — 479
— «Записки несчастного» — 479
Штраус Д. Ф. — 643
— «Старая и новая вера» — 456, 457
Шуйский В. И. — 124
Шульце-Делич Г. — 366
Шуман Р. — 247
Щеголенок В. П. (Шевелев) — 563, 564, 573—576
— «Архангел» — 574
— «Два странника собрались в Ерусалим...» — 574
— «Иван Павлов» — 575, 576
— «Инок молился в пустыне...» — 574
— «Старик в церкви» — 574
«Щукинский сборник» — 19, 422
Эверлинг С. Н. — 476
— «Три вечера у Льва Толстого» — 477
Эзоп — 62—66, 108
— «Басни Эзопа», М., 1880 — 62, 66
— «Избранные басни Эзопа» — 63, 64
— «Кузнечик и муравьи» — 64
— «Лев, осел и лисица» — 65
— «Лисица и виноград» — 63
— «Муравей и голубка» — 64
«Эзоп и его басни», статья — 62
Эйхенбаум Б. М. — 76, 271
— «Лев Толстой. Семидесятые годы» — 76, 77, 132, 271
Эпиктет — 656
Эртель А. И. — 634
Эттингер П., «Толстой — иллюстратор Жюля Верна» — 154
Ювеналий (Половцев) — 440, 441
Юм (медиум) — 367
Юм Д. — 612
Юркевич П. Д. — 459
Юрьев С. А. — 40, 286, 494, 640, 641
Юшкова П. И. — 227, 228
Яворский С. — 123
Ягужинский П. И. — 122
Языков С. И. — 528
Якубовский Ю. О., «Л. Н. Толстой и его друзья» — 307
Якушкин В. Е. — 468, 469
— «Матвей Иванович Муравьев-Апостол» — 468—470
Якушкин Е. И., «О Рылееве» — 479
Якушкин И. Д. — 471
Янов — 122
Янсон Ю. Э., «Опыт исследования о крестьянских наделах и платежах» — 436
«Ясная Поляна», журнал — 69, 71, 82, 138, 165, 172
«Ясная Поляна. Статьи и документы», сборник — 66
«Яснополянский сборник. Год 1955» — 632
«Яснополянский сборник. Статьи и материалы. Год 1962» — 39
«IV», «Литературная летопись» — 254, 393, 395, 399
«XIX век», изд. 1872—529
689
L. V., «Русские журналы» — 409
N. N., «Журнальное обозрение» — 416
W. (критик «Северного вестника») — 398
— «Новости русской беллетристики» — 398
W. (критик «Русского мира») — 395—397
— «Литературное обозрение» — 395—398
W. W., «Маленький фельетон» — 536
Z. Z. Z., «Литературные и общественные заметки» — 381
«Athenaeum», журнал — 389
«Contes et fables indiennes de Bidpai» — 66
«Journal de S.-Petersbourg», газета — 513
«La morale en action ou choix de faite mémorables» — 66
«La nouvelle Revuie», журнал — 669
Lacroix P., «Histoire de la vie et du règne de Nicolas I, empereur de Russie» — 455, 456
Lamber J. (E. Adam) — 669
«Les avadânas, contes et apologues indiens, inconnus jusqu’a ce jour» — 66
«Les mille et un jours» — 66
«Moscauer Zeitung», газета — 19
«Revue des deux mondes», журнал — 19, 434
690
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
«Азбука» — 5, 39—43, 45—50, 53, 55—69, 71, 72, 79—84, 86—88, 91—111, 113, 114, 138, 154, 155, 157, 161, 177, 203—206, 209, 541
«Акула» — 70
«Альберт» — 278, 335
«Анна Каренина» — 9, 15, 16, 19, 20, 125, 134—137, 146, 150, 158, 159, 167—169, 187, 188, 191—197, 201, 213—216, 218, 223, 226, 230—234, 238, 239, 242, 244, 245, 249—433, 437, 440, 441, 448, 450, 451, 500, 505, 507, 514, 529, 537, 541, 560, 568, 577, 585, 613, 618, 645
«Арифметика» — 96, 177—179, 204, 205
«Архиерей и разбойник» — 78
«Бешеная собака» — 84
«Бог правду видит, да не скоро скажет» — 40, 72, 74, 77, 78, 97, 101, 102, 104
«Большая печка» — 207
«Булька» — 85, 102
«Булька и волк» — 85
«Булька и кабан» — 85
«В чем моя вера?» — 19, 450, 655, 656
«Власть тьмы» — 329, 578
«Война и мир» («1805 год») — 5, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 23, 32, 33, 45, 61, 74, 76, 77, 78, 97, 103, 113, 118, 122, 130, 131, 134, 138—141, 143, 154—157, 168, 196, 206, 232—234, 251, 261, 265, 271, 295, 298, 327, 331, 339, 341, 352, 355, 365, 369, 372—374, 378, 380, 381, 384—387, 390, 409, 422—424, 431, 433, 450, 453, 463, 464, 470, 500, 514, 522, 528, 533, 534, 541, 549, 554, 568, 585, 607, 613, 618, 645
«Волга и Вазуза» — 68
«Воробей и ласточки» — 84
«Воробьи» — 84
«Воскресение» — 113, 298, 329, 331, 475, 536, 578, 598
«Воспитание и образование» — 24
«Воспоминания» — 496, 518, 540
«Вредный воздух» — 70, 81
«Все говорят — не делись...» — 541
«Газы» — 84
«Гальванизм» — 82, 84
«Где любовь, там и бог» — 578
«Грамматика для сельской школы» — 201—203
«Два брата» — 91
«Декабристы» — 195, 252, 462—481, 493—494, 496—502, 516—524, 528—538, 541, 566, 591
«Детство» — 74, 103, 134, 155, 352, 369, 370, 382, 433
«Для маленьких», сборник — 208
«Для учителя» — 48, 59, 61, 68, 86, 88
«Для чего ветер?» — 80, 82, 83
«Для чего я пишу?» — 222
«Дневник» и «Записные книжки» — 5, 10, 25, 31, 132, 134, 152, 298, 327, 331, 339, 437—439, 469, 493, 497, 500, 507, 516, 530, 558, 561—563, 573, 575—578, 580, 581, 598, 603
«Дневник помещика» — 481
«Дурень» — 86
«Дурной воздух» — 84
«Дьявол» — 550
«Единое на потребу» — 131
«Житие и страдание мученика Юстина Философа» — 199
«За что?» — 242
«Зайцы и волки» — 85
«Записки маркера» — 134
«Заяц и гончая собака» — 84
«Золотоволосая царевна» — 68
691
«И свет во тьме светит» — 402, 492
«Идиллия» — 541
«Индеец и англичанин» — 71
« Исповедь» — 216, 220, 222, 223, 430—433, 443, 453, 491, 492, 560, 561, 571, 578, 584, 586, 587, 593, 613, 614, 616—618
«Исследование догматического богословия» — 121, 220, 575, 589, 600, 611, 612, 618—625, 637, 665, 667
«Кавказский пленник» — 40, 44, 45, 72, 74—76, 99—102, 113, 541
«Казаки» — 296, 513, 514, 541
«Как в городе Париже починили дом» — 70
«Как волки учат своих детей» — 84
«Как гуси Рим спасли» — 71
«Как делают воздушные шары» — 84
«Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза» («Как меня в лесу застала гроза») — 69, 209
«Как мужик гусей делил» — 91
«Как скотина из улицы разбрелась...» — 541
«Как тетушка рассказывала о том, как она выучилась шить» — 209
«Как учить по слуховому способу» — 59
«Как ходят деревья» — 85
«Как я в первый раз убил зайца. Рассказ барина» — 68
«Как я выучился ездить верхом» — 69
«Как я дедушке нашел пчелиных маток» — 69
«Как я перестал бояться слепых нищих» — 69
«Какая бывает роса на траве» — 80
«Камбиз и Псаменит» — 72
«Князь Федор Щетинин» — 463, 464
«Кому у кого учиться писать — крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» — 68, 69, 77
«Конец Бульки и Мильтона» — 85
«Корней Васильев» — 576
«Корней Захаркин и брат его Савелий» — 555, 557
«Краткое изложение Евангелия» — 655, 668—670
«Крейцерова соната» — 578
«Кристаллы» — 80, 83, 84
«Круг чтения» — 344, 576
«Куда девается вода из моря?» — 83
«Лев и собачка» — 84
«Лев, осел и лисица» — 65, 66
«Лев, вода и пар» — 80, 84
«Лисий хвост» — 85
«Лисица и виноград» — 63
«Магнит» — 84
«Маленькие рассказы», сборник — 208
«Медведь на повозке» — 84
«Микулушка Селянинович», былина — 90
«Мильтон и Булька» — 85
«Молитва» — 195, 574
«Моя жизнь» («Первые воспоминания») — 495, 496
«Мужик и огурцы» — 79
«Мужик нашел дорогой камень...» — 207
«Муравей и голубка» — 64, 65
«Набег» — 134
«Неверующий» (из В. Гюго) — 612
«Несколько слов по поводу книги «Война и мир»» — 156
«Николай Палкин» — 131
«Новая азбука» — 59, 205—209
«Новый суд в его приложении» — 52
«Ноша» — 207
«О будущей жизни вне времени и пространства» — 226
«О Гоголе» — 361
«О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни» — 228, 236
«О значении христианской религии» — 223
«О народном образовании» — 167, 169, 170—187, 191, 209, 409
«О царствовании императора Александра II» — 435, 436
«О Шекспире и о драме» — 7, 125
«Об общественной деятельности на поприще народного образования» — 61, 62, 86, 96, 98, 203
«Общие замечания для учителя» — 58, 204
«Определение религии-веры» — 456
«Основание Рима» — 71
«От скорости сила» — 70
«Ответ на определение синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма» — 622
«Отец Сергий» — 578
«Отрочество» — 74, 275, 370, 382, 433
«Отчего бывает ветер?» — 80, 83
«Отчего в мороз трещат деревья?» — 80, 84
«Отчего зло на свете?» — 78, 79
«Отчего потеют окна и бывает роса?» — 80, 84
«Охота пуще неволи» — 69, 77, 91, 101
«Памяти И. И. Раевского» — 287
692
«Письма графа Л. Н. Толстого к жене» — 508
«Плоды просвещения» — 578
«Пожар» — 69, 70
«Поликрат Самосский» — 72
«Поликушка» — 541
«Праведный судья» — 67
«Правила для педагогических курсов» — 445
«Предисловие к «Краткому изложению Евангелия» — 578, 618, 637, 668, 669
«Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» — 299, 651
«Прежде всех вернулись...» — 541
«Прения о вере в Кремле» — 457—459
«Про семь огурцов» — 35
«Прогресс и определение образования» — 102
«Прыжок» — 70
«Птичка» — 113
«Разная связь частиц» — 80, 84
«Рассказы для маленьких детей», сборник — 208, 209
Роман из времени Петра I — 9, 10, 21, 22, 40, 115—132, 541, 545, 546, 552
Роман из эпохи XVIII века — 195, 463, 541, 543, 577
«Роман русского помещика» — 557
«Русак» — 84
«Русские книги для чтения» — 69, 92, 110, 112, 113, 209
«Самокрутка» — 70, 81, 84
«Севастополь в мае» — 14
«Сказка» — 217, 219, 335
«Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» — 578
«Слепой и глухой» — 79
«Собеседники» — 459, 460, 490
«Сова и заяц» — 84
«Соединение и перевод четырех Евангелий» — 637, 657—668
«Солнце — тепло» — 80, 84
«Старая лошадь» — 69
«Старик в церкви» — 574
«Старый тополь» — 85
«Степан Семеныч Прозоров» — 23, 45
«Сто лет» — 550, 551, 555, 566, 587
«Стрекоза и муравьи» — 64
«Строгое наказание» — 67
«Стыдно» — 469
«Судома» — 68
«Сырость» — 80, 84
«Тепло» — 80, 81, 83
«Терентий Николаев» — 540, 541
«Тихон и Маланья» — 541
«Три калача и одна баранка» — 79
«Три медведя» — 113, 206
«Три смерти» — 224, 295
«Три старца» — 574
«Труждающиеся и обремененные» — 542, 543, 547
«Убийца жены» — 22, 23
«Удельный вес» — 84
«Упустишь огонь — не потушишь» — 578
«Утро помещика» — 500
«Фазаны» — 84
«Филиппок» — 205, 207
«Хозяин и работник» — 87
«Христианский катехизис» — 453
«Царский сын и его товарищи» — 67, 78
«Царское новое платье» — 67
«Царство божие внутри вас» — 131
«Царь и слоны» — 79
«Церковь и государство» — 570, 603, 605, 642
«Чем люди живы» — 426, 574, 578, 614
«Черемуха» — 85, 91
«Черепаха» — 85
«Что случилось с Булькой в Пятигорске» — 85
«Что такое искусство?» — 74, 354
«Что я?» — 614
«Чутье» — 84
«Шат и Дон» — 68
«Это было в субботу...» — 541
«Юность» — 275, 382, 433, 542, 616
«Яблони» — 86
«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» — 82, 88, 94, 200, 203
«1805 год». См. «Война и мир»
693
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Л. Н. Толстой. С портрета работы Крамского (1873) | |
2. Первый лист незаконченного произведения «Сказка» (1873) | |
3. Л. Н. Толстой. С фотографии М. Сокольникова (1877) | |
4. Первый лист второй черновой редакции «Анны Карениной» («Молодец баба») (1873) | |
5. Письмо Л. Н. Толстого к И. С. Тургеневу 6 апреля 1878 г. | |
6. Начало романа «Сто лет» (1879) | |
7. Лист с записями народных выражений (1879) | |
8. Первая страница запрещенной цензурой статьи Толстого «Исповедь» |
694
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора | 3 | |
Глава первая. Л. Н. Толстой после «Войны и мира» (1870—1872) | 5 | |
Глава вторая. «Азбука» (1871—1872) | 57 | |
Глава третья. Л. Н. Толстой в 1873—1877 годах | 114 | |
Глава четвертая. Основные моменты творческой истории романа «Анна Каренина» | 261 | |
Глава пятая. Отзывы современников о романе «Анна Каренина.» | 369 | |
Глава шестая. Годы кризиса и перелома (1877—1879) | 430 | |
Глава седьмая. Борьба с церковью (1879—1881) | 589 | |
Именной указатель | 672 | |
Произведения Л. Н. Толстого | 690 | |
Список иллюстраций | 693 |
695
Николай Николаевич Гусев
Лев Николаевич Толстой.
Материалы к биографии
с 1870 по 1881 год
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР
Редактор издательства Л. Д. Опульская
Художник Н. А. Седельников
Технические редакторы П. С. Кашина, И. А. Макогонова
РИСО АН СССР 30—121 В. Сдано в набор 25/I—1963 г.
Подписано к печати 17/V—1963 г. Формат 60×901/16
Печ. л. 43,5 + 2 вкл. Уч. изд. л. 45,6 + 0,1 (вкл.)
Тираж 8000 экз. Т—04619 Изд. № 1483
Тип. Эак. № 1622
Цена 2 р. 04 к.
Издательство Академии наук СССР
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
—————————————————————————
2-я типография Издательства АН СССР
Москва Г-99, Шубинский пер., 10
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
Стр. | Строка | Напечатано | Следует читать |
14 | 26 св. | оказывалось | оказывалась |
86 | 2 св. | легко | легло |
124 | 11 св. | Азовский | Азовские |
160 | 2 св. | названий | названный |
175 | 13 сн. | В котором | В коротком |
294 | 18—17 сн. | чертами | черты |
386 | 5 сн. | живых | живым |
436 | 17 св. | Яснова «Опыть | Янсона «Опыт |
481 | 1 св. | и контрольных | из центральных |
527 | 19 сн. | или | ли |
Сноски к стр. 5
1 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 167.
2 Евгений Скайлер. Граф Л. Н. Толстой. «Русская старина», 1890, 10, стр. 218.
Сноски к стр. 6
3 Эти заметки к роману о русских богатырях напечатаны в Полном собрании сочинений Толстого, т. 90, 1958, стр. 109—110.
4 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 30—31.
Сноски к стр. 7
5 Там же, стр. 31. К записи о Шекспире С. А. Толстая позднее сделала приписку: «Хвала Шекспиру была кратковременна, в душе он его не любит и всегда говорит: „Я это говорю потихоньку“». Толстой, однако, никогда не отрицал несомненных — с его точки зрения — достоинств пьес Шекспира, указанных им даже в статье «О Шекспире и о драме» с ее резко отрицательной общей оценкой шекспировских пьес.
6 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 227—228.
7 Там же, т. 48, стр. 344—345.
Сноски к стр. 8
8 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 344.
9 Подпоручик Смоленского пехотного полка В. Я. Мирович в ночь с 4 на 5 июля 1764 г. пытался освободить из Шлиссельбургской крепости бывшего императора Иоанна VI Антоновича. Иоанн Антонович был сыном внучки Иоанна V Алексеевича Анны Леопольдовны и герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Люненбургского; родился 12 августа 1740 г. и десяти недель по капризу императрицы Анны Иоанновны был объявлен императором. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г., когда Елизавета Петровна провозгласила себя императрицей, родители Иоанна Антоновича и вся семья были арестованы и отправлены в Ригу. В 1744 г. арестованных перевели в город Раненбург Рязанской губернии, затем в Холмогоры, а в 1756 г. Иоанн Антонович был заточен в Шлиссельбург. Мирович пытался освободить Иоанна Антоновича с тем, чтобы, провозгласив его императором, сделать себе карьеру, как он это видел на примерах людей, участвовавших в предыдущих дворцовых переворотах. Но попытка не удалась: Иоанн Антонович был убит, а Мирович арестован и казнен 15 сентября 1764 г.
10 «Дневники С. А. Толстой 1860—1891», стр. 31.
Сноски к стр. 9
11 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 229.
12 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 32.
13 Полное собрание сочинений, т. 17, 1936, стр. 166—179, вариант № 8. (По внешнему виду рукопись варианта № 8 не вполне совпадает с описанием, данным в записи С. А. Толстой.) В моей книге «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828—1890» (М., 1958, стр. 369) ошибочно сказано, что написанный Толстым 24 февраля 1870 г. набросок неизвестен.
Сноски к стр. 11
14 Запись от 11 апреля 1870 г. (Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 126).
15 Там же, стр. 127—128.
16 Запись от 13 марта 1870 г. (там же, стр. 118).
17 Там же, стр. 127.
18 Там же, стр. 126—127.
19 Там же, стр. 122.
Сноски к стр. 12
20 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 90.
21 Мемуарист, очевидно, ошибся, и Толстой говорил о Канте, а не о Конте. Ни в письмах, ни в записных книжках Толстого начала 1870-х годов нет ни одного упоминания о чтении Конта, между тем Канта Толстой действительно изучал в то же время, что и Шопенгауэра. 16 января 1896 г. Толстой писал Г. А. Русанову, что при первом чтении он «почти не понял» Канта, а «понял его только тогда, когда стал читать и особенно перечитывать Шопенгауэра», «которым, — прибавлял Толстой, — я одно время очень увлекался» (Полное собрание сочинений, т. 69, 1954, стр. 24).
Сноски к стр. 13
22 Н. Л-ц-в. Из литературных воспоминаний. «Русские ведомости», 20 января 1903 г., № 20.
23 Журн. «Заря», 1870, № 2.
Сноски к стр. 14
24 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 231—234.
25 Там же, т. 60, 1949, стр. 433—434.
Сноски к стр. 15
26 Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena, т. II, гл. XXVII, «О женщинах», § 383.
Сноски к стр. 16
27 «Анна Каренина», ч. IV, гл. X.
28 Полное собрание сочинений, т. 20, 1939, стр. 345, 350—351.
29 Там же, т. 48, стр. 123.
Сноски к стр. 17
30 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 124.
Сноски к стр. 18
31 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 124—126.
32 Письмо не опубликовано; хранится в архиве Фета в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.
33 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 235.
Сноски к стр. 19
34 Некоторые журналы 1850—1860 гг., как «Библиотека для чтения» Дружинина, «Русский вестник» Каткова, слово «литература» писали через два «т».
35 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 236—237.
36 Там же, стр. 237.
37 Щукинский сборник, вып. 8. М., 1909, стр. 415—416. — Илья Львович Толстой в своих воспоминаниях рассказывает: «Я помню, как в балконной комнате у старинного столика красного дерева стоял папа и с кем-то спорил о франко-прусской войне. Он был на стороне французов и верил, что они победят. В то время мне было около четырех лет» (И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 23).
Впоследствии Толстой упрекал французов за объявление войны Пруссии. «Французы, — писал он, — вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов» [«В чем моя вера?» (1883—1884), гл. X. Полное собрание сочинений, т. 23, 1957, стр. 426].
Сноски к стр. 20
38 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 171.
39 «Анна Каренина», ч. II, гл. XXXV; ч. VIII, гл. XVI.
40 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 235.
41 Вторая строфа этого стихотворения Фета читается так:
Спит, кидаясь, челн убогой,
Как больной от страшной мысли,
Лишь, забытые тревогой,
Складки паруса обвисли.
42 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 244.
Сноски к стр. 21
43 Подлинный протокол этого дела от 28 июля 1870 г., написанный рукою Фета, хранится в Отделе рукописей Государственной библиотека СССР имени В. И. Ленина.
44 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 238.
45 Там же, стр. 240.
Сноски к стр. 22
46 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 242.
47 Письмо к М. С. Башилову 4 июня 1866 г. (Там же, стр. 143).
Сноски к стр. 23
48 Напечатан под данным редакцией заглавием «Убийца жены» в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 149—151.
49 П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II. М. — Пг., 1923, стр. 79.
Сноски к стр. 24
50 Иоганн Фосс (1751—1826) — немецкий поэт, переводчик «Илиады» и «Одиссеи».
51 В. А. Жуковский перевел «Одиссею» с немецкого перевода Фосса.
52 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 247—248.
53 Там же, т. 8, 1936, стр. 226.
54 Там же, т. 61, стр. 249.
55 Перевод «Илиады» Н. И. Гнедича, вышедший в 1830 г. и приветствованный Пушкиным.
56 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 33—34.
Сноски к стр. 25
57 Письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. (Полное собрание сочинений, т. 66, 1953, стр. 68).
58 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 5 июля 1894 г. («Литературное наследство», 1939, № 37—38, стр. 460).
59 «Дневники С. А. Толстой 1860—1891», стр. 34.
60 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 248.
61 Там же, стр. 255.
Сноски к стр. 26
62 Полное собрание сочинений, т. 49, 1952, стр. 97—98.
63 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 101—102.
Сноски к стр. 27
64 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 243.
Сноски к стр. 28
65 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, стр. 51.
66 Д. П. Маковицкий. Неопубликованные «Яснополянские записки», запись от 31 декабря 1906 г.
67 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М., изд. Academia, 1936, стр. 96.
68 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 52—53.
Сноски к стр. 29
69 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 203.
70 Там же, стр. 179.
71 Там же, стр. 189.
72 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 53
73 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 182.
Сноски к стр. 30
74 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 256.
75 Там же, т. 83, стр. 193.
76 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 55.
Сноски к стр. 31
77 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 198—199.
78 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 54.
79 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 256.
80 Там же, т. 48, стр. 91—92. Записи вписаны в записную книжку Толстого чужой рукой.
Сноски к стр. 32
81 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 259, 261.
82 Георгий Чулков. Летопись жизни и творчества Тютчева. Academia, 1933, стр. 220.
83 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 9.
84 Там же, т. 61, стр. 243.
Сноски к стр. 33
85 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 261, 262.
86 Письмо Страхова к Толстому от 10 марта 1872 г. («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 16).
Сноски к стр. 34
87 Полное собрание сочинений, т. 59, 1935, стр. 54.
88 См. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1958, стр. 204.
89 Там же, стр. 378—379.
Сноски к стр. 35
90 Т. Л. Толстая-Сухотина. Детство Тани Толстой. Рукопись. Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 36
91 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., Гослитиздат, 1956, стр. 70—71.
92 Там же, стр. 71.
Сноски к стр. 37
93 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 179.
94 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 88—89.
95 Там же, стр. 70.
Сноски к стр. 38
96 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 71—72, 73.
97 И. Л. Толстой. Мои воспоминания, стр. 55—56.
Сноски к стр. 39
98 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 332—335.
99 Все цитаты из писем С. А. Толстой к Т. А. Кузминской даны по подлинникам, хранящимся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого. Ни одно из этих писем не было опубликовано полностью. Отдельные выдержки публиковались в разных изданиях, в том числе в «Биографии Л. Н. Толстого, составленной П. И. Бирюковым», в книгах Н. Н. Гусева «Толстой в расцвете художественного гения», «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии», «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», в книге С. Л. Толстого «Очерки былого», в комментариях ко многим томам Полного собрания сочинений. Многочисленные выдержки из писем С. А. Толстой к Т. А. Кузминской за 1876—1897 гг. приведены в книге «Яснополянский сборник. Статьи и материалы. Год 1962-й». Тула, 1962, стр. 76—97.
100 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 264.
Сноски к стр. 40
101 Дядя С. А. Толстой, Константин Александрович Иславин.
102 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 269.
103 Там же, стр. 270. Все недатированные письма Толстого к Страхову датируются на основании помет Страхова на автографах, очевидно, воспроизводящих даты на конвертах почтовых штемпелей отправления.
104 Там же, стр. 274.
105 Там же, стр. 277.
106 Там же, стр. 278.
107 Н. Л-ц-в. Из литературных воспоминаний. «Русские ведомости», 20 января 1903 г., № 20.
Сноски к стр. 41
108 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 283.
109 Там же, стр. 271.
110 Там же, стр. 274.
Сноски к стр. 42
111 И. Л. Толстой. Мои воспоминания, стр. 29.
Сноски к стр. 43
112 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 26.
113 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 274—275.
Сноски к стр. 44
114 Элукубрация — ученое сочинение.
115 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 277—278. — Упоминая в данном письме о «хоровых началах», Толстой намекает на представления славянофилов о крестьянской общине как о «нравственном хоре», в котором каждый отдельный голос, «подчиняясь общему строю, слышится в согласии всех голосов» (К. Аксаков. Сочинения, т. I. М., 1861, стр. 292).
116 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 285.
Сноски к стр. 45
117 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, стр. 144—148.
Сноски к стр. 46
118 Единственное сообщение об этом обществе, которое удалось найти в прессе того времени, было напечатано в № 12 журнала «Музыкальный вестник» за 1871 г. Вот его текст: «В Москве учреждается, как слышно, новое музыкальное общество под названием: „Общество любителей русского народного пения“».
119 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 276.
120 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 103.
121 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 84.
122 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 322.
123 Записи Толстого по физике напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 92—93, 130—162.
Сноски к стр. 47
124 Там же, стр. 133, 148.
Сноски к стр. 48
125 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. XV—XVI.
126 Там же, т. 61, стр. 298.
127 Там же, стр. 300.
128 Там же, стр. 322.
Сноски к стр. 49
129 Там же, стр. 302.
130 Там же, т. 83, стр. 208.
131 Там же, стр. 211.
132 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 102.
133 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 304.
Сноски к стр. 50
134 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 304.
135 Там же, стр. 304—305.
Сноски к стр. 51
136 Там же, стр. 314—315.
Сноски к стр. 52
137 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 318—319.
138 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 319—323, 702—708.
Сноски к стр. 53
139 Многоточие у Толстого.
140 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 123.
141 Там же, т. 61, стр. 324.
Сноски к стр. 54
142 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 139—140.
143 Там же, т. 61, стр. 281, с неверной датой: «марта 31».
144 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 29.
145 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 33.
Сноски к стр. 55
146 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 19—20.
Сноски к стр. 56
147 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 345—348.
Сноски к стр. 57
1 Письмо к А. А. Толстой от 12 января 1872 г. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 269.
2 Там же, стр. 338.
3 Весь текст «Азбуки» с точностью воспроизведен в томе 22 Полного собрания сочинений, вышедшем в 1957 г.
Сноски к стр. 59
4 В. Я. Струминский. Л. Н. Толстой в истории русской педагогики. «Советская педагогика», 1940, 11—12, стр. 129.
5 Объяснение приемов обучения грамоте по предлагаемому им способу было дано Толстым также в статье «Как учить по слуховому способу», помещенной в его «Новой азбуке», вышедшей в свет в 1875 г.
Сноски к стр. 60
6 С. П. Редозубов. Краткий историко-критический обзор методов обучения грамоте в русской школе. В кн.: «К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров, В. А. Флеров об обучении грамоте». М., Учпедгиз, 1941, стр. 11.
Сноски к стр. 61
7 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 308.
8 «Азбука», кн. I, стр. IV.
9 «Об общественной деятельности на поприще народного образования». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 291—292.
10 Там же, т. 61, стр. 283.
11 «Азбука», кн. I, стр. 173.
12 «Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью» («Война и мир», т. I, ч. 1, гл. XI).
Сноски к стр. 62
13 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 17 января 1907 г.
14 «Басни Эзопа». М., 1880, статья «Эзоп и его басни», стр. XII.
15 «Об общественной деятельности на поприще народного образования». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 281.
Сноски к стр. 63
16 В письме к автору рассказов для детей Глебу Макарову Толстой писал 17 марта 1908 г.: «Особенно нравится мне в ваших рассказах то, что тот вывод, нравственный или практический, который вытекает из рассказа, не сказан, а предоставлено самим детям сделать его» (Полное собрание сочинений, т. 78, 1956, стр. 94).
17 «Азбука», кн. I, стр. 173.
18 «Избранные басни Эзопа». Перевод с греческого В. Алексеева. СПб., 1888, стр. 54.
19 «Азбука», кн. II, стр. 2.
Сноски к стр. 64
20 «Избранные басни Эзопа», стр. 43—44.
21 «Азбука», кн. I, стр. 68.
Сноски к стр. 65
22 Письмо к А. А. Толстой от начала апреля 1872 г. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 283.
Сноски к стр. 66
23 «Басни Эзопа». М., 1880, стр. 113.
24 С. Л. Толстой. Ясная Поляна в творчестве Толстого. В кн.: «Ясная Поляна. Статьи и документы». М., 1924, стр. 101—102.
25 Установленные источники басен, сказок и рассказов, помещенных Толстым в его «Азбуку», указаны в комментариях В. С. Спиридонова к 21 тому Полного собрания сочинений, вышедшему в 1957 г. (стр. 623—676).
26 «Педагогический листок», 1873, № 1.
Сноски к стр. 67
27 «Азбука» графа Л. Н. Толстого. «Вестник Европы», 1873, № 1.
28 А. П. Бабушкина. История русской детской литературы. М., Учпедгиз, 1948, стр. 21.
29 Толстой очень любил эту сказку Андерсена и в 1907 г. вторично изложил ее для детей (в этом изложении восстановлен ребенок — «малое дитя», — крикнувший, что царь голый) (Полное собрание сочинений, т. 40, 1956, стр. 403). Кроме того, Толстой часто пользовался образом ребенка, употребленным Андерсеном, для иллюстрации своих мыслей. Так, 11 марта 1910 г. он записал в дневнике: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения. Это — сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что́ есть, что царь голый, была революция» (Полное собрание сочинений, т. 58, 1934, стр. 24).
Сноски к стр. 68
30 «Азбука», кн. I, стр. 173.
31 Народное предание «Шат и Дон» было записано самим Толстым, как уведомлял он Страхова в середине октября 1872 г. (Полное собрание сочинений, т. 90, 1958, стр. 230).
Сноски к стр. 70
32 И. Паульсон. Книга для чтения и практических упражнений по русскому языку. СПб., 1860, стр. 128.
Сноски к стр. 71
33 «Азбука», кн. I, стр. 181.
Сноски к стр. 72
34 См. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1828—1855. М., 1954, стр. 435—437.
35 Н. М. «Кавказский пленник (быль)». «Библиотека для чтения», 1838, 11, стр. 17—52. Впервые указание на повесть Н. М. как на источник «Кавказского пленника» Толстого было сделано в статье В. А. Попова «Историко-литературный источник „Кавказского пленника“». «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12, М., 1948, стр. 190—192.
Сноски к стр. 73
36 Т. Воспоминания кавказского офицера. «Русский вестник», 1864, № 11—12.
Сноски к стр. 74
37 «Что такое искусство?», гл. XVI.
Сноски к стр. 75
38 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 года). «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., стр. 60—61.
Сноски к стр. 76
39 К. Из школьных воспоминаний. «Вятская речь», 28 августа 1908 г., № 147.
40 Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., Изд-во «Советский писатель», 1960, стр. 83—84.
Сноски к стр. 77
41 Б. Эйхенбаум. Указ. соч., стр. 84—85.
42 Статья «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».
43 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. XIII.
44 Учитель детей Толстого В. И. Алексеев в своих воспоминаниях, относящихся к 1877—1881 годам, рассказывает: «Помню, однажды за столом я рассказал, как моя няня горько плакала, когда я читал ей рассказ Льва Николаевича «Бог правду видит, да не скоро скажет». Лев Николаевич прослезился и сказал: «Эти слезы няни — истинная критика и высшая награда для меня за этот рассказ. Я для того его и писал, чтобы показать, с каким терпением люди должны переносить в жизни все несчастья. Я сам проливал слезы, когда описывал состояние купца Аксенова в тюрьме в то время, когда его жена пришла навестить его и спросила: „Неужели ты в самом деле решился убить соседа на постоялом дворе? “» («Летописи Гос. лит музея», кн. 12, стр. 258).
Сноски к стр. 78
45 «Печать и революция», 1922, 7, стр. 328—330.
Сноски к стр. 79
46 См. Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 397.
47 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 78, запись от 7 февраля 1908 г.
48 Полное собрание сочинений, т. 60, 1949, стр. 140.
Сноски к стр. 80
49 Р[езенер]. «Азбука» графа Л. Н. Толстого. «Народная школа», 1873, № 6.
50 Письмо к И. И. Горбунову-Посадову от 24 октября 1910 г. Полное собрание сочинений, т. 82, 1956, стр. 206—207.
51 Там же, т. 61, стр. 322.
Сноски к стр. 81
52 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 43.
53 «Мы видим и опустевшую в праздничное утро, когда весь народ ушел в церковь, деревню, и сонный барский двор, и дородного старосту с его тяжеловатым юмором и хозяйской деспотичностью, и бабу, которая в своей трудовой жизни ко всему привыкла, она может сесть верхом на палку и опуститься в колодец, и переполох среди народа, бестолковую суету тогда, когда нужна трезвая организованность, и, наконец, наиболее сообразительных людей, всегда оказывающихся в растерянной, мятущейся толпе и выручающих из беды — здесь это молодой ловкий плотник и старик, повидавший в жизни виды» (А. П. Бабушкина. История русской детской литературы. М., Учпедгиз, 1948, стр. 378).
Сноски к стр. 82
54 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 104. Близкую к этим соображениям Толстого мысль находим у А. М. Горького: «Наша книга о достижениях науки и техники должна не только давать конечные результаты человеческой мысли и опыта, но вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенное преодоление трудностей и поиски верного метода» (М. Горький. О литературе. М., Изд-во «Советский писатель», 1953, стр. 616).
55 «Азбука», кн. I, стр. 181.
56 Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 11.
57 Там же, т. 21, стр. 430.
Сноски к стр. 83
58 «Азбука», кн. I, стр. 182.
59 Там же, стр. 183.
Сноски к стр. 84
60 «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения, составленный учительницами Харьковской частной женской воскресной школы». СПб., 1884, стр. 34—39.
Сноски к стр. 86
61 «Об общественной деятельности на поприще народного образования». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 289.
Сноски к стр. 87
62 Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 503.
Сноски к стр. 88
63 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 60—611.
64 «Азбука», кн. I, стр. IV.
65 Там же, кн. II, стр. 156.
66 «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», т. I. М., 1861, стр. 32—33 и 39—40.
Сноски к стр. 89
67 «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», т. I. М., 1861, стр. 35.
68 В редакции Толстого цитируется былина о Святогоре Г. И. Успенским в его очерках «Власть земли» (гл. IV). «В стариннейшей былине о Святогоре-богатыре», — писал Г. И. Успенский, — «с глубочайшею силой и простотой» указывается «могущество» «самой обыкновенной, натуральной земли». Цитируя ответ Микулы Святогору, Успенский подчеркивает в нем те самые слова, которые были прибавлены Толстым, чего Успенский, разумеется, не мог знать.
Сноски к стр. 90
69 «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», т. I, стр. 17—26.
Сноски к стр. 91
70 Подробно о переработке Толстым былин, помещенных в «Азбуке», см. в статье: Э. Е. Зайденшнур. Работа Л. Н. Толстого над русскими былинами. «Русский фольклор. Материалы и исследования», V. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 329—366.
Сноски к стр. 92
71 Полное собрание сочинений, т. 56, 1937, стр. 144.
72 Напечатаны в томе 21 Полного собрания сочинений, стр. 427—432, 502—503.
Сноски к стр. 94
73 Письмо к Е. Н. Ахматовой от 1 октября 1862 г. «Литературное наследство», т. 69, кн. первая, М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 521.
74 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 61.
75 Письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 года. Полное собрание сочинений, т. 66, 1953, стр. 67.
Сноски к стр. 95
76 «Азбука», кн. III, стр. 182—183.
Сноски к стр. 96
77 «Об общественной деятельности на поприще народного образования». Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 295.
78 «Азбука», кн. IV, стр. 228.
79 Виктор Яковлевич Буняковский (1804—1889) — выдающийся русский математик, доктор математики парижского факультета наук, с 1864 г. — вице-президент Академии наук, состоял почетным членом всех русских университетов и многих ученых обществ, автор более ста математических сочинений.
80 Окончательный текст письма Толстого к Буняковскому неизвестен. Черновик этого письма напечатан в Полном собрании сочинений, т. 61, стр. 339—340, как письмо к графу Д. А. Толстому.
81 Письмо опубликовано в книге «История математических исследований», вып. XII. М., 1959, стр. 505—524.
Сноски к стр. 97
82 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 323—324.
83 «Журналистика». «С.-Петербургские ведомости», 6 мая 1872 г., № 123.
Сноски к стр. 98
84 Н. Н. Страхов. Критические статьи, т. 2. Киев, 1902, стр. 235.
85 А. О. (Авсеенко В. Г.). Очерки текущей литературы. Граф Л. Н. Толстой. «Русский мир», 29 апреля 1872 г., № 104.
Сноски к стр. 99
86 «Литературное обозрение». «Всемирная иллюстрация», 17 июня 1872 г., № 181. По мнению Страхова, статья была написана редактором журнала К. К. Случевским (письмо к Толстому от 5 мая 1875 г. «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб., 1914, стр. 64).
Сноски к стр. 100
87 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 300.
88 П. Полевой. «Азбука» графа Л. Н. Толстого. «С.-Петербургские ведомости», 1 декабря 1872 г., № 330.
Сноски к стр. 102
89 «Вестник Европы», 1873, 1, стр. 450—456.
Сноски к стр. 104
90 Н. Н. Страхов. Критические статьи, т. 2. Киев, 1902, стр. 63—64.
91 «Современность», 1873, № 23—24.
92 Р[езенер]. «Азбука» графа Л. Н. Толстого. «Народная школа», 1873, 6, стр. 59—64.
Сноски к стр. 105
93 К. Л. «Азбука» графа Л. Н. Толстого. «Детский сад», 1873, 1, стр. 49—52.
94 «Азбука» графа Л. Н. Толстого». «Гражданин», 1873, 1, стр. 23—24.
95 Петр Андр. Берс, которому поручена была продажа «Азбуки», 22 февраля 1873 г. писал своей сестре Т. А. Кузминской: «Азбука приводит меня в отчаяние. До сих пор еще кое-как распродавалась, а в последнее время продажа совсем прекратилась, а у меня остались нетронутыми 2000 экземпляров, которые я теряю надежду продать». Он же на другой день писал Толстому, что всего было продано за три с половиною месяца около 400 экземпляров. (Письма не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).
Сноски к стр. 106
96 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 349.
97 Там же, т. 62, 1953, стр. 9.
98 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 34.
99 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 12.
Сноски к стр. 107
100 Окончательный текст письма к Д. А. Толстому неизвестен. Черновая редакция — в Полном собрании сочинений, т. 61, стр. 338—339.
Сноски к стр. 108
101 Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 409—411.
Сноски к стр. 109
102 «Московские ведомости», 7 июня 1873 г., № 140; Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 32—33.
Сноски к стр. 110
103 С. А. Рачинский. Сельская школа. М., 1891, стр. 58—59.
104 Д. Д. Семенов. Опыт педагогической критики русской элементарной учебной литературы. «Воспитание и обучение», 1887, 2, стр. 39. То же в книге: Д. Д. Семенов. Избранные педагогические сочинения. М., Академия педагогических наук, 1953, стр. 176.
Сноски к стр. 111
105 «Печать и революция», 1921, 7, стр. 328.
106 Действительный член Академии педагогических наук РСФСР Н. В. Чехов. «Азбука» Л. Н. Толстого. Рукопись.
107 Проф. В. А. Вейкшан. Л. Н. Толстой о воспитании и обучении. М., Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1953, стр. 125.
108 М. Чачко. Язык детской литературы. «Литературная газета» 12 сентября 1934 г., № 122.
Сноски к стр. 112
109 М. Рыбникова. Рассказы Л. Н. Толстого для детей. «Начальная школа», 1937, 2, стр. 26—41.
110 А. П. Бабушкина. История детской русской литературы. М., Учпедгиз, 1948, стр. 344—397.
Сноски к стр. 113
111 С. Маршак. Воспитание словом. М., 1961, стр. 529—531.
112 Приводимые ниже сведения, кончая 1955 годом, взяты из книги «Библиография произведений Л. Н. Толстого». М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 291. Сведения об изданиях детских рассказов Толстого в последующие годы доставлены Научной библиотекой Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 114
1 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 271.
2 Там же, стр. 281, с неверной датой: «31 марта 1872 г.».
3 Там же, стр. 274.
Сноски к стр. 115
4 Там же, стр. 323.
5 Там же, стр. 332.
6 Там же, стр. 340.
7 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, стр. 45.
8 Список книг, перечисленных в этом счете, напечатан в т. 17 Полного собрания сочинений, 1936, стр. 629—630.
Сноски к стр. 116
9 Список этот, содержащий 31 название, напечатан в «Переписке Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб., 1914, стр. 173—175, где он ошибочно приписан В. В. Стасову и ошибочно датирован 1878 г.
10 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 344.
11 Там же, стр. 349.
12 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 45.
13 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 3.
Сноски к стр. 117
14 Там же, стр. 4.
15 «Дневники С. А. Толстой». 1860—1891», стр. 35.
16 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 5.
17 Там же, стр. 8.
18 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 35.
19 Дневники М. П. Погодина хранятся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
20 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 45.
Сноски к стр. 118
21 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 12.
22 Там же, стр. 13.
23 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 27.
24 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 15.
25 «С.-Петербургские ведомости», 21 февраля 1873 г., № 51.
Сноски к стр. 119
26 «Дневники С. А. Толстой 1860—1891», стр. 34—35.
27 Они напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 48, 1952, стр. 95—103.
28 Тексты всех записей напечатаны в т. 17 Полного собрания сочинений, 1936, стр. 386—444; обстоятельные комментарии к ним П. С. Попова там же, стр. 664—683.
Сноски к стр. 120
29 Свод всех высказываний Толстого о Петре, а также всех сделанных им выписок из исторических материалов на эту тему дан Б. А. Базилевским в его статье «Петр I в представлении Л. Н. Толстого». «Л. Н. Толстой-художник», сборник статей кафедры русской литературы Уральского государственного университета им. Горького, вып. 40, Свердловск, 1961, стр. 47—78. В этой статье впервые указаны многочисленные подчеркивания и отчеркивания отдельных мест и немногочисленные пометы, сделанные Толстым при изучении книги: «Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год», части I—IV, изд. второе. М., 1858—1863. «Дневник» голштинца Фридриха Берхгольца, состоявшего в свите герцога голштинского Карла Фридриха (впоследствии отца Петра III), является важнейшим источником для истории последних лет царствования Петра I. Книга с пометами Толстого хранится в Яснополянской библиотеке.
Сноски к стр. 121
30 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. XVIII, стр. 200—202.
31 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 391.
32 Там же, т. 23, 1957, стр. 295.
33 Там же, т. 17, стр. 391; С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. XVIII, стр. 220.
34 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. XV, стр. 190—192.
Сноски к стр. 122
35 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 437.
Сноски к стр. 123
36 Редактором 17 тома Полного собрания сочинений (стр. 406) фамилии Воейкова прочтена неверно.
Сноски к стр. 124
37 Деление принадлежит П. С. Попову.
38 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, 1936, стр. 186—211; комментарии к ним — там же, стр. 547—655.
Сноски к стр. 125
39 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 180.
40 «О Шекспире и о драме», гл. IV. Полное собрание сочинений, т. 35, 1950, стр. 249—250.
41 Там же, т. 17, стр. 166.
Сноски к стр. 126
42 Вариант, начинающийся с описания приезда в Москву в 1695 году матери царицы Марфы, вдовы царя Федора, отнесенный в т. 17 Полного собрания сочинений к данному циклу (т. 17, стр. 195—196), по стилю более подходит к отрывкам 1879 года, близким к стилю народного сказа («И осталась молодая царица ни девка, ни баба, ни матерая вдова... Сперва он вдался в книги и чуть-чуть не зашелся... Он всегда всех мирил, и сердца в нем совсем не было... Хоть он и почтительнее был к матери и добрее всем Андрея...» И т. д.). См. об этом в статье Б. А. Базилевского «Из наблюдений над содержанием и стилем незавершенных исторических романов Л. Н. Толстого». «Ученые записки Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького», вып. 28, Свердловск, 1959, стр. 184—185.
Сноски к стр. 127
43 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 198, 208.
44 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 47.
45 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.) «Толстовский ежегодник 1912 г.», стр. 63.
46 Р. Левенфельд. Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим. «Русское обозрение», 1897, стр. 580.
Сноски к стр. 128
47 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 640.
48 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 45—46.
Сноски к стр. 129
49 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 430.
50 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. XIV, стр. 294.
51 Полное собрание сочинений, т. 85, 1935, стр. 114.
Сноски к стр. 130
52 «Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца [А Суворина]», кн. I, ч. 3, СПб., 1875, стр. 20—21.
53 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 429 и 341; Дневник И. Корба. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1866, кн. IV, стр. 126—127, 145—146. Подробнее о «всешутейшем, всепьянейшем соборе» см. в статье М. И. Семевского «Петр Великий как юморист», напечатанной в «Русской старине», 1872, № 6, стр. 845—892. Предисловие к своей статье М. И. Семевский заканчивает следующей цитатой из книги С. М. Соловьева «История России во время преобразований» (т. IV, М., 1868, стр. 259): «Одна наблюдательная женщина, современница, отозвалась совершенно справедливо о Петре, что это был очень хороший и вместе очень дурной человек».
Сноски к стр. 131
54 Полное собрание сочинений, т. 26, 1936, стр. 567.
55 Там же, т. 28, 1957, стр. 192.
56 Там же, т. 36, 1936, стр. 169.
Сноски к стр. 132
57 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 61.
58 Там же, стр. 16.
59 Там же, т. 48, стр. 129.
60 Аналогичное объяснение тех причин, по которым Толстым не был закончен роман о времени Петра I, находим в книге Б. Эйхенбаума «Лев Толстой. Семидесятые годы». Л., 1960, стр. 126—128.
Сноски к стр. 133
61 Имеется в виду отрывок, начинающийся словами: «В 179. году возвращался я в Лифляндию...»
62 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 35—36.
63 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 16.
64 Там же, стр. 25.
65 Ф. И. Булгаков. Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений русская и иностранная. СПб., 1886, стр. 86.
Сноски к стр. 134
66 Рукопись замечаний С. Л. Толстого на второй том «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым, хранится у Н. Н. Гусева.
67 Полное собрание сочинений, т. 46, 1937, стр. 187—188.
Сноски к стр. 135
69 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 42.
70 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 16.
71 Там же, стр. 18.
Сноски к стр. 136
72 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 20.
73 Там же, стр. 21—22.
74 Там же, стр. 22.
75 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 105.
76 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 25.
77 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 32.
Сноски к стр. 137
78 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 30.
79 Там же, стр. 27.
80 Там же, стр. 28.
81 Там же, стр. 31.
Сноски к стр. 138
82 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 8—9.
83 Там же, стр. 17.
Сноски к стр. 139
84 Там же, стр. 34.
Сноски к стр. 140
85 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 34.
86 Изменения, произведенные Толстым в тексте «Войны и мира» для нового издания, указаны в томах 9—12 Полного собрания сочинений в отделе «Печатные варианты». Из всех шести томов второго издания «Войны и мира», исправленных Толстым для нового издания, сохранились пятый и шестой томы (Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого). Все исправления, сделанные Толстым в этих томах, приведены в статье Н. Гусева «Авторские исправления в тексте „Войны и мира“», напечатаны в «Летописях Гос. лит. музея», кн. 12, М., 1948, стр. 193—199.
Сноски к стр. 141
87 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 46.
88 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 33—36.
89 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 34.
Сноски к стр. 142
90 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 47.
91 А. С. Пругавин. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911, стр. 34.
Сноски к стр. 143
92 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 43—44.
Сноски к стр. 144
93 «Новости», 20 и 21 августа 1873 г., № 212 и 213.
94 «С.-Петербургские ведомости», 22 августа 1873 г., № 230.
95 «Внутренняя почта». «Биржевые ведомости», 24 августа 1873 г., № 228.
96 «Голос», 25 августа 1873 г., № 234.
Сноски к стр. 145
97 «Из текущей жизни». «Гражданин», 3 сентября 1873 г., № 36.
98 «Дело», 1873, 11, стр. 26—27.
99 «Вперед. Непериодическое обозрение», 1873, т. I и 1874, т. II, отдел «Что делается на родине». То же отдельно: «По поводу самарского голода», 2-е издание журнала «Вперед», Лондон, 1874. Перепечатано: П. Л. Лавров. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. III. М., 1934, стр. 173—331.
100 Raphael Löwenfeld. Gespräche über und mit Tolstoi. Berlin, 1891, стр. 59.
101 А. С. Пругавин. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911, стр. 31.
Сноски к стр. 146
102 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 107.
103 20 октября в «Правительственном вестнике» была напечатана статья о том, что правительство не отрицает факта голода.
104 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 45.
105 Там же, стр. 48.
106 Там же, стр. 49.
Сноски к стр. 147
107 Там же, т. 61, стр. 216.
108 «Искусство», 1929, 5—6, стр. 52.
109 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 220.
110 «Искусство», 1929, 5—6, стр. 52.
Сноски к стр. 148
111 «Переписка И. Н. Крамского. Крамской и Третьяков». М., Изд-во «Искусство», 1953, стр. 64.
112 И. Гинцбург. Художники в гостях у Л. Н. Толстого. «Голос минувшего», 1916, 11, стр. 192.
Сноски к стр. 149
113 «Переписка И. Н. Крамского. Крамской и Третьяков», 1953, стр. 66—67.
114 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 50.
115 В. В. Стасов. Иван Николаевич Крамской. «Исторический вестник», 1887, т. XXVIII, стр. 397. Перепечатано в книге: В. В. Стасов. Статьи и заметки. М., Изд-во «Искусство», 1954, стр. 73.
116 И. Н. Крамской. Письма, т. I. М., Гос. изд-во изобразительных искусств, 1937, стр. 196—197.
117 П. О. Ковалевский. Встречи на жизненном пути. «Academia», 1928, стр. 388.
Сноски к стр. 150
118 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 36.
119 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 50.
120 Толстой позировал Крамскому только для головы. Для изображения груди Крамской воспользовался блузой Толстого, набив ее бельем и подпоясав ремнем. Этим, может быть, объясняются замеченные знатоками некоторые недостатки второго портрета, оставшегося в Ясной Поляне: «не натурально, слишком выпяченная грудь, неестественные складки на блузе, малый размер головы по сравнению с телом» (С. А. Толстая. Моя жизнь, авторизованная машинописная копия, тетрадь II, стр. 396. Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).
121 Дневник И. М. Ивакина, запись от 23 июля 1885 г. «Литературное наследство», т. 69, кн. вторая. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 62.
122 И. Н. Крамской. Письма, т. II. М., 1937, стр. 352.
Сноски к стр. 151
123 Там же, стр. 326.
Крамской любовался и физическим обликом Толстого. И. Е. Репин в своих воспоминаниях рассказывает: «В 1873 году мне писал Крамской, который работал тогда над портретом Льва Толстого, что в охотничьем костюме верхом на коне Толстой — самая красивая фигура мужчины, какую ему пришлось видеть в жизни» (И. Е. Репин. Далекое близкое, изд. 4-е, М., 1953, стр. 382). У Крамского была мысль изобразить Толстого верхом на лошади: «Художник Крамской хотел даже написать портрет его в кафтане на лошади» (С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, стр. 29).
124 П. О. Ковалевский. Встречи на жизненном пути. «Academia», 1928, стр. 397.
125 И. Н. Крамской. Письма, т. I. М., 1937, стр. 246.
Сноски к стр. 152
126 Письмо Крамского П. М. Третьякову 9 июля 1874 г. «Переписка И. Н. Крамского. Крамской и Третьяков», стр. 95.
127 Незнакомец (А. С. Суворин). Недельные очерки и картинки. «С.-Петербургские ведомости», 27 января 1874 г., № 27.
128 И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. II. М., Изд-во «Искусство», 1949, стр. 54.
129 Там же, т. I, 1948, стр. 138.
130 В. В. Стасов. И. Н. Крамской по письмам его и статьям. «Вестник Европы», 1887, 12, стр. 483. Перепечатано: В. В. Стасов. Статьи и заметки, т. II. Изд-во «Искусство», 1954, стр. 123.
131 В городе Севре под Парижем изготовлялся (с половины XVIII в.) тонкий художественный фарфор.
Сноски к стр. 153
132 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 67.
133 Там же, т. 62, стр. 52.
134 Там же, стр. 55.
135 Там же, стр. 56.
Сноски к стр. 154
136 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 51, 76—77.
137 Там же, стр. 75. Пятнадцать иллюстраций Толстого к научно-фантастическому роману Ж. Верна хранятся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Часть из них была опубликована в «Записках Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 4, М., 1939. Описание рисунков Толстого дано в статье: П. Эттингер. Толстой — иллюстратор Жюля Верна. «Детская литература», 1940, № 10.
138 «Московские ведомости», 3 января 1874 г., № 2.
Сноски к стр. 156
139 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 355.
Сноски к стр. 157
140 Томы 9—12 Полного собрания сочинений Толстого издавались дважды: в 1930—1933 гг. и в 1937—1940 гг., причем тексты этих изданий значительно отличались один от другого. В основу издания 1930—1933 гг. был положен текст «Войны и мира» издания 1886 г., без учета творческих исправлений Толстого в издании 1873 г.
141 Б. Л. Модзалевский. Список членов Академии наук. СПб, 1908, стр. 239.
142 В. Срезневский. И. И. Срезневский о Л. Н. Толстом. «Сборник в честь А. И. Соболевского», Л., Изд-во АН СССР, 1928, стр. 53—56.
Сноски к стр. 158
143 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 71.
144 Там же, стр. 80.
Сноски к стр. 159
145 Там же, стр. 53.
146 Там же, стр. 61.
147 Там же, стр. 67.
148 Там же, стр. 71.
Сноски к стр. 160
149 Протоколы заседаний Московского комитета грамотности «Московские епархиальные ведомости», 1874, № 10.
Сноски к стр. 162
150 «Граф Толстой о грамотности». «Русские ведомости», 1874, № 31.
151 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 214.
Сноски к стр. 163
152 Д. И. Тихомиров. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом. «Педагогический листок», 1910, 8, стр. 557.
153 Протоколы заседаний Московского комитета грамотности. «Московские епархиальные ведомости», 1874, № 10. Сокращенная перепечатка — в Полном собрании сочинений, т. 17, 1936, стр. 594—599.
154 Д. И. Тихомиров. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом. «Педагогический листок», 1910, 8, стр. 558.
Сноски к стр. 164
155 Протоколы заседаний Московского комитета грамотности. «Московские епархиальные ведомости», 22 сентября и 10 ноября 1874 г., № 39 и 46. Сокращенно перепечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 600—606. Записанная стенографически речь Толстого в заседании 13 апреля была напечатана в переработанном им виде.
Сноски к стр. 165
156 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 83.
157 Там же, стр. 85—86.
158 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современая смута, т. I. СПб., 1900, стр. 199.
Сноски к стр. 166
159 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 45—46.
160 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I, стр. 199—200.
Сноски к стр. 167
161 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 88—89.
162 Там же, стр. 91.
163 Там же, стр. 92.
164 Там же, стр. 96.
165 Там же, стр. 95.
Сноски к стр. 168
166 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 108.
167 Там же, стр. 95.
Сноски к стр. 169
168 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 48—49.
169 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 100.
170 Там же, стр. 103.
171 Там же, стр. 105—106.
172 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. XI. М., 1952, стр. 331—332.
Сноски к стр. 170
173 «Современник» вместо «Отечественных записок» — описка Толстого, весьма, однако, характерная: именно с «Современником» он связан был в молодые годы; теперь же «Отечественные записки» продолжали направление «Современника».
174 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 110.
175 Перепечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, 1936, стр. 71—132.
Сноски к стр. 173
176 «Такой проект, — писал впоследствии автор статьи «Лев Толстой, как педагог, в критике 70-х годов» С. Ашевский, — явился плодом пламенного народолюбия Толстого, который стремился во что бы то ни стало и как можно скорее дать русскому крестьянину хотя бы самое элементарное образование и потому страшно негодовал на «земско-министерское ведомство», частью сознательно, частью по необходимости удовлетворявшее народную жажду просвещения самыми микроскопическими дозами, притом не считаясь с народными желаниями и вкусами» («Русская школа», 1915, 11, стр. 69).
Сноски к стр. 174
177 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 250.
178 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. XI, стр. 338.
179 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 155—156.
180 «Гражданин», 1875, 11, стр. 254.
Сноски к стр. 175
181 Н. К. Михайловский. Из дневника и переписки Ивана Непомнящего («Отечественные записки», 1874, 12, стр. 445).
182 «Семья и школа», 1874, 10, стр. 139.
183 «Педагогический листок», 1875, 2, стр. 73.
184 В. Евтушевский. Ответ на статью графа Л. Толстого «О народном образовании». СПб., 1874, стр. 4.
Сноски к стр. 176
185 Н. Бунаков. Письмо к редактору по поводу статьи гр. Л. Толстого. «Семья и школа», 1874, 10, стр. 139—146.
186 Ф. Медников. «О народном образовании», статья гр. Л. Н. Толстого. «Народная школа», 1875, 1, стр. 7—32.
187 Д. Тихомиров. Гр. Л. Н. Толстой о народном образовании. «Семья и школа», 1875, 2, стр. 139.
188 С. Бобровская. По поводу статьи гр. Л. Толстого «О народном образовании». «Народная школа», 1875, 2, стр. 24.
Сноски к стр. 177
189 Лев Поливанов. «О народном образовании» гр. Л. Н. Толстого. «Обзор русской педагогической литературы», т. I, М., 1876, стр. 145—172.
190 В. Воленс. «Арифметика» гр. Л. Н. Толстого. «Народная школа», 1875, 3, стр. 20—21.
191 Е. И. Гасабов. Письмо гр. Л. Н. Толстому по поводу его статьи «О народном образовании». СПб., 1875, стр. 5.
192 В. Евтушевский. Ответ на статью графа Л. Толстого «О народном образовании». М., 1874, стр. 4.
193 Русский. Педагогические красоты нашего времени, или «наглядное обучение». «Грамотей», 1874, 12, стр. 23—47.
Сноски к стр. 178
194 А. Н. Страннолюбский (1839—1903) в течение многих лет был преподавателем математических наук в Морском училище, на Высших женских педагогических курсах и в других учебных заведениях. Написал ряд статей по специальным математическим вопросам и издал «Курс алгебры, основанной на постепенном обобщении арифметических задач». В 1860-х годах принимал деятельное участие в Василеостровской бесплатной школе. Школа эта положила в основу своей деятельности принцип полной непринудительности учения, отсутствие наказаний и наград, баллов, экзаменов, ввела обучение ремеслам, прогулки, экскурсии для ознакомления детей с различными производствами, музеями и т. п. и основала преподавание исключительно на возбуждении в детях интереса к учению. Школа по основным принципам вполне сходилась с педагогическими воззрениями Л. Н. Толстого (Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь, т. XXXI а. СПб., 1901, стр. 725).
195 Стенограммы заседаний Петербургского педагогического общества 19 октября, 2 и 16 ноября и 7 декабря 1874 г. с докладом Евтушевского и ответом Страннолюбского напечатаны в журнале «Семья и школа», 1874, № 11, стр. 5—46, и № 12, стр. 50—103.
Сноски к стр. 179
196 Современные советские математики не только признают историческое значение «Арифметики» Толстого в борьбе с «крайне искусственным, надуманным способом Грубе», но и находят некоторые приемы арифметических действий, указанные Толстым, применимыми в современной советской школе. Так, авторы статьи «Л. Н. Толстой педагог-новатор» В. Добровольский и В. Минковский утверждают, что Толстой «убедительно показал» методологическую порочность принципов Грубе, и потому «значение печатных выступлений Л. Н. Толстого против грубеизма трудно переоценить»; что «Арифметика» Толстого сыграла значительную роль в становлении прогрессивных методических идей; что, несмотря на отдельные недостатки, «в целом методическое наследие Л. Н. Толстого в области арифметики богато многими рациональными идеями и полезными советами, которые с успехом могут быть приняты и использованы нашей начальной школой» («Народное образование», 1960, 11, стр. 71—74). См. также статью: О. Астряб. Лев Толстой — математик-методист, в книге: «Науково-педагогічне т-во при Всеукраїнськїй академїї наук. Записки», т. I. Київ, 1929, стр. 7—24.
Сноски к стр. 180
197 «Наша научно-педагогическая критика». «Неделя», 1874, 18, стр. 590—596.
Сноски к стр. 181
198 Евгений Марков. Последние могикане русской педагогии. «Вестник Европы», 1875, 3, стр. 291—360.
199 «Отечественные записки», 1875, 1, стр. 155.
200 «Дело», 1875, 4, стр. 31—49. Перепечатано в книге: П. Н. Ткачев. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. 6. М., 1937, стр. 390—404.
Сноски к стр. 182
201 А. О. (В. Г. Авсеенко). Очерки текущей литературы. «Русский мир», 1874, № 227.
Сноски к стр. 183
202 Z. [В. П. Буренин]. Текущая журналистика. «С.-Петербургские ведомости», 1874, № 274.
203 Незнакомец [А. С. Суворин]. Очерки и картинки, книга первая, часть третья. СПб., 1875, стр. 27.
204 Н. Н. Страхов. «О народном образовании», статья гр. Л. Н. Толстого. «Гражданин», 1874, № 48, стр. 1213—1216; № 50, стр. 1273—1275.
205 Заурядный читатель (А. М. Скабичевский). Мысли по поводу текущей литературы. «Биржевые ведомости», 1875, № 111 и 125.
206 Первая статья Н. К. Михайловского о Толстом, под названием «Записки профана», появилась в № 1 «Отечественных записок» за 1875 год, стр. 135—182. Три дальнейших статьи Михайловского, с подзаголовком «Десница и шуйца Льва Толстого», появились в № 5 «Отечественных записок» за тот же год, стр. 106—149, затем в № 6, стр. 300—334, и в № 7, стр. 164—203. В этих статьях Михайловский ставил своей задачей не только изложить свое отношение к статье «О народном образовании», но и дать общую характеристику Толстого-мыслителя, опираясь главным образом на его педагогические статьи 1859—1863 гг.
Сноски к стр. 185
207 «Отечественные записки», 1875, № 1, стр. 157, 158, 168, 171, 178, 182; № 5, стр. 10, 122; № 6, стр. 307.
Сноски к стр. 186
208 «Русский начальный учитель», 1888, 8—9, стр. 301.
209 Н. Ф. Бунаков. Моя жизнь. Записки. М., 1909, стр. 118—119.
210 Д. И. Тихомиров. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом. «Педагогический листок», 1910, 8, стр. 559.
Сноски к стр. 187
211 С. Ашевский. Лев Толстой, как педагог, в критике 70-х годов. «Русская школа», 1915, 12, стр. 104.
212 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 109.
213 Там же, стр. 111.
Сноски к стр. 188
214 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 115.
215 Там же, стр. 117.
216 Там же, стр. 118.
217 Там же, стр. 120.
Сноски к стр. 189
218 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 121.
Сноски к стр. 190
219 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 166—169.
220 С. А. Берс. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом, стр. 33—34.
Сноски к стр. 191
221 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 53.
222 О том, насколько зазорным представлялось консерваторам сотрудничество в «Отечественных записках», узнаем из одного письма Достоевского к жене. Как известно, с января 1875 г. в «Отечественных записках» печатался роман Достоевского «Подросток». 5 февраля этого года Достоевский виделся со своим старым приятелем и единомышленником поэтом Л. Н. Майковым, у которого застал также Н. Н. Страхова. Страхов и Майков, как писал Достоевский на другой день жене, «до смешного восторженно» говорили о начавшемся в то время печатанием романе Толстого: «об моем ни слова». «Я, было, заговорил насчет того, что если Толстой напечатал в «Отечественных записках», то почему же обвиняют меня, но Майков сморщился и перебил разговор... Одним словом, видно много нерасположения» (Достоевский. Письма, т. III, 1934, стр. 148).
Сноски к стр. 192
223 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 114.
224 Там же, стр. 128.
225 Там же, стр. 130—131.
226 Там же, стр. 318.
Сноски к стр. 193
227 В. С. Спиридонов. К истории педагогической деятельности Л. Н. Толстого. «Ученые записки Гос. пед. ин-та им. Герцена», т. 67. Л., 1948. стр. 146.
228 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 128.
Сноски к стр. 194
229 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 58.
230 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 148.
231 «Литературное наследство», т. 37—38. М., Изд-во АН СССР, 1939, стр. 214—215.
Сноски к стр. 195
232 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 142.
233 Более чем через год — в марте 1876 года — Лев Николаевич писал о нем А. А. Толстой: «Прелестный ребенок (несколько месяцев уже видна была чудесная, милая натура), тоже го́ду, заболел водянкой в голове. И до с их пор больно, очень больно вспоминать эту ужасную неделю его умирания» (Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 256). Толстому так памятны остались тяжелые дни предсмертных страданий этого ребенка, что через тридцать лет, в 1905 году, он воспользовался подробностями его болезни и смерти в рассказе «Молитва».
234 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 149.
Сноски к стр. 196
235 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 150.
Сноски к стр. 197
236 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 60.
237 Там же, стр. 49.
238 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 159.
239 Там же.
240 Там же, стр. 160.
Сноски к стр. 199
241 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 143—144.
242 Там же, стр. 125—126.
243 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 137—138.
Сноски к стр. 200
244 Трудно согласиться с редактором 17 тома Полного собрания сочинений В. Ф. Саводником, что церковнославянские обороты в составленном Толстым житии появились вследствие того, что Толстой не выдержал тона, «местами сбивался» с народного языка на церковнославянский (т. 17, 1936, стр. 618). Странно было бы думать, что Толстой, начав излагать для народа житие, вдруг почему-то «сбился» с тона и не совладал с народным языком, в то время как за два-три года до этого им были написаны прекрасным народным языком десятки рассказов для детей.
245 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 160—161.
246 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 61.
Сноски к стр. 201
247 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 142.
248 Там, же, стр. 154.
249 Там же, стр. 89.
250 Там же, стр. 118.
251 Там же, стр. 121.
252 Там же, стр. 128.
Сноски к стр. 203
253 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 60.
254 Там же, стр. 289.
255 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 379.
256 «Дневник Е. И. Раевской», запись от 9 июня 1892 г., «Летописи Гос. лит. музея», кн. 2, М., 1938, стр. 425.
257 «Грамматика для сельской школы» с обстоятельными комментариями В. С. Спиридонова была напечатана в «Ученых записках Гос. пед. ин-та им. Герцена», т. 2, Л., 1944 и перепечатана с комментариями того же автора в т. 21 Полного собрания сочинений, стр. 412—424, 517—543.
Сноски к стр. 204
258 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 120—121.
259 Там же, стр. 141—142.
260 Там же, стр. 92.
Сноски к стр. 205
261 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 51.
262 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 194.
263 Там же, стр. 121, 128.
Сноски к стр. 206
264 Н. Языков [Н. В. Шелгунов] Вперед или назад? «Дело», 1875, 9, стр. 1—25.
Сноски к стр. 207
265 С. Миропольский. Русские азбуки. «Народная школа», 1876, 2, стр. 6—18.
266 Н. Островская. «Новая азбука» гр. Л. Н. Толстого. «Учебно-воспитательная библиотека», 1875, т. I, ч. 1, стр. 191—206.
267 «Новая азбука Л. Н. Толстого». «Московские епархиальные ведомости», 28 августа 1875 г., № 34.
Сноски к стр. 208
268 «Граф Л. Н. Толстой как педагог и его „Новая азбука“». «Голос», 24 июля 1875 г., № 173.
269 Архив Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения за 1874 г., журн. № 200.
270 Ю. Битовт. Граф Л. Н. Толстой в литературе и искусстве. М., 1903, стр. 70—71.
271 Источником сказки «Три медведя» названа популярная французская сказка (публикация не указана). Между тем сказка с аналогичным сюжетом, очень близким к изложенному Толстым, имеется и в английском народном эпосе. Русский перевод дан в книге «Английские народные сказки». М., Гослитиздат, 1957, стр. 81—84, причем оформление сказки в печати произведено так же, как и у Толстого, — слова каждого из трех медведей даны особым шрифтом.
Сноски к стр. 209
272 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 170—171.
Сноски к стр. 210
273 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. XI. М., 1952, стр. 358.
274 Напечатано в т. 17 Полного собрания сочинений, 1936, стр. 337.
275 Напечатан там же, стр. 336.
276 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 191.
Сноски к стр. 211
277 «Литературное наследство», т. 37—38, М., 1939, стр. 269.
278 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 184.
279 Там же, стр. 197.
280 Там же, стр. 187.
Сноски к стр. 212
281 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 194—195.
282 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 35.
283 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 70. «Артист ведет длинную мелодию, соединенную из басовых и дискантовых нот, и оба голоса слышны одновременно» (И. А. Л. Н. Толстой в Уральске. — «Литературный вестник», 1904, 1, стр. 65).
Сноски к стр. 213
284 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 35.
285 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 199.
286 Там же, стр. 197.
287 Чрезвычайно характерно для Толстого-писателя это выражение «не пачкал сердца мыслями» — сердца, а не головы.
288 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 199.
Сноски к стр. 214
289 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 205—206, 217.
290 Там же, стр 202.
Сноски к стр. 215
291 Там же, стр. 211.
292 Там же, стр. 204.
293 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 106—107.
Сноски к стр. 216
294 Из первой редакции «Исповеди». Полное собрание сочинений, т. 23, 1957, стр. 494.
295 «Анна Каренина», ч. III, гл. XXXII.
296 Там же, ч. VIII, гл. IX.
297 «Исповедь», гл. IV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 12.
Сноски к стр. 217
298 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 7.
Сноски к стр. 218
299 Напечатано в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 135—136.
300 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 72—73.
301 Там же, стр. 130.
302 Там же, стр. 198.
Сноски к стр. 220
303 «Исповедь», гл. XI. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 41.
304 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 116.
305 «Исследование догматического богословия», гл. V. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 120.
Сноски к стр. 221
306 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 211.
307 Там же, стр. 7.
308 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 347, с опечаткой «ради» вместо «род».
Сноски к стр. 223
309 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 219—230.
310 Набросок последней части, имеющий обозначения глав цифрами 3, 4 и 5, напечатан в т. 17 Полного собрания сочинений, 1936, стр. 353—356, под данным редактором заглавием «О значении христианской религии».
Сноски к стр. 224
311 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 207.
312 Там же, стр. 209.
313 Толстой читал «Сборник сведений о кавказских горцах», издаваемый при Кавказском горном управлении, вып. 1, Тифлис, 1868.
314 Замечания на «Песни кавказских горцев», переложенные Фетом, Толстой сделал в письме к Фету 9 ноября (Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 216). «Песни» со стихотворным посвящением Толстому были напечатаны в январской книжке «Русского вестника» за 1876 год.
Сноски к стр. 225
315 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 216.
316 Там же, стр. 216.
317 Там же, стр. 259.
318 Там же, стр. 215.
319 Пометы Толстого в первом томе книги Вундта напечатаны в книге: «Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне», часть первая. М., 1958, стр. 143—144.
Сноски к стр. 226
320 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 338—339.
Сноски к стр. 227
321 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 219—230.
322 Там же, т. 47, стр. 88.
323 Там же, т. 62, стр. 248.
Сноски к стр. 228
324 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 256.
325 Статья напечатана в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 340—352.
Сноски к стр. 230
326 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 238.
327 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 73.
328 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 237.
329 Там же, стр. 247.
330 Там же, стр. 247—248.
Сноски к стр. 231
331 Там же, стр. 253.
332 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 79.
333 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 257.
334 Там же, стр. 258.
Сноски к стр. 232
335 «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 219—220.
336 «Красный архив», 1924, т. 7, стр. 250.
337 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 265.
338 Там же, стр. 266.
Сноски к стр. 233
339 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 80—81, 82.
Сноски к стр. 234
340 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 268—270.
341 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 83.
Сноски к стр. 235
342 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 249, 261.
343 Там же, стр. 266—267.
344 Письмо напечатано в т. 62 Полного собрания сочинений, стр. 243—245, с неверной датой: «января конец... февраля начало». Датируем письмо на основании упоминания о нем в письме Толстого к С. А. Толстой от 14 апреля 1876 г. (Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 224). Это письмо к С. А. Толстой, также недатированное, датируем на основании упоминания о нем в письме к А. П. Бобринскому, которое неизвестно, но в своем ответе Толстому от 1 мая Бобринский сообщал, что получил письмо Толстого от 14 апреля.
Сноски к стр. 237
345 Письмо Страхова от 8 апреля 1876 г. публикуется впервые. Оригинал — в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
346 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 266.
Сноски к стр. 238
347 Начало письма с неверной датой «сентябрь 1876 г.» напечатано в «Переписке Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 87.
348 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. IX.
Сноски к стр. 239
349 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 271—272.
350 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 83.
351 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 275.
Сноски к стр. 240
352 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 273.
353 Там же, стр. 278.
354 Там же.
355 Там же, стр. 280.
356 Там же, стр. 282.
Сноски к стр. 241
357 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 228.
358 Там же, стр. 231.
359 А. Алекторов. История Оренбургской губернии. Оренбург, 1883, стр. 120—123.
Сноски к стр. 242
360 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 286, 287.
361 И. Л. Толстой. Мои воспоминания, стр. 69.
362 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 290.
Сноски к стр. 243
363 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 287. — Тот же взгляд на добровольческое движение в пользу восставших сербов проводился в радикальном журнале «Слово». В напечатанной в этом журнале статье Л. Котелянского «Два дня» высказывалось мнение, что «патриотическое возбуждение 1876 года, вызванное балканскими событиями, коснулось только культурного слоя, а широкие массы остались глубоко равнодушны» («Слово», 1878, 12, стр. 2). По требованию цензуры статья Котелянского была целиком вырезана из журнала (В. Евгеньев-Максимов. Из прошлого русской журналистики. СПб., 1930, стр. 276).
364 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 288.
Сноски к стр. 244
365 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 290.
366 Там же.
367 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 36—37.
368 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 294, 295.
369 Там же, стр. 296.
Сноски к стр. 245
370 С. Я. Елпатьевский. Литературные воспоминания. Изд-во писателей в Москве, стр. 46.
371 П. И. Чайковский и Н. Ф. фон Мекк. Переписка, т. II. М., «Academia», 1935, стр. 63.
Сноски к стр. 246
372 М. Чайковский. Жизнь П. И. Чайковского. т. I. М., изд. Юргенсона, стр. 519.
373 Чайковский. Танеев. Письма. М., 1951, стр. 15.
374 П. И. Чайковский и Н. Ф. фон Мекк. Переписка. 1876—1878. М., «Academia», 1934, стр. 45.
375 П. И. Чайковский и Н. Ф. фон Мекк. Переписка, т. III. М., «Academia», 1936, стр. 226.
376 Д. П. Маковицкий. Неопубликованные «Яснополянские записки», запись от 26 апреля 1907 г.
377 С. Л. Толстой. Лев Толстой и Чайковский. «История русской музыки в исследованиях и материалах», т. I. М., 1924, стр. 114—124.
Сноски к стр. 247
378 Дневник П. И. Чайковского. Гос. изд-во, Музыкальный сектор, 1923, стр. 210—211.
379 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 297.
Сноски к стр. 248
380 М. Чайковский. Жизнь П. И. Чайковского, т. I, стр. 521—522.
Сноски к стр. 249
381 Н. И. Шатилов. Из недавнего прошлого. «Голос минувшего», 1916, 10, стр. 66—68.
382 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 97.
383 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., 1911, стр. 273.
384 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 99.
385 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 301.
Сноски к стр. 250
386 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 304.
387 Там же, стр. 307—308.
388 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 101—102.
389 Г. А. Захарьин, советами которого Толстой пользовался с 1867 года, глубоко уважал Толстого как писателя и как человека. 25 апреля 1877 года Захарьин писал Толстому: «Десять лет назад я оценил в вас не только первого из современных русских писателей, но и — еще не зная вас лично — человека, симпатии которого, хорошо видел, несмотря на всю великую объективность вашего творческого дарования, были там же, где и мои, сам пожелал узнать вас и стать настороже вашего здоровья» (Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 321).
Сноски к стр. 251
390 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 290.
391 Там же, стр. 301.
392 Там же, стр. 304.
393 Там же, стр. 308.
Сноски к стр. 252
394 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 37—38.
395 «Анна Каренина», ч. III, гл. XXIX; ч. VII, гл. III.
396 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 312, 314.
Сноски к стр. 253
397 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 107.
398 «Литературное наследство», т. 37—38, стр. 221, 223, 223—224.
399 Письмо к Фету от 21 октября 1869 г. Полное собрание сочинений, т. 61,стр. 220.
Сноски к стр. 254
400 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 272.
401 Там же, стр. 315—316.
402 Там же, стр. 316.
403 Там же, стр. 318.
Сноски к стр. 255
404 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 110.
405 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 323.
406 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 113—114.
407 Там же, стр. 116, 117.
408 Там же, стр. 117—118, с опечаткой «восставлен» вместо «восставал».
Сноски к стр. 256
409 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 308.
410 Там же, стр. 319.
411 Там же, стр. 310.
412 Там же, стр. 307.
413 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 38.
Сноски к стр. 257
414 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 320.
415 Там же, стр. 262.
416 Там же, стр. 326.
417 Там же, стр. 320.
418 Там же, стр. 323.
419 Там же, стр. 325.
420 Там же, стр. 326.
Сноски к стр. 258
421 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. XVI.
422 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 125—126.
423 Полное собрание сочинений, т. 20, 1939, стр. 637.
Сноски к стр. 259
424 Две черновые редакции письма Толстого в «Новое время» напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 62, стр. 329—331.
Сноски к стр. 260
425 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 642—643.
426 Там же, т. 62, стр. 333.
Сноски к стр. 261
1 Выдержки из черновых рукописей «Анны Карениной» напечатаны в т. 20 Юбилейного издания, стр. 1—573. Описания черновых рукописей романа, составленные Н. К. Гудзием, даны там же, стр. 644—676. Некоторые уточнения и дополнения в описаниях первых редакций «Анны Карениной» представлены в статье В. А. Жданова «Из истории создания романа „Анна Каренина“» («Яснополянский сборник. Год 1955». Тула, 1955, стр. 36—59) и в работе того же автора «Творческая история „Анны Карениной“». М., «Советский писатель», 1957, стр. 7—38. Тому же автору принадлежит описание черновых рукописей «Анны Карениной» в книге: «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого». Составители В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур, Е. С. Серебровская. М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 187—234, а также статья «К истории создания „Анны Карениной“». «Литературное наследство», т. 69, кн. первая, М., 1961, стр. 397—403.
2 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 23—46, вариант № 3.
Сноски к стр. 264
3 Следы воздействия отрывка Пушкина на первую и вторую редакции будущей «Анны Карениной» указаны в статье Н. К. Гудзия «История писания и печатания „Анны Карениной“». Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 584—585.
Сноски к стр. 265
4 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 67.
Сноски к стр. 266
5 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 14—20, вариант № 1 (начало новой редакции). Редакция, озаглавленная «Молодец баба», в Полном собрании сочинений разбита (ошибочно) на несколько вариантов, опубликованных каждый под особым номером. В цельном виде редакция напечатана в т. 69 «Литературного наследства», кн. первая, стр. 423—444, М., 1961 (реставрация В. А. Жданова).
6 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 3—5.
7 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 201—211, вариант № 37 (с позднейшими авторскими исправлениями, когда имя героини было изменено на Анна).
Сноски к стр. 268
8 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 255—264, варианты № 66—69 (с позднейшими авторскими исправлениями).
Сноски к стр. 270
9 «Анна Каренина», ч. IV, гл. III.
10 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 20—23, вариант № 2.
11 Напечатано там же, стр. 46—50, вариант № 4.
Сноски к стр. 271
12 Опубликована в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 79—86, вариант № 6.
13 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 25.
14 Установлено Б. М. Эйхенбаумом (Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960, стр. 201).
15 Факсимиле данной страницы черновых записей Толстого к «Анне Карениной» воспроизведено в книге «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», вклейка между стр. 192 и 193.
16 В рукописи 8 листов писчей бумаги; из четырех последних листов до написания текста была кем-то вырезана фигура куколки для детских игр. Против той части листа, из которой была вырезана головка куколки, рукою, быть может, гувернантки Толстых проставлена дата: «April, March. 8.27. 1873».
Сноски к стр. 272
17 Это выражение «все образуется», несомненно, было где-то услышано Толстым. Он употребил его в письме к жене, написанном из Тулы, по дороге в Москву, 10 ноября 1866 г. Убеждая ее не волноваться из-за разных житейских неурядиц, он писал: «Главное, как можно меньше предпринимай. И в случае чего, не торопись. Все образуется». (Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 115). И жена в ответном письме от 12 ноября, описывая затруднения с новой гувернанткой, в заключение повторила его слова: «Вероятно, все это образуется» (С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. «Academia», 1936, стр. 67).
18 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 143—145, зачеркнутый текст.
19 Там же, стр. 145—150 (преимущественно зачеркнутый текст).
Сноски к стр. 273
20 Напечатано в т. 20 Полного собрания сочинений, стр. 51—79, вариант № 5.
Сноски к стр. 274
21 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 60.
Сноски к стр. 277
22 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 155—162, вариант № 25 (более поздняя редакция).
23 Там же, стр. 163.
Сноски к стр. 278
24 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 145—149, вариант № 2.
25 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 7—9, вариант № 4.
Сноски к стр. 281
26 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 86—92, вариант № 8.
27 Там же, стр. 89.
Сноски к стр. 282
28 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 95.
29 Там же, стр. 114.
30 «Анна Каренина», ч. I, гл. V.
31 «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 570.
Сноски к стр. 283
33 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, стр. 322. Далее Т. А. Кузминская пишет: «Прочитав в начале романа описание Облонского за утренним кофе, Василий Степанович говорил Льву Николаевичу: «Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал!» Эти слова насмешили Льва Николаевича».
34 В. К. Истомин. На закате. Рукопись, стр. 143—144. Отдел Рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
35 С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 570.
Сноски к стр. 284
36 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 107.
37 Там же, стр. 194.
Сноски к стр. 285
38 Выдержки из этих глав напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 329—341.
Сноски к стр. 286
39 Толстой знал этот роман Дюма и находил, что в нем глубоко поставлен вопрос о браке. 1 марта 1873 г. он писал Т. А. Кузминской: «Прочла ли ты «L’homme — femme»? Меня поразила эта книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отношения мужчины к женщине» (Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 11).
40 Фамилия указывает, что прототипом послужил писатель С. А. Юрьев, с 1872 г. издававший журнал «Беседа», в котором Толстой напечатал рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет». Юрьев познакомился с Толстым в 1871 г. Что действительно Юрьев послужил прототипом выведенного в этом варианте студента, подтверждается записью Толстого планового характера на полях данной рукописи: «Анненков и Юрьев о правах женщин» (Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 337). П. В. Анненков в романе выведен не был.
Сноски к стр. 287
41 Позднее, в 1891—1893 гг., Толстой, проживая в имении И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии, устраивал в окрестных деревнях столовые для голодающих крестьян.
42 Полное собрание сочинений, т. 29, 1954, стр. 262.
43 Н. К. Гудзий. История писания и печатания «Анны Карениной». Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 600.
44 Тем самым устраняется и затруднение Н. К. Гудзия, недоумевавшего относительно того, что «ниоткуда из этого варианта не видно, чтобы Кити и Ровский когда-либо ранее встречались, тем более чтобы этой встрече предшествовало неудачное предложение, что имеет место в отношениях Левина (Ордынцева) к Кити, как эти отношения описаны еще в предшествующих черновых набросках» (Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 600).
Сноски к стр. 288
45 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 343—350, вариант № 101.
46 Только разговорами в Ясной Поляне о романе Дюма можно объяснить письмо Софьи Андреевны к А. А. Толстой об отношении Толстого к семье, написанное в 1876 г. и вызванное, очевидно, протестом А. А. Толстой против изгнания Васеньки Весловского. «Весь принцип его романа, — писала Софья Андреевна об «Анне Карениной», — семья и семья. Ради этого он не делает никаких уступок. Если для спокойствия семьи нужно выгнать Васеньку Весловского или убить кого-нибудь, он ни перед чем не остановится» (В. Жданов. Творческая история «Анны Карениной». М., 1957, стр. 247—248).
Сноски к стр. 289
47 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 353, вариант № 104.
48 Там же, стр. 479, вариант № 155.
49 Там же, стр. 356—369, вариант № 106 (с позднейшими исправлениями).
50 Там же, стр. 369—371, вариант № 107.
Сноски к стр. 290
51 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 454—479, варианты № 153 и 154.
Сноски к стр. 291
52 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 371—374.
Сноски к стр. 292
53 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 374—380, вариант № 107.
Сноски к стр. 293
54 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 379.
Сноски к стр. 295
55 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 50.
Сноски к стр. 296
56 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 92, вариант № 8.
57 Там же, стр. 96 и следующие.
Сноски к стр. 298
58 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 107.
59 Полное собрание сочинений, т. 46, 1937, стр. 182.
Сноски к стр. 299
60 А. Д. Оболенский. Две встречи с Л. Н. Толстым («Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 3. М., 1923, стр. 34—35).
61 Полное собрание сочинений, т. 30, 1951, стр. 18—19.
Сноски к стр. 300
62 «Письма Толстого и к Толстому». М., 1928, стр. 224.
63 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 377.
64 «Письма Толстого и к Толстому», стр. 226.
65 В ответ на второе письмо Рачинского Толстой вскоре писал ему: «Виноват, я не так вас понял: теперь понял и согласен; хотя ваше замечание об архитектуре и неопределенно, скорее тонко, но я понял его и постараюсь последовать вашему указанию, если будет случай...» (Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 517). Толстой, следовательно, все-таки не признал в построении «Анны Карениной» того недостатка, о котором писал ему Рачинский, и согласился с его мнением лишь с большими оговорками и, видимо, просто, чтобы прекратить спор.
Сноски к стр. 301
66 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 37.
67 Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» (стр. 464—465) рассказывает, что в конце 1860-х годов в Туле на вечере у генерала Тулубьева Толстой встретил дочь Пушкина Марию Александровну Гартунг. Он обратил внимание на ее «арабские завитки на затылке». По словам Т. А. Кузминской, М. А. Гартунг «послужила ему типом Анны Карениной — не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это». Портрет М. А. Гартунг работы художника И. К. Макарова находится в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.
Сноски к стр. 302
68 «Анна Каренина», ч. III, гл. XV.
69 Там же, ч. I, гл. XXIII.
Сноски к стр. 304
70 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 139.
71 «Анна Каренина», ч. II, гл. XXIII.
Сноски к стр. 305
72 «Анна Каренина», ч. II, гл. XXVI.
73 С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 569.
74 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 64.
75 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 109, комментарии П. С. Попова. В воспоминаниях Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» (стр. 189—190) напечатано письмо Кузминского к ее матери от 6 мая 1863 г., по своему тону очень напоминающее обращение Каренина с женой до разрыва отношений.
Сноски к стр. 307
76 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 5.
77 Фамилия «Вронский», быть может, произведена от «Вревский». Одного из баронов Вревских Толстой знал (см. Ю. О. Якубовский. Л. Н. Толстой и его друзья. В книге: «Толстовский ежегодник 1913 года». СПб., 1913, стр. 23).
78 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 486.
Сноски к стр. 308
79 «Анна Каренина», ч. I, гл. XXXIV.
80 Там же, ч. III, гл. XX.
81 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 139.
Сноски к стр. 309
82 Сохранилось интересное воспоминание о том, как Толстой не согласился встретиться с генералом Скобелевым. «Лев Николаевич, — писал в своих воспоминаниях Д. Д. Оболенский, — разрешил мне знакомить с ним моих друзей без предварительных извещений и церемоний. Я пользовался очень осторожно этим исключительным правом. И только раз Лев Николаевич мне предъявил отвод и именно в отношении человека, про которого Лев Николаевич знал, что я очень его люблю и высоко ценю, и с которым мне хотелось познакомить графа. Это был Михаил Дмитриевич Скобелев.
Совпало это с тем временем, когда Лев Николаевич уже начинал говорить и писать против войны, считая ее величайшим грехом. А потому, вероятно, и Скобелев, живший мыслями о войне и жаждавший войны, представлялся Льву Николаевичу чем-то кровожадным» (Д. Д. Оболенский. Отрывки. «Международный Толстовский альманах», составленный П. А. Сергеенко. М., 1909, стр. 244).
Сноски к стр. 312
83 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 269.
Сноски к стр. 313
84 «Анна Каренина», ч. V, гл. XXI.
85 Там же, гл. XXIV.
Сноски к стр. 314
86 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 401.
Сноски к стр. 315
87 «Анна Каренина» ч. II, гл. XVIII.
Сноски к стр. 317
88 «Анна Каренина», ч. VI, гл. XXIII. Такое соединение двух противоположных определений в характеристике одного и того же лица («милый» и «отвратительный») вполне в духе нравственной философии Толстого, его теории «текучести человека» и в духе его общего отношения к людям. Свое неотосланное письмо от 31 июля 1893 г. к дочери Марии Львовне, уехавшей к близкой Толстому по взглядам Л. Ф. Анненковой, Толстой начал словами: «Как ты доехала и как себя чувствуешь, милая гадкая Маша?» И в конце письма: «Не милую гадкую, а милую хорошую Леонилу Фоминичну приветствуй за меня и благодари» (Полное собрание сочинений, т. 66, стр. 373, 374). Поводом к написанию этого письма послужило непродолжительное увлечение Марии Львовны учителем музыки Н. А. Зандером, которому Толстой не сочувствовал, видя в этом увлечении какую-то «уродливую выходку».
Сноски к стр. 321
89 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 116, 130—131.
Сноски к стр. 323
90 Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. Полное собрание сочинений, т. 11. СПб., 1895, стр. 250.
91 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 343.
Сноски к стр. 324
92 «Анна Каренина», ч. I, гл. V.
93 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. Музея Л. Н. Толстого.
94 В. Д. Малахиева-Мирович. В Ясной Поляне. Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., Изд-во «Златоцвет», 1911, стр. 167.
95 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 110.
96 Там же, стр. 120—121.
97 «Анна Каренина», ч. I, гл. V. Суждение Левина о земстве очень близко подходит к мнениям о земстве и его руководителях в статье П. Засодимского «Земский принцип и практическое его приложение», напечатанной в № 12 радикального журнала «Слово» за 1879 г. Эти страницы статьи Засодимского были вырезаны по требованию цензуры и сохранились в экземпляре книжки журнала, хранящемся в фондах архива III Отделения. По мнению Засодимского, «земство в данной момент является чисто классовым учреждением, так как находится в руках помещиков, не гнушающихся никакими средствами для достижения узкосословных, семейных, эгоистических целей». Земскими делами руководят «те господа, которые уже давным давно проели и пропили и свои выкупные свидетельства, и ссуды поземельных банков, и залоги и перезалоги своего движимого и недвижимого имущества», «люди с пустыми карманами и пустыми желудками, но с прежними барскими свычаями и обычаями и с обрывками point d’honneur’a [чувства чести]. Понятно, что эти полуголодные джентльмены должны посматривать на земство как на дойную корову, которую угодно было провидению ниспослать в мир специально для поправления их финансов». Неудивительно при таких условиях, что нынешние земства враждебны делу народного образования и, вопреки утверждениям либералов, стоят «за невежество, за мрак, за мутную воду, которая, как известно, является необходимым условием для более успешной ловли рыбы» (В. Евгеньев-Максимов. Из прошлого русской журналистики. Издательство писателей в Ленинграде, 1930, стр. 277—278).
Сноски к стр. 325
98 «Анна Каренина», ч. III, гл. I.
99 Там же.
100 Там же, гл. XXVIII.
101 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 128.
Сноски к стр. 326
102 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 131.
103 Там же, стр. 135. В черновых рукописях второй части Толстой еще раз мимоходом касается вопроса о благотворительности. Находясь с семьей за границей, старый князь Щербацкий по поводу деятельности богатых светских дам в Германии и Англии говорит, что благотворительницы эти занимаются тем, что «одной рукой отнимают, а другой подают» и что «в Англии нарочно делают poors [бедных], чтоб было для кого собирать жертвы» (Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 243).
104 «Анна Каренина», ч. VI, гл. VIII.
105 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 216.
Сноски к стр. 327
106 «Анна Каренина», ч. VII, гл. II.
107 Там же, ч. VI, гл. XI.
108 Там же, ч. I, гл. XXVI.
109 Там же, ч. VIII, гл. XI.
110 Там же, ч. III, гл. II.
111 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 249.
112 Там же, т. 48, стр. 25.
113 «Анна Каренина», ч. III, гл. XII.
Сноски к стр. 328
114 «Анна Каренина», ч. III, гл. XXIV.
115 Там же, гл. XXIX.
116 Там же, гл. XXX.
117 Профессор В. М. Штейн в своей книге «Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX—XX веков» (Л., 1948, стр. 254) пишет, что «ассоциационные увлечения 70-х годов нашли замечательный рупор в романе Льва Толстого «Анна Каренина». Наш великий писатель сумел чутко отразить черты отмирающего просветительства, подчеркнув их с особенной силой в проблеме земледельческой ассоциации. В лице Левина мы можем без труда распознать одного из последних могикан просветительства». Но не следует забывать, что в романе описан опыт устройства самим автором производительной ассоциации в своей Ясной Поляне, относящийся не к 70-м годам, а к 1859 г. (см. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, стр. 302—306).
Сноски к стр. 329
118 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. X.
119 Там же, ч. V, гл. XV.
120 Там же, ч. IV, гл. VII.
121 Там же, ч. V, гл. XV.
122 В автографе Толстого последнее слово было написано, разумеется, полностью. С. А. Толстая, переписывавшая рукопись, вместо слова «стервы» написала «с....»; при печатании романа в «Русском вестнике» и эта единственная оставшаяся от слова буква была выкинута, и осталось только четыре точки. Так это и перепечатывалось во всех последующих изданиях. Конечно, такое «жеманство» в языке (по выражению Пушкина) было совершенно несвойственно Толстому, — вспомним «Власть тьмы» и «Воскресение». В изданиях «Анны Карениной» следует полностью восстановить это слово, как оно было написано автором.
123 «Анна Каренина», ч. I, гл. XXVII.
Сноски к стр. 330
124 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 55.
125 «Анна Каренина», ч. IV, гл. XV.
126 Там же, ч. V, гл. XIV.
127 Там же, гл. XVI.
Сноски к стр. 331
128 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 481, вариант № 156.
129 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. IX.
130 «Воскресение», ч. II, гл. XLI.
131 «Анна Каренина», ч. VII, гл. I. В дневнике Толстого под 16 сентября 1864 г. записано: «Мы... ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно» (Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 58).
132 «Анна Каренина», ч. V, гл. XIV. Невольно вспоминается письмо на ту же тему, написанное Толстым 7 июня 1896 г. его только что женившемуся сыну Льву Львовичу.
«Смотрите, не ссорьтесь. Всякое слово, произнесенное друг другу недовольным тоном, взгляд недобрый — событие очень важное» (Полное собрание сочинений, т. 69, 1954, стр. 104).
Сноски к стр. 332
133 «Анна Каренина», ч. VI, гл. III.
134 Там же, ч. VII, гл. XIII, XV.
135 Там же, гл. XVI. Описание родов Кити использовалось специалистами в их работах для иллюстрации душевного состояния женщины во время родов. «Несколькими простыми, но гениальными словами Толстой дает нам понять, что испытывает душа женщины в момент, когда начинается рождение ее ребенка», — писал М. А. Колосов в книге «Рождение человека» (М., 1914, стр. 14).
Сноски к стр. 333
136 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 282.
137 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 322.
138 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 283—284.
139 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, стр. 215—216. В другом месте той же книги (стр. 266) Т. А. Кузминская рассказывает, что вторично Лев Николаевич так же поступил со своим знакомым Р. А. Писаревым, ухаживавшим за Софьей Андреевной. Однако С. Л. Толстой сомневается в достоверности этого рассказа (С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». «Литературное наследство», т. 37—38, стр. 584).
Сноски к стр. 335
140 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 170.
141 Там же, т. 61, стр. 262.
142 Эта часть рассуждений Николая Левина, близко подходящая к взглядам Толстого, изложенным в «Сказке», приведена выше, на стр. 217.
143 Глава напечатана в Полном собрании сочинений, т. 20, стр. 174—179, вариант № 29.
Сноски к стр. 336
144 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 178—179.
Сноски к стр. 337
145 «Анна Каренина», ч. III, гл. I.
146 Там же, ч. I, гл. XXIV—XXV.
147 Там же, ч. V, гл. XIX.
148 Там же, ч. I, гл. V.
Сноски к стр. 338
149 «Анна Каренина», ч. I, гл. III.
150 Там же, гл. XIX.
Сноски к стр. 339
151 «Анна Каренина», ч. III, гл. VII и VIII.
152 Там же, гл. XI и XXI.
153 О «материалистичности» женщин вообще Толстой записал в дневнике 29 мая 1895 г.: «Ныне царство матерьялизма, т. е. женщин и врачей» (Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 34). Под «матерьялизмом» в этой записи Толстой разумел, конечно, не философское направление, а преобладание в жизни материальных интересов.
Сноски к стр. 340
154 12 ноября 1856 г. Толстой писал В. А. Арсеньевой: «Во всяком случае, ради истинного бога, памяти вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас — будьте искренни со мной, совершенно искренни, не позволяйте себе увлекаться» (Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 110).
155 «Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой?... Мне страшно будет услышать нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней» (Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 17).
Сноски к стр. 342
156 Ф. В. Буслаев. Корреспонденты Л. Н. Толстого. М., Соцэкгиз, 1940, стр. 166.
157 «Литературное наследство», т. 37—38, стр. 234.
Сноски к стр. 343
158 Это изречение впервые появилось в древнееврейской книге «Второзаконие» и позднее было повторено апостолом Павлом в его «Послании к римлянам» (гл. II и XII): «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же... Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу божию. Ибо написано: «Мне отмщение, и Аз воздам», — говорит господь».
159 Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Перевод А. Фета, изд. 3. М., 1892, стр. 426.
Сноски к стр. 344
160 Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление, стр. 438.
161 Полное собрание сочинений, т. 41, 1957, стр. 398.
162 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. IV.
163 Там же, ч. VI, гл. XIX.
164 Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 235.
Сноски к стр. 345
165 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 100.
166 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 189.
167 «Анна Каренина», ч. VI, гл. XXIX.
Сноски к стр. 346
168 «Анна Каренина», ч. VI, гл. XXIX. Весь сюжет «Вишневого сада» Чехова уже намечен в этом разговоре Левина с помещиком.
169 Там же.
Сноски к стр. 348
170 «Анна Каренина», ч. VII, гл. XVII.
171 Там же, ч. VI, гл. XI.
172 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 296—302, варианты 79—80.
Сноски к стр. 349
173 «Анна Каренина», ч. VII, гл. XX.
174 Там же, гл. XX.
175 Там же, ч. III, гл. XIV.
176 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 270.
Сноски к стр. 350
177 «Анна Каренина», ч. III, гл. XVII.
178 Там же, ч. II, гл. VI.
Сноски к стр. 351
179 «Анна Каренина», ч. VII, гл. XX.
180 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 298—299.
181 «Анна Каренина» ч. III, гл. XVIII.
Сноски к стр. 352
182 «Анна Каренина», ч. VII, гл. XX.
183 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 296, 281.
184 «Анна Каренина», ч. II, гл. XIX.
185 Полное собрание сочинений, т. 19, 1935, стр. 429.
186 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 115. «Художественное произведение, — писал Тургенев Суворину 2 (14) февраля 1875 г., — если оно удалось, злее самой злой сатиры» (И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 11, М., 1949, стр. 295).
Сноски к стр. 353
187 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. XI.
188 Там же, ч. III, гл. V—VI.
189 Нарисованная Толстым картина сенокоса была написана им уже в первой редакции романа очень близко к окончательному тексту (см. рук. 37, л. 4, 7 об. — 11).
Сноски к стр. 354
190 «Анна Каренина», ч. III, гл. XII. Напрашивается аналогия с превосходной картиной мощного трудового подъема при разгрузке барж, нарисованной Горьким в «Фоме Гордееве», когда и сам хозяин Фома под влиянием общего возбуждения бросается ворочать рычаг. «Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком». По окончании работы «веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его... Возбуждение еще не остыло в нем и не позволяло ему понять, что случилось и отчего все вокруг так радостны и довольны» («Фома Гордеев», гл. IX).
191 «Анна Каренина», ч. III, гл. XII.
192 «На днях я шел домой с прогулки в подавленном состоянии духа. Подходя к дому, я услыхал громкое пение большого хоровода баб. Они приветствовали, величали вышедшую замуж и приехавшую мою дочь. В пении этом с криками и битьем в косу выражалось такое определенное чувство радости, бодрости, энергии, что я сам не заметил, как заразился этим чувством, и бодрее пошел к дому и подошел к нему совсем бодрый и веселый» («Что такое искусство?», гл. XIV).
Сноски к стр. 355
193 «Анна Каренина», ч. II, гл. XII. Говоря об отношении автора «Анны Карениной» к народу, нельзя не заметить также, что Толстой в этом романе наглядно показал преимущество трудового народа перед людьми привилегированных классов на примере слуг и господ. Попадая в трудные условия жизни, господа чувствуют себя совершенно беспомощными. Так было с Долли, когда она пришла в отчаяние, переехав на лето в их пустой, неустроенный деревенский дом. Дом этот привело в порядок «одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо» — прислуживавшая Долли простая женщина, Матрена Филимоновна. Таким же «полезнейшим и нужнейшим лицом» в доме Каренина оказался его камердинер Корней, который после отъезда Анны, совершенно нарушившего весь привычный строй жизни Каренина, ежедневно во время одевания барина докладывал ему о всех делах, требовавших каких-либо распоряжений.
Вообще слуги в «Анне Карениной» принимают ближайшее участие в жизни господ, и характеристики господ, как и в «Войне и мире», иногда даются суждениями слуг. Так, о скупости Вронского Долли узнает от возившего ее к нему кучера и сопровождавшего ее приказчика и пр.
Сноски к стр. 356
194 «Анна Каренина», ч. V, гл. XXVII.
195 Там же, ч. VII, гл. IV.
196 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 412, 413.
Сноски к стр. 357
197 Книга К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», вышедшая в двух томах в 1867—1869 гг.
198 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 276.
199 «Анна Каренина», ч. IV, гл. XI; Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 345.
200 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 235—236.
Сноски к стр. 358
201 «Анна Каренина», ч. I, гл. XIV.
202 Там же, ч. VII, гл. XXII.
203 Н. И. Шатилов. Из недавнего прошлого. «Голос минувшего», 1916, 10, стр. 68.
Сноски к стр. 360
204 «Анна Каренина», ч. VII, гл. IX.
Сноски к стр. 361
205 Статья «О Гоголе». Полное собрание сочинений, т. 38, 1936, стр. 60.
206 Письмо к Л. Л. Толстому 4 сентября 1895 г. Полное собрание сочинений, т. 68, стр. 158.
207 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 250.
208 Учитель детей Толстого в 1880—1881 гг. И. М. Ивакин в своих записках, написанных в 1905 г., дал такую характеристику Толстого-художника: «Он был до крайности и любознателен и любопытен. Вернее сказать, он обладал неутолимым художественным аппетитом. Он вечно инстинктивно высматривал пищу для творчества, вечно искал и находил интересных людей. Изучит и проглотит одного, смотришь — на смену ему есть уже другой» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, М., 1961, стр. 38).
209 «И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка», т. II. М. — Л., «Искусство», 1949, стр. 29.
Сноски к стр. 362
210 Проф. Н. Г. Машковцев. И. Н. Крамской. М., «Искусство», 1947, стр. 29—30.
211 «Анна Каренина», ч. VII, гл. V.
Сноски к стр. 363
212 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 172.
213 Там же, т. 62, стр. 203.
Сноски к стр. 364
214 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 377.
215 Последняя часть романа Толстого появилась отдельным изданием под заглавием «Анна Каренина Часть 8-я». Под таким заглавием она была перепечатана и в первом отдельном издании романа 1878 г. и во всех после дующих изданиях. Между тем Толстой в письмах к Страхову, Фету и Каткову неизменно называл окончание своего романа эпилогом. Название «8-я часть» появилось в печати только оттого, что окончание «Анны Карениной» вышло отдельной книжкой и называть его эпилогом было бы неудобно.
Сноски к стр. 365
216 К. Леонтьев. О романах Л. Н. Толстого. М., 1911, стр. 11.
217 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 257.
Сноски к стр. 367
218 М. Шишкин. Л. Н. Толстой в памяти голицынских крестьян, «Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 97.
219 Д. Д. Оболенский. Отрывки. «Международный толстовский альманах», составленный П. А. Сергеенко. М., 1909, стр. 244.
220 Кроме указанной выше статьи С. Л. Толстого «Об отражении жизни в романе „Анна Каренина“», связь содержания романа Толстого с современными общественно-политическими событиями прослежена в примечаниях В. Ф. Саводника к изданию «Анны Карениной», выпущенному Государственным издательством в 1928 г.
Сноски к стр. 368
221 «Анна Каренина», рукопись 103 (наборная), л. 48 об. Публикуется впервые.
Сноски к стр. 369
1 «Московские ведомости», 1875, № 49.
Сноски к стр. 370
2 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб., 1914, стр. 116.
Сноски к стр. 371
3 X. Y. Z. [В. В. Чуйко]. Очерки литературы. Роман гр. Л. Толстого: «Анна Каренина». «Голос», 1875, № 37.
Сноски к стр. 372
4 Sine Ira [Вс. С. Соловьев]. Наши журналы. «С.-Петербургские ведомости», 1875, № 39.
5 «Новости», 1875, № 65.
Сноски к стр. 373
6 Амуров. Новости журнальной литературы. «Астраханский справочный листок», 1875, № 33.
Сноски к стр. 374
7 X. Y. Z [В. В. Чуйко]. Очерки литературы. «Голос», 1875, № 72.
Сноски к стр. 376
8 Sine Ira [Вс. С. Соловьев]. Наши журналы. «С.-Петербургские ведомости», 1875, № 65.
9 X. Y. Z. [В. В. Чуйко]. Очерки литературы, «Голос», 1875, № 105.
Сноски к стр. 377
10 Sine Ira [Вс. С. Соловьев]. Наши журналы. «С.-Петербургские ведомости», 1875, № 105.
11 М. В. Новости русской литературы. «Новости», 1875, № 134.
Сноски к стр. 378
12 А. О. [В. Г. Авсеенко]. Очерки текущей литературы. «Русский мир», 1875, № 34 и 69.
Сноски к стр. 379
13 А. [В. Г. Авсеенко]. По поводу нового романа графа Толстого. «Русский вестник», 1875, 5, стр. 408.
14 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб., 1914, стр. 68.
15 Там же, стр. 76.
Сноски к стр. 380
16 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I. СПб., 1900, стр. 201—202.
17 Незнакомец [А. Суворин]. Очерки и картинки, кн. I. СПб., 1875, 3-я пагинация, стр. 21—22.
Сноски к стр. 381
18 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I, стр. 210—211.
19 Z. Z. Z. Литературные и общественные заметки. «Одесский вестник», 1875, № 69.
20 Это — прямой намек на цитированную выше статью Суворина.
21 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 268—269.
22 X. Y. Z. [В. В. Чуйко]. Очерки литературы. «Голос», 1875, № 105.
Сноски к стр. 383
23 П. Никитин [П. Ткачев]. Критический фельетон. «Дело», 1875, № 5.
Сноски к стр. 384
24 «Московские ведомости», 1875, № 180.
25 «Текущая жизнь». «Гражданин», 1875, № 23.
26 Это письмо см. ниже. стр. 419.
Сноски к стр. 385
27 Заурядный читатель [А. М. Скабичевский]. Мысли по поводу текущей литературы, «Биржевые ведомости», 1875, № 42 и 77.
Сноски к стр. 386
28 Заурядный читатель [А. М. Скабичевский]. Мысли по поводу текущей литературы, «Биржевые ведомости», 1875, № 104.
Сноски к стр. 387
29 П. В-б-ъ [П. И. Вейнберг]. Русская журналистика. «Пчела», 1876, № 1.
30 Н. Соловьев. Чем обогатилась в 1876 году русская пресса. «Русское богатство», 20 января 1876 г., № 3, стр. 39.
Сноски к стр. 388
31 А. [В. Г. Авсеенко]. Литературное обозрение. «Русский вестник», 1676, № 1.
Сноски к стр. 389
32 P. «Athenaeum» о русской литературе в 1875 г. «Московские ведомости», 1876, № 68; «Англичанин о русской литературе». «Русский мир», 1876, № 84.
Сноски к стр. 390
33 И-н [А. С. Суворин]. «Анна Каренина». «Русские ведомости». 1876, № 43.
Сноски к стр. 391
34 Вс. С[оловье]в. Современная литература. «Русский мир», 1876, № 46.
Сноски к стр. 392
35 «Литература и журнализм». «Молва», 1876, № 12.
36 «Анна Каренина». «Гражданин», 1876, № 11.
37 Эпиграмма была напечатана без указания имени автора в «Недельных картинках» Незнакомца [А. С. Суворина] — «Новое время», 21 марта 1876 г., № 22. Принадлежность эпиграммы Некрасову была установлена позднее.
38 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. 2. М., 1948, стр. 776 (комментарии).
Сноски к стр. 393
39 IV. Литературная летопись. «Голос», 1877, № 13.
Сноски к стр. 394
40 Литературная летопись. «Голос», 1877, № 41.
41 IV. Литературная летопись. «Голос», 1877, № 69.
42 Письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 5 апреля 1877 г. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 318.
Сноски к стр. 395
43 IV. Литературная летопись. «Голос», 1877, № 95.
44 В книге: И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. III. М., 1958, стр. 339, находим указание, что буквой W подписывался в «Русском мире» С. А. Венгеров. Это указание сомнительно.
Сноски к стр. 396
45 W. Литературное обозрение. «Русский мир», 1877, № 28.
46 В. Оль. Русская периодическая литература. «Гражданин», 1877, № 4.
47 W. Литературное обозрение. «Русский мир», 1877, № 48.
Сноски к стр. 397
48 W. Литературное обозрение. «Русский мир», 1877, № 69.
49 По поводу этой статьи Н. Н. Страхов писал Толстому 16 марта 1877 г.: «Вам досталось за выборы; как они чутки и обидчивы — удивительно!» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 109).
50 W. Литературное обозрение. «Русский мир», 1877, № 101.
Сноски к стр. 398
51 W. Литературное обозрение. «Русский мир», 1877, № 129.
52 W. Новости русской беллетристики. «Северный вестник», 1877, № 10.
Сноски к стр. 399
53 Тор [В. П. Буренин]. Литературные очерки. «Новое время», 1877, № 323.
54 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 105.
55 Тор [В. П. Буренин]. Литературные очерки. «Новое время», 1877, № 390.
56 IV. Литературная летопись. «Голос», 1877, № 95.
Сноски к стр. 400
57 А. С[уворин]. Литературные очерки. «Новое время», 1877, № 432.
58 Один из ваших читателей [В. В. Стасов]. По поводу гр. Льва Толстого (письмо в редакцию). «Новое время», 1877, № 434.
Сноски к стр. 402
59 «Отечественные записки», 1877, 8, стр. 264—269.
Сноски к стр. 403
60 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 130.
61 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 343.
62 Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения. М., 1927, стр. 261.
Сноски к стр. 404
63 Достоевский. Письма, т. III. М. — Л., «Academia», 1934, стр. 148, 150, 182.
64 Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. XI. СПб., 1895, стр. 27.
65 Там же, стр. 57—58.
Сноски к стр. 405
66 Там же, стр. 63—64, 65.
Сноски к стр. 406
67 Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. XI, стр. 238, 244—245, 247, 248—249.
68 Там же, стр. 254—276.
69 «Новое время», 1877, № 539.
70 «Современные известия», 26 сентября 1877 г., № 265, передовая статья.
Сноски к стр. 407
71 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 339.
72 Там же, стр. 340.
73 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, стр. 332.
74 Было напечатано в «Литературном наследстве», т. 37—38, 1939, стр. 231—238.
Сноски к стр. 408
75 Свое сочувствие типу Левина Фет в письме к Толстому от 3 мая 1876 г. выразил в следующих словах: «Для меня главный смысл в «Карениной» — нравственно свободная высота Левина». («Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, стр. 319—320).
Сноски к стр. 409
76 L. V. Русские журналы. «Современные известия», 1877, № 239.
77 «Голос», 1877, № 301.
Сноски к стр. 411
78 «Голос», 1877, № 308.
Сноски к стр. 413
79 П. Никитин [П. Н. Ткачев]. Салонное художество. «Дело», 1878, № 2, стр. 346—368, № 4, стр. 283—326.
80 Е. Марков. Литературная летопись. «Голос», 1878, № 163.
81 М. А. Антонович. Современное состояние литературы. «Слово», 1878, 1. стр. 1—25.
Сноски к стр. 414
82 Б. Д. П. [П. Д. Боборыкин]. Мотивы и приемы русской беллетристики. «Слово», 1878, 2, стр. 48—62.
83 П. Боборыкин. Толстой-вероучитель. «На чужой стороне», XIII, Прага, 1925, стр. 35.
Сноски к стр. 415
84 А. Станкевич. Каренина и Левин. «Вестник Европы», 1878, 4, стр. 784—820.
Сноски к стр. 416
85 Е. Марков. Литературная летопись. «Голос», 1878, № 136.
86 А. Станкевич. Каренина и Левин. «Вестник Европы», 1878, 5, стр. 172—193.
87 NN. Журнальное обозрение. «Русская газета», 1878, № 108.
Сноски к стр. 417
88 Вано. «Анна Каренина» Толстого в социальном и педагогическом отношениях. «Свет», 1879, № 9—12.
89 «Русское богатство», 1880, 1, стр. 1—34.
Сноски к стр. 418
90 «Русская музыкальная газета», 1916, 41, стр. 739.
91 «Литературный архив», 3, Изд-во АН СССР, 1951, стр. 244.
Сноски к стр. 419
92 П. И. Чайковский. Письма к близким. М., 1955, стр. 125 и 279.
93 Н. С. Лесков. Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1958, стр. 380 и 395.
Сноски к стр. 420
94 Письма Салтыкова-Щедрина от 9 марта и 2 декабря 1875 г. напечатаны в издании: М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. Л., Государственное издательство. 1925, стр. 76 и 111.
94а Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. 13. М., 1951, стр. 216.
Сноски к стр. 421
95 Альманах «Недра», кн. 4, М., 1924, стр. 293.
96 «Красный архив», 1929, т. I, стр. 206.
97 «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под редакцией М. К. Лемке, т. III. СПб., 1912, стр. 53.
98 «Литературный архив», 4, Изд-во АН СССР, М. — Л., стр. 238
99 Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1884, стр. 257 и 260.
Сноски к стр. 422
100 «Щукинский сборник», вып. V, М., 1906, стр. 478.
101 «Печать и революция», 1922, 2, стр. 100.
102 Х. Алчевская. Передуманное и пережитое. М., 1912, стр. 96.
103 Н. Я. Стечькин. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе. М., 1903, стр. 8.
Сноски к стр. 423
104 М. М. Ковалевский. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе. «Минувшие годы», 1908, 8, стр. 14. Разумеется, невозможно представить, чтобы Тургенев говорил о свидании Анны Карениной «с ее детьми»; эту неточность, конечно, нужно целиком записать за мемуаристом.
105 «Северный вестник», 1896, 11, стр. 148.
106 Первое собрание писем И. С. Тургенева, стр. 381.
107 Позднее был выпущен отдельно издательством «Посредник» и выдержал шесть изданий.
Сноски к стр. 424
108 Полное собрание сочинений, т. 63, 1934, стр. 129, 136.
109 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.). «Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 56.
110 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959, стр. 63, запись от 29 апреля 1900 г.
Сноски к стр. 425
111 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 137—138 (письмо напечатано здесь с неверной датой: 24—27 марта 1877 г.).
Сноски к стр. 429
112 Эта статья Страхова помещена в его сборнике: «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом», изд. 2-е. СПб., 1887, стр. 419—457.
Сноски к стр. 430
1 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 445.
Сноски к стр. 431
2 «Исповедь», гл. III и IV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 10—12.
3 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. XII.
4 Там же, гл. VIII.
5 Там же, гл. XI.
Сноски к стр. 432
6 «Исповедь», гл. VIII и XIII. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 32 и 47.
7 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. VIII.
8 Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 573.
9 «Анна Каренина», ч. VIII, гл. XIII.
10 Там же.
11 Там же, гл. XIX и XVI.
Сноски к стр. 433
12 «Исповедь», гл. X. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 40.
13 Полное собрание сочинений, т. 66, 1953, стр. 188.
14 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 291.
Сноски к стр. 434
15 Действительными мотивами войны с Турцией было стремление правительства Александра II восстановить свое политическое влияние на Балканах, подорванное в результате Крымской войны, а также надежда путем новой победоносной войны поднять свой престиж на международной арене и разрядить напряженную политическую обстановку внутри страны.
16 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 322.
17 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 727.
18 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 334, 335.
Сноски к стр. 435
19 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891» М., 1928, стр 39.
Сноски к стр. 436
20 Сохранившееся начало данной статьи напечатано в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 360—362.
21 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 337.
22 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. Музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 437
23 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 339. План размещения раненых по деревням осуществлен не был.
24 Там же, стр. 339.
25 Там же, стр. 341.
26 Там же, стр. 345.
27 Там же, стр. 345—346. Генерал Н. Н. Обручев был командировав на Кавказ для участия в войне с турками.
28 Там же, стр. 349.
Сноски к стр. 438
29 Напечатаны в томе 48 Полного собрания сочинений, 1952, стр. 179—186.
Сноски к стр. 440
30 А. Д. Оболенский. Две встречи с Л. Н. Толстым. «Толстой, Памятники творчества к жизни», 3, М., 1923, стр. 29.
31 Павел Матвеев. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни. «Исторический вестник», 1907, 4, стр. 152—153.
32 А. Д. Оболенский. Указ. статья, стр. 30.
Сноски к стр. 441
33 А. Д. Оболенский. Указ. статья, стр. 26—37.
34 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 39, запись 25 августа 1877 г.
35 С. А. Толстая. Четыре посещения Л. Н. Толстым монастыря Оптина пустынь «Толстовский ежегодник 1913 года», СПб., 1914, отдел «Воспоминания», стр. 3.
36 Павел Матвеев. Указ. статья, стр. 153.
37 Пимен — оптинский монах, ранее — маляр. Толстой рассказывал про него П. И. Бирюкову, что он, во время беседы у Ювеналия о разных мирских предметах, преспокойно заснул, сидя на стуле (П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II. М. — Пг., 1923, стр. 122).
Сноски к стр. 442
38 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб., 1914, стр. 126.
39 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 338.
40 Усердное соблюдение Толстым постов вызывало добродушные насмешки родных его жены. 13 октября 1878 г. дядя С. А. Толстой, Владимир Александрович Иславин, писал ей: «Обнимаю его [Льва Николаевича] сердечно, но только лишь в том разе, если он перестал питаться горохом, толокном и овсянкой на лампадном масле» (письмо не опубликовано, хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).
41 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 39.
42 В. Р. Ч[евск]ий. У гр. Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Тула, 1908, стр. 10.
43 Н. Шатилов. Из недавнего прошлого. «Голос минувшего», 1916, 10, стр. 69.
Сноски к стр. 443
44 «Исповедь», гл. XIII. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 50.
45 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 121.
46 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 33.
47 П. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II. М. — Пг., стр. 64.
Сноски к стр. 445
48 Составленные Толстым «Правила для педагогических курсов» напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 331—335.
Сноски к стр. 447
49 Изложенные сведения о прохождении в органах Министерства народного просвещения и в тульском земстве проекта Толстого об открытии педагогических курсов заимствованы из следующих источников: И. А. Воронцов-Вельяминов. Систематический свод постановлений Тульского губернского земского собрания за XXXV лет, вып. 1. М., 1894, стр. 229—230; С. О. Серополко. Л. Н. Толстой и его попытка учреждения в Ясной Поляне педагогических курсов. «Русские ведомости», 19 ноября 1910 г.; А. П. Серебренников. Л. Н. Толстой о курсах для подготовки народных учителей. «Советская педагогика», 1938, 12, стр. 124—127; В. С. Спиридонов. К истории педагогической деятельности Л. Н. Толстого. «Ученые записки пед. ин-та им. Герцена», Л., 1948, т. 67, стр. 146—153.
Сноски к стр. 448
50 П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II, стр. 65.
Сноски к стр. 449
51 Журнал XIII очередного Крапивенского уездного земского собрания и II чрезвычайного собрания 1877 года. Тула, 1878, стр. 3—14.
52 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 42.
Сноски к стр. 450
53 Б. Н. Чичерину, который писал ему, что для здоровья ребенка он с женой решили жить в городе, поближе к докторам, Толстой 10 декабря 1877 г. писал: «В деревне доктор далеко, но бог гораздо ближе, чем в городе» (Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 358).
54 Журнал XIV очередного уездного Крапивенского земского собрания. Тула. 1878, стр. 7—17.
Впоследствии Мария Михайловна Холевинская, окончив курсы, работала врачом в Туле, была дружна с дочерьми Толстого и была близка его взглядам. В 1896 г. за передачу тульскому рабочему запрещенной в то время книги Толстого «В чем моя вера?» Холевинская была выслана в Астрахань.
55 Проф. С. Глаголев. О графе Льве Николаевиче Толстом. Сергиев Посад, 1911, стр. 2.
56 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 99, запись от 20 сентября 1901 г.
57 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 343.
Сноски к стр. 451
58 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 345.
59 Там же, стр. 344.
60 Там же, стр. 346.
61 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 39—40.
Сноски к стр. 452
62 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 256.
63 Там же, стр. 266—267.
64 Там же, стр. 267—269.
Сноски к стр. 453
65 «Война и мир», т. III, ч. третья, гл. XXVII.
66 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 507.
67 Там же, т. 62, стр. 347.
68 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 363—368
Сноски к стр. 455
69 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 349.
70 Там же, стр. 350, 351 и 352.
Сноски к стр. 456
71 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 352, 353.
72 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 357—358.
Сноски к стр. 457
73 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 357.
74 Там же, стр. 356. Позднее, 5 марта 1879 г., С. А. Толстая писала сестре: «Мой Андрюша еще не ходит... Левочка носит его на плече, играет с ним и любит больше всех предыдущих детей, когда они были маленькие».
75 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 40.
76 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 357.
77 Там же, стр. 355.
78 Там же, стр. 357.
79 Там же, стр. 359.
80 Появилось в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 145—150.
Сноски к стр. 459
81 Напечатан в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 369—385.
Сноски к стр. 461
82 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 40, запись 26 декабря 1877 г.
Сноски к стр. 462
83 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 366—367.
Сноски к стр. 463
84 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 371, 372.
85 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., 1911, стр. 288.
86 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 248—255.
Сноски к стр. 464
87 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 41.
Сноски к стр. 465
88 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 383—384.
89 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 115—116.
Сноски к стр. 466
90 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 369.
91 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 142.
92 Статья «Похороны Некрасова» в сборнике: Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, стр. 644—645.
Сноски к стр. 467
93 В. К. Истомин. На закате. Рукопись, хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого, стр. 49—50.
94 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 379.
Эта оценка Толстым поэзии Некрасова с художественной стороны близко подходит к оценке, сделанной Г. В. Плехановым на основании того же критерия. «Хотя почти каждое стихотворение Некрасова, — писал Плеханов, — в целом отличается ... более или менее значительными погрешностями против требований строго эстетического вкуса, но зато во многих из них можно найти места, ярко отмеченные печатью самого несомненного таланта» («Н. А. Некрасов» в сборнике: Г. В. Плеханов. Искусство и литература, стр. 632).
95 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 75.
96 Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 225.
Сноски к стр. 468
97 Записки И. М. Ивакина, запись 12 августа 1885 г. «Литературное наследство», т. 69, кн. вторая, 1961, стр. 72.
98 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого.
99 В. Е. Якушкин. Матвей Иванович Муравьев-Апостол. «Русская старина», 1886, 7, стр. 157.
Сноски к стр. 469
100 Это — страницы 13—14 и 73 Записной книжки «Б» 1878 г., воспроизведенные на стр. 452 и 456 тома 17 Полного собрания сочинений. Указания, какие именно сведения, отсутствующие в печатных источниках, могли быть сообщены Толстому М. И. Муравьевым-Апостолом, даны на стр. 560 и 568—569 того же тома.
101 Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 72—73.
Сноски к стр. 470
102 В. Е. Якушкин. Указ. соч., стр. 157—158.
103 Н. Н. Кашкин. Родословные разведки, т. II. СПб., 1913, стр. 294.
104 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 242.
Сноски к стр. 471
105 А. Бибикова. Из семейной хроники. «Исторический вестник» 1916, 11, стр. 423—425.
Сноски к стр. 472
106 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 478.
107 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 41—42.
108 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 244.
Сноски к стр. 473
109 «Русская старина», 1880, 9, стр. 2—3.
110 «Тайные общества в России в начале XIX столетия. Сборник материалов, статей и воспоминаний», изд. Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев. М., 1926, стр. 205.
111 Там же, стр. 201.
Сноски к стр. 474
112 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 246.
113 Там же, стр. 248.
114 Там же, стр. 249.
Сноски к стр. 475
115 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 143.
116 Эта и следующие цитаты из книги С. А. Берса «Воспоминания о гр. Льве Николаевиче Толстом» по цензурным условиям не вошли в печатный текст книги. Цитируем по авторской рукописи «Воспоминаний», хранящейся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого, стр. 46—47.
Сноски к стр. 476
117 «Русская старина», 1889, 1, стр. 204.
118 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 413.
119 Дневник В. Ф. Лазурского, запись 14 июля 1894 г. «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 466.
Сноски к стр. 477
120 С. Н. Эверлинг. Три вечера у Льва Толстого. Рукопись.
121 А. Г. Достоевская. Воспоминания. М., 1925, стр. 230—231.
122 От французского digérer — переваривать.
123 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 401.
Сноски к стр. 478
124 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 398.
125 Там же, стр. 396—397.
126 «Воспоминания А. А. Толстой» в книге: «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 19. В передаче слов Толстого у А. А. Толстой несомненная ошибка: «доказать» вместо «показать».
127 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 398
128 Там же, стр. 393.
129 Там же, стр. 394.
Сноски к стр. 479
130 Там же, стр. 394—395.
131 О них упоминает Семевский в предисловии к «Воспоминаниям» Беляева («Русская старина», 1889, 1, стр. 204).
Сноски к стр. 480
132 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 400.
133 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», Л., Изд-во «Прибой», 1929, стр. 28.
134 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 457—459.
Сноски к стр. 481
135 Сведения об этом деле приведены в заметке Л. А. Гессен «Работа Л. Н. Толстого над архивными материалами». «Исторический архив», 1958, 3, стр. 216—218. Там же опубликовано прошение крестьян, поданное в 1818 г. министру финансов Гурьеву, о разрешении им переселиться в Оренбургский край.
136 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр 269—272, варианты № 10—12.
137 Яснополянские прототипы крестьян, изображенных в «Декабристах», указаны в статье М. А. Цявловского «Декабристы. История писания и печатания романа». Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 498 и далее.
Сноски к стр. 482
138 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 483
139 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 64.
140 Полное собрание сочинений, т. 62,стр. 405.
141 Там же, стр. 410—411. Напечатано с неверной датой: «8 апреля 1878 г.».
142 Там же, стр. 408—409.
143 Там же, стр. 404.
Сноски к стр. 484
144 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 406—407.
145 Там же, стр. 408.
Сноски к стр. 485
146 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 157—158.
147 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 411.
148 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись 6 октября 1907 г.
Сноски к стр. 488
149 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 409.
150 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 160.
Подробности о суде над В. И. Засулич и о впечатлении, произведенном оправдательным приговором по ее делу, рассказаны в статье А. Ф. Кони «Воспоминания о деле Веры Засулич», помещенной в его книге: «Избранные произведения», т. II. М., 1959, стр. 7—180.
Толстой и впоследствии проявлял интерес к делу Засулич. А. Ф. Кони, впервые посетивший Толстого в 1887 г., рассказывает в своих воспоминаниях, что Толстой сразу заговорил с ним о деле Засулич (А. Ф. Кони. Избранные произведения, т. II, стр. 255).
Сноски к стр. 489
151 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 303.
152 Там же, стр. 306.
153 С. Синегуб. Записки чайковца. «Молодая гвардия», М., 1929, стр. 234—236.
Сноски к стр. 490
154 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 143.
155 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 70.
Сноски к стр. 491
156 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 380, 381—382.
157 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 90.
Сноски к стр. 492
158 «Исповедь», гл. XIV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 51—52.
159 Полное собрание сочинений, т. 31, 1954, стр. 118.
160 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 40.
Сноски к стр. 493
161 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 348.
162 Сделанные Толстым для себя заметки и выписки по истории декабристов напечатаны в 17 томе Полного собрания сочинений, стр. 445—465; комментарии к ним М. А. Цявловского — там же, стр. 547—585.
163 М. А. Цявловский. «Декабристы». История писания и печатания романа. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 493.
164 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 186.
Сноски к стр. 494
165 «Письма Толстого и к Толстому». М., Государственное издательство, 1928, стр. 231.
166 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 518.
167 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 499.
168 Сведения взяты из неопубликованного письма к Толстому С. А. Юрьева от 2 мая: «Очень сожалею, что я виделся с вами, можно сказать, только на мгновение. После третьего акта «Кориолана» я вас долго искал по театру, но напрасно» (письмо хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).
169 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 417. Ни «Замечания», ни «Исповедь» Фонвизиной в печати не появлялись.
Сноски к стр. 495
170 Там же, стр. 421.
Сноски к стр. 496
171 В неполном виде «Моя жизнь» под названием «Первые воспоминания» была напечатана в сборнике «Русским матерям» (М., 1899, под редакцией И. Горбунова-Посадова, стр. 2—6), полностью — в Полном собрании сочинений (т. 23, стр. 469—474). Плановые заметки, сделанные Толстым на полях рукописи, напечатаны там же, стр. 487.
172 В рукописи «Воспоминаний» (гл. VIII) Толстым сделано указание для переписчицы: «Сюда следуют мои первые воспоминания, напечатанные в XII томе 10-го изд., стр. 447» (Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 375).
Сноски к стр. 497
173 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 272—275, вариант № 13.
174 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 69.
175 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 275, вариант № 14.
176 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 416.
177 Письмо к П. Ф. Перфильевой осталось по ошибке не отмеченным в Списке несохранившихся писем Толстого (Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 523).
Сноски к стр. 498
178 Воспроизведена факсимильно в т. 17 Полного собрания сочинений, между 280 и 281 страницами.
179 « Не только лошадь, но и Иван Федотов вспотел, так было тепло. В земле вспаханной ногам тепло было. Пахло червяками, и видны были взрезанные. Грачи летали по всему полю бочком, шагом, не летая, переходя с старой на новую борозду. Жаворонки вились со всех сторон. Солнце блестело на сохах. С разных сторон слышно было жеребячье ржанье и отголоски пашущих матерей кобыл. «Вылезь», «ближе», «ну, забыла» и песни слышались с разных сторон большого поля до самого леса, из желто-бурого делавшегося полосатым» (т. 17, стр. 284). И т. д.
180 Вариант напечатан на стр. 275—284 в виде двух отдельных вариантов под № 15 и 16. В действительности оба варианта составляют одну рукопись.
Сноски к стр. 499
181 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 536—537.
182 Был впервые напечатан в сборнике, выпущенном к 25-летию Литературного фонда «XXV» (СПб., 1884); перепечатан с исправлением многочисленных ошибок переписчика в т. 17 Полного собрания сочинений стр. 38—47.
183 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 537.
Сноски к стр. 500
184 Была напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения», 1878, 5, 6.
185 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 431.
186 Там же, стр. 425.
Сноски к стр. 501
187 Письмо Ф. Д. Батюшкова к В. Г. Короленко от 28 января 1901 г. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 497.
188 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 429.
189 «Профосами» при Николае I назывались офицеры, исполнявшие в войсках полицейские обязанности.
Сноски к стр. 502
190 «Новый мир», 1958, 8, стр. 277—278.
191 Д. Д. Оболенский. По поводу казни декабристов. «Наша старина». 1917, 2, стр. 35—36.
192 Список этот неизвестен. В «Переписке Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» (стр. 173—175) напечатан список материалов, будто бы посланный Толстому Стасовым, но в действительности список этот был составлен не Стасовым, а Голохвастовым в 1873 г. и касался не декабристов и их эпохи, а Петра I и его времени.
Сноски к стр. 503
193 Монтель умер в сентябре 1916 г., в возрасте 73 лет. Сведения заимствованы из заметки L. Descaves, помещенной в газете «Journal» от 28 февраля 1922 г.
194 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 47.
Сноски к стр. 504
195 Е. Лазарев. Моя жизнь. Прага, 1935, стр. 145—146.
196 Неопубликованное письмо В. И. Алексеева к Н. Н. Гусеву от 26 сентября 1917 г.
197 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 73.
Сноски к стр. 505
198 Там же, стр. 101—102.
199 Там же, стр. 285. Размышления Долли в «Анне Карениной» о своих детях близко напоминают суждения, высказанные Толстым в этих двух письмах.
200 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 371.
201 Там же, т. 48, стр. 51.
202 Там же, т. 62, стр. 428.
Сноски к стр. 506
203 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
204 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
205 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 123, 124, 125.
206 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 58.
Сноски к стр. 507
207 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 41.
208 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 185.
209 Письмо не опубликовано, хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
210 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 262.
Сноски к стр. 508
211 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 262.
212 Там же, стр. 257.
Сноски к стр. 509
213 Бибиков умер в 1914 г. в возрасте 74 лет. Некролог Бибикова, написанный Н. В. Чайковским, напечатан в газете «Речь» за 4 апреля 1914 г.
214 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 263; письмо Страхова Фету 31 июля — 2 августа 1878 г. «Русское обозрение», 1901, 1, стр. 79—80.
215 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 434.
Сноски к стр. 510
216 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 407.
217 Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923, стр. 12.
Сноски к стр. 511
218 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 47.
219 Е. М[енгден]. Встреча с И. С. Тургеневым. «Тобольские губернские ведомости», 1893, № 27 и 28. Перепечатано с сокращениями в сборнике «Звенья», VIII, М., 1950, стр. 262—264.
220 С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 305—307.
221 Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны, стр. 14.
222 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 48.
Сноски к стр. 512
223 «Толстой и Тургенев. Переписка». М , 1928, стр. 76.
224 Там же, стр. 78—79.
225 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 3, стр. 548—550. Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 513
226 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 441.
227 Там же, стр. 439.
228 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, стр. 355, с ошибочной датой «30 декабря 1878 г.».
229 Е. И. Апрелева. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе. «Русские ведомости», 1904, № 25.
230 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 445.
Сноски к стр. 514
231 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 80—81.
232 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 446—447.
233 Не нравился Тургеневу из вещей Толстого только роман «Анна Каренина». Его скептические отзывы о «Войне и мире» при появлении романа сменились в 1870-е годы восторженными похвалами в письмах и в статьях, появлявшихся во французской печати.
234 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 84.
Сноски к стр. 515
235 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 453.
236 Там же, стр. 434.
237 Письма М. И. Семевского и М. М. Стасюлевича в выдержках опубликованы в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 501—502.
Сноски к стр. 516
238 Это и следующее письмо Салтыкова-Щедрина к Толстому напечатаны в книге: «Письма Толстого и к Толстому» (М. — Л., 1928, стр. 249—251).
239 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 436.
240 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 445—446.
241 Напечатана там же, стр. 460—462.
Сноски к стр. 517
242 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 439.
243 Там же, стр. 441.
244 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1691», стр. 111.
245 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 504.
Сноски к стр. 518
246 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 113.
247 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 288—291.
Сноски к стр. 519
248 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 286—287, вариант № 18.
249 В печатном тексте данного варианта (т. 17, стр. 287—288) число бунтовавших крестьян обозначено цифрой 7, но это опечатка, так как в автографе ясно читается цифра 4.
Сноски к стр. 520
250 Напечатан в Полном собрании сочинении, т. 17, стр. 256—257.
Сноски к стр. 521
251 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 114.
252 Там же, стр. 116.
253 Там же.
254 Там же, стр. 117.
255 Там же, стр. 118.
256 Там же.
257 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 445.
258 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 120.
259 Там же.
260 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 505.
261 Первая редакция напечатана в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 291—297, вариант № 21. Вторая редакция была напечатана в 1884 г. в сборнике «XXV», посвященном 25-летию Литературного фонда. Перепечатана с исправлением многочисленных ошибок переписчика в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 47—55.
Сноски к стр. 523
262 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 121.
263 Там же, стр. 121—122.
264 Там же, стр. 122.
265 Там же, стр. 123.
266 Там же, стр. 124.
267 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 453.
268 Там же, стр. 454.
269 Там же, т. 17, стр. 507.
Сноски к стр. 524
270 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 257.
271 Н. Д. Фонвизиной посвящена статья В. И. Шенрока «Одна из жен декабристов». «Русское богатство», 1894, 11—12.
Сноски к стр. 525
272 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 189.
273 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 115—116.
274 Там же, стр. 118.
275 Там же, стр. 119.
276 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 445.
Сноски к стр. 526
277 Письмо не опубликовано, хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
278 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 452.
279 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 196. Нежелание Толстого давать о себе какие бы то ни было биографические сведения вызывало удивление в литературных кругах. А. С. Суворин в 1875 г. в одном из своих фельетонов писал: «Граф Л. Н. Толстой родился в 1828 году. Затем никаких других биографических подробностей о нем никогда не было напечатано. Когда обращались за ними к нему самому, он говорил, что он не считает себя таким большим человеком, чтоб публика могла интересоваться его личностью ... Эта оригинальная в мире писателей скромность уже отличает графа Л. Н. от прочих наших писателей, которые не считают нужным ни скрывать своих портретов, ни своих послужных списков» (Незнакомец [А. С. Суворин]. Очерки и картинки. Из записок фельетониста 1875 г. СПб., 1875, стр. 12).
280 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 124—125.
281 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 454. Три краткие биографические очерка Толстого, составленные с его слов его женой, напечатаны в «Литературном наследстве», № 69, 1961, кн. первая, стр. 497—518.
Сноски к стр. 527
282 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 126.
283 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 457.
284 Там же, стр. 459.
Сноски к стр. 528
285 К. В. Кудряшов. Александр Первый и тайна Федора Кузьмича. СПб., 1923.
286 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 297—299.
Сноски к стр. 529
287 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 510.
288 Там же, т. 62, стр. 465.
Сноски к стр. 530
289 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 207.
290 «Тайные общества в России в начале XIX столетия». М., 1926, стр. 202—203.
291 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 207.
292 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 466.
293 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 310—311.
Сноски к стр. 531
294 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 473.
295 Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М. 1962, стр. 397—399.
Сноски к стр. 532
296 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 483.
297 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
298 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, стр. 45.
299 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 48.
300 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 19.
Сноски к стр. 533
301 «Толстовский ежегодник 1912 г»., М., стр. 63.
В разговоре с Г. А. Русановым Толстой сообщил ему, что во время работы над «Декабристами» он одно время собирался поехать в Острогожский уезд Воронежской губернии, где жили Тевяшовы, родственники Рылеева по жене (там же).
302 П. Сергеенко. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1898, стр. 12.
Сноски к стр. 534
303 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 198—199.
Сноски к стр. 535
304 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, стр. 47—48.
305 Полное собрание сочинений, т. 70, 1954, стр. 49.
306 Там же, т. 73, 1954, стр. 43.
Из числа знакомых Толстому лиц второй категории, упоминаемых им в письме, прежде всего нужно назвать графа Дмитрия Николаевича Блудова (1785—1864), государственного деятеля времени Николая I и Александра II. Блудов некоторое время был близок к декабристам, но уже в 1826 г. принимал участие в качестве делопроизводителя в Верховной следственной комиссии по делу декабристов. С 1832 г. последовательно занимал должности министра внутренних дел, главнокомандующего второго отделения собственной е. в. канцелярии, председателя Государственного совета.
Сноски к стр. 536
307 «Воскресение», часть третья, гл. XVIII.
308 W. W. Маленький фельетон. «Новое время», 3 июня 1904 г., № 10148.
309 Полное собрание сочинений, т. 75, 1956, стр. 134.
310 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 2. М., 1923, стр. 8, запись 24 января 1905 г.
Сноски к стр. 537
311 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 39.
312 Там же, стр. 43.
Сноски к стр. 538
313 Письма Фета к Страхову от 16 и 28 января 1879 г. «Русское обозрение», 1901, 1, стр. 86—90.
314 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 470.
Сноски к стр. 539
315 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 463, 464.
316 Там же, стр. 467.
317 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 300—318.
Сноски к стр. 540
318 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 301.
Сноски к стр. 541
319 Письмо к Н. Н. Страхову от 22 марта 1872 г. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 278.
Сноски к стр. 543
320 Выражение Толстого в письме к Страхову от 19—22 ноября 1879 г. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 503.
321 Там же, стр. 471, 474, 482.
В действительности В. Н. Горчаков был судим за подделку векселей. Биография его такова. При Павле в 1797—1800 гг. он состоял русским военным комиссаром при армии французского эмигранта, принца Конде; в 1800 г. был недолгое время военным комиссаром в Ревеле и затем в чине генерал-майора назначен инспектором харьковской инспекции. По воспоминаниям современников, Горчаков в то время «пользовался величайшей милостью у императора» и «вел жизнь миллионера». Но уже в самом начале царствования Александра I (1801—1802 гг.) раскрылись разные мошенничества Горчакова, и он был предан суду. Он пытался бежать за границу, но был пойман и приговорен к лишению чинов и ссылке в Сибирь. Год его смерти неизвестен (см. «Переписку Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 203—205).
Сноски к стр. 544
322 Их имена и сведения об их имущественном положении были взяты из копии росписей Кочаковской церкви за 1740 г., присланной Толстому по его просьбе тульским архиереем Никандром. В настоящее время эта копия хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 545
323 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 655.
324 Оба варианта данного наброска напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 211—215.
Сноски к стр. 546
325 Напечатаны в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 151—156.
Сноски к стр. 547
326 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 471.
327 Там же, т. 17, стр. 233.
328 Там же, стр. 225—232.
Сноски к стр. 550
329 Толстой имел в виду тип яснополянской крестьянки Аксиньи Базыкиной, выведенной им впоследствии в повести «Дьявол».
330 Этот вариант до сих пор остается неопубликованным. Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 552
331 Напечатаны в томе 17 Полного собрания сочинений, стр. 242—243 (вариант № 31), 233—239 (вариант № 29) и 243—244 (вариант № 33) по общему счету вариантов неоконченного романа о времени Петра I.
Сноски к стр. 553
332 Напечатан в т. 17 Полного собрания сочинений, стр. 239—241, № 30.
Сноски к стр. 555
333 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 474.
334 Там же, стр. 475.
335 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 216—225. Полагаем, что вариант этой повести, помещенный в Юбилейном издании вторым («Тому назад 150 лет...», № 27), должен считаться первым, а вариант, помещенный первым («В 1723 году жил в Мценском уезде...», № 26), должен считаться вторым.
Сноски к стр. 556
336 В томе 17 Юбилейного издания, стр. 218, напечатано «в Перми» — очевидная ошибка.
Сноски к стр. 558
337 Полное собрание сочинений, т. 52, 1952, стр. 4.
338 Там же, т. 48, стр. 252, 265.
339 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 2. М., 1923, стр. 33, запись 7 февраля 1905 г.
340 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 308—314.
Сноски к стр. 559
341 Там же, стр. 313.
Сноски к стр. 560
342 «Исповедь», гл. XIV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 52.
343 Эта старинная притча восточного происхождения изложена Толстым в гл. IV. «Исповеди». Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 13—14.
344 «Исповедь», гл. XIV. Там же, стр. 52.
345 Еще в описании предсмертных метаний Анны Карениной Толстой приписал ей почти то же выражение для характеристики положения человека в мире: «Мы... брошены на свет» и т. д. («Анна Каренина», ч. VII, гл. XXX).
Сноски к стр. 561
346 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 351.
347 «Исповедь», гл. X, XIV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 38, 39, 40, 52.
Сноски к стр. 562
348 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 315—323.
Сноски к стр. 563
349 Сообщение П. И. Бирюкова («Биография Л. Н. Толстого», т. II. М. — Пг., 1923, стр. 122), будто бы Толстой встретился с Щеголенком у профессора Н. С. Тихонравова, едва ли достоверно; нет никаких данных о знакомстве Толстого с Тихонравовым.
350 Рассказ Е. В. Барсова о встрече у него на квартире Толстого с Щеголенком приведен в книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» (М., 1958, стр. 377), а также в докладе П. К. Симоки о Е. В. Барсове по случаю его смерти (Полное собрание сочинений, т. 25, 1937, стр. 666).
Сноски к стр. 564
351 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 475—476.
352 Там же, стр. 478.
353 Там же, стр. 477.
354 Суздальский Спасо-Ефимиевский монастырь Владимирской губернии с 1766 г. служил местом заточения для так называемых религиозных преступников. Описание тюрьмы этого монастыря дано в книге А. С. Пругавина «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством» (М., 1905) и в другой книге того же автора: «В казематах. Очерки и материалы по истории русских тюрем» (СПб., 1909).
Сноски к стр. 565
355 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 480.
356 «Красный архив», 1927, т. 3 (22), стр. 247.
357 В 1881 г. Толстой обратился с просьбой об освобождении старообрядческих архиереев к тульскому вице-губернатору Л. Д. Урусову, которому и удалось добиться их освобождения через нового министра внутренних дел графа Н. П. Игнатьева. Об этом писала А. С. Пругавину дочь Толстого Мария Львовна в 1902 г. (А. С. Пругавин. О Льве Толстом и о толстовцах. М., 1911, стр. 123).
358 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 482.
359 Там же, стр. 486.
360 Там же, стр. 487.
Сноски к стр. 566
361 Подробный перечень всех дел, выписки из которых были посланы Толстому, дан в томе 17 Полного собрания сочинений, стр. 676—677.
362 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
363 Это письмо Толстого помещено в томе 61 Полного собрания сочинений с датой 5 июня 1872 г. (стр. 290—291). Но эта дата неверна, так как Толстой отвечает в нем на письмо А. А. Толстой от 5 мая и все содержание письма говорит за то, что оно было написано не в 1872 г., а в 1879 г.
Сноски к стр. 567
364 17 декабря 1853 г. Дружинин записал в дневнике: «Что за нелепый детина Фет... Что за охота говорить и говорить ерунду» («Летописи Гос. лит. музея», кн. 9, 1948, стр. 336).
365 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 268.
366 Там же, стр. 270.
Сноски к стр. 568
367 Письма Фета от 20 июня и 18 июля опубликованы в книге: «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, стр. 404—409.
368 Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 270—271.
369 «Труды Киевской духовной академии», 1879, июль, стр. 392.
Сноски к стр. 569
370 Н. И. Петров. Эпизод из паломничества Л. Н. Толстого. Рукопись, хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
371 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, записи от 13 августа 1905 г. и 29 июня 1907 г.
Сноски к стр. 570
372 М. В. Нестеров. Давние дни. М., 1941, стр. 115.
373 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 478.
374 Там же, т. 24, стр. 796.
375 Там же, т. 62, стр. 492.
Сноски к стр. 571
376 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 227.
377 «Исповедь», гл. XV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 52—53.
378 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 491—492.
Сноски к стр. 572
379 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 493—494.
380 Там же, стр. 410.
Сноски к стр. 573
381 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 56.
Сноски к стр. 574
382 Ю. М. Соколов. Лев Толстой и сказитель Щеголенок. «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12, 1948, стр. 201—202.
383 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 494.
384 Все сделанные Толстым записи рассказов Щеголенка напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 198—214.
385 Там же, стр. 213.
Сноски к стр. 575
386 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 67.
387 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 202. Восстание кижских крестьян, о котором со слов дедов и прадедов рассказывал Толстому Щеголенок, происходило в 1769—1771 гг. Оно началось с того, что вследствие тяжелых условий труда крестьяне отказались работать по постройке Кижемского завода и от выполнения вспомогательных работ для олонецких петровских военных заводов, изготовлявших пушки, ружья, шпаги, ядра, якоря и другое оружейное снаряжение. Челобитные крестьян об освобождении их от исполнения этих работ, направленные в Москву с выборными ходоками, успеха не имели. Восстание захватило большой район с населением в 40 тысяч человек. В Кижи были посланы карательные отряды, с которыми восставшие крестьяне вступали в схватки.
Утром 1 июля 1771 г. в Кижах собралось около 2 тысяч восставших крестьян села Кижи и его окрестностей. После не имевших успеха обращений офицера к крестьянам с уговорами разойтись и приступить к исполнению работ в толпу был произведен залп. Передние ряды, по рассказу Щеголенка, стали расходиться, а задние, не видя раненых и убитых продолжали стоять, будучи уверены, что стреляют холостыми зарядами. После второго залпа крестьяне разошлись.
Начались жестокие репрессии. Зачинщики бунта подверглись наказанию кнутом и плетьми, некоторые, кроме того, вырезыванию ноздрей.
В рассказе Щеголенка, записанном Толстым, упоминаются имена восставших кижских крестьян, значащиеся и в официальных документах, в том числе Моисей Чиворов, Михаил Клинов, Мартын Гаврилов. (Подробное описание восстания крестьян в Олонецком крае дано в работах: В. И. Семевский. Крестьяне в царствование Екатерины II, т. II. СПб., 1901 стр. 457—503; Я. Балуров. Кижское восстание 1769—1771. Петрозаводск, 1951).
Сноски к стр. 576
388 Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 170.
389 Там же, т. 55, стр. 301.
390 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 577
391 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 494.
392 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Института русской литературы АН СССР (Ленинград).
393 «Русский вестник», 1901, 1, стр. 138.
Сноски к стр. 578
394 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 214—301.
Сноски к стр. 580
395 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 48, стр. 353—362.
Сноски к стр. 581
396 Там же, стр. 277.
397 Толстой читал писания Аввакума в издании: Н. И. Субботин. Материалы для истории раскола, т. V, вып. 5. М., 1879.
398 Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 395.
Сноски к стр. 582
399 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 286.
400 М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 296.
Сноски к стр. 583
401 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 233.
402 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 495.
403 Там же, стр. 497.
404 Там же, стр. 496.
405 Н. П. Чулков. Л. Н. Толстой в московском Архиве Министерства юстиции. «Красный архив», 1927, т. 3 (22), стр. 248.
406 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 250—252.
Сноски к стр. 585
407 Еп. Никон. Смерть гр. Л. Н. Толстого. Троицкая лавра, 1911, стр. 75—77.
408 Проф. С. Глаголов. О графе Льве Николаевиче Толстом. Сергиев посад, 1911, стр. 12.
409 Сын славянофила А. С. Хомякова, Дмитрий Алексеевич Хомяков, писатель славянофильского направления и земский деятель. Толстой встречался с ним в Туле на земских собраниях.
Сноски к стр. 586
410 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 499, с неверной датой: «4 октября 1879 г.».
411 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 234.
412 «Исповедь», гл. XV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 56.
413 Н. П. Чулков в статье «Л. Н. Толстой в московском Архиве Министерства юстиции» («Красный архив», 1927, т. 3 (22), стр. 248—249) приводит записи в книге выдачи документов Архива, в которых отмечено, что «Льву Николаевичу графу Толстому» выдавались материалы 8, 12, 18 и 20 октября 1879 г. Отсюда Н. П. Чулков сделал вывод, что Толстой в этом месяце лично посетил Архив для занятий не менее четырех раз. Заключение Н. П. Чулкова повторяет и П. С. Попов в своей статье «Романы из эпохи конца XVII — начала XIX в. История писания романов» (Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 638). Но, во-первых, в указанных записях выданных материалов Архива в графе «расписка в получении» нет ни одной подписи Толстого, и Н. П. Чулков был вынужден придумать предположение, чем может быть объяснено это отсутствие расписок Толстого. Во-вторых, — и самое главное — из письма Толстого к жене, отправленного им 27 сентября с отвозившим его в Тулу кучером, видно, что С. А. Толстая с большим неудовольствием согласилась на его поездку в Москву. При таких условиях полагать, что в ближайшее время — в октябре — состоялись еще три или четыре поездки Толстого в Москву, совершенно невозможно. Указанные числа регистрируют время выдачи Николеву для переписки отмеченных Толстым материалов, но не время занятий Толстого в Архиве.
Сноски к стр. 587
414 Подробнее о делах, затребованных Толстым из Архива Министерства юстиции, сказано в комментариях П. С. Попова к «Романам из эпохи конца XVII — начала XIX века» (Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 638—639, 677—678).
Сноски к стр. 588
415 «Исповедь», гл. XIII, X. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 47, 40.
Сноски к стр. 590
1 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 500.
2 «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, стр. 417—418.
3 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 500, с неверной датой: «октября 10... 20».
4 Там же, стр. 503.
Сноски к стр. 591
5 Там же.
6 Там же, стр. 504.
7 Там же, стр. 505.
8 Многоточие С. А. Толстой.
9 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 42.
10 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 507.
Сноски к стр. 592
11 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 195.
12 Эта работа Толстого до сих пор не напечатана; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 594
13 «Безгрешная деревня» — фамильярное название синода в бюрократических кругах царской России.
14 «Латинством» Толстой называет католичество.
Сноски к стр. 595
15 «Нищих» здесь — в смысле бедняков-тружеников, живущих в нищете.
16 Сказано о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
Сноски к стр. 598
17 В записной книжке в ноябре 1879 г. Толстой делает такую запись: «Никто не желает блага другого... Это ложь и источник всего зла. Если он говорит, что желает чего-нибудь для блага общего, поищи, зачем ему этого хочется, и поймешь» (Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 323).
Сноски к стр. 600
18 Приводимая ниже часть заключения к первому законченному религиозно-философскому произведению Толстого была напечатана в виде заключения к «Исследованию догматического богословия». См. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 296—303. Приводим ее с исправлением по автографу ошибок переписчика.
Сноски к стр. 602
19 К знаменитой формуле Декарта: cogito — ergo sum (я мыслю, следовательно существую) Толстой прибавляет еще одно слово — volo (желаю), и получается: cogito, volo — ergo sum (я мыслю, желаю, следовательно существую).
Сноски к стр. 603
20 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 195, 327, 196, 328.
21 Статья «Церковь и государство» перепечатана, с исправлением ошибок переписчика, в Полном собрании сочинений, т. 23, стр. 475—483
Сноски к стр. 605
22 Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 116.
Сноски к стр. 606
23 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 238—241.
24 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 502—503.
25 Там же, т. 48, стр. 190.
26 Там же, т. 62, стр. 504.
27 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 242.
Сноски к стр. 607
28 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 505.
29 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 244, 246.
30 Полное собрание сочинений, т. 63, 1934, стр. 3.
Сноски к стр. 608
31 «Толстой и Тургенев. Переписка». М., 1928, стр. 90—91.
32 А. Иванов. Письмо к гр. Л. Н. Толстому. «Тульские епархиальные ведомости», 1901, 7—8, стр. 255—272.
Сноски к стр. 609
33 «Исповедь», гл. XV. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 55.
34 А. Иванов от себя прибавляет: «Искренно ли говорил граф? Думаю, что искренно. Очень вероятно, что это была его заветная мысль» (А. Иванов. Указ. статья, стр. 266).
35 Из рассказов о Толстом М. А. Шмидт, записанных Е. Е. Горбуновой, архив М. И. Горбунова-Посадова.
Сноски к стр. 610
36 Через три дня, 12 декабря 1879 г., А. Иванов послал Толстому письмо, касающееся вопросов, затронутых в беседе. Письмо хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 611
37 «Журнал Министерства народного просвещения», 1854, ноябрь, отд. 3, стр. 1—6.
38 «Черниговские епархиальные ведомости», 1882, № 15.
39 «Исследование догматического богословия», вступление. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 62.
Сноски к стр. 612
40 В рассказе Виктора Гюго «Неверующий», переведенном Толстым, бывший священник на вопрос, в чем состоит его религия, отвечал: «Я ведь сказал, что я — воспитанник семинарии». — «Ну?» — спросил его собеседник. — «Стало быть, я — атеист», — ответил бывший воспитанник семинарии и бывший священник (Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 518).
41 «Исследование догматического богословия». Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 62—63.
42 Письмо к С. А. Толстой от 22 октября 1884 г. Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 431—432.
Сноски к стр. 613
43 А. Иванов. Указ. соч., стр. 265.
44 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 245.
Сноски к стр. 614
45 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 23, стр. 508—511.
46 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 500.
47 Варианты к первой редакции «Исповеди» напечатаны в т. 23 Полного собрания сочинений, стр. 488—508.
Сноски к стр. 616
48 «Юность», гл. III («Мечты»).
Сноски к стр. 617
49 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 5.
По поводу этих строк «Исповеди» Г. В. Плеханов писал: «Это страшно несправедливо. Кто же поверит, что только корыстолюбию и тщеславию Толстого мы обязаны такими дивными художественными произведениями, как «Война и мир» и «Анна Каренина»?». «И кто не знает теперь, — прибавлял Плеханов в примечании, — что вовсе не ничтожен был труд написания этих романов» (Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, стр. 719).
50 Плановые заметки к «Исповеди». Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 525.
Сноски к стр. 618
51 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 5.
52 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 247.
53 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 12—13.
54 Предисловие к «Краткому изложению Евангелия» (1883). Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 801.
Сноски к стр. 619
55 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 61.
56 Все варианты из черновых рукописей «Исследования догматического богословия» появляются в печати впервые. Рукописи хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 620
57 Что Толстой предполагал напечатать свою работу, видно из самого текста «Исследования богословия». Так, в одном месте Толстой говорит: «Прошу читателя обратить внимание на неточность этого текста» — и в другом месте: «Исследование двух первых глав о важнейших догматах уже показало читателю приемы мысли и выражения писателя» (Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 69, 123).
58 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 71, 75, 86, 98, 148—149.
Сноски к стр. 621
59 Там же, стр. 122, 80, 87, 92.
60 Там же, стр. 111 и 135.
61 Там же, стр. 154, 158.
Сноски к стр. 622
62 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 166, 172, 176, 184—185, 228, 238, 240, 246, 248.
63 Из черновых рукописей «Исследования догматического богословия».
64 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 275.
65 Там же, стр. 270, 273. То же писал Толстой через двадцать лет, в 1901 г., в своем «Ответе на постановление синода» об отлучении его от церкви: «Учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства» (Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 247).
Сноски к стр. 623
66 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 263, 275, 282, 292.
67 Там же, стр. 182, 195.
68 Там же, стр. 294.
Сноски к стр. 624
69 Лорд Редсток — английский проповедник, приезжавший в Россию в 1870-х годах и проповедовавший, преимущественно в высшем свете, учение о спасении рода человеческого смертью Христа.
70 В. С. Соловьев, лекцию которого Толстой слышал в Петербурге в 1878 г. См. стр. 476—477.
71 Из черновой редакции «Исследования догматического богословия».
72 Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 121.
Сноски к стр. 625
73 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 23—24.
Сноски к стр. 626
74 Письма А. А. Толстой от 23 и 29 января 1880 г. «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 324, 326.
75 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 4.
76 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 323—324.
77 Там же, стр. 324 и 326.
78 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 6—9.
Сноски к стр. 627
79 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 329—331
80 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 10.
Сноски к стр. 628
81 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 5.
82 Там же, т. 62, стр. 313.
83 Там же, стр. 320.
84 Там же, стр. 325.
85 «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, стр. 323.
86 Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 303.
87 Там же, стр. 384.
Сноски к стр. 629
88 Там же, стр. 472.
89 Там же, стр. 453.
90 Там же, стр. 469.
91 «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», стр. 412—413.
92 Полное собрание сочинений, т. 90, 1958, стр. 243, с неверной датой: «август 1880 г.».
Сноски к стр. 630
93 «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», стр. 416—418
94 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 325.
95 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 247.
96 «Вестник Европы», 1908, 1, стр. 219.
97 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 13—14.
Сноски к стр. 631
98 «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», стр. 421—422.
99 Фет вспоминает относящееся к 1862 году примирение с ним Толстого после кратковременной размолвки, когда Толстой, встретив Фета в маскараде, подошел к нему со словами: «Нет, на вас сердиться нельзя». См. «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1855—1869». М., 1958, стр. 464.
Сноски к стр. 632
100 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 17—18.
101 Письмо Фета в том неполном виде, в каком оно сохранилось, опубликовано в книге: «Яснополянский сборник. Год 1955». Тула, 1955, стр. 323—326.
Сноски к стр. 633
102 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 248.
103 М. Л. Писатель. Сборник «Памяти Гаршина», СПб., 1889, стр. 141—142.
104 Письмо Гаршина Лорис-Меликову опубликовано полностью в статье Ю. Г. Оксмана «Всеволод Гаршин в дни диктатуры сердца». «Каторга и ссылка», 1925, 2 (15), стр. 133—134. Перепечатано в «Письмах» Гаршина, изд. «Academia», 1934, стр. 207.
Ю. Г. Оксман справедливо отметил сходство основной мысли письма Гаршина к Лорис-Меликову с основной мыслью письма Толстого к Александру III в марте 1881 г. и лекции Владимира Соловьева около того же времени.
Сноски к стр. 634
105 Сборник «Памяти Гаршина». СПб., 1889, стр. 155. Г. И. Успенский знал, конечно, что это было за лицо, о «снисхождении» к которому Гаршин умолял министра, но по цензурным условиям не мог его назвать.
106 С. Дурылин. Вс. М. Гаршин. «Звенья», V, М., 1935, стр. 600.
107 Письмо Гаршина к матери 15 марта 1880 г. В. М. Гаршин. Письма. «Academia», 1934, стр. 212.
108 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1933, стр. 134—136
109 В. И. Алексеев. Воспоминания. «Летописи Гос. лит. музея», кн. 12, М., 1948, стр. 281.
110 Сборник «Памяти Гаршина», стр. 36.
111 Там же, стр. 54.
Сноски к стр. 635
112 В. Бибиков. Рассказы. СПб., 1888, стр. 347—381 («Воспоминания»).
113 С. Н. Дурылин. Вс. М. Гаршин, стр. 625—626.
114 Н. С[ергеенко]. Две недели в Ясной Поляне. «Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко. М., 1909, стр. 318—319.
115 С. Н. Дурылин. Вс. М. Гаршин, стр. 627.
Сноски к стр. 636
116 Неопубликованная рукопись Евгения Гаршина «Свидание Всеволода Гаршина с Львом Толстым»; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
117 В. М. Гаршин. Письма, стр. 310.
Сноски к стр. 637
118 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 13.
119 Там же, стр. 15.
120 Предисловие к «Краткому изложению Евангелий», т. 24, 1957, стр. 801.
121 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 249.
Сноски к стр. 638
122 Многоточие Толстого.
123 Полное собрание сочинений, т. 90, стр. 242.
124 «Печать и революция», 1929, 1, стр. 192—193.
Сноски к стр. 639
125 Полное собрание сочинений, т. 78, 1956, стр. 105.
126 «Историко-литературный временник Атеней», кн. III, Л., 1926, стр. 125.
127 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 16, 154.
128 Ф. М. Достоевский. Письма, IV. М., Гослитиздат, 1959, стр. 154.
Сноски к стр. 640
129 Ф. М. Достоевский. Письма, IV, стр. 156.
130 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 19.
131 Там же, стр. 21, с неверной датой: «Августа 20—25».
132 Там же, стр. 20.
Сноски к стр. 641
133 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 21, 22.
134 Там же, стр. 24.
135 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 259.
136 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 24, 25, 40.
Сноски к стр. 643
137 «Записки И. М. Ивакина». «Литературное наследство», т. 69, кн. вторая, М., 1961, стр. 39—43.
138 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 25.
139 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 257.
Сноски к стр. 644
140 «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, стр. 427—430.
Сноски к стр. 645
141 С письма Толстого к Фету от октября 1880 г. была сделана переписчиком копия, которую Толстой затем исправил. Но эта исправленная копия осталась в архиве Толстого, Фету же была послана первая редакция письма, что видно из ответного письма Фета. Исправленная копия письма к Фету от 15 октября, оставшаяся в архиве Толстого, напечатана в томе 63 Полного собрания сочинений, стр. 25—29, под ошибочным заголовком «Черновое».
142 Это письмо Фета напечатано почти целиком в т. 63 Полного собрания сочинений, стр. 30—34.
Сноски к стр. 646
143 В томе 62 Полного собрания сочинений (стр. 517) данное письмо ошибочно датировано 1877 годом.
144 Это письмо Толстого напечатано в Полном собрании сочинений, т. 63, стр. 63.
Сноски к стр. 647
145 Напечатано в Юбилейном сборнике «Лев Николаевич Толстой». М. — Л., 1929, стр. 346—352.
Сноски к стр. 648
146 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, стр. 54.
Сноски к стр. 649
147 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 35.
Сноски к стр. 650
148 «И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка», II. М. — Л., Изд-во «Искусство», 1949, стр. 53—54.
149 Там же, стр. 54—55.
Сноски к стр. 651
150 Полное собрание сочинений, т. 30, 1951, стр. 15.
151 «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 425.
152 И. Е. Грабарь. Репин. М., 1933, стр. 120.
Сноски к стр. 652
153 «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой». I. М. — Л., Изд-во «Искусство», 1949, стр. 9.
154 Там же, стр. 10.
155 И. Репин. Далекое близкое. Изд. 6-е. М., 1961, стр. 365.
Сноски к стр. 653
156 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 266.
157 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 43.
158 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 332—333.
Сноски к стр. 654
159 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 26. Из письма Достоевского к А. А. Толстой от 3 января 1881 г. (Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV. М., 1959, стр. 224) видно, что этот разговор с ней Достоевского происходил 11 января 1881 г.
160 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.). «Толстовский ежегодник 1912 г.», стр. 60.
161 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 183—184.
162 В. Булгаков. В осиротелой Ясной Поляне. «Голос минувшего на чужой стороне», Париж, 1926, № XIX, стр. 54.
163 «Воспоминания» В. И. Алексеева напечатаны в «Летописях Гос. лит. музея», кн. 12, М., 1948, стр. 232—330.
Сноски к стр. 655
164 С. Л. Толстой. Очерки былого М., 1956, стр. 53.
165 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 316.
166 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 195.
167 Там же, стр. 135.
Сноски к стр. 657
168 С. А. Толстая. Моя жизнь, тетр. 3, стр. 549—556, 602—603. Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
169 В. Ф. Булгаков. В осиротелой Ясной Поляне. «Голос минувшего на чужой стороне», Париж, 1926, № 4/XVII, стр. 166.
170 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 336.
Сноски к стр. 658
171 С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 61.
172 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 34.
173 Там же, стр. 39.
174 Там же, стр. 42.
175 «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 44.
176 Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 65.
177 Там же, стр. 72.
178 «Соединение и перевод четырех Евангелий» напечатано в Полном собрании сочинений, т. 24, 1957, стр. 7—798.
Сноски к стр. 661
179 Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 27, 166, 193, 162, 325, 118, 174, 171, 109, 168.
180 Полное собрание сочинений, т. 49, 1952, стр. 74—75.
И. М. Ивакин находил, что в этом пункте религиозно-философское миросозерцание Толстого, основанное на Евангелиях, имеет нечто общее с философской системой Канта. «Он [Толстой] привлек на помощь метафизику немецкого идеализма: все произошло через разумение — это значит, что этико-метафизическая сущность, или разумение, создали из себя мир в формах пространства и времени — Иоанн Богослов и автор «Критики чистого разума» подают, таким образом, друг другу руки!» («Литературное наследство», т. 69, кн. вторая, М., 1961, стр. 41).
Сноски к стр. 662
181 Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 172, 175, 184, 325.
182 Там же, стр. 110, 285, 109, 242, 279, 285, 271, 280, 231, 228, 295.
Сноски к стр. 663
183 Там же, стр. 280—281, 242, 253, 237, 245, 243, 347.
Сноски к стр. 664
184 Очень интересны те замечания на четвертое и пятое евангельские «правила» в понимании Толстого, которые высказал Г. В. Плеханов в своем реферате на тему «Толстой и Герцен», прочитанном им в Париже в 1912 г.
«Он [Герцен], — говорил Г. В. Плеханов, — совсем не отрицает существования того общественного зла, которое называется преступностью. Но он не хочет бороться с ним насилием. Он восстает против наказаний почти теми же словами, как и Толстой, а, стало быть, и против судов. Выходит, что Герцен также держался учения, гласящего: не судите, что он тоже был за непротивление. Значит, он был толстовцем еще до Толстого? Нет, не значит! Это значит только то, что он был социалистом... Ясно, что не Герцен заимствовал у Толстого, а наоборот — Толстой у Герцена, или, вернее, у социалистов. Он не отдает себе отчета в этом. Он думает, что он нашел это в Евангелии... Толстой втолковал известные мысли в Евангелие под влиянием великих социальных идей нашего времени.
Учение о непротивлении не исчерпывается словами: «не судите», есть также слова: «не воюйте». Это — частный случай применения общей мысли. Но характерно, как вычитал Толстой эту мысль из Евангелия. Враг — чужестранец, ближний — земляк. Не все так понимают Евангелие. Толстовское понимание остроумно и правильно. Чем оно подсказано? Интернационализмом...
Вывод: Толстой считал, что социалисты исходят из христианского идеала, «не понимая его и кощунствуя над ним», из идеала любви, прощения и воздаяния добром за зло. На самом же деле он сам усвоил себе некоторые черты социалистического идеала (письмо к Александру III). Учение Толстого о непротивлении злу есть своеобразный отголосок того социалистического учения, которое мы встречаем у Герцена. В чем состоит его своеобразие? Доводы социалистов против судов и наказаний... Преступность — общественный продукт. Лекарство? Социальная реформа. К ней-то Герцен и апеллирует. А Толстой? Вы видели — по его мнению, судят затем, чтобы отстоять существующий порядок. Порядок этот из рук вон плох. Вывод, который следовало сделать: социальная реформа. У Толстого вывод: личное самоусовершенствование или, как он говорит, самоочищение. В этом своеобразие его учения: в другом выводе. — Почему он делает его? — Он один из самых последовательных противников материализма.
Надо не наказывать преступников, а позаботиться о том, чтобы их не было. Это очень похоже на правду, на ту самую правду, которую мы только что слышали от Герцена. Он ведь тоже, как мы знаем, восставал и против тюрем, и против розог, и против виселиц. И он, конечно, признавал, что убивая убийцу, мы только и делаем, что удваиваем убийство. Стало быть — заметьте это — в известных пределах учение Толстого вполне совпадает с учением социалистов. Но оно явилось значительно позже того, как выработалось социалистическое учение о преступлении и наказании; поэтому мы имеем право утверждать, что в учении Толстого лишь повторилась истина, давно уже открытая социалистами, а, пожалуй, даже их предшественниками — просветителями XVIII века. И мы можем прибавить, не боясь ошибиться: между теми, которые восхищались и восхищаются нравственным содержанием толстовского учения, было и есть немало таких, которые даже и не подозревают, как много заимствовал Толстой у социалистов...» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сборник VI, М., 1938, стр. 5—8).
Сноски к стр. 665
185 Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 246, 253, 251, 294, 271, 282, 254.
186 Там же, стр. 205, 200, 401, 204, 211, 206, 402.
Сноски к стр. 666
187 Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 124—126, 689, 337, 515.
Сноски к стр. 667
188 Там же, стр. 794, 795, 792, 797.
189 Там же, стр. 7.
190 Там же.
191 Полное собрание сочинений, т. 85, 1935, стр. 60.
Сноски к стр. 668
192 Полное собрание сочинений, т. 68, 1954, стр. 54.
193 Толстой имел в виду И. М. Ивакина.
194 Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 62—63.
195 Там же, т. 68, стр. 117.
Сноски к стр. 669
196 Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 804, 805, 806, 814, 815.
Сноски к стр. 670
197 «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, стр. 81.
198 И. Н. Крамской. Письма, т. II. Гос. изд-во изобразительных искусств, 1937, стр. 291.
Сноски к стр. 671
199 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 40.