1
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
*
Н. Н. ГУСЕВ
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ
———————
МАТЕРИАЛЫ
К БИОГРАФИИ
с 1855 по 1869 год
———————
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1957
2
Ответственный редактор
А. И. ШИФМАН
3
Глава первая
В ПЕТЕРБУРГЕ В РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»
(1855—1856)
I
Выехав в начале ноября 1855 года из Севастополя, Толстой по дороге заехал в Ясную Поляну, где пробыл, повидимому, очень недолго, и 19 ноября утром был уже в Петербурге.
Остановившись в гостинице, он сейчас же отправился к Тургеневу. Встретившись с Тургеневым, они, как на другой день писал Толстой сестре, «сейчас же изо всех сил расцеловались». «Он очень хороший», — писал Толстой про Тургенева.
В тот же день Толстой выразил желание познакомиться с Некрасовым, к которому он и поехал вместе с Тургеневым и у которого обедал и провел вечер. «Некрасов, — писал Толстой сестре, — интересен, и в нем много доброго, но в нем нет прелести, привязывающей с первого раза».
У Толстого не было намерения навсегда поселиться в Петербурге. Он хотел пробыть там только месяц и надеялся провести это время в среде петербургских писателей «приятно и с пользой»1.
Тургенев уговорил Толстого из гостиницы переехать к нему на квартиру (он жил тогда на Фонтанке, у Аничкова моста, в доме Степанова, занимая нижний этаж этого дома), на что Толстой согласился.
Первое впечатление Некрасова от Толстого было восторженное.
«Приехал Л. Н. Т., то есть Толстой, — писал Некрасов В. П. Боткину 24 ноября. — Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж
4
и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит2. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии3. Обещал засесть и написать для первого номера «Современника» «Севастополь в августе». Он рассказывает чудесные вещи»4.
Переехав к Тургеневу, Толстой сразу же вошел в курс всех событий дня среди сотрудников «Современника». У Тургенева и Некрасова Толстой знакомится со многими другими петербургскими писателями: 22 ноября он обедает у Некрасова вместе с А. В. Дружининым5; 23-го — на вечере у Тургенева знакомится с Тютчевым, Гончаровым, Майковым, Писемским, Никитенкой, Е. Ф. Коршем6 и в числе других литераторов подписывает составленный Некрасовым адрес актеру М. С. Щепкину по случаю пятидесятилетия его сценической деятельности7.
28 ноября Толстой обедает у издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского вместе с критиком того же журнала С. С. Дудышкиным, Тургеневым, Дружининым и Писемским8.
2 декабря Толстой присутствует в Шахматном клубе на литературном обеде, где в числе гостей были Панаев, Гончаров, Полонский, Тургенев, Дудышкин, Краевский, В. Ф. Одоевский и другие. Здесь писатели узнают о взятии русскими войсками Карса и в первый раз после Синопской победы кричат «ура»9.
5
5 декабря на обеде у Тургенева Толстой знакомится с Н. П. Огаревым10; 9 декабря у Тургенева же — с поэтом Жемчужниковым, а 26 декабря — с П. В. Анненковым. 14 декабря на обеде у Некрасова Толстой знакомится с В. П. Боткиным11. Вероятно, в декабре произошло знакомство Толстого с А. А. Фетом12.
Отношения Толстого со всеми петербургскими литераторами в то время были ровные и дружелюбные, несмотря на частые и горячие споры. Тургенев в своей приписке к письму Толстого к его сестре от 30 ноября писал: «Лев Николаевич у Вас такой отличный брат, какого, я думаю, нет другого — то есть я хочу сказать, он милейший человек — и я его полюбил от души»13.
Тургенев и в дальнейших письмах к разным лицам продолжал отзываться о Толстом с большим сочувствием. «Ты уже знаешь от Некрасова, — писал он В. П. Боткину 3 декабря, — что Толстой здесь и живет у меня. — Очень бы я хотел, чтобы ты с ним познакомился. — Человек он в высшей степени симпатичный и оригинальный»14. Затем П. В. Анненкову Тургенев писал 9 декабря: «Вообразите: вот уже более двух недель у меня живет Толстой (Л. Н. Т.) — и что бы я дал, чтобы увидеть вас обоих вместе! Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хоть он за дикую рьяность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое»15.
Пояснением письма Тургенева может служить запись в дневнике Дружинина от 7 декабря 1855 г. Дружинин пишет, что накануне за обедом у Некрасова, где были также Панаев с женой и цензор «Современника» Бекетов, «Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редифом. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, затем объявил, что не считает себя литератором и т. д.». От Некрасова поехали к больному Тургеневу, и там Толстой «объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою»16. Такое суждение о Шекспире
6
должно было сильно задеть за живое членов редакции «Современника», преклонявшихся перед Шекспиром. Дружинин в то время заканчивал свой перевод «Короля Лира», Фет перевел «Юлия Цезаря», Боткин готовил для «Современника» статью о Шекспире.
Дружинин и в дальнейших записях своего дневника отмечает жаркие споры Толстого с Тургеневым. Так, 26 декабря у Тургенева «Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез»; 1 января нового 1856 г. у Боткина «Тургенев спорил с Толстым по обыкновению».
Вероятно, к этому же времени относится и воспоминание Гончарова о спорах Толстого с писателями, о которых он напоминал Толстому в письме к нему от 22 июля 1887 г.: «Помню Ваши иронические споры всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом их поклонении разным литературным авторитетам; помню комическое негодование их на Вас за непризнание за «гениями» установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск»17.
Однако на первых порах все споры Толстого с писателями протекали в дружелюбной и благодушной атмосфере. Тургенев, руководимый «отеческим чувством», старался внушить «троглодиту», бывшему моложе его на десять лет, все те литературные взгляды, которые разделял он сам.
Одно время «отеческое чувство» Тургенева возмущалось тем образом жизни, который вел Толстой в Петербурге. 14 декабря Дружинин записывает в своем дневнике: «Тургенев в великом озлоблении на башибузука за его мотовство и нравственное безобразие». О том же рассказывает Фет в своих воспоминаниях. Придя раз к Тургеневу, он узнал, что у него живет приехавший из Севастополя Толстой. Было десять часов утра, но Толстой еще не просыпался. «Вот все время так, — с усмешкой сказал Фету Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане
7
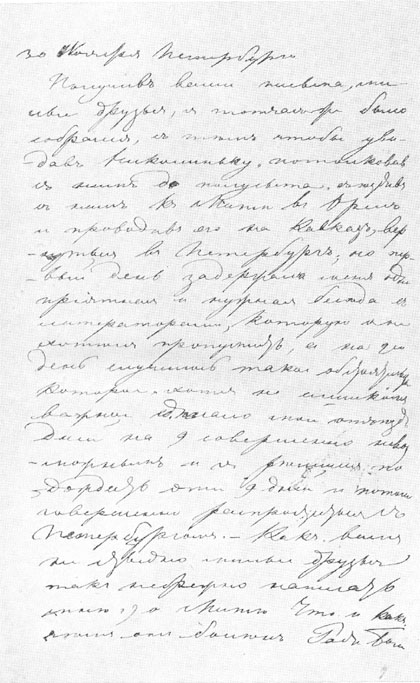
Письмо Л. Н. Толстого к М. Н. Толстой
от 30 ноября 1855 г.
8
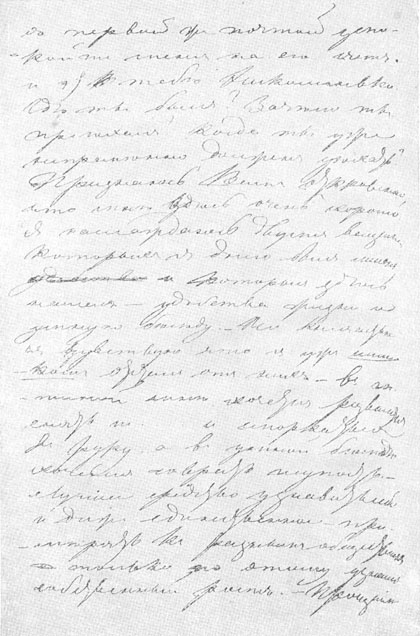
Продолжение письма
9
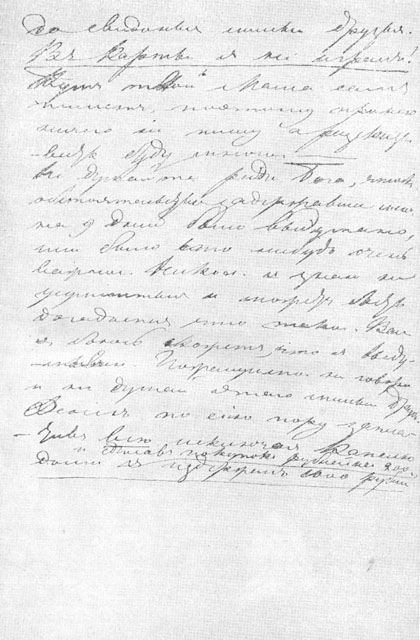
Продолжение письма
10
и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»18.
В новых, более свободных условиях неизжитые страсти прорвались у Толстого с большой силой. Дружинин, а иногда и сам Тургенев бывали в этих случаях его спутниками. В дневнике Дружинина записано, что 11 декабря Толстой «на последние свои деньги» давал вечер у цыган в Hôtel Napoléon; в числе гостей были Тургенев, Дружинин, известный рассказчик И. Ф. Горбунов и другие.
Без сомнения, увлечение кутежами у возвратившегося из Севастополя Толстого, при его постоянной склонности к беспощадному анализу и самоанализу, носило только временный характер. В повести «Два гусара», писавшейся в марте и апреле 1856 г., кутеж изображается как тягостное и утомительное времяпровождение, приводящее к пресыщению. «Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного». Другое дело — цыгане. В той же повести пение цыганское описано таким образом, что читателю становится совершенно ясно, что автор находится под непреодолимым его обаянием. Запевала Стешка поет так, что пение ее «задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну». «Видно было, — говорит автор, — что она вся жила только в той песне, которую пела». Дирижер Илюшка «улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображал сочувствие песне», а затем, когда он пустился в пляс, то «все его тело от шеи до пяток начинало плясать каждой жилкой». Пение хора описывается в таких словах: «И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе».
Читателю невольно передастся то одушевление, которое испытывал автор, слушая с давних пор любимое им цыганское пение.
Но, конечно, не кутежи и не цыгане составляли главный интерес жизни Толстого в первый месяц его пребывания в Петербурге. Как писал он сестре 30 ноября, он чувствовал себя в то время в Петербурге «очень хорошо», потому что наслаждался двумя вещами, которых он был лишен в течение долгого времени: «удобствами жизни и умной беседой». Об этих «умных беседах» Толстого с писателями мы располагаем, кроме того, что уже приведено выше, лишь отрывочными сведениями.
9 декабря Тургенев сообщал Анненкову, что Огарев написал небольшую поэму «Зимний путь» — «истинный шедевр, в котором он совместил всю свою поэзию, всего себя со всей своей
11
задушевной и задумчивой прелестью. Мы с Толстым уже три раза упивались этим нектаром»19.
Вечером того же дня Толстой у Тургенева читал сцены из новой комедии Островского «Не так живи, как хочется». Как вспоминал Толстой через тридцать лет, читал он эту комедию «очень хорошо»; «особенно удалась ему роль Груни — ее молодое, разудалое веселье и поразившее ее неожиданное горе»20. «Груша в комедии всех пленила», записал в этот день в своем дневнике Дружинин. Толстой на всю жизнь запомнил и содержание комедии «Не так живи, как хочется», и свое чтение этой комедии. «Короткая, веселая», отозвался он об этой комедии в 1905 г., рассказав о своем чтении ее у Тургенева21.
Толстой в то время очень интересовался театром. В последних числах декабря он вместе с другими писателями из круга «Современника» смотрел на сцене Александринского театра новую драму Потехина «Чужое добро в прок не идет». Сильное впечатление на него и на других писателей произвела игра А. Е. Мартынова. Панаев в «Современнике» дал восторженный отзыв об игре Мартынова в пьесе Потехина. «Мы обязаны Мартынову, — писал Панаев, — такими минутами, которые редко испытываются в жизни и которые может доставить только сценическое искусство, доведенное до высочайшей правды, до своего окончательного и полнейшего развития... Передать игру его нет никакой возможности... Глядя на нее, невольно спрашиваешь себя: где же эти границы, отделяющие сценическую правду от правды жизни? Они уничтожены Мартыновым»22.
Восхищенный и взволнованный, как и другие писатели, игрою даровитого актера, Толстой после спектакля подал мысль пригласить Мартынова на ужин. Собралось более десяти человек, но в Мартынове-собеседнике Толстой разочаровался (что, быть может, объяснялось тем, что после состояния большого нервного подъема, вызванного игрой, Мартынов переживал состояние упадка и усталости). У Толстого осталась в памяти лишь необыкновенно выразительная мимика его подвижного лица23.
12
Впоследствии Толстой говорил, что Мартынов — это был лучший актер, какого он видел24.
В декабре Толстой присутствует на чтении Тургеневым только что законченного им тогда романа «Рудин». Новый роман Тургенева не произвел на Толстого большого впечатления. В 1894 г. Толстой рассказывал: «Я помню... слушал «Рудина»; он (Тургенев) читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это Тургенев — и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь»25. В другой раз, вспоминая о том же чтении Тургеневым «Рудина», Толстой в числе слушателей называл Панаева, Анненкова, Дружинина, Григоровича, Некрасова и не совсем уверенно Фета и Гончарова26.
28 декабря Толстой у Некрасова (были еще Тургенев, Дружинин и Боткин) слушал чтение стихов Тютчева27. Как вспоминал Толстой впоследствии28, Некрасов, Тургенев и Дружинин, подготовившие к печати первый сборник стихотворений Тютчева, настойчиво советовали ему познакомиться с произведениями этого поэта. Предубежденный против стихов, Толстой неохотно взялся за чтение Тютчева; но, познакомившись с его произведениями, сделался на всю жизнь горячим поклонником поэзии Тютчева, которого он ставил наравне с Пушкиным и Лермонтовым29. Одну из заслуг Некрасова Толстой видел в том, что он «умел ценить поэзию», и один из первых высоко оценил Тютчева30.
13
Ко времени первых месяцев пребывания Толстого в Петербурге относится и первое посещение Тютчевым Толстого. Тютчев, как рассказывал Толстой, первый «сделал ему честь», придя познакомиться с ним, как с автором Севастопольских рассказов. И Толстой был поражен тем, что этот придворный, говоривший по-французски лучше, чем по-русски, проявил большую чуткость в отношении русского языка, особенно оценив какое-то выражение солдат из Севастопольских рассказов31.
Особенное внимание следует уделить отношениям Толстого с Некрасовым.
С Некрасовым у Толстого сложились ровные отношения взаимной симпатии, которые навсегда остались непоколебленными, хотя много лет спустя после смерти Некрасова Толстой на прямо поставленный ему вопрос, мог ли бы он быть другом Некрасова, ответил отрицательно32. Хотя к некоторым сторонам характера и жизни Некрасова Толстой относился неодобрительно, он никогда не переставал считать Некрасова человеком простым, правдивым, что всегда его особенно привлекало в людях. «Он был очень правдивый, прямой человек, — говорил Толстой о Некрасове в 1903 г., — он вообще говорил необыкновенно прямо и просто»33. В 1908 г. Толстой также отзывался о Некрасове, как о правдивом человеке34.
П. И. Бирюков со слов Толстого записал следующий случай, относящийся к первому времени знакомства Толстого с Некрасовым. Раз в большой церковный праздник (очевидно, в день Рождества 25 декабря)35 Толстой под влиянием нахлынувших на него детских воспоминаний, связанных с этим днем, мучительно почувствовал свое одиночество и, чтобы облегчить свое душевное состояние, пошел к Некрасову. Его он застал также страдающим от сознания своего одиночества и,
14
кроме того, больным. Некрасов тогда написал стихотворение «Замолкни, муза мести и печали» и прочел его Толстому вслух. Стихотворение очень понравилось Толстому; ему стало жалко Некрасова, и это общее душевное настроение сблизило их36.
5 февраля 1908 г. я слышал от Толстого следующий рассказ об этом его свидании с Некрасовым.
— Я помню, — я раз зашел к нему вечером — он всегда был какой-то умирающий, все кашлял, — и он тогда написал стихотворение «Замолкни, муза мести и печали», и я сразу запомнил его наизусть.
Когда в тот же день в Ясной Поляне опять зашел разговор о Некрасове, Толстой с серьезным лицом, устремив глаза вдаль, несколько торжественным и скорбным тоном продекламировал начало так понравившегося ему за 52 года до этого стихотворения Некрасова:
«Замолкни, муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу.
Довольно мы с тобою проклинали,
Один я умираю и молчу».
Лев Николаевич старался вспомнить дальнейшие строфы этого стихотворения, но это ему не удалось.
II
Кроме литературных кругов, Толстой в первый же месяц своего пребывания в Петербурге вступил в круг своих старых и новых светских знакомств. Из них на первом месте следует поставить семью его родственниц Толстых: Прасковью Васильевну, рожденную Барыкову, жену Андрея Андреевича Толстого, родного брата деда Льва Николаевича — Ильи Андреевича, и ее двух дочерей, Александру Андреевну и Елизавету Андреевну, приходившихся Льву Николаевичу двоюродными тетками. Обе Толстые дочери были воспитательницами двух внучек Николая I и жили в Зимнем дворце. С младшей из них, Александрой Андреевной, Лев Николаевич очень подружился; до самой его женитьбы она оставалась после братьев и сестры самым близким ему человеком. Воспоминания А. А. Толстой, писавшиеся ею в глубокой старости (она умерла в 1904 г. восьмидесяти шести лет), дают очень яркий образ Толстого первых лет их дружбы.
15
«Вижу его, — писала А. А. Толстая, — совершенно ясно уже по возвращении его из Севастополя (1855 г.) молодым артиллерийским офицером и помню, какое милое впечатление он произвел на всех нас. В то время он уже был известен публике («Детство» появилось в 1852 г.). Все восхищались этим прелестным творением, а мы даже немного гордились талантом нашего родственника, хотя еще не предчувствовали его будущей знаменитости.
Сам по себе он был прост, чрезвычайно скромен и так игрив, что присутствие его воодушевляло всех. Про самого себя он говорил весьма редко, но всматривался в каждое новое лицо с особенным вниманием и презабавно передавал потом свои впечатления, почти всегда несколько крайние. Прозвище тонкокожего, данное ему впоследствии его женой, как раз подходило к нему: так сильно действовал на него в выгодную или невыгодную сторону малейший подмеченный им оттенок. Он угадывал людей своим артистическим чутьем, и его оценка часто оказывалась верною до изумления. Некрасивое его лицо, с умными, добрыми и выразительными глазами, заменяло по своему выражению то, чего ему недоставало в смысле изящества, но оно, можно сказать, было лучше красоты... Мы все его так полюбили, что всегда встречали его с живейшею радостью»37.
К кругу светских знакомых Льва Николаевича того времени принадлежала также семья его двоюродного дяди, известного художника-медальера Федора Петровича Толстого, в 1828—1859 гг. бывшего вице-президентом Академии художеств. Лев Николаевич посещал его «среды», где собирались многие выдающиеся писатели и музыканты того времени.
Сохранились воспоминания известного в свое время исторического романиста Г. П. Данилевского, который встретился со Львом Николаевичем вскоре после приезда его из Севастополя в доме Ф. П. Толстого.
По рассказу Данилевского, случилось так, что Толстой вошел в гостиную во время чтения последнего произведения Герцена. «Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена»38.
Этот рассказ свидетельствует о том, что Толстой в первое время после приезда в Петербург был предубежден против Герцена.
16
Предубеждение это, однако, скоро рассеялось под влиянием общения с кругом «Современника».
К числу новых аристократических знакомых Толстого принадлежал также граф Дмитрий Николаевич Блудов, занимавший ряд видных государственных должностей при Николае I и Александре II. В 1832—1839 гг. Блудов был министром внутренних дел, затем в 1862 г. главным управляющим 2-го отделения е. в. канцелярии, с 1862 г. — председателем Государственного совета. В 1855 году Блудов был назначен президентом Академии наук. Блудов был приятелем Жуковского, Батюшкова, Вяземского, хорошим знакомым Карамзина и Пушкина и одним из основателей литературного кружка «Арзамас». В вопросах общественно-политических Блудов был умеренным либералом. Принимал участие в Верховной следственной комиссии по делу декабристов в качестве делопроизводителя. Старшая дочь Блудова Антонина Дмитриевна, не вышедшая замуж и жившая с отцом, по своим воззрениям примыкала к славянофилам и была очень дружна с женой Александра II. Младшая дочь Лидия Дмитриевна, бывшая ранее фрейлиной, была замужем за Е. И. Шевичем. Она была неравнодушна к Толстому; в его архиве сохранились две ее пригласительные записки 1856—1856 годов.
Среди светских знакомых Толстого той поры находим также Александра Михайловича Тургенева, приятеля Жуковского, Вяземского, Крылова, Сперанского, в прошлом тобольского, затем казанского губернатора и, наконец, директора медицинского департамента. Иван Сергеевич Тургенев был дружен с дочерью А. М. Тургенева, Ольгой Александровной. У Тургеневых в пятидесятых годах собирались писатели — Боткин, Гончаров, Дружинин; И. С. Тургенев впервые прочел у них свой рассказ «Муму», а Толстой — «Севастополь в августе».
III
9 декабря Тургенев писал Анненкову, что Толстой читал «начало своей «Юности» и начало другого романа — есть вещи великолепные!»39. «Другой роман» это, конечно, тот же «Беглец» (первая редакция «Казаков»), о чтении которого Некрасов сообщал Боткину 24 ноября 1855 г.
В том же письме к Боткину Некрасов упоминает о том, что Толстой обещал «засесть» и написать для первого номера «Современника» рассказ «Севастополь в августе». Обещание свое Толстой выполнил. Уже 19 декабря он прочел Дружинину
17
начало своего рассказа. 27 декабря рассказ был закончен и прочтен вслух на вечере у Некрасова. В числе слушателей были Дружинин и братья Жемчужниковы40.
Некрасов решил поместить новый рассказ Толстого в первой книжке «Современника» 1856 года. Набор рассказа был поэтому насколько возможно ускорен: рукопись была роздана по отдельным листам восьми наборщикам, а последние листы были даже разрезаны на несколько частей.
1 января нового 1856 года Толстой держал корректуру рассказа. 12 января первая книжка «Современника» с рассказом Толстого вышла из печати. Рассказ впервые был подписан полным именем автора: «Граф Л. Толстой». В оглавлении после имени автора было прибавлено: «печатавшего первые свои повести: «Детство», «Отрочество», «Севастополь в декабре месяце» и другие под литерами Л. Н. Т.». В объявлениях о выходе первого номера «Современника», напечатанных в газетах «Русский инвалид», «Северная пчела», «Петербургские ведомости», «Московские ведомости», в оглавлении журнала после полного имени автора «Севастополя в августе», в скобках было проставлено: «Л. Н. Т.». Это показывает, как высоко ценили читатели произведения, подписанные этими буквами41.
Рассказ Толстого был напечатан в «Современнике» с большим количеством цензурных пропусков и смягчений. Целиком была выпущена глава 5 (об офицере, добровольно пошедшем в действующую армию). Многие (но не все) цензурные пропуски были восстановлены автором в отдельном издании «Военных рассказов» 1856 г.
27 декабря 1855 г. Толстой получил перевод из действующей армии в Петербургское ракетное заведение, изготовлявшее ракеты для морского ведомства и Кавказского края. Служба была, повидимому, если не совершенно фиктивной, то во всяком случае не обременительной для Толстого.
Толстому представлялась в то время и другая возможность продолжения своей военной карьеры, которой он не воспользовался. Об этом он много лет спустя рассказывал:
«После Крымской войны посылали в Китай людей. Приятель уговаривал меня пойти в инструкторы артиллерийских офицеров. Помню, я очень колебался. Товарищ поехал, Балюзек, который получил и другие поручения (с восточными народами
18
поступают хитро). Стал позже послом. Может быть и я стал бы послом...»42.
26 марта 1856 г. Толстой получил чин поручика, как сказано в его формулярном списке, «за отличие в сражении против турок, англичан и французов 4 августа 1855 г. при Черной речке».
IV
В ноябре 1855 г. Толстой получил от своей сестры известие о том, что их брат Дмитрий очень болен. Толстой больше года не переписывался с братом Дмитрием и отдалился от него вследствие его беспорядочной жизни. Теперь, узнавши, что брат опасно болен, Толстой, как только получил отпуск, 1 января поехал в Москву, откуда проехал в Орел, где проживал тогда Дмитрий Николаевич.
Приехав в Орел 9 января, Толстой нашел брата умирающим от туберкулеза. «Он был ужасен, — рассказывает Толстой в «Воспоминаниях». — Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие»43.
Дмитрий Николаевич не сознавал безнадежности своего положения. Толстой рассказывает, как его брат потребовал, чтобы ему принесли чудотворную икону, и с верой в чудодейственную силу этой иконы молился на нее. Ухаживали за Дмитрием Николаевичем его сестра с мужем, тетушка Татьяна Александровна и, кроме них, его подруга, бывшая проститутка Маша. Это была первая женщина, которую он узнал. Через некоторое время он выкупил ее из публичного дома и взял к себе. По своей болезненной раздражительности он за полтора года до смерти отпустил ее, но потом опять призвал к себе, и она оставалась с ним до самой его смерти. Как писал В. П. Толстой Т. А. Ергольской, «эта особа, — так презрительно называл он женщину, самоотверженно ухаживавшую за его умирающим шурином, — находится постоянно при нем, так как, говорит Николенька, она одна может за ним ухаживать, потому что болезнь сделала его до такой степени нетерпеливым и капризным, что никто ему не может угодить»44.
Толстому было очень мучительно видеть предсмертные страдания брата. «Мне ужасно тяжело», — записал он в дневнике 10 января. У него исчезло все то недовольство братом за его беспутный образ жизни, которое раньше он испытывал. Чувствуя
19
себя бессильным помочь брату и видя его окруженным заботливым уходом, Толстой на другой день уехал в Москву.
В Москве Толстой пробыл всего около четырех недель. Здесь он познакомился со славянофилами — Сергеем Тимофеевичем и Константином Сергеевичем Аксаковыми (Ивана Сергеевича не было тогда в Москве). Считая Аксаковых людьми, знающими и любящими крестьянский быт, Толстой прочел им написанные им главы «Романа русского помещика», прося дать «самые строгие замечания»45.
Толстой произвел на Аксаковых очень благоприятное впечатление. «Мы оба с Константином очень рады знакомству с графом Толстым, — писал С. Т. Аксаков Тургеневу 7 февраля 1856 г. — Он умен и серьезен; он способен понимать строгие мысли, в какие бы пустяки ни вовлекала его пошлая сторона жизни». Далее Аксаков писал, что ставит Толстого очень высоко «по задаткам, которые он дал нам», а узнав его лично, еще больше надеется «на его будущую литературную деятельность»46.
Познакомился Толстой в Москве также с поэтессой Е. П. Ростопчиной, которой выразил свое желание познакомиться с Островским. 25 января Ростопчина писала Островскому, что с ним желает познакомиться «удивительно симпатичное существо — граф Лев Толстой»47. Состоялось ли знакомство Толстого с Островским в Москве или же в Петербурге, куда вскоре приехал Островский, неизвестно.
Накануне отъезда из Москвы Толстой пишет Константину Аксакову, повторяя просьбу, высказанную устно, прочесть корректуры «Романа русского помещика», когда он будет печататься, и выражает сожаление, что не будет иметь времени приехать туда, куда ему «больше всего нужно, полезно и приятно было бы приехать» (т. е. к Аксаковым)48.
Не позднее 29 января Толстой вернулся в Петербург. Теперь он поселился уже не у Тургенева, а на собственной квартире, в доме Якобса на Офицерской улице.
29 января Толстой после обеда у Некрасова вместе с Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем (с которым он тогда только
20
что познакомился)49, Чернышевским и Дружининым слушает «предполагаемое собрание очищенных [т. е. отредактированных Тургеневым] стихотворений» Фета. «Впечатление осталось отличное», — прибавляет записавший об этом чтении в своем дневнике Дружинин. К этому же времени относится, очевидно, и более близкое знакомство Толстого с Фетом, который произвел на него очень приятное впечатление. «Фет очень мил», записал Толстой в дневнике 4 февраля50. И позднее, 12 мая, встретившись с Фетом на обеде у Некрасова, Толстой записывает: «Фет душка и славный талант».
31 января Толстой вместе с Майковым, Анненковым, Гончаровым, Фетом, Панаевым и Григоровичем слушает у Некрасова новый перевод «Короля Лира» Шекспира, сделанный Дружининым. «Вечером, — пишет в этот день в дневнике Дружинин, — я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира». 3 февраля Дружинин уже сообщает Боткину, что «Толстой покупает себе Шекспира и хочет с сим великим мужем примириться»51.
V
2 февраля из письма К. А. Иславина Толстой узнал о смерти брата Дмитрия, скончавшегося 22 января. Известие о смерти Д. Н. Толстого привезла в Москву его подруга Маша, которая рассказывала, что он только за несколько часов до смерти понял безнадежность своего положения, стал требовать священника, потом доктора, которого умолял дать ему возможность как-нибудь переехать в Ясную Поляну, чтобы там спокойно умереть; если же этого нельзя, то хоть на два часа продлить его жизнь, чтобы он успел написать духовное завещание. Он очень метался перед смертью, и доктор дал ему каких-то капель, от которых он успокоился, заснул и уже больше не проснулся. Незадолго до смерти он просил, чтобы его похоронили в Ясной Поляне, что и было исполнено.
Впоследствии Толстой писал, что, по его мнению, главной причиной смерти его брата была не болезнь, но душевные страдания, происходившие от недовольства самим собою. «Думаю, — писал Толстой в «Воспоминаниях», — что не столько дурная, нездоровая
21
жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм»52.
Толстой очень тяжело перенес смерть брата. «Вы не можете себе представить, — писал он тетушке Пелагее Ильиничне на другой день по получении известия, — как для меня, именно для меня, тяжела эта утрата»53.
Характерный для понимания личности Толстого штрих, связанный с никогда не прекращавшейся в нем работой самоанализа, находим в воспоминаниях А. А. Толстой. Она рассказывает, что в тот самый день, когда Толстой получил известие о смерти брата, был вечер у ее сестры, на который и Толстой был приглашен. Утром она получила от него записку с извещением, что он не может у нее быть вследствие полученного им известия. К удивлению своему, вечером она увидела, что Толстой все-таки приехал и в ответ на возмущенный вопрос с ее стороны, зачем он приехал, ответил: «Потому что то, что я вам написал сегодня утром, было не правда. Вы видите, я приехал, следовательно, мог приехать». «Мало того, — рассказывает далее А. А. Толстая, — через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр. «И, вероятно, вам было очень весело?» — говорю я еще с большим негодованием. — «Ну, нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе». «При вашем усиленном стремлении быть правдивым, — пишет далее А. А. Толстая, — вы искажаете правду», — говаривала я ему в подобных случаях, и он даже с этим соглашался, но не мог удержаться от экспериментов над самим собою. — «Хочу проверить себя до тонкости», — говорил он»54.
Всю жизнь помнил Толстой своего неудачника брата и его несчастную жизнь. Он увековечил его в «Анне Карениной» в образе Николая Левина, которому придал многие черты характера своего брата. Фигурирует в романе и его подруга Маша, с которой у него сложились такие своеобразные отношения. После «Анны Карениной», почти 30 лет спустя после смерти брата, в письме к бывшему учителю своего сына В. И. Алексееву, написанном в ноябре 1882 г., Толстой дал такую характеристику брату Дмитрию: «Очень слабый ум, большая чувственность и святое сердце. И все это свяжется таким узлом, что нельзя распутать — и разрывается жизнь»55.
22
И наконец, в 1904 г. Толстой посвятил брату Дмитрию целую главу своих «Воспоминаний», написанную с глубоким чувством.
VI
6 февраля 1856 г. у Толстого произошло первое нам известное принципиальное столкновение с сотрудниками «Современника». В этот день, как записано у него в дневнике, он «поссорился с Тургеневым»56. Об этом столкновении сохранились рассказы Тургенева и Некрасова в письмах к В. П. Боткину.
Некрасов писал 7 февраля: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ [«Метель»] и отдает его мне на третью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Чорт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант! А что он говорил, собственно, то можешь все найти в «Северной пчеле»57.
Тургенев писал Боткину 8 февраля: «С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня за обедом у Некрасова он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. — Спор зашел очень далеко — словом — он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете. — Когда-нибудь расскажу тебе, а писать неловко»58.
О том же самом споре рассказывает и Григорович в своих воспоминаниях:
«Обед прошел благополучно. Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Жорж Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы ради назидания привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам»59.
Спор о Жорж Санд, имевший в своей основе принципиальное расхождение, обострился еще по причинам личного характера
23
с той и с другой стороны. Толстой, по его собственным словам, с пятнадцати лет мечтавший о семейной жизни, в Севастополе чувствовавший, как писал он брату Сергею, недостаток женского общества, вследствие чего боялся загрубеть, — сделавшись свободным человеком, стал усиленно думать о женитьбе. Уже 3 февраля 1856 г. он пишет тетушке Юшковой, что с некоторого времени серьезно думает о женитьбе и на каждую барышню, которую встречает, смотрит с точки зрения возможного брака.
Флирт в то время (как и во всю его дальнейшую жизнь) нисколько не занимал Толстого. Кокетливая Л. П. Шелгунова, жена шестидесятника Н. В. Шелгунова, рассказывает в своих воспоминаниях, что в зиму 1855/56 года она имела большой успех в маскарадах, устраивавшихся в Благородном собрании в Петербурге. Ее поклонниками были Тургенев, Дружинин, Аполлон Григорьев. «Способ мой интриговать, — рассказывает Шелгунова, — так нравился Тургеневу, что он просил меня не только заинтриговать, но и непременно завертеть молодого писателя графа Л. Н. Толстого». Исполняя желание Тургенева, Шелгунова на следующем маскараде, усевшись на диване рядом с Толстым, пыталась его заинтересовать. Тургенев издали наблюдал за ними. «Но все мое искусство говорить, — рассказывает Шелгунова, — вся моя болтовня не привели ни к чему. Я не могла заинтересовать своего собеседника и очень скоро вернулась к Тургеневу и сказала ему, что чары мои бессильны, что это какой-то волчонок»60.
Толстой смотрел на брак, как на святыню, как на вечный, нерушимый союз, как на полное и всестороннее единение чувств и мыслей, как на единственную основу нормальной семейной жизни. При таком взгляде свободная любовь в духе Жорж Санд, как понимал ее Толстой, представлялась ему крайним извращением понятия о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной и полным осквернением брака61. Со стороны же сотрудников «Современника» острота спора, кроме принципиальной стороны вопроса, усиливалась из-за личных отношений хозяина дома к жене Панаева, которые, конечно, были известны и Толстому. Недаром Тургенев писал Боткину, что ему «неловко» писать все о столкновении с Толстым.
Свойственные Толстому в молодости, с одной стороны, беспокойный скептицизм, с другой — некоторый дух противоречия
24
и задора, иногда придавали его речам вызывающий характер. Уже в письме к сестре от 30 ноября 1855 г., всего через полторы недели по приезде в Петербург, Толстой в шутливом тоне сообщает, что хотя ему и нравится «умная беседа» с писателями и удобства жизни, которые он нашел в Петербурге, но «к несчастью, — пишет он далее, — я чувствую, что я уж слишком отстал от них, — в гостиной мне хочется развалиться, снять штаны и сморкаться в руку, а в умной беседе хочется соврать глупость»62.
В молодости Толстой нередко бывал очень резок и несдержан в спорах, демонстративно высказывая суждения, самые противоположные взглядам своих собеседников. Д. В. Григорович рассказывает: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей»63.
Так было, очевидно, и на этот раз. Толстой сгоряча наговорил много лишнего, что и дало повод Некрасову назвать его приверженцем лагеря булгаринской «Северной пчелы», газеты консервативного направления, доживавшей тогда свои последние годы. Все устои царской России того времени, в том числе и крепостное право, признавались «Северной пчелой» совершенно незыблемыми. В каждом номере газеты в слащаво-приторном тоне писалось о любви к богом данному монарху и о преданности православию. В вопросах литературных «Северная пчела» выступала противницей Гоголя и всей натуральной школы. С. Т. Аксаков, о котором «Северная пчела» отозвалась неодобрительно, 12 марта 1856 г. писал Тургеневу: «Северная пчела» не подозревает, до какой степени она утешила меня своею бранью. Я боялся ее похвал, как огня. Слава богу, меня ругают в такой газете, где не признают великого таланта Гоголя»64.
Нечего и говорить, как далек был Толстой в 1856 г. как от политических, так и от литературных взглядов «Северной пчелы».
25
Первое серьезное столкновение Толстого с сотрудниками «Современника» и в особенности с Тургеневым не надолго отдалило их друг от друга. Уже 19 февраля Толстой записывает в дневнике: «Обедал у Тургенева, мы снова сходимся». Еще раньше, 14 февраля, Толстой присутствовал на обеде у Некрасова по случаю приезда из Москвы Островского65.
15 февраля писатели, по инициативе Толстого, отправились в фотографию Левицкого сниматься группой. В состав группы вошли: Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский, Дружинин и Толстой. Некрасов отсутствовал, надо думать, только из-за серьезной болезни, которой он страдал в то время66. Экземпляр фотографии этой группы, неоднократно воспроизводившейся в печати, висит на стене яснополянского кабинета Толстого. На этой фотографии Толстой в военном мундире рядом с Григоровичем стоит позади других сидящих участников группы. По словам Г. П. Данилевского, знавшего Толстого в эти годы, этот портрет его был «очень схожий»67.
На обратной стороне фотографии, висящей в кабинете Толстого, автографы: Островского — 27 марта 1856 г., Дружинина — 29 марта, Гончарова и Тургенева — 30 марта68.
Тогда же Егор Петрович Ковалевский снялся один и преподнес Толстому свою фотографическую карточку с надписью: «Другу графу Л. Н. Толстому 8 марта 1856 г. Петербург»69.
VII
Новый рассказ, начатый Толстым в январе 1856 г. в Москве и оконченный в феврале в Петербурге, носил название «Метель».
26
Окончание рассказа отмечено Толстым в дневнике 12 февраля; авторская дата — 11 февраля.
Рассказ был задуман Толстым еще 24 января 1854 г., когда, уезжая с Кавказа, он всю ночь блуждал в метель близ станции Белогородцевской. Теперь, когда это длинное путешествие было уже далеко позади, Толстому приятно было вспомнить сильные ощущения, пережитые им в эту памятную ночь.
Весь рассказ проникнут бодростью, живостью и свежестью чувства молодости. Снежный буран изображен в нем со всеми подробностями так ярко, что читатель сам переживает все то, что переживал застигнутый бураном путник, видит непрерывно падающие густые хлопья снега и «дышащие морозом» лица ямщиков, слышит свист ветра и «заливистый» звон колокольчиков, испытывает ощущение проникающей во все поры зимней стужи. На фоне этого буйства природы изображены фигуры ямщиков, не чувствующих ни малейшего страха перед разбушевавшейся стихией. Подойдя к своей излюбленной теме, Толстой яркими чертами рисует силу, ловкость, находчивость, смелость, бодрость, бесстрашие русского трудового человека. Особенно привлекательной нарисована фигура молодого ямщика Игнашки, в котором все положительные качества выступают особенно ярко. В самую страшную бурю Игнашка, — рассказывает автор, — «запел какую-то песню... так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его».
Рассказ Толстого был прочитан в редакции «Современника» и вызвал общее одобрение. «Окончил «Метель», — записывает Толстой 12 февраля, — ей очень довольны».
25 февраля Толстой прочел вслух свой новый рассказ на званом вечере у князя П. А. Вяземского, где в числе других гостей присутствовали Тургенев и А. В. Никитенко70. По позднейшему воспоминанию Толстого, читая, он очень стеснялся и поэтому прочел свой рассказ плохо. На другой день он со своим приятелем, бароном Ферзеном, был в ресторане Дюссо и там услыхал, как какой-то офицер рассказывал, что накануне он слышал плохое чтение графа Толстого71.
«Метель» появилась в мартовской книжке «Современника» за 1856 г. В объявлении о выходе этого номера журнала, напечатанном в газете «Русский инвалид»72, в перечислении содержания
27
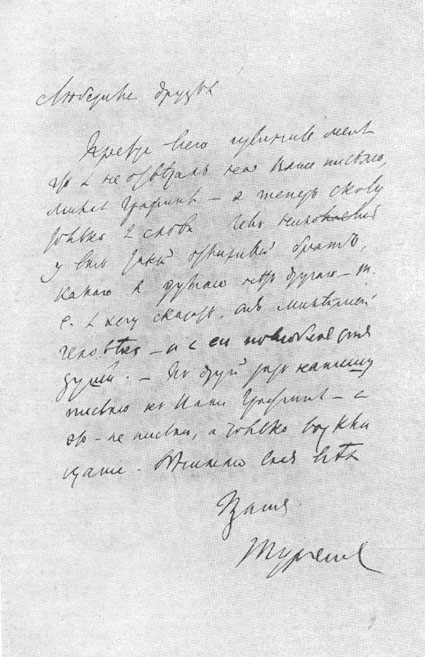
Приписка И. С. Тургенева к письму Л. Н. Толстого,
адресованному М. Н. Толстой 30 ноября 1855 г.
28
книжки после фамилии автора «Метели» вновь было проставлено в скобках: «Л. Н. Т.» Знатоки литературы оценили «Метель» очень высоко. Тургенев в письме к С. Т. Аксакову от 27 февраля называет рассказ Толстого «превосходным»73. В ответ на письмо Тургенева 12 марта 1856 г. С. Т. Аксаков писал: «Скажите пожалуйста графу Толстому, что «Метель» превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно. Хотя я мало с ним знаком, но не боюсь сказать ему голую правду»74.
Герцен, получив сразу несколько номеров русских журналов и прочитав рассказ Толстого, нашел, что рассказ «Метель» — это «чудо»75. Рассказ Толстого, очевидно, живо напомнил Герцену его родину, которую он уже так давно принужден был оставить и по которой так сильно тосковал. В том же 1856 г. в статье «Ответ», напечатанной но второй книге «Полярной Звезды», Герцен высказал свое мнение о «Детстве» Толстого в следующих выражениях: «Из новых произведений меня поразила своей пластической искренностью повесть графа Толстого «Мое детство»76.
Интересен отзыв о «Метели» А. В. Сухово-Кобылина, в то время закончившего свою пьесу «Свадьба Кречинского». 31 марта 1856 г. он писал в своем дневнике: «Получил «Современник». «Метель» Толстого — превосходная вещь. Художественная живость типов. Меня разобрало — пришлось еще пробежать комедию»77.
VIII
«Нахожусь уже недели три в тумане», — записывает Толстой в дневнике 12 марта.
В таком «тумане» находился Толстой вечером 19 марта, когда дело едва не дошло у него до дуэли с одним из сотрудников «Современника» — М. Н. Лонгиновым78. В письме Некрасова
29
к Лонгинову от 20 марта 1856 г.79 сообщаются следующие подробности этого эпизода.
Дело было на квартире у Некрасова. Происходила игра в карты. Некрасову принесли из конторы «Современника» пакет от Лонгинова из Москвы на имя Панаева. Некрасов, который должен был сдавать карты, распечатав пакет, передал письмо Лонгинова Толстому, прося прочесть его вслух. Толстой стал читать; кроме него и Некрасова, присутствовали еще два лица. В письме оказались какие-то оскорбительные для Толстого выражения, которых Некрасов в своем письме к Лонгинову не повторяет. По записи рассказа самого Толстого об этом эпизоде, сделанной П. И. Бирюковым80, Лонгинов намекал на какие-то личные счеты с Толстым, называл его в своем письме дрянью. По записи П. А. Сергеенко, также слышавшего об этом факте от самого Толстого, Лонгинов в своем письме спрашивал Некрасова, правда ли, что Толстой человек «с дрянной душонкой», то есть не разделяет некоторых либеральных воззрений81. Прочитав письмо Лонгинова, Толстой сложил его, возвратил Некрасову и, не говоря ни слова, вышел. Придя к себе, он тотчас же написал Лонгинову резкое письмо с вызовом на дуэль, о чем на другой день поставил в известность Некрасова. Некрасов письмом известил Лонгинова о случившемся, а Толстому сказал, что если он хочет драться с Лонгиновым, то прежде должен драться с ним, с Некрасовым, так как он считает себя виновником всего происшедшего, неосторожно давши Толстому письмо, адресованное другому лицу.
Лонгинов на вызов Толстого не ответил, а Толстой был так потрясен всей этой историей, что у него даже явилась мысль, как записал он в дневнике 21 марта, совершенно порвать с Петербургом и с литературными кругами, уехать к себе в деревню, «поскорей жениться и не писать более под своим именем». Решение не писать больше под своим именем исчезло, как только затихла история с Лонгиновым; но желание получить отпуск и уехать в деревню осталось и еще больше усилилось с наступлением весны.
В апреле Толстой подает прошение об отпуске на 11 месяцев — на три месяца в деревню и на восемь месяцев за границу для лечения.
30
IX
Еще находясь у умирающего брата в Орле, Толстой, как тогда же записал он в дневнике, задумал какую-то драму. Не исключена возможность, что прототипом одного из действующих лиц задуманной драмы должен был быть его несчастный брат.
19 февраля Толстой записывает четыре занимавшие его в то время замысла. Он решает писать прежде всего «Епишку» или «Беглеца». Здесь мы находим первое упоминание о замысле художественного произведения, героем которого должен быть старый казак дядя Епишка, причем замысел этот не сливается с замыслом начатой кавказской повести «Беглец». Во вторую очередь Толстой предполагает писать — теперь уже не драму, а комедию, в третью — продолжать «Юность».
Под 12 марта в дневнике Толстого записано: «План комедии томит меня». Никаких пояснений о том, в чем состоял этот план, в дневнике не сделано.
12 марта Толстой отмечает в дневнике и свой новый замысел — повесть «Отец и сын».
16 марта Толстой пишет тетушке Ергольской (перевод с французского): «Я стараюсь бывать в свете как можно меньше и работать как можно больше», прибавляя затем по-русски: «И охоты и мыслей много, да не знаю, что выйдет».
14 апреля новая повесть была закончена, а 19-го окончательно отделана для печати. По совету Некрасова повести дано было название «Два гусара».
Как и рассказ «Метель», повесть «Два гусара» в основном построена автором на личных воспоминаниях. Главный герой повести — гусар граф Турбин-отец, в котором явственно проступают черты Федора Ивановича Толстого Американца. Главная отличительная черта графа Турбина — не знающее никаких границ удальство, часто переходящее в буйство. Как рассказывает автор, все те, кому приходилось видеть Турбина в первый раз, сейчас же располагались в его пользу «его прекрасной и открытой наружностью». Чувствуется, что и сам автор любуется своим героем, несмотря на оговорку о том, что герой его был одержим «буйными, страстными и, говоря правду, развратными наклонностями прошлого века».
Второй главный персонаж повести — русская деревенская барышня Лиза, «деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина». Сам мечтавший в то время о женской любви и страдавший от ее отсутствия, Толстой с большой любовью рисует этот женский портрет, впервые на пятом году его литературной деятельности появившийся в его творчестве (если не считать идеальный образ maman в «Детстве»). У Лизы «блестящие глазки, привыкшие улыбаться и
31
радоваться жизнью», «звучный голосок», «румяные щечки». Выражение ее лица «так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста». У Лизы «неиспорченное умом доброе, прямое сердце». Этими словами автор противопоставляет Лизу, с одной стороны, «либеральным философам женщинам» (вроде Антонины Блудовой), которых он встречал в Петербурге, а с другой стороны, быть может, себе самому, так как в записи дневника от 21 марта (в то самое время, когда писалась повесть) Толстой упрекает себя в том, что он иногда «позволял уму становиться на место чувства и то, что совесть называла дурным, гибким умом переводить на то, что совесть называла хорошим».
Около этих двух персонажей группируются остальные действующие лица повести.
Как контраст с Турбиным-отцом, дается образ его сына, в котором нет и тени того удальства и того широкого размаха, какими отличался его отец. Рядом со своим отцом Турбин-сын представляется фигурой мелкой и ничтожной; очевидно, такое впечатление от этого образа входило в намерение автора.
К числу второстепенных лиц повести относится также предмет внезапного увлечения Турбина-отца — хорошенькая вдовушка Анна Федоровна, для характеристики которой автор находит следующее поэтическое сравнение: «Глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле». Брат Анны Федоровны, называющий себя кавалеристом, но в действительности никогда им не бывший, изображается автором с нескрываемой иронией. По отношению к нему Толстой пользуется приемом, примененным им в Севастопольских рассказах: поправлять своих героев, когда они говорят неправду.
В повести дан еще целый ряд других второстепенных лиц: юный, неопытный в жизни робкий корнет Ильин, помещик шулер Лухнов, другой корнет Полозов, благородный юноша, возмущающийся наглым поведением молодого Турбина по отношению к Лизе, и представлена типичная картина дворянских выборов в дореформенной России, заканчивающихся диким кутежом. Разгулявшееся «благородное дворянство» изображено здесь в очень непривлекательном свете.
Мыслей, высказываемых прямо от лица автора, в повести немного. Толстой пользуется случаем описания летней ночи для того, чтобы повторить свою излюбленную идею об умиротворяющем воздействии природы на человека. Как и в других произведениях этого периода («Юность», «Семейное счастье»),
32
Толстой с особенной силой говорит о благотворном действии на душу человека именно ночной природы. «Ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви». О Лизе, сидящей ночью у открытого в сад окна, сказано, что «вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой». Даже пустой и ничтожный граф Турбин-сын чувствует на себе это благотворное действие тихой лунной летней ночи.
Из художественных приемов, применяемых Толстым в «Двух гусарах», важно отметить тонкое использование приема внутреннего монолога при описании душевного состояния уланского корнета Ильина после крупного карточного проигрыша82. Бессвязные, перескакивающие с предмета на предмет размышления находящегося в состоянии безвыходного отчаяния корнета Ильина предваряют подобные же, но проникнутые гораздо более глубоким отчаянием размышления Анны Карениной перед ее самоубийством. (У Ильина позднее также рождается мысль о самоубийстве.)
Новая повесть Толстого 13 апреля была прочитана автором Тургеневу, который «хлопал себя по ляжке и говорил, что прелестно»83. Некрасову также очень понравилась новая повесть Толстого. 17 апреля он писал В. П. Боткину: «Толстой написал превосходную повесть «Два гусара», она уже у меня и будет в 5 № «Современника». Милый Толстой! Как журналист, я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится»84. Боткин также находил, что повесть Толстого — «прелесть»85.
Чернышевский в своей статье 1856 года отметил, что в повести «Два гусара» Толстой «сделал шаг вперед», и высоко оценил ту часть повести, в которой изображена «чудная фигура девушки, сидящей у окна ночью», томящейся «предчувствием любви»86.
Одновременно с работой над новой повестью Толстой предпринимает отдельное издание своих военных рассказов, куда вошли «Набег», «Рубка леса» и три Севастопольских рассказа. Он пишет новое окончание «Севастополя в августе», дающее гораздо более сильную и яркую картину оставления русскими
33
войсками Севастополя и настроения русских войск после сдачи города.
К весне 1856 г. относится возникновение придуманного «предприимчивым и энергичным» Некрасовым проекта исключительного сотрудничества некоторых писателей в «Современнике». Уже 14 февраля Дружинин записывает в своем дневнике, что, после обеда у Некрасова в честь приехавшего из Москвы Островского, Толстой и Григорович сообщили ему о проекте соглашения группы писателей, и их в том числе, с редакцией «Современника» о том, что с будущего года они все свои новые произведения будут печатать исключительно в «Современнике».
Вскоре (не позднее апреля) Григорович, Островский, Толстой и Тургенев заключили с редакцией «Современника» «обязательное соглашение» относительно того, что впредь они будут все свои новые произведения печатать исключительно в «Современнике». Редакция «Современника», со своей стороны, обязывалась выплачивать этим авторам не только гонорар, но и известный процент с чистой прибыли от издания журнала. Соглашение было заключено сроком на четыре года87.
X
Имея еще некоторое отношение к военной службе, Толстой продолжает размышлять о предметах, с нею связанных.
19 апреля он записывает в дневнике, что «привел в порядок бумаги» и хочет приняться «за серьезную работу «о военных наказаниях». В архиве Толстого сохранились три черновых наброска статьи о военно-уголовных наказаниях88. Возможно, что первые два из этих набросков были написаны еще в Севастополе, и внешним поводом к тому, чтобы вновь взяться за работу о русском военно-уголовном законодательстве, послужило то, что, просматривая свои начатые работы, Толстой нашел среди них и эти два наброска. Первый набросок имеет зачеркнутое заглавие — «Из записок артиллерийского офицера».
Толстой начинает свою статью с общего теоретического введения о различии «военного общества» от «гражданского общества». По мнению Толстого, цели и задачи «военного общества» совершенно противоположны целям и задачам «гражданского общества». Целью «гражданского общества» является «осуществление идеалов вечной правды, добра и общего счастья», в то время как «военное общество есть одно из орудий, которым осуществляется современная правда». Военное общество,
34
говорит Толстой, ненормально: то, что считается преступлением в гражданском обществе, не считается преступлением в военном, и наоборот. По мнению Толстого, целью законов гражданских является справедливость, в то время как «цель военного общества — сила».
После такого вступления Толстой переходит к основному предмету своей статьи — рассмотрению русского военно-уголовного законодательства. Высказав свое убеждение о том, что «военные дела решаются не огнем и мечом, а духом», Толстой останавливается на различных видах наказаний, применявшихся в то время в русской армии. Кратко коснувшись существовавшего в то время варварского истязания солдат, часто оканчивавшегося смертью, — прогнания сквозь строй, Толстой отмечает всеобщее развращающее действие этого наказания, при котором «палачи — все», и его нецелесообразность, так как при применении этого наказания «ужас только в зрителях», и с возмущением задает вопрос: «Кто решил, что мало простой смерти?» Так же кратко касается Толстой и применявшегося в то время в армии наказания розгами. Толстой и этот вид наказания, налагавшегося по произволу ближайших начальников, считает не достигающим цели, не приводящим к исправлению наказуемого и не оказывающим устрашающего действия. На этом первый набросок заканчивается.
Второй набросок представляет незаконченную вторую редакцию первого. Новым здесь является оправдание существования «военного общества», «несмотря на несправедливость его». Оправдание это Толстой видит в том, что «ни одно общество не осуществляет вполне и прямо общих целей вечной справедливости, а путем современной несправедливости все идут к общей и вечной правде».
По неопределенности и неясности этой формулировки видно, что вопрос был неясен для самого автора. Несомненно, что Толстой и в то время не всякую войну считал ведущей «к общей и вечной правде».
Третий набросок представляет собою план широко задуманной работы по данному вопросу. В нем Толстой ставил своей задачей подробно рассмотреть русское военно-уголовное законодательство по сравнению с законодательствами западноевропейских государств. План проникнут таким же отрицательным отношением к русскому военно-уголовному законодательству того времени, как и два первых наброска. Толстой отмечает, что дух русского военно-уголовного законодательства — это признание солдат людьми, стоящими «на низшей ступени»; что употребляемые в войсках наказания не приводят к повышению дисциплины, а являются «средством к угнетению». Он разделяет применяемые в войсках наказания на «необходимые» и «случайные»,
35
не указывая, однако, в чем состоит различие тех и других. Что касается той формы наказаний, какую Толстой называет «наказаниями случайными», то он отмечает их «бесчеловечность, непонятность, недостижение цели, несправедливость, вредное влияние на наказуемых и наказывающих», ведущее к упадку духа. Подтверждением каждого из этих положений должны были служить «факты, случаи, лица, характеры».
Возможно, что план этот был написан вскоре после записи 19 апреля о намерении взяться за «серьезную работу» о военно-уголовном законодательстве, но новые петербургские впечатления уже заслонили в сознании Толстого впечатления его недавней военной жизни. Дальше составления плана работа по критике русского военно-уголовного законодательства не пошла, но как этот план, так и два предыдущие наброска, с полной очевидностью показывают совершенно отрицательное отношение Толстого к системе русского дореформенного военно-уголовного законодательства.
XI
«Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России»89.
По окончании Крымской войны царское правительство начинает понимать необходимость отмены крепостного права.
19 февраля 1855 года, при вступлении на престол Александра II, министром внутренних дел С. С. Ланским был разослан предводителям дворянства циркуляр, в котором было сказано, что новый царь «повелел» министерству «ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству». Этими словами крепостное право признавалось незыблемым установлением, и отнималась всякая надежда на его уничтожение. Но уже в манифесте 19 марта 1856 года по поводу заключения Парижского мира появились неясные, но что-то обещавшие слова: «Каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных».
Через несколько дней после издания этого манифеста Александр II, будучи в Москве, обратился к предводителям дворянства с речью, в которой заявил: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам? Это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастию, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому притти.
36
Я думаю, что и вы одного мнения со мною; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу»90.
Эта речь царя не была опубликована, но слух о ней быстро распространился по всей стране91. Вопрос об освобождении крестьян, о котором раньше думали только передовые умы, теперь становится предметом широкого обсуждения. Вот что 17 марта 1856 г. писал К. Д. Кавелин М. П. Погодину о настроении либерального Петербурга: «Здесь, в Петербурге, общественное мнение расправляет все более и более крылья. Нельзя и узнать больше этого караван-сарая солдатизма, палок и невежества. Все говорит, все толкует вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкует и через это, разумеется, учится... Царь поднял сам вопрос об освобождении крепостных в разговоре с двумя предводителями — воронежским и рязанским. С его легкой руки и пошли толковать, и теперь толкуют открыто, гласно, везде, всюду, совещаются, идет обмен мыслей и статей, и проектов множество или уже написано или пишутся, и мысль созревает... Помещики самые дикие осуждены на молчание; масса даже степных бар, приезжающих сюда, согласна, что положение невыносимо»92.
Для Толстого, который еще в Севастополе сделался решительным противником крепостного права, вопрос отмены крепостного права был, прежде всего, вопросом нравственного порядка. «Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас всех, хороших людей», — говорил впоследствии Толстой устами Левина о своем отношении к крепостному праву93.
Впервые вопрос о крепостном праве с личной точки зрения поставлен Толстым в записи дневника от 22 апреля 1856 года: «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня», — записано у Толстого в этот день. Нет сомнения, что внимание Толстого к разрешению вопроса о владении крепостными усилилось под воздействием бесед с членами редакции «Современника».
37
Признав несправедливость крепостного права, Толстой сейчас же ставит перед собой задачу прежде всего освободить своих собственных крестьян. Но ему было совершенно неясно, в каких формах может быть осуществлено это освобождение. Повидимому, первоначально Толстой представлял себе освобождение путем наделения крестьян определенными участками земли, переходящими в их полную собственность. В архиве Толстого сохранилась небольшая заметка о фермерстве, как форме освобождения крестьян94.
Кто-то из редакции «Современника» познакомил Толстого с одним из сотрудников этого журнала К. Д. Кавелиным95, который еще в марте 1855 года написал записку об освобождении крестьян. Вечером 23 апреля Толстой побывал у Кавелина, в котором усмотрел «прелестный ум и натуру», и уехал от него «веселый, надежный, счастливый», так как вопрос о формах освобождения крестьян для него уяснился, и у него явилась надежда приехать к себе в деревню «с готовым писаным проектом».
Записка Кавелина о необходимости отмены крепостного права, с которой он, очевидно, вкратце познакомил Толстого, в то время еще не была напечатана. Извлечения из записки Кавелина были напечатаны в 1858 году Чернышевским в его статье «О новых условиях сельского быта»96. Объясняя появление на страницах «Современника» извлечений из записки Кавелина, Чернышевский писал: «Из многочисленных записок, составлявшихся по вопросу о прекращении крепостного права учеными исследователями нашего быта и сельскими хозяевами, мы избираем одну, которая составлена с наибольшею верностью принципам, вполне разделяемым нами, с наиболее точным применением этих начал ко всем подробностям великого дела, и принимаем эту записку, как выражение наших собственных мнений и желаний»97.
Содержание записки Кавелина в основном сводится к следующему.
В первой части записки автор указывает на те причины, по которым крепостное право должно быть уничтожено. Он разделяет эти причины на три категории: экономические, нравственные
38
и политические. В отношении экономическом крепостное право «приводит все государство в ненормальное состояние и рождает искусственные явления в народном хозяйстве, болезненно отзывающиеся в целом государственном организме». Пагубным последствием «несвободной и даровой работы» является то, что при такой работе, «исполняемой лениво и неохотно, по крайней мере вдвое хуже вольной», значительная часть рабочего времени растрачивается «без всякой пользы как для помещиков, так и для крепостных, а следовательно, и вообще для государства». Кроме того, так как помещики имеют право прикреплять крепостных к той или другой местности случайно, то огромная масса сельского народонаселения лишена возможности «расселиться правильным образом». Наконец, «владельцы при направлении промышленной деятельности своих крепостных не всегда сообразуются с местными условиями края, а весьма часто только с собственными, нередко невежественными, случайными и для них самих убыточными понятиями о вещах».
В нравственном отношении вред крепостного права состоит в том, что оно является источником «необузданного произвола и притеснений, с одной стороны, и раболепства, лжи и обмана — с другой». Вследствие существования крепостного права владелец «с детства приобретает привычку предаваться праздности и тунеядству». «Крепостное право есть неиссякаемый источник насилий, безнравственности, невежества, праздности, тунеядства и всех проистекающих отсюда пороков и даже преступлений».
Наконец, третьей причиной, заставляющей желать скорейшей отмены крепостного права, является причина политическая. Крепостное право было одной из главных причин «наших несчастий в начале XVII века; бунты Стеньки Разина, Пугачева и других менее известных героев и атаманов буйной вольницы... восставали и поднимались из мутных источников крепостного права». «Огромные толпы, чуть не полчища разбойников, опустошавшие Россию в XVII—XVIII и даже в начале XIX века, вербовали своих сподвижников преимущественно из крепостных». И теперь, — говорит автор, — «полумирные восстания крепостных постепенно принимают все более и более обширные размеры». «При неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться пожар, которого последствия трудно предвидеть». «Искусственное и напряженное состояние государства... может привести, наконец, к внезапному перевороту, который вовлечет в общую погибель и слабые зачатки гражданственности и просвещения, ... и дворянство, и власть, и самую политическую независимость России».
После такого общего введения Кавелин переходит к изложению
39
тех принципов, на основании которых, по его мнению, должно быть произведено освобождение крестьян. Он формулирует эти принципы в следующих трех пунктах:
1) крепостных следует освободить вполне, совершенно из-под зависимости от их господ;
2) их надлежит освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею;
3) освобождение может совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев.
Уже на другой день после свидания с Кавелиным, 24 апреля, Толстой набрасывает конспекты проекта освобождения своих крепостных. Эти набросанные Толстым конспекты сохранились в его архиве в двух редакциях98. На проекте, составленном Толстым, заметно влияние проекта Кавелина. Однако Толстой в своем проекте идет дальше Кавелина, предполагая дать крестьянам в собственность бесплатно по полдесятины земли.
Вечером того же дня Толстой слушает полностью (не сказано, у кого) чтение всего «прелестного», как он называет его в дневнике, проекта Кавелина.
Всецело увлеченный своим начинанием, Толстой на следующий день 25 апреля едет к будущему видному деятелю крестьянской реформы Николаю Александровичу Милютину, родному брату товарища детских игр братьев Толстых Володеньки Милютина. От Н. А. Милютина Толстой узнает многое по занимающему его вопросу и получает какой-то другой проект освобождения крестьян. В тот же день Толстой пишет докладную записку товарищу министра внутренних дел А. И. Левшину по некоторым частным вопросам освобождения крепостных. 6 мая Толстой опять видится с Милютиным99, который обещает устроить ему прием у Левшина.
10 мая Толстой написал докладную записку Левшину, где изложил основные пункты проекта освобождения яснополянских крестьян от крепостной зависимости, которые он хотел предложить им. Эти пункты сводились к следующему. Крестьяне уже теперь освобождаются от всяких повинностей в пользу помещика: барщины, столовых сборов, дворовой службы, оброков. Взамен этого крестьяне будут платить помещику в течение 30 лет по пяти рублей серебром в год за каждую десятину земли, которой они пользуются. Каждое тягло (тяглом при крепостном праве называлась рабочая крестьянская семья) получает по четыре с половиной десятины земли. При этом помещик имеет дело не
40
с отдельными крестьянами, но со всей крестьянской общиной. Община распределяет по дворам всю переходящую к крестьянам землю, получает деньги с каждого двора и передает их помещику. По истечении 30 лет земля переходит в полную собственность крестьянской общины.
Таким образом, Толстой имел в виду теперь же предоставить всем своим крепостным полную личную свободу и отдать им землю по 150 рублей за десятину с рассрочкой на 30 лет.
В тот же день 10 мая Толстой был у Левшина, который принял его сухо, что вызвало в дневнике Толстого следующую запись: «За что ни возьмешься теперь в России, всё переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные».
Вечером того же дня на квартире у Некрасова Толстой написал проект условий освобождения своих крепостных и отправил его Левшину. Текст проекта неизвестен. Черновая редакция его начиналась словами:
«Помещик и крестьяне освобождаются от взаимных друг к другу обязанностей, как-то: со стороны крестьян — барщины, оброка, сборов и т. п., и со стороны помещика — прокормления, постройки изб, суда и т. п.»
Далее сказано, что помещик передает крестьянам по полдесятине на душу «в полную и безусловную собственность» и что вся пахотная земля, которой теперь пользуются крестьяне (не менее полутора десятин на тягло), передается во владение крестьянской общины. При этом крестьяне обязуются платить помещику в продолжение известного числа лет сумму в размере 101/2 процентов с ценности десятины. Из этой суммы полпроцента пойдет на выкуп земли, так что «по истечении известного срока земля становится безусловной собственностью общины». По желанию общины выкупной процент может быть увеличен; в таком случае земля перейдет в собственность общины в более короткий срок. Так, если размер выкупной суммы повысится до 13 процентов, то земля может быть выкуплена в течение 17 лет.
«Дворовые присоединяются к общине и платят государственные повинности и выкуп за землю по мирскому приговору общины».
12 мая Толстой вновь побывал у Левшина. Левшин сказал ему, что докладывал о его проекте министру и что министр одобрил его план и постарается утвердить подробный проект, если Толстой его доставит. Ответ министра представился Толстому «уклончивым», но это его не обескуражило, и он решает «несмотря на то» продолжать работать над своим проектом100.
41
XII
Отношения Толстого с Тургеневым в последние месяцы его пребывания в Петербурге весною 1856 года были очень неровные.
«С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся», — записывает Толстой 12 марта. Но уже 14 апреля Толстой читал Тургеневу своих «Двух гусаров», а 20 апреля «очень весело болтал» с ним. 25 апреля Толстой был у Тургенева и провел у него время «с удовольствием». После отъезда Тургенева из Петербурга в свое Спасское 10 мая Толстой пишет тетушке Т. А. Ергольской, что ему очень хочется поскорей уехать из Петербурга. «Тургенев уехал, которого я чувствую теперь, что очень полюбил, несмотря на то, что мы всё ссорились. Так что мне бывает ужасно скучно», — писал Толстой.
Сам Толстой никогда не писал и не рассказывал о своих столкновениях с Тургеневым, за исключением ссоры у Фета в 1861 году; но рассказы об этих столкновениях находим в нескольких мемуарах писателей, хорошо знавших и Толстого и Тургенева, а также в письме Некрасова к Толстому от 31 марта (12 апреля) 1857 года. Письмо Некрасова вместе с тем вскрывает и причины столкновений Толстого с писателями из круга «Современника», в особенности с Тургеневым. Вспоминая свои и Тургенева отношения с Толстым в первые месяцы минувшего года (он не виделся с Толстым с мая 1856 года), Некрасов писал:
«Мне кажется, не дикие и упорные до невозможной в Вас ограниченности понятия, которые Вы обнаружили (и от которых вскоре отступились) восстановили меня и некоторых других против вас, а следующее: мы раскрылись Вам со всем добродушием, составляющим, может быть, лучшую (как несколько детскую) сторону нашего кружка, а Вы заподозрили нас в неискренности, прямее сказать — в [не]честности. Фраза могла и, верно, присутствовала в нас безотчетно, а Вы поняли ее как основание, как главное в нас. С этой минуты уже нам не могло быть ловко, — свобода исчезла, — безотчетная или сознательная оглядка сделалась неизбежна. Большая часть поводов к разногласию давно исчезла: от многого Вы отказались, еще большее поняли, остальное само собой уничтожилось, будучи только минутным следствием застигнутого врасплох самолюбия, — а легче не стало. Отношения не могли стать на ту степень простоты, с какой начались, а следовательно, не могли двигаться вперед по пути сближения. На этом мы и стоим. Это мне кажется верным не только за себя, но еще более за Тургенева. Эта душа, вся раскрывающаяся, — при Вас сжалась, и как-то упорно не размыкается.
42
Грустно вас видеть вместе. Вы должны бы быть друзьями, а вы что?»101.
Наблюдения Некрасова вполне подтверждаются рассказами современников о столкновениях Толстого с Тургеневым. Так, Фет рассказывает об одном резком разговоре Толстого с Тургеневым, которого он был свидетелем. По воспоминаниям Фета, Толстой говорил Тургеневу:
«— Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.
— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б[елосельской]-Б[елозерской]!
— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить? И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения».
Предмет спора Толстого с Тургеневым для Фета остался неясен. «Хотя я понимал, — пишет он далее, — что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему слышанному мною в нашем кружке полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания»102.
Хотя Фет совершенно прав в своем утверждении, что общественно-политические воззрения Тургенева не отличались большой определенностью103, он, очевидно, не улавливает основной причины, вызывавшей столкновения Толстого с Тургеневым.
43
Основная причина столкновения лежала не только в разногласиях по политическим вопросам, но также и в том, что Толстой не верил в искренность и глубину либеральных воззрений Тургенева. По мнению Толстого, суждения, которые высказывал Тургенев, не были тем кровным убеждением, которое человек готов отстаивать ценою своей жизни, а были лишь «праздными разговорами», «фразой» (Толстой в то время любил употреблять это слово).
Так и понимал причину столкновений Толстого с Тургеневым хорошо знавший их обоих и считавшийся другом Тургенева П. В. Анненков. «В Тургеневе, — писал Анненков, — он [Толстой] распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту — последнее особенно раздражало его, так как искание жизненной правды и простоты и здравомысленности существования составляло и тогда идеал в его мыслях»104. Так же понимал причину столкновений Толстого с Тургеневым и писатель Евгений Гаршин, слышавший о них от самого Тургенева. Толстой, — говорил Гаршину Тургенев, — «никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит». «Иван Сергеевич говорил мне, — рассказывает Гаршин, — что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой». Толстому «казалось, что люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или стараются проявлять в себе такое качество, что они напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач»105.
Следует сказать, что присутствие «фразы» в речах Тургенева признавал не только Толстой, но и его брат Николай Николаевич, которого так любил и ценил Тургенев. 19 июля 1860 года он писал Фету, что любит его за то, что в нем «нет фразы, как например, в милейшем и пр. Иване Сергеевиче»106.
О причинах горячих споров Толстого с Тургеневым Фет писал 20 июня 1876 года107: «Я помню невообразимое негодование былого тургеневского кружка, когда вы напрямик им сказали, что их убежденье только фразы, а что убежденье правоты пошло бы сейчас в Зимний дворец с своей проповедью,
44
как сделал Лютер: Ich kann nicht anders, Gott hilf mir». [Я не могу иначе, да поможет мне бог].
Тургенев очень скоро подметил эту способность Толстого отыскивать «фразу» в речах своих собеседников. В своих воспоминаниях о Станкевиче, написанных в том же 1856 году, Тургенев писал: «Фразы в нем следа не было — даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем»108.
Толстой сам знал в себе эту склонность усиленно отыскивать «фразу» у своих собеседников. В его записной книжке под 14 июля 1856 года записано следующее самонаблюдение: «Приятно в постороннем кружке, который показывает вам одну ложную лицевую сторону жизни, поднять такой вопрос, который задевает всех членов кружка за живое. Как скоро соскакивает тогда эта ложная обстановка, и вы видите все настоящие отношения»109.
А. Я. Панаева в своих воспоминаниях воспроизводит те горячие споры, которые происходили из-за Толстого в редакции «Современника» и первые месяцы после его приезда в Петербург. Главным зачинщиком этих споров был Тургенев. Однажды Тургенев сказал, что у Толстого заметна «кичливость своим захудалым графством», на что присутствовавший тут же Панаев возразил, что он «не заметил этого в Толстом».
В другой раз, после рассказов Толстого о некоторых эпизодах из своей военной жизни, Тургенев по его уходе воскликнул: «Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство».
«И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица». Поклонник таланта Толстого, Панаев не выдержал и заметил Тургеневу: «Знаешь ли, Тургенев, если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему».
Это замечание вызвало со стороны Тургенева колкости по адресу Панаева.
Некрасов из-за болезни горла не принимал участия в разговоре, и только после того, как оскорбленный Панаев вышел из комнаты, он, обращаясь к Тургеневу, произнес: «Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости!»110.
45
Постоянные споры Толстого с Тургеневым служили предметом острот в литературных кругах. 28 февраля 1857 года Анненков, шутя, писал Тургеневу, который в то время жил в Париже и часто виделся с Толстым, что хотя он, Тургенев, будет уверять Толстого в разных вещах относительно него, Анненкова, «но так как я знаю его благоразумнейшую привычку ни в чем с Вами не соглашаться, то и спокоен»111.
Следует, однако, заметить, что столь напряженные и неровные отношения складывались у Толстого из всех старых сотрудников «Современника» с одним только Тургеневым. Хотя Некрасов в цитированном выше письме к Толстому и писал о бывших между ними недоразумениях, однако ни дневниковые записи Толстого, ни переписка его с Некрасовым, ни воспоминания современников ничего не говорят о каких-либо личных столкновениях между ними.
Что же касается принципиальных разногласий Толстого с членами редакции «Современника», то мы узнаем о них из переписки Толстого с Некрасовым 1856—1857 годов. Нередко предметом таких споров бывал Белинский, и Толстому случалось, быть может, иногда в резких и преувеличенных выражениях, высказывать свои сомнения в том значении, какое приписывали Белинскому сотрудники «Современника». Упоминание о спорах относительно Белинского находим в следующих словах письма Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 года, написанного уже из Ясной Поляны: «Не думайте, что я говорю о Белинском, чтобы спорить. Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был как человек прелестный и как писатель замечательно полезный».
Из этих слов письма Толстого видно, что споры о Белинском в редакции «Современника» у него действительно бывали, что споры эти должны были остаться в памяти у Некрасова, что Толстой, по его собственному признанию, не всегда «хладнокровно рассуждал» в этих спорах. Возможно, что и в данном случае, как и во многих других, Толстой отдавался своей склонности отыскивать «фразу» в речах своих собеседников, и восхваление Белинского в устах некоторых писателей представлялось ему не вполне искренним. В воспоминаниях о Тургеневе Н. Островской112 приводится рассказ Тургенева о том, как еще в то время, когда Толстой жил у него, в день рождения Белинского группа писателей, лично его знавших, устроила в его память торжественный обед. Толстой, как лично Белинского не знавший, на обед приглашен не был, но он тем не менее явился и молча уселся в угол. И в то время, как все, по словам Тургенева,
46
после разговоров и воспоминаний о Белинском находились «в размягченном настроении», Толстой, будто бы, вдруг встал и произнес: «Вот вы, господа, восхваляете Белинского, а почем вы знаете, что он не был сукин сын?» Рассказ этот в подробностях совершенно неправдоподобен. Толстой жил у Тургенева в ноябре — декабре 1855 года, в то время как день рождения Белинского — 1 июня. Обед в память Белинского не мог быть дан в день его рождения, так как 1 июня 1856 года ни Тургенева, ни Толстого в Петербурге не было. Далее — совершенно немыслимо, чтобы Толстой с его воспитанием мог прийти незваный на званый обед. Неправдоподобен и вопрос Толстого — не только грубый по форме, но и совершенно бессмысленный по существу113.
Однако, несмотря на бросающуюся в глаза путаницу этого рассказа, вполне возможно, что какое-то столкновение с Толстым по случаю поминок по Белинскому, о котором в сильно приукрашенном виде рассказывал Тургенев, действительно происходило. Обеды в память Белинского в редакции «Современника» бывали; один из таких обедов в 1858 году вызвал со стороны Добролюбова известное сатирическое стихотворение. Возможно, что и в данном случае самое поминовение вкусным и сытным обедом с дорогими винами и красноречивыми разговорами того, кого писатели считали своим учителем, раздражало Толстого и вызвало в нем неудержимую потребность высказать свое резко отрицательное отношение к такой странной форме чествования учениками своего учителя.
О каком-то столкновении с членами редакции «Современника» Толстой записал в своем дневнике 5 мая 1856 года: «Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного». Неизвестно, какое свое стихотворение читал Некрасов на прощальном обеде Тургенева перед его отъездом в Спасское 1-го или 2 мая 1856 г.; также неизвестно и то, что именно «неприятного» наговорил на этом обеде Толстой своим приятелям. Во всяком случае эта размолвка не оказала никакого влияния ни на отношения Толстого к Некрасову, ни на его отношения к Тургеневу.
47
XIII
Разумеется, было бы большой ошибкой думать, будто каждая встреча Толстого с членами редакции «Современника» непременно приводила, к спору или даже к ссоре. Вспоминая это время, Гончаров рассказывает, что когда он в 1855 году приехал в Петербург, он сблизился с кружком писателей, в который входили Тургенев, Анненков, Боткин, Некрасов, Панаев, Григорович и к которому позднее присоединился и Толстой. «Лев Николаевич, — пишет Гончаров, — сходился с нами почти ежедневно у тех же лиц — Тургенева, Панаева и пр. Говорили много о литературе, обедали шумно, весело, словом, было хорошо»114.
Памятником одного из таких дружеских обедов осталось коллективное письмо Толстого, Панаева, Некрасова, Гончарова и Дружинина к Григоровичу, написанное в Петербурге 5 мая 1856 года115. Письмо передает и дружеские отношения всех писавших к Григоровичу и такие же дружеские отношения их друг к другу. К сделанному Григоровичу Дружининым в шуточной форме напоминанию о том, что «Андреас [редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский] на вас ожесточен и желал бы поразить вас бутылкой в голову», Толстой тут же делает приписку: «Не думайте о своих долгах разным Андреасам, а примите к сведению, что нынешнего лета больше никогда не будет». К письму Гончарова Толстой делает такую шуточную приписку:
«Не верь тому, что пишет Гончаров,
Зане он по душе завистлив и суров»116.
Это письмо было написано менее чем за две недели до отъезда Толстого из Петербурга. За два дня до отъезда Толстой побывал у Некрасова, после чего записал в дневнике: «Он плох, но я его начинаю любить». (Слово «плох» относится здесь к состоянию здоровья Некрасова.) Некрасов почувствовал это теплое отношение к нему Толстого. 24 мая он писал Тургеневу в Спасское: «Кланяйся Толстому. Я простился с ним под самым приятным впечатлением — я заметил в нем весьма скрытое, но несомненное участие ко мне; за это ему спасибо, а как журналисту он мне усладил сердце в последнее время много раз»117.
48
Незадолго до отъезда из Петербурга Толстой познакомился с представителями иного направления — славянофилами И. В. Киреевским, И. С. Аксаковым и другими. Разговор коснулся основных воззрений славянофилов. Толстой сразу определил свое отношение к их взглядам. На другой день после беседы с ними, 8 мая, он записал в дневнике: «Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор. Он не нужен». В основе учения славянофилов, по мнению Толстого, лежат «серьезные истины, как семейный быт, община, православие». «Но они роняют их, — оговаривается Толстой, — той злобой, как бы ожидающей возражений, с которой они их высказывают». Со взглядом славянофилов на православие Толстой не соглашается, так как, по его мнению, «нельзя не признать с более высокой точки зрения уродливости его выражения и несостоятельности исторической». Кроме того, Толстой считает, что относительно православия славянофилам следовало бы высказываться с большим спокойствием, так как «цензура сжимает рот их противникам».
Вскоре после этого разговора Толстой прочел статью близкого к славянофилам М. П. Погодина «Московские празднества в честь севастопольских моряков». В этой статье то напыщенным, то искусственно простым языком рассказывалось о празднествах в честь севастопольских моряков, устроенных в Москве в феврале 1856 года миллионером-откупщиком Кокоревым. Слащаво расписывалось будто бы проявившееся во время этих празднеств чувство «искренней неограниченной преданности к государю и его детям». Вспоминались празднества в древней Руси, на которых «князья, бояре, духовенство, купцы, простолюдины, вои составляли часто одно семейство... сидели за одним столом без всякого различия». Прославлялся Кокорев, который, встретив севастопольцев за заставой с огромным серебряным блюдом в руках, на котором лежал огромного размера хлеб, передал блюдо старшему офицеру, а сам «повалился в ноги» перед севастопольцами»118.
Статья Погодина вызвала в дневнике Толстого 13 мая желчную запись: «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством. Новая штучка».
16 мая 1856 г. Толстой получил, наконец, долгожданный отпуск на 3 месяца в деревню и на 8 месяцев за границу и на другой день выехал из Петербурга в Москву, а оттуда в Ясную Поляну.
49
Глава вторая
В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
(1856)
I
18 мая 1856 г. Толстой приехал в Москву, где провел десять дней. Дорогой он читал «Дневник лишнего человека» Тургенева, о котором записал: «Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво».
В первый же день по приезде в Москву Толстой проехал в подмосковную местность Кунцево, где в то время проживал на даче В. П. Боткин. Повидимому, Толстой еще в Петербурге получил от Боткина приглашение, так как 14 апреля Боткин писал Некрасову: «Я жду не дождусь видеть Толстого, к которому, чувствую, привязанность моя молча и независимо от всякого сознания растет в глубину»1. Боткин в то время чувствовал большое расположение к Толстому. Еще раньше, 28 марта, он писал тому же Некрасову: «Поклонись Толстому: я чувствую к нему какую-то нервическую, страстную склонность»2.
На даче у Боткина Толстой застал гостившего у него Дружинина. Вечером пришел еще Аполлон Григорьев, «и мы, — записывает Толстой в дневнике, — болтали до двенадцати весьма приятно». Как вспоминал впоследствии Григорьев, эту «препоэтическую ночь» он, Толстой и Дружинин провели в «жаркой беседе» «о драме вообще, о русской драме и сцене в особенности»3.
21 мая Толстой ездил к С. Т. Аксакову, у которого познакомился с Хомяковым, произведшим на него, как описывал он в дневнике, впечатление остроумного человека4. Уже настроенный
50
критически к учению славянофилов, Толстой вступил в спор с Константином Аксаковым. Результатом было некоторое охлаждение к Толстому обоих Аксаковых — отца и сына. Константин Аксаков писал Тургеневу 18 июня, что, как ему кажется, у Толстого «нет еще центра»5, понимая под «центром», вероятно, согласие с воззрениями славянофилов.
От Аксаковых Толстой отправился к своему троюродному дяде князю С. Д. Горчакову, родному брату главнокомандующего в Восточную войну, кн. М. Д. Горчакова. В разговоре крепостник Горчаков стал уверять Толстого, что «самый развратный класс — крестьяне». Решительно возражая Горчакову, Толстой, как писал он в дневнике, «из западника сделался жестоким славянофилом». На другой день, 22 мая, Толстой опять ездил к Аксаковым и слушал отрывок из «Семейной хроники» Аксакова-отца, после чего записал в дневнике: «Хорош, но старика захвалили».
23 мая Толстой познакомился с Ю. Ф. Самариным, который ему очень понравился, как «холодный, гибкий и образованный ум». Таким образом, в Москве и в Петербурге Толстой в 1856 году познакомился со всеми выдающимися представителями славянофильства.
23 мая Толстой еще раз был у Боткина в Кунцеве. На этот раз ни о каких беседах с Боткиным и его гостями в дневнике Толстого нет записей, но сказано, что и в самом Кунцеве, и дорогой он «до слез» наслаждался природой.
24 мая Толстой ходил в сад Эрмитаж, откуда вынес впечатление «тоски невыносимой» и где встретил Лонгинова, который так и не ответил на его вызов. Как записал Толстой в дневнике, он «имел глупость» ходить мимо Лонгинова, «умышленно глядя на него» («величественно глядя ему в глаза», как писал Толстой Некрасову 2 июля). Но и это вызывающее поведение Толстого не оказало действия на Лонгинова.
26 мая Толстой побывал у своего друга детства Любочки (Любови Александровны) Берс вместе с ее братом К. А. Иславиным. Так как по случаю субботы прислуга была отпущена в церковь, хозяйка поручила своим старшим дочерям — Лизе двенадцати лет и Соне одиннадцати лет накрыть для гостей стол и прислуживать им во время ужина. В своем дневнике Толстой в этот день записал: «Дети нам прислуживали. Что за
51
милые, веселые девочки». Младшая из этих двух девочек, Соня, через шесть лет стала его женой. После обеда Толстой, под аккомпанемент К. А. Иславина, спел сложенную им Севастопольскую песню6.
Давно уже чувствуя потребность в женской любви и в семейной жизни, Толстой в Москве испытал поэтическое чувство влюбления к замужней двадцатичетырехлетней сестре своего друга Дьякова, Александре Алексеевне Оболенской. А. А. Оболенская в эти дни представлялась ему «самой милой» из всех женщин, которых он когда-либо знал, «самой тонкой, художественной и вместе нравственной натурой». «Положительно, — записывает Толстой в дневнике 25 мая, — со времен Сонечки у меня не было такого чистого, сильного и хорошего чувства. Я говорю — хорошего, потому что, несмотря на то, что оно безнадежно, мне отрадно расшевеливать его». Свою первую детскую любовь к Сонечке Колошиной, которую сам Толстой считал самой сильной любовью, когда-либо им испытанной, он всегда неизменно вспоминал в периоды своих чистых поэтических увлечений женщинами. Толстой был так увлечен своим чувством, что рассказал о нем Дружинину и написал брату Сергею Николаевичу.
А. А. Оболенская чувство к ней Толстого разделяла.
II
27 мая Толстой выехал из Москвы в Ясную Поляну, куда прибыл на другой день, 28 мая.
«В Ясном грустно-приятно, но несообразно как-то с моим духом», — записывает Толстой в дневнике свои первые впечатления от Ясной Поляны. Он тут же поясняет, откуда проистекает эта «несообразность» Ясной Поляны с его настроением. «Впрочем, — пишет он далее, — примеривая себя к прежним своим ясенским воспоминаниям, я чувствую, как много я переменился в либеральном смысле».
Слово «либеральный» на языке того времени не означало принадлежности к какой-либо определенной общественной группе, но имело смысл общего стремления к преобразованиям в духе большей политической свободы. В таком общем смысле это слово употреблено в письме Белинского к Гоголю: «У нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление».
В этом же смысле слово «либерализм» в 1840—1850-е годы употреблялось и Тургеневым. «Это слово «либерал», — говорил Тургенев в 1879 году, — в последнее время несколько опошлилось, и не без причины... Но в наше молодое время, когда еще
52
помину не было о политической жизни, слово «либерал» означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец — пуще всего — означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, хотел бы в действительности помощи своих счастливых сынов»7.
Знаменательно, что Толстой усматривал в себе перемену «в либеральном смысле», происшедшую после предыдущего его приезда в Ясную Поляну, то есть после февраля — марта 1854 года (короткий заезд в ноябре 1855 года в счет идти не может). Следовательно, именно пребывание на войне (особенно под Севастополем) и затем в кругу писателей, по собственному признанию Толстого, сделало его миросозерцание более либеральным.
В описываемое время первым и основным требованием либерализма, как и говорил Тургенев, было уничтожение крепостного права. Что Толстой именно так понимал либерализм, видно из дальнейшей записи его дневника: «Татьяна Александровна (Ергольская) даже мне неприятна. Ей в сто лет не вобьешь в голову несправедливость крепости». О таком же отношении к тетушке говорят и последующие записи дневника. «Татьяна Александровна возмущает меня», — записывает Толстой 3 июня. «Скверно, что я начинаю испытывать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь», — пишет Толстой 12 июня, и тут же делает себе внушение: «Надо уметь прощать пошлость. Без этого нет любви и нет счастия».
Для Толстого того времени владение крепостными — «мерзость», как записано у него в записной книжке 30 мая. («Ни на ком так противно не выражается мерзость помещичьих отношений, как на тех, которые усвоивают их, не имея права»).
Толстой в то время был до такой степени увлечен мыслью об освобождении своих крестьян, что в самый день приезда в Ясную Поляну устроил сходку, чтобы изложить крестьянам свой проект.
Еще в Петербурге Толстой написал черновик той речи, с которой он намеревался обратиться к яснополянским крестьянам8. Толстой предполагал начать свою речь торжественным вступлением: «Господь бог вложил мне в душу мысль отпустить вас всех на волю». Изложивши далее основы своего проекта, Толстой предполагал закончить речь предложением крестьянам подумать, посоветоваться «с старыми, умными людьми»; «и что вам тут кажется неправда, не по закону написано, так научите меня, я поправлю и переменю». Но этот
53
набросанный Толстым проект его речи к крестьянам остался неиспользованным. Когда он вышел к созванным им и ожидавшим его яснополянским крестьянам, он без всякой торжественности просто сказал им: «здравствуйте» и, спросив, нет ли у них жалоб, прямо перешел к изложению своего предложения.
Первоначальный план освобождения, набросанный Толстым в Петербурге, теперь был им уже оставлен по каким-то соображениям. Теперь он предложил крестьянам перейти всем обществом с барщины на оброк с назначением самого оброка в 26 рублей серебром с тягла. По словам Толстого, сумма, им назначенная, была вдвое меньшей по сравнению с тем размером оброка, какой платили крестьяне соседних помещиков. Как показалось Толстому, крестьяне отнеслись к его предложению сочувственно. В тот же день Толстой начал писать «Дневник помещика», в котором изложил подробно весь ход своих переговоров с крестьянами9.
На другой день, 29 мая, была вторая сходка. На этот раз Толстой увидел в крестьянах «уныние, не похожее на вчерашнее расположение духа».
Вскоре Толстой убедился в полном недоверии крестьян к его предложению. В «Дневнике помещика» под 3 июня записано, что когда он в этот день заговорил о своем предложении с мужем своей кормилицы Осипом Зябревым, тот отвечал ему «с сдержанной улыбкой умного человека, который проник, что его хотят надуть, и не поддается». Относительно другого крестьянина Данилы Орехова Толстой рассказывает: «Он подошел ко мне, когда я заговорил об оброке, с лицом, выражающим стыд за меня, что я притворяюсь и лгу».
В тот же день сельский староста Василий Зябрев объяснил Толстому, что крестьяне убеждены в том, что в коронацию нового царя «всем будет свобода», что он, Толстой, знает об этом и потому хочет связать их контрактом.
5 июня опять была сходка. Крестьяне окончательно объявили, что несогласны на условия, предложенные Толстым. «С ужасом восставали на всякое поползновение к подписке..., как будто я предлагал им дать подписку в том, что каждый будет осквернять святыню», — рассказывает Толстой в «Дневнике помещика». Особенно огорчался Толстой, когда видел, что крестьяне, по вкоренившейся привычке не доверять помещику, от которого они не ожидали себе никакого добра, подозревая в нем всегда одно только желание побольше обобрать их, начинали в разговоре с ним «льстить и врать официально: «Вы наши отцы», «нам хорошо» и т. п.
6 июня Толстой написал проект нового договора с крестьянами. В этом новом условии Толстой, идя навстречу крестьянам,
54
предлагал им на выбор: или перейти на оброк или же перейти в обязанные крестьяне с барщинной работой. По этому новому условию Толстой обязывался:
1) навсегда оставить во владении крестьян все те земли, которыми они в то время пользовались;
2) по истечении 24-летнего срока выхода имения из залога отдать в полную собственность крестьян означенные земли и выпустить их в вольные хлебопашцы.
Таким образом, по этому проекту срок выкупа земли определялся уже не в 30 лет, как в первом проекте, а в более короткий срок — в 24 года. Крестьяне по новому условию обязывались в продолжение 24 лет исполнять для помещика барщину по три дня в неделю или же, взамен барщины, платить оброк по 26 рублен с тягла, причем выходящие на оброк должны составлять между собою общество и всем обществом отвечать за каждое тягло в плате оброка10.
7 июня Толстой велел старосте созвать стариков, чтобы побеседовать с ними о своих предложениях. Беседа состоялась, но не привела ни к каким результатам. «Их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать», — записал Толстой в дневнике.
Составление проектов освобождения своих крестьян и частые беседы с ними напомнили Толстому оставленный им «Роман русского помещика». 8 июня он записывает: «Передумал кое-что дельно из Романа помещика. Кажется, я за него примусь». И на следующий день: «Все обдумывается Роман помещика». В записной книжке Толстого за эти дни находим следующую, не вполне ясную, заметку, относящуюся к плану «Романа русского помещика»: «Как ему сначала все показалось трудно, потом немного омерзительно, потом приятно, легко, вследствие будто одоленных трудностей, а потом невозможно»11. Хотя в этой записи остается неясным то «всё», что сначала казалось помещику трудным и под конец невозможным, общий смысл всей записи тот, что проект деятельности в пользу крестьян, которым помещик был так увлечен, на практике оказался совершенно неисполнимым. План задуманного произведения, таким образом, еще раз совершенно изменился.
Настроение крестьян удивило и смутило Толстого. Он не ожидал встретить с их стороны такое недоверие и отчасти даже недоброжелательство к себе.
Под влиянием бесед с крестьянами ему пришло в голову изложить свои мысли по крестьянскому вопросу в письме к графу Д. Н. Блудову, бывшему в то время председателем Департамента
55
законов Государственного совета, которому он перед отъездом из Петербурга изложил свои планы. Черновик письма был наспех набросан 9 июня.
Изложив кратко всю историю своих неудачных попыток войти в соглашение с крестьянами, Толстой далее объясняет, в чем коренились причины этих неудач. Крестьяне были с ним неискренни «по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенной многолетним попечительным управлением помещиков», — иронически замечает Толстой. Видя в его предложениях «одно желание обмануть, обокрасть их», крестьяне не открывали ему действительной причины своего несогласия. Как пишет Толстой, действительная причина состояла в том, что крестьяне были твердо убеждены, что в коронацию они все получат свободу «и смутно воображают, что с землей, может быть даже и со всей — помещичьей».
Вопрос о том, пишет далее Толстой, чьей собственностью является помещичья земля, на которой живут крестьяне, в народе большей частью решается в том смысле, что вся помещичья земля должна принадлежать крестьянам. «Мы ваши, а земля наша», — говорят, по словам Толстого, крестьяне своим господам12. Толстой обвиняет правительство в том, что, намекнув в речи царя на возможность освобождения, теперь оно обходит вопрос «первый, стоящий на очереди». Правительство должно определенно сказать, кому принадлежит земля. «Я не говорю, — пишет Толстой, — чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя того требует историческая справедливость)». Пускай признают часть земли или даже всю землю за крестьянами. Главное — как можно скорее освободить крестьян на каких бы то ни было условиях. «Для меня ясно, — говорит далее Толстой, — что вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или земля».
И Толстой, хотя и считает справедливым освобождение крестьян с землею, высказывается за освобождение без земли, потому что на этих условиях освобождение может произойти быстрее. То, что освобождение без земли повлечет за собой увеличение пролетариата, не останавливает Толстого. Пролетариат, — возражает он, — уже существует в крестьянской общине. Кроме того, пролетариат, «произведший революции и Наполеонов, не сказал свое последнее слово... Бог знает, не основа ли он возрождения мира к миру и свободе».
56
Этот неясный отголосок идей «Коммунистического манифеста» явился у Толстого, надо думать, последствием его бесед с П. В. Анненковым, который встречался с Марксом и одно время состоял с ним в переписке. Анненков, который, по позднейшей характеристике Толстого, всегда «с жаром» «ловит современность во всем, боясь отстать от нее»13, виделся с Марксом в Брюсселе, где присутствовал при его разговоре с теоретиком утопического коммунизма Вейтлингом, и затем встретился с Марксом в Париже в 1848 году14. О своих встречах и переписке с Марксом и (несомненно очень неполно и неясно) об идеях «Коммунистического манифеста» Анненков, конечно, рассказывал в редакции «Современника». Очевидно, мысль о роли пролетариата во всемирной истории, услышанная Толстым от Анненкова, произвела на него впечатление и запомнилась ему. В своем письме к Блудову Толстой пользуется этой идеей не столько ради нее самой, сколько как аргументом в пользу скорейшего освобождения крестьян, хотя бы и без земли. «Ежели в шесть месяцев крепостные не будут свободны, — пожар. Всё уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде». Этими взволнованными словами заканчивает Толстой набросок своего письма15.
Мысль Толстого продолжала работать в направлении критики крепостных отношений. В тот же день 9 июня он отмечает в дневнике нелепость того положения, при котором крестьяне не имеют права без разрешения помещика никуда отлучаться, в то время как дома для них работы нет. Толстой находит следующее образное сравнение для выражения ненормальности отношений между помещиком и его крепостными: «Два сильных человека связаны острой цепью, обоим больно, как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого, и обоим простора нет работать».
10 июня Толстой созвал последнюю сходку крестьян и предложил им окончательно высказаться, согласны ли они на его предложения. После долгого молчания последовал решительный отказ. Толстой понял, что задуманное им дело потерпело полную неудачу. «Дневник помещика» заканчивается грустным выводом о том, что крестьянский мир, т. е. сход, на который Толстой после бесед со славянофилами возлагал большие надежды, компетентен в разрешении таких вопросов, как вопрос о распределении сенокосов, но «задачу о выходе из помещичьей власти»
57
он решить не может. «Уж поговорю я с славянофилами о величии и святости сходки — мира. Ерунда самая нелепая», — писал Толстой Некрасову 12 июня.
И Толстой решил прекратить на время попытки исполнения своих планов, чтобы возобновить их осенью. Из-за этого он решил отложить свой отъезд за границу, намечавшийся им на август.
Крушение лелеянных с такими большими надеждами планов было Толстому тяжело. «Мне у себя не совсем хорошо», — писал он Некрасову в том же письме. Теперь он приходит к следующему решению: «С завтрашнего дня пойду по всем мужикам; узнаю о их нуждах и буду отдельно уговаривать в обязанные» (дневник 13 июня).
Вследствие ли этих уговоров Толстого или по собственному решению, часть яснополянских крестьян к концу лета выразила желание перейти на оброк. «Мужики идут на оброк, человек двадцать», — записал Толстой 14 августа.
Еще раз коснулся Толстой крестьянского вопроса в письме от 1 октября к своему севастопольскому знакомому, писателю и путешественнику Е. П. Ковалевскому. В письме, написанном совершенно по другому поводу, Толстой попутно рассказывает также и историю своих переговоров с крестьянами.
Проведя лето в деревне, Толстой убедился, что крестьяне не в такой степени враждебно настроены, как это представилось ему сначала. Письмо написано в совершенно спокойном тоне. Но Толстой и теперь предвидит опасность («кончится тем, что нас перережут»), если правительство не выскажет ясно своих планов. Он обвиняет правительство в том, что оно «секретничает изо всех сил», в то время как слова Александра II о возможности освобождения «облетели всю Россию, запомнились всеми теми, до которых они касаются»16. «Сказать, что нужно подумать о свободе, а потом забыть — нельзя», пишет Толстой. «И ежели будет резня с нашим кротким народом, то только вследствие этого незнания своих настоящих отношений к земле и помещику». Толстой и теперь продолжает держаться того мнения, что, во избежание резни, освобождение крестьян не должно откладывать, но никаких своих конкретных планов
58
освобождения не предлагает и не ставит вопроса о том, с землей или без земли должны быть освобождены крестьяне.
Целью письма Толстого было то, чтобы через Ковалевского, имевшего влияние в правительственных сферах, содействовать ускорению решения крестьянского вопроса.
Проявленное крестьянами недоверие к его добрым намерениям глубоко врезалось в память Толстому. Когда он через сорок с лишним лет после этого писал «Воскресение», он в сцене, где Нехлюдов объявляет крестьянам решение передать им свою землю и предлагает им установить пользование его землей на основе системы «единого налога» Генри Джорджа, — в этой сцене Толстой воспроизвел те самые ответы крестьян, какие он сам слышал от них в 1856 году.
«Особенно горячо стали отказываться, — читаем в романе, — когда Нехлюдов упомянул о том, что составит условие, в котором подпишется он, и они должны будут подписаться»...
Вечером по окончании сходки крестьяне обмениваются впечатлениями от речи барина. Один другому говорит:
«— Ишь, ловкий какой!.. Даром землю отдам, только подпишись. Мало они нашего брата околпачивали... Подпишись, говорит. Подпишись — он тебя живого проглотит»...
«— Это как есть», — соглашается старый крестьянин17.
Такие речи, к своему крайнему огорчению, Толстой слышал от яснополянских крестьян, когда он в молодости предлагал им освобождение от крепостной зависимости на выработанных им условиях.
III
30 мая 1856 г. Толстой поехал верхом навестить свою сестру, с которой еще не виделся после своего возвращения, в ее имение Покровское в 80 верстах от Ясной Поляны.
Из Покровского Толстой на другой день поехал к Тургеневу в его имение Спасское, расположенное в 20 верстах от Покровского. «Дом его, — записал Толстой в дневнике про Тургенева, — показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним». То же самое писал Толстой о Тургеневе Некрасову 12 июня: «Его надо показывать в деревне. Он там совсем другой, более мне близкий, хороший человек».
«Поболтавши» с Тургеневым «очень приятно», Толстой на другой день 1 июня увез его с собой в Покровское. Дорогой тоже «приятно болтали»; в Покровском опять «очень хорошо болтали» с Тургеневым (запись в дневнике 2 июня).
59
Один из этих разговоров настолько запомнился Тургеневу, что через много лет он передавал его нескольким лицам.
«Однажды, — рассказывал Тургенев в 1881 году С. Н. Кривенко, — мы виделись с ним [Толстым] летом в деревне и гуляли вечером по выгону недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы; старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и между прочим приговаривать, что́ тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью»18.
Здесь перед нами, очевидно, первая мысль рассказа «Холстомер», начатого Толстым в 1863 году. О том же говорит и запись в дневнике Толстого от 31 мая 1856 г.: «Хочется писать историю лошади», на основании которой мы и приурочиваем рассказ Тургенева именно к этому его свиданию с Толстым.
В середине июня Толстой написал Тургеневу не дошедшее до нас письмо, в котором извещал о неудачах своих переговоров с крестьянами и вспоминал об «овраге», их разделяющем, как он называл свои недоразумения с Тургеневым. Вероятно, Толстой писал о своем желании уничтожить этот «овраг». Тургенев отвечал на это письмо Толстого в примирительном тоне: «Что касается до «оврага», — писал он, — то между нами осталось только воспоминание недоразумения, которое исчезает или даже уже исчезло давно»19.
В июле произошла новая встреча Толстого с Тургеневым, произведшая на Толстого совершенно противоположное впечатление.
Брат Толстого Сергей Николаевич в 1855 году поступил в Стрелковый императорской фамилии полк. Полк этот 11 сентября 1855 года выступил из Москвы в Одессу через Тулу, Орел, Курск, Николаев. В каждом городе, через который проходил этот полк, дворянство давало в честь его обеды, балы, вечера. В декабре 1855 года полк прибыл в Одессу, где и был расквартирован в трех селениях. В то время боевые действия были уже прекращены. Потеряв за полтора месяца стоянки от
60
тифа больше тысячи человек, полк в апреле 1856 года тем же маршрутом выступил обратно в Москву. В июле 1856 года полк находился в городе Мценске Орловской губернии, куда Толстой и приехал для свидания с братом. По дороге Толстой заехал к сестре в Покровское, откуда было послано за Тургеневым.
На другой день, 5 июля, Тургенев приехал, и в дневнике Толстого в тот же день появляется о нем такая запись: Тургенев «решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойдусь». Через три дня в дневнике Толстого находим следующую запись об образе жизни Тургенева, на этот раз совершенно противоположную тому, что было записано Толстым месяц тому назад: «Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить необыкновенно. У него вся жизнь притворство простоты. И он мне решительно неприятен».
Однако охлаждение к Тургеневу, повидимому, мучило Толстого. В августе он написал Тургеневу другое, также не дошедшее до нас письмо, в котором, судя по ответу Тургенева, хотел как-то объяснить происшедшие между ними недоразумения. Тургенев, живший в то время в Куртавнеле близ Парижа, ответил Толстому 13 сентября. В том, что писал Тургенев в этом письме о своих отношениях к Толстому, сквозит уже большая доля скептицизма.
«Я никогда не перестану любить вас и дорожить вашей дружбой, — писал Тургенев, — хотя — вероятно по моей вине — каждый из нас в присутствии другого будет еще долго чувствовать небольшую неловкость». Тургенев пытается определить, в чем заключается причина этой неловкости. «Вы единственный человек, — пишет он, — с которым у меня произошли недоразуменья; это случилось именно оттого, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными сношениями — я хотел пойти далее и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; вот отчего и образовался этот «овраг» между нами». Тургенев говорит далее, что между ним и Толстым, кроме собственно литературных интересов, мало точек соприкосновения. Каждый идет своей дорогой. Толстой, по мнению Тургенева, и не может быть ничьим последователем. «Вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем», — пишет Тургенев. С большой прозорливостью устанавливает Тургенев, что они с Толстым никогда не будут друзьями «в Руссовском смысле» (то есть в смысле душевной близости и откровенности), «но каждый из нас будет любить другого, радоваться его успехам»20.
61
Это письмо Тургенева было получено Толстым 13 октября и, как записал он в дневнике, не понравилось ему.
На другой день Толстой у своей сестры в ее Покровском беседовал с вольноотпущенным Тургенева Кудряшовым, заведовавшим больницей в Спасском, который, как записал Толстой, «с наслаждением часа два» ругал дядю Тургенева, управлявшего его имением. Но Толстой в этом случае не принял сторону Ивана Сергеевича. «Тургенев кругом виноват, — записал он в дневнике. — Никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни». (Еще раньше Толстой записал в записной книжке: «Тургенев ничем не хочет заниматься под предлогом, что художник неспособен»21). Этими словами Толстой, повидимому, хотел сказать, что он не оправдывает того, что Тургенев, считая себя исключительно художником, совершенно отстранялся от всякого участия в жизни своих крепостных, всецело предоставив устройство их быта своему управляющему.
15 октября Толстой написал Тургеневу ответное письмо, к сожалению, также до нас не дошедшее. И в этом письме Толстой, судя по ответу Тургенева, вновь пытался уяснить свои отношения с ним. В своем ответе, написанном из Парижа 16 ноября, Тургенев опять повторяет, что не может быть совершенно откровенен с Толстым и хотя и любит его, как человека («об авторе и говорить нечего»), но многое в нем его коробит, и он счел «удобнее» держаться от него подальше. «В отдалении, — признается Тургенев, — (хотя это звучит довольно странно) сердце мое к Вам лежит как к брату, — и я даже чувствую нежность к вам». Не сомневаясь в том, что он любит Толстого, Тургенев надеется что «со временем» из этого «выйдет всё хорошее»22.
IV
Все лето и осень 1856 года Толстой провел в деревне. Он занимается хозяйством, гуляет («занимался я природой с каким-то особенным наслаждением», писал Толстой Е. П. Ковалевскому 1 октября), охотится, играет на фортепиано, видится с некоторыми соседями, читает и пишет.
Для характеристики тех требований, какие Толстой предъявлял к себе в это лето, представляют интерес те «ярлыки», какие он повесил или хотел повесить у себя в кабинете и у входной двери. В кабинете Толстой хотел вывесить следующие изречения:
62
«1) Помни, что час, потерянный для работы, никогда не возвратится».
«2) Одно маленькое усилие над собой так легко сделать, что тебе кажется, можно и не сделать его. Не сделай — и ступишь первый шаг по крутому спуску апатии и лени».
У входной двери должны были висеть следующие изречения:
«1) То, что сердит тебя теперь, будет смешить тебя через час — день — год».
«2) Не упрекай его, прежде чем не попытаешься стать на его место»23.
Ясно, что оба эти изречения предназначались для того, чтобы правильно вести себя при разговорах по хозяйству с управляющим и крестьянами.
Отношения Толстого с тетушкой Татьяной Александровной, сначала разладившиеся, вследствие ее упорной консервативности в крестьянском вопросе, вскоре опять наладились. Ее доброта искупала в глазах Толстого отсталость ее мировоззрения. По поводу того, как Татьяна Александровна держала себя во время его болезни, Толстой записывает 1 июля: «Тетенька Т. А. удивительная женщина. Вот любовь, которая выдержит всё». И затем о ней же 31 июля: «Она прелесть доброты». Около того же времени в записной книжке: «Тетеньке Т. А. нужно, чтобы были несчастия — ее жизнь защищать, утешать».
В июне — июле в дневнике Толстого отмечено чтение Пушкина и Гоголя.
3 июня в 5 часов утра, приехав от сестры из ее имения Покровское, Толстой, не ложась спать, уселся на балконе яснополянского дома и, глядя в сад, «испытал огромное наслаждение». Затем он раскрыл один из томов Пушкина в только что вышедшем тогда издании Анненкова и прочел «Каменного гостя», после чего записал в дневнике: «Прочел Дон Жуана Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине». О впечатлении, произведенном на него чтением «Каменного гостя», Толстой хотел было сейчас же писать тонкому знатоку и ценителю поэзии — Тургеневу, но почему-то не выполнил своего намерения.
В следующие дни чтение Пушкина продолжалось. Толстой прочел его лирические стихотворения, поэмы и драматические произведения, а также «с наслаждением» прочел составленные Анненковым «Материалы для биографии Пушкина».
Из поэм Пушкина «Цыганы» показались Толстому «прелестны, как и в первый раз» (то есть при первом чтении), о других же поэмах Пушкина в дневнике Толстого от 7 июня
63
записан суровый отзыв: «Остальные поэмы, исключая «Онегина», — ужасная дрянь».
Этот преувеличенно резкий (как это бывало у Толстого) отзыв, повидимому, касается главным образом содержания и лишь в малой степени художественной стороны поэм Пушкина. Он становится понятен в свете общих воззрений Толстого того времени. Сказочный сюжет «Руслана и Людмилы», романтический элемент в южных поэмах, восхваление Петра I и описание Полтавского боя в классическом духе (что должно было быть особенно неприятно Толстому) в «Полтаве», несерьезное содержание «Графа Нулина» и «Домика в Коломне», идея приоритета государства над личностью в «Медном всаднике», — всё это не могло вызвать сочувствия Толстого. Известно, однако, что Толстой высоко ценил с художественной стороны отдельные части пушкинских поэм. Так, в своих «Воспоминаниях», рассказывая об отце, Толстой писал, что ему «всегда казалось, что Пушкин списал с него свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине», — таким типически верным находил Толстой это описание. В двух черновых редакциях трактата «Что такое искусство?» (1897 года) поэма «Руслан и Людмила» значится в числе образцов «хорошего всемирного искусства»24 (в окончательном тексте трактата упоминание о «Руслане и Людмиле» было вычеркнуто).
Что же касается «Евгения Онегина», то высокое мнение Толстого об этом произведении оставалось неизменным до самого конца его жизни. Толстой много раз в своих произведениях, письмах и дневниках цитировал отдельные стихи из «Евгения Онегина»: в последний раз он перечитывал это произведение в 1908 году25. В Яснополянской библиотеке сохранился первый том сочинений Пушкина под редакцией Анненкова, содержащий «Материалы» к биографии поэта. В этом томе имеются на полях отчеркивания некоторых мест, почему-либо обративших на себя внимание Толстого.
После Пушкина Толстой «с наслаждением» перечитывает «Мертвые души» Гоголя, находя в них «много своих мыслей» (дневник 25 июля). Позднее Толстой прочел только что появившийся тогда рассказ Тургенева «Фауст», который нашел «прелестным» (дневник 28 октября).
Из иностранных авторов Толстой летом и осенью 1856 года читал произведение Гёте «Страдания молодого Вертера» (о котором записал в дневнике 29 сентября: «Восхитительно»), «Записки Пиквикского клуба» и «Крошку Доррит» Диккенса, «Мещанина во дворянстве» Мольера и его же «прелестную
64
комедию» — «Ученые женщины», Теккерея «Ньюкомы» и какой-то глупый, по его оценке, роман Евгения Сю.
Еще под Севастополем летом 1855 года Толстой завел себе особую записную книжку, в которую заносил в изобилии и свои наблюдения над окружающей жизнью, и отдельные мысли, и сырой необработанный материал для своих будущих работ. Такую же книжку завел он себе и в мае 1856 года. В ней мы находим мастерски набросанные, хотя и очень небольшие по размерам, картины природы, меткие наблюдения над окружающими и над самим собой, изредка мысли отвлеченного характера и в большом количестве краткие, ему одному понятные заметки для задуманных или начатых произведений. Вот образцы разного рода записей Толстого в записной книжке 1856 года:
«Пятый час утра, ясная погода, у окна в густой сад. Звуки просыпающихся галок с балкона, горлинки, кукушки, иволги, лягушек в саду и мелких птичек: воробьев, малиновок и неизвестных. С дворни слышны гуси, которых выгоняют, и девичьи голоса».
«Вечером, часов в девять, месяц еще не светит, я сижу у окошка, пыль смирно лежит на дороге между мелкой кудрявой, запыленной травой. Прошли мальчишки, сняв шапки. Думая, что я их не вижу, они надели шапки, весело засмеялись и быстро побежали под гору, босыми черными ножонками поднимая пыль. Что им весело?».
«Едешь ночью проселком, пасмурные ракиты, соломенные крыши, в избах огонек. Что там делается?».
«Народ смотрит на молебствие, как на средство пустить воду с неба, будто кран отвернуть».
«Сельская церковь, обсаженная плакучими березками. Сколько в ней разных душ обвенчано, крещено, похоронено».
«Ежели два любящих человека поверяют третьему неудовольствие друг на друга, они уже не любят друг друга».
Немало записей посвящено жизни крестьян и их отношениям с помещиками. Вот наиболее характерные из этих записей:
«Мужик для своего помещика и начальника и в свободных отношениях — два различных человека».
«Как злоупотребляют замечанием, что мужики опрашивают, когда их спрашивают, и отвечают другое. Попробуй целый день пристально работать одно — не поймешь сразу простого вопроса».
«Община до такой степени стеснительна, что всякий член ее, ежели только он немного выходит из животного состояния, стремится выйти из нее». «Большая часть помещиков управляется тайным синклитом своих дворовых и крестьян».
«Когда про помещика говорят, что он добр и отец для крестьян, верно забубенная голова и не живет в имении».
65

Группа писателей, сотрудников журнала «Современник».
С фотографии С. Левицкого (15 февраля 1856 г.).
«Мужик ослеп от натуги, как лошадь. Ему двадцать пять лет. Он нашел в городе работу — вертеть колесо на машине».
«Вчера винный поверенный Беленко, красный, как говядина, старичок, знающий околодок, как свои карманы, рассказывал Василью про соседние именья. Большую часть описаний он начинал так: «Тоже мужиченки разорены, но богатое именье».
Почти все написанное Толстым летом 1856 года носит такой же ровный и спокойный характер, каким отличалась и его жизнь за это время.
В начале июня чтение Пушкина пробудило в Толстом желание художественной работы. 4 июня он занялся разборкой рукописей ранее начатых произведений и на другой день «кое-что поправил» в начатой в 1853 году повести «Беглец», до которой он не дотрагивался с того времени. 14 июня Толстой записывает,
66
что он начинает «любить эпически легендарный характер» и хочет попробовать «из казачьей песни сделать стихотворение». Это намерение осталось неисполненным, и работа над «Казаками» возобновилась только в следующем 1857 году.
10 июня Толстой записывает в дневнике, что обдумывал на прогулке план своих будущих работ, в том числе план комедии, главной темой которой ему представлялся «окружающий разврат в деревне». Был ли это тот самый план комедии, который еще в марте того же года «томил» Толстого, или совершенно другой, нам неизвестно.
В архиве Толстого сохранились наброски начала двух комедий, озаглавленные — «Дворянское семейство» и «Практический человек»26. По своему содержанию эти наброски подходят к той теме комедии, которая намечена Толстым в дневнике.
Рукопись «Дворянского семейства» содержит перечень действующих лиц, три первые явления первого действия и краткий план всей задуманной комедии. Комедия «Практический человек» сохранилась в двух рукописях, из которых первая содержит перечень действующих лиц и первое явление первого действия, а вторая — перечень действующих лиц и несколько начальных строк первого действия. Обе комедии несомненно представляют собою два варианта одного и того же сюжета.
Комедия должна была носить ярко выраженный обличительный характер. На фоне морального разложения богатой помещичьей семьи выделяется фигура младшего сына хозяина, двадцатилетнего юноши Валентина. Он не окончил курса в университете, проводит время в чтении философских сочинений, за неимением более подходящих собеседников рассуждает о философии с местным попом, пытается как-то помогать крепостным крестьянам. Его томит пошлость и грязь жизни не только его семьи, но и ближайших соседей. Отец, старый князь, друг генерала, считает его «самым пустячным человеком, ни на что не способным». Старший брат Анатолий, напротив, — «практический человек», умеющий устраивать свои дела. Валентин ищет забвения в вине и в пьяном виде «говорит всем правду».
Тип Валентина многими своими чертами напоминает облик только что скончавшегося тогда брата Толстого Дмитрия: та же неприспособленность к жизни, те же искания, то же стремление к жизни разумной и нравственной и та же полнейшая неспособность осуществить эти стремления на практике. Это первый беглый набросок того образа, который впоследствии будет дан Толстым в законченном виде в «Живом трупе» в лице Федора Протасова.
67
Подробности сюжета начатой комедии были не ясны самому автору. Так, в тексте начала первого действия старший брат представлен женатым, а в плане он только собирается жениться и отбивает невесту у младшего брата.
Обе пьесы остались незаконченными, хотя впоследствии Толстой мысленно и возвращался к ним.
Обе пьесы резко выделяются своим сатирическим направлением из всего написанного Толстым летом и осенью 1856 года в Ясной Поляне.
V
В конце июня 1856 г. Толстой начинает захватившую его работу — переделку начатой еще в Севастополе третьей части его тетралогии — повести «Юность».
Еще в Москве 25 мая Толстой записывает: «Писать ужасно хочется «Юность». Теперь в Ясной Поляне 22 июня вечером, находясь «в мечтательном расположении духа» и долго не засыпая, он «составил ясно не на бумаге, а в голове план «Юности». 27 июня он перечитывает ранее написанные главы этой повести и делает в них исправления, а с 28 июня, когда Толстой «отделал первую главу «Юности» с большим удовольствием», начинается уже систематическая работа над переделкой ранее написанных и над новыми главами повести. Работа продолжалась весь июль, август и большую часть сентября.
В промежуток между работой над «Юностью», 18 и 19 июля Толстой пишет начало нового произведения, которое называет «Фантастическим рассказом». Действие этого рассказа происходит во время севастопольской обороны в июле 1855 года. Майор Вереин возвращается с полкового праздника. В рассказе чувствуется нерасположение Толстого ко всем официальным празднествам с их напыщенностью, преувеличениями, ложью и притворством веселья, а также его уважительное отношение к старым военным, в которых он отмечает общее им всем «спокойное мужественное равнодушие». Отразились в этом отрывке и мечтания Толстого о семейной жизни. Но полного представления о сюжете задуманного рассказа написанная часть его не дает. Как и во всех произведениях Толстого, хотя бы только слегка набросанных и не отделанных, находим и здесь изумительные художественные красоты. Таково, например, описание ночного дождя, под которым едет верхом майор Вереин: дождик продолжал идти «то мелкий, как сквозь сито, то как будто с каких-то невидимых деревьев сыпались сверху с ветром крупные тяжелые косые капли».
Еще один раз оторвался Толстой от работы над «Юностью» для начала другого произведения. 22 августа он записывает:
68
«Придумал «Отъезжее поле», мысль которого приводит меня в восторг». На другой день «Отъезжее поле» было начато, но написаны были только три страницы27.
Действие начатого произведения происходит в 1807 году в имении графа Никиты Андреевича. Дан только общий очерк крепостного быта в имении богатого графа, охотничья свора которого насчитывала до 150 собак. Действие не только не развернуто, но даже не намечено, и о сюжете начатого произведения невозможно составить никакого представления.
Если упомянуть еще о просмотре повестей «Детство» и «Отрочество» для отдельного издания, то этим будут исчерпаны все попытки других работ, кроме работы над «Юностью», которыми был занят Толстой летом 1856 года. «Юность» непрерывно находится в центре его творческого внимания.
Записи в дневнике о работе над «Юностью» очень многочисленны. Под 1 августа находим такую характерную запись: «Просыпался рано и в пробуждении пробовал придумывать свои лица. Воображение ужасно живо. Успел представить себе отца — отлично».
22 августа работа над второй редакцией «Юности» была закончена, а 27 августа была начата работа над третьей, последней редакцией повести. Толстой работает с утра до вечера и перерабатывает всю повесть с начала до конца; писарь тут же переписывает новую редакцию. Нередко Толстой диктует писарю новый текст. Особенно отмечена в дневнике работа над главой «Юность», которую Толстой диктовал и писал «с удовольствием до слез».
12 сентября была закончена третья редакция «Юности». Предстоял последний, окончательный просмотр повести, который и был произведен в ближайшие дни.
Окончив свою повесть, Толстой перечитал ее всю, с первой главы до последней, и сделал на отдельном листе критическую оценку каждой из написанных глав28, преимущественно с точки зрения требований строгой художественности и отчасти со стороны содержания. Оценка эта была дана Толстым в очень разнообразных выражениях, как например: «Хорошо», «Не совсем ловко», «Так себе», «Славно», «Порядочно, содержания мало», «Не интересно», «Не дурно, но нечетко», «По содержанию плохо», «Насчет слога хорошо», «Пусто, но ничего», «Одно место нехорошо», «Порядочно», «Неловко», «Порядочно, пусто», «Вяло и по языку слабо», «Нескладно, но недурно».
Некоторые из этих характеристик отдельных глав «Юности» указывают на те или другие эстетические принципы, которых
69
придерживался Толстой в своем творчестве. Таковы, например, следующие замечания: «Не едино», «Рассуждения, а не художественно», «Рассуждения, но хорошо», «Начало слабо, растянуто, конец превосходный», «Порядочно, но обще».
24 сентября работа над повестью «Юность» была совершенно закончена, и переписанная для печати рукопись была отправлена на суд редактору «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинину, суждению которого Толстой в то время очень доверял.
В письме Толстой уведомляет Дружинина, что написанное им представляет только первую половину задуманной им повести. Он просит Дружинина «строго и откровенно» сказать свое мнение и, если он найдет повесть плохою, то сказать ему, можно ли ее переделать или нужно совсем бросить. При этом Толстой предоставлял Дружинину право вымарывать в его повести все, что тот найдет нужным, — право, которого до этого он никому не давал.
Все письмо Толстого к Дружинину написано в очень дружеском тоне. Толстой признается Дружинину, что «без фразы» очень любит и уважает его и думает о нем почти каждый день. Непреодолимая потребность в дружбе, которую Толстой так сильно ощущал в молодости, временно нашла свое удовлетворение в его отношениях с Дружининым.
Панаеву Толстой писал тогда же, что отдаст в «Современник» свою повесть только в том случае, если получит удовлетворительный ответ от «одного господина», на суд которого он положился.
Суд Дружинина, разумеется, был в пользу Толстого. В письме от 6 октября он подробно высказал свое мнение о достоинствах и недостатках «Юности», заключив свой разбор повести уверением, что ею Толстой «имени своего не уронит».
Толстой был не только доволен, но и «счастлив» одобрительным отзывом Дружинина и поспешил написать Панаеву, соглашаясь с его предложением напечатать «Юность» в январской книжке «Современника» за 1857 год.
VI
Работая над «Юностью», Толстой в то же время усиленно думал над вопросом о назначении и задачах художественной литературы, волновавшим в то время литературные круги.
После смерти Белинского в течение семи лет с 1849 до 1855 года литературная критика находилась в состоянии упадка, и вопросы о задачах и целях художественной литературы в печати не обсуждались.
Появление в 1855 году нового издания сочинений Пушкина под редакцией Анненкова и диссертации Чернышевского «Эстетические
70
отношения искусства к действительности» вновь привлекло внимание критики к постановке вопросов о назначении и задачах литературы. Среди писателей начинаются споры о пушкинском и гоголевском направлении в литературе — вопрос, поставленный еще Белинским в 1842 году в его статье о Гоголе.
Приверженцем «пушкинского» направления выступил Дружинин в статье о новом издании сочинений Пушкина, напечатанной в № 3 и 4 «Библиотеки для чтения» за 1855 год. Для Дружинина Пушкин — это поэт, раскрывающий «спокойные, радостные и родственные душе нашей» стороны жизни; «шутка его была незлобива»; он, сам много страдавший от жизни, «находит средство глядеть на жизнь с ясной приветливостью»; из своего жизненного опыта он вынес «способность к улыбке», «радушие к людям», «зоркость глядеть на всю ясную сторону жизни».
Такой взгляд на Пушкина вытекал у Дружинина из его общего миросозерцания, в основе которого лежала, по его словам, «доктрина высокая и утешительная», «сознание о том, что жизнь хороша»29.
Но убеждение в том, что «жизнь хороша», основывалось у Дружинина не на глубоких философских воззрениях, а на мелком обывательском взгляде на жизнь, который позволял ему закрывать глаза на мрачные стороны действительности и больше всего дорожить своим спокойствием. Это совершенно ясно из следующей сделанной самим Дружининым формулировки его миросозерцания: «Внутреннее чувство нам заявляет, что человек создан не для озлобления, не для раздвоения, не для сомнения и не для стремления к утопиям»30.
Этот принцип Дружинин проводил во всех своих критических статьях. Так, говоря о Гончарове, Дружинин сближает «Обыкновенную историю» с «Евгением Онегиным», находя, что в обоих произведениях «разлит один примирительно отрадный колорит, в обоих нет ни лести, ни гнева, ни идиллий, ни преднамеренного свирепства, ни утопии, ни мрачных красок», а от имени самого Гончарова произносит следующее рассуждение: «Ни мизантропические умствования, ни карающий юмор, ни стремления к утопиям, ни хитрые обобщения, ни величавые воззрения... меня нимало не трогают»31.
Охарактеризовав поэзию Пушкина, Дружинин переходит к критике современной художественной литературы и ее направления. Он рассказывает: «Один из современных литераторов
71
выразился очень хорошо, говоря о сущности дарования Александра Сергеевича. «Если б Пушкин прожил до нашего времени, — выразился он, — его творения составили бы противодействие гоголевскому направлению, которое в некоторых отношениях нуждается в таком противодействии». «Скажем нашу мысль без обиняков, — говорит далее Дружинин, — наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением. Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием»32.
Литератор, мнение которого, не называя его, приводил Дружинин, был Тургенев. Одним из первых откликнулся он и на статью Дружинина. В письме к Боткину от 17 июня 1855 года, отозвавшись с похвалой о всей статье Дружинина в целом, Тургенев, однако, делает оговорку о той части статьи, которая касается Гоголя. «В отношении к Гоголю, — писал Тургенев, — он неправ... Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица... Я первый знаю, où le soulier de Gogol blesse [где жмет сапог Гоголя]... Всё это так; но о Пушкине он говорит с любовью, а Гоголю отдает только справедливость, что в сущности никогда не бывает справедливо»33.
Вскоре отозвался на статью Дружинина и Боткин. Он выразил несогласие с мнением Дружинина о гоголевском направлении более решительно, чем Тургенев. «Нет, — писал он Дружинину 6 августа 1855 г. — мы слишком поторопились решить, что гоголевское направление пора оставить в стороне, — нет, и тысячу раз нет... По моему мнению, если русский писатель любит свою сторону и дорожит ее достоинством, — он не в состоянии впасть в идиллию. Нам милы ясные и тихие картины нашего быта, но они могут быть для нас только кратковременным отдыхом, потому что в сущности мы окружены не ясными и не тихими картинами. Нет, не протестуйте, любезный друг, против гоголевского направления — оно необходимо для общественной пользы, для общественного сознания. Я не хочу этим сказать, чтобы задушевный взгляд Пушкина на русскую жизнь был ненужным, — о, напротив! Но сохрани бог исключительно следовать одному из них»34.
Письмо Боткина задело Дружинина за живое. Он отвечал
72
ему 19 августа 1855 г.: «Всё, что ни вижу я, убеждает меня в том, что неодидактическое направление словесности, то есть усилия к исправлению нравов и общества, может быть полезно для житейских дел, но никак не для искусства. Гомер не хочет править никого, а читая его, больше научишься и улучшишься, чем от всех последователей Гоголя. Гоголь, по моему мнению, есть художник чистый, только его последователи сделали из него какого-то страдальца за наши пороки и нашего преобразователя. Чуть Гоголь сам вдается в дидактику, он вредит себе. Из этого не следует, чтобы я проповедывал идиллию и был зол на юмор, кого бог одарил сатирическим даром, тот смейся над обществом, клади теней сколько хочешь, — но горе тому, кто захочет надеть ризу Гоголя и идти по его стопам из принципа, а не по своему дарованию».
Далее Дружинин приводит против гоголевского направления возражение чисто практического порядка. Он говорит: «Взгляните теперь на все дело, любезный друг, с другой точки зрения. За нами стоит молодое литературное поколение, из которого «пахнущий клопами»35 есть extrème droite [крайняя прямолинейность]... Если мы не станем им противодействовать, они наделают глупостей, повредят литературе и заставят нас лишиться того уголка на солнце, который мы добыли потом и кровью»36.
Боткин остался недоволен этой частью письма Дружинина. «Это уже значит противодействовать с полицейской точки зрения», — писал Боткин Некрасову 19 сентября 1855 года37, не предвидя того, что через несколько лет он сам встанет на ту же «полицейскую» точку зрения по отношению к «Современнику».
Некрасов, в письме к Боткину от 16 сентября 1855 года, отозвался на письмо Дружинина следующими словами: «Дружинин просто врет и врет безнадежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно». И далее Некрасов дает замечательную формулу, правильно разрешающую возникший спор. Он пишет: «Мне кажется, в этом деле верна одна только теория: люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству»38.
73
Нет никакого сомнения в том, что в период пребывания Толстого в Петербурге с ноября 1855 по май 1856 года, а также на даче у Боткина в мае 1856 года ему не раз приходилось быть свидетелем споров среди писателей о пушкинском и гоголевском направлении в литературе, — конечно, и самому принимать участие в этих спорах. В дневниках Толстого эти беседы отражения не получили, но, вероятно, этими спорами о пушкинском и гоголевском направлении в литературе навеяна запись Толстого в записной книжке, сделанная в Москве 26 мая 1856 года, вскоре после свидания с Дружининым и Боткиным в Кунцеве. В этой записи Гоголь вместе с Теккереем противопоставляется Диккенсу. «Диккенсовские лица, — пишет Толстой, — общие друзья всего мира, они служат связью между человеком Америки и Петербурга; а Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны».
В Ясной Поляне Толстой сосредоточенно думает над вопросом о назначении и задачах литературы. Он решает этот вопрос не так, как его решали приверженцы обоих споривших между собой направлений, а совершенно самостоятельно. В раздумьях по вопросам литературы определилось дальнейшее движение Толстого по пути уяснения его общего миросозерцания, намечавшееся еще в предыдущие годы.
Еще в Петербурге 12 мая по поводу обрадовавшей его записки его друзей Перфильева и Волкова, после которой ему «всё светло стало», Толстой записывает в дневнике: «Да, лучшее средство к истинному счастию в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда всё, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».
В этой новой формулировке своего миросозерцания Толстой впервые употребляет понятие «любовь», которому впоследствии суждено было играть такую решающую роль в миросозерцании позднего Толстого. Раньше он говорил только о «добре». Из этого общего принципа у Толстого складывался также определенный взгляд на назначение и задачи литературы. «Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить, — записал он в записной книжке 29 мая 1856 года. — Для жизни довольно будет и тех вещей, которые не возбуждают негодования, — любви. А у нас негодование, сатира, желчь сделались качествами».
Здесь основание того расхождения Толстого с направлением «Современника», которое впервые обозначилось именно в это время и ярко сказалось в письме Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 г. Письму этому Толстой придавал большое значение: в своем дневнике он отметил не только самый факт написания письма, но и его содержание («Написал письмо Некрасову о «Современнике» и злости»), что он делал очень редко.
74
Письмо Толстого было вызвано желанием высказать свое мнение о последнем (июньском) номере «Современника». Толстой резко обрушивается на повесть «В глуши», написанную его товарищем по Казанскому университету В. В. Берви, неодобрительно отзывается о статье Чернышевского (которую он ошибочно приписывает Некрасову) по поводу первого номера славянофильского журнала «Русская беседа», упрекает Некрасова в том, что он сделал «великую ошибку», упустив Дружинина «из нашего союза», и, не стесняясь в выражениях и повторяя грубое прозвище, данное Чернышевскому Григоровичем, высказывает свое мнение о Чернышевском, прежде всего как о человеке. Ему противен «тоненький неприятный голосок» Чернышевского, «говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить он не умеет и голос скверный». Он считает Чернышевского плохим подражателем Белинского. О самом Белинском Толстой, имея в виду, повидимому, главным образом его письмо к Гоголю, говорит с уважением: «Белинский-то говорил, что говорил, во всеуслышание и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен». Белинский «выступал из ряду обыкновенных людей». Толстой признает, что Белинский «был, как человек, прелестный и, как писатель, замечательно полезный»; но он «породил подражателей, которые отвратительны». В этих словах Толстой несомненно имел в виду Чернышевского. Толстому кажется, что возмущение Чернышевского не искренне и что он «возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал «цыц!» и не посмотрел в глаза». (На основании записей в дневнике Толстого о его встречах с Чернышевским в декабре 1856 года и в январе 1857 года можно сказать с уверенностью, что высказанный здесь несправедливый взгляд на личность Чернышевского исчез у Толстого при ближайшем знакомстве с ним.)
Далее Толстой высказывает свое принципиальное отношение к обличительной литературе. Он говорит: «У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым — очень мило». В доказательство справедливости этого наблюдения Толстой приводит следующие факты: «Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского — верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов». Толстой не соглашается с этим утвердившимся мнением; по его убеждению, напротив, «быть возмущенным, желчным, злым... очень скверно». Думает он так потому, что, по его мнению, «человек желчный, злой — не в нормальном положении; человек любящий — напротив; и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи».
Толстой тут же прилагает этот свой взгляд к последним стихам Некрасова, имея в виду, очевидно, напечатанные в первых
75
книжках «Современника» за 1856 год стихотворения: «Внимая ужасам войны», «Замолкни, муза мести и печали», «Поражена потерей невозвратной», а также какое-то стихотворение, посланное Некрасовым Толстому в недошедшем до нас письме, — быть может, напечатанное в августовской книжке «Праздник жизни, молодости годы» или напечатанное там же «Как ты кротка, как ты послушна». «Поэтому, — пишет Толстой, — ваши последние стихи мне нравятся, в них грусть, то есть любовь, а не злоба, то есть ненависть. А злобы в путном человеке никогда нет и в вас меньше, чем в ком-нибудь другом».
Толстой кончает эту часть письма уверением в том, что написанное им составляет его твердое убеждение. «Сердитесь на меня, если не согласны со мной, сколько хотите, — говорит он Некрасову, — но я убежден в том, что́ написал, это не словесный спор».
Здесь Толстой более определенно выражает ту мысль, которая была высказана им еще в 1852 году во время работы над рассказом «Набег», когда он записал в своем дневнике: «Сатира не в моем характере... Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности» (записи от 7 июля и 3 декабря 1852 года)39.
Однако в этом письме Толстого бросается в глаза очень существенное противоречие. Толстой говорит, что быть возмущенным «очень скверно», и в то же время хвалит Белинского за то, что тот искренне «бывал возмущен». И подобно тому, как и прежде, высказываясь против сатиры, Толстой все-таки не мог не прибегать к сатире в своих произведениях; подобно тому, как записавши в записной книжке о том, что «все то, на что нужно негодовать, лучше обходить», он менее чем через две недели набрасывает начало комедии, темой которой служит «окружающий разврат в деревне», так и теперь, говоря о том, что только «человек любящий» находится в нормальном состоянии, он пишет письмо очень резкое и по тону и по выражениям, в нем содержащимся.
Некрасов ответил Толстому 22 июля. Предупредивши о том, что ни в одном пункте он с Толстым не согласен, Некрасов далее берет под свою защиту Чернышевского. Не входя в объяснение того, за что он ценит Чернышевского, которого в то время он ставил уже настолько высоко, что, уезжая за границу, передал ему свой голос в редакции «Современника», Некрасов пытается поразить Толстого его же оружием. «Нельзя, — пишет Некрасов, — чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не
76
надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным».
Затем Некрасов переходит к основному вопросу, затронутому Толстым в его письме. Он пишет: «Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину»40.
Толстой ответил Некрасову в начале августа письмом, до нас, к сожалению, не дошедшим. Судя по ответному письму Некрасова от 22 августа, письмо Толстого было написано в примирительном духе. Толстой, видимо, старался смягчить неприятное впечатление, произведенное на Некрасова его предыдущим резким письмом, и писал о различии, которое он делает между Некрасовым-редактором и Некрасовым-человеком. В своем ответном письме Некрасов писал, что он был «несказанно доволен и тронут» последним письмом Толстого и думал о нем «с любовью». И далее в письме Некрасова читаем следующие знаменательные слова о его личном отношении к Толстому: «Ничто случившееся со времени нашего знакомства с Вами не убавило во мне симпатии к той сильной и правдивой личности, которую я угадывал по Вашим произведениям, еще не зная Вас. На мои глаза, в Вас происходит та душевная ломка, которую в свою очередь пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только — к выгоде или невыгоде — отсутствием скрытности и пугливости».
К этому Некрасов прибавляет еще свое мнение о Толстом как о писателе: «Я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных»41.
На это письмо Некрасова Толстой ответил в сентябре письмом, до нас также не дошедшим. В ответном письме Некрасова сказано, что Толстой в своем письме к нему выражал желание, «чтоб наша переписка сделала нас серьезно друзьями»42. Но это письмо Толстого Некрасов получил уже за границей в марте следующего 1857 года после личного свидания с Толстым.
77
В то самое время, когда Некрасов старался внушить Толстому мысль о том, что назначение писателя быть «заступником за безгласных и приниженных», Дружинин старался воздействовать на него совершенно в ином направлении.
В своем письме к Дружинину от 21 сентября 1856 года Толстой писал, что он «раскаивался» «в поспешном условии с «Современником». Дружинин в том самом письме к Толстому от 6 октября, в котором он сообщал свое мнение о «Юности», писал, что раскаиваться уже поздно, а нужно сделать вот что: нужно Толстому вместе с Тургеневым и Островским взять «контроль» над «Современником» и быть его «представителями». Он давал и практические указания, каким образом мог быть осуществлен этот контроль над «Современником». «Спешите же, — писал он далее, — ознакомиться с ходом журналистики, изучить теории Белинского, потому что на этом пункте будет у вас огромное разногласие, изготовиться к делу и посредством взаимного соглашения и где можно уступок, приять голос, вам подобающий. Не принимайтесь за дело круто и до времени терпите безобразие Чернышевского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете. Зато высмотревши все и решившись, поднимайте голос и стойте за свои мнения».
Дружинин советовал Толстому поговорить в Москве с Боткиным о предложенном им плане43.
В ответном письме Дружинину от 19 октября Толстой на последнюю часть его письма отозвался только такими словами: «Безобразие Чернышевского, как вы называете, все лето тошнит меня». Что же касается предложения Дружинина «изготовиться» (военный термин) к тому, чтобы взять контроль над «Современником» и быть вместе с Тургеневым и Островским его представителями, то это предложение, повидимому, не встретило в Толстом никакого сочувствия. Он ни одним словом не ответил на него в своем письме и к чтению статей Белинского не приступил. Все, что сделал Толстой по этому пункту письма Дружинина, состояло в том, что он в тот же день написал письмо Тургеневу, в котором, обсуждая свои с ним отношения, сообщая о нездоровье сестры и об окончании первой половины «Юности», что-то неодобрительное (письмо до нас не дошло) писал о статьях Чернышевского. Тургенев согласился с ним лишь отчасти. «Теперь о статьях Чернышевского, — писал он в ответном письме 16 ноября. — Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души; но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском — выпискам из его статей, — радуюсь тому, что, наконец,
78
произносится с уважением это имя. — Впрочем, Вы этой моей радости сочувствовать не можете»44, — с грустью прибавлял Тургенев, вспоминая резкие отзывы Толстого о Белинском.
VII
Дружеская переписка с Некрасовым ни в малой мере не привела к изменению взглядов Толстого на направление «Современника». Еще с большей определенностью, чем в письме к Некрасову, взгляды эти были им выражены в письме от 1 октября 1856 года к Е. П. Ковалевскому.
«Я открыл, — писал Толстой в этом письме, — удивительную вещь (должно быть, я глуп, потому что когда мне придет какая-нибудь мысль, я ужасно радуюсь), — я открыл, что возмущение, склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, есть большой порок и именно нашего века».
«Есть два-три человека, — писал Толстой далее, — точно возмущенные, и сотни, которые притворяются возмущенными и поэтому считают себя вправе не принимать деятельного участия в жизни». Чтобы Ковалевский не принял слов Толстого о «притворяющихся возмущенными» на свой счет, Толстой спешит пояснить, кого он разумеет в этих словах. «Из литературного кружка есть много таких наших общих знакомых», — пишет он.
Толстой и здесь, как в письме к Некрасову, различает искренне возмущающихся от притворяющихся возмущенными; но далее он (чего не было в его письме к Некрасову) указывает на те разумные выходы, которые могут выбрать для себя люди, искренне возмущающиеся. Выходов этих Толстой указывает три: «Или, ежели душа не слаба, действуй и исправь, что тебя возмущает, или сам разбейся, или, что гораздо легче и чему я намерен держаться, умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного; а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить не только в России, но у самоедов».
Ту же самую мысль Толстой выразил в следующей записи, сделанной им в записной книжке: «Гражданская злоба нехороша потому, что отрешаешься от возможности всякой деятельности. Негодуй на зло деятельно только тогда, когда с ним прямо столкнулся»45. Здесь Толстой признает деятельную борьбу со злом и восстает против «гражданской злобы» как настроения, не проявляющегося в соответствующей деятельности или выражающегося в совершенно бесплодном, словесном осуждении зла.
Конец сентября, после отправки «Юности» на суд Дружинина, и весь октябрь Толстой ничего не пишет.
79
8 октября он записывает в дневнике, что у него мелькнул план комедии. 11 октября он «много думал о комедии из Оленькиной жизни в двух действиях. Кажется, может быть порядочно». Оленька, здесь упоминаемая, — это соседка Толстого, Ольга Владимировна Арсеньева, в то время восемнадцатилетняя девушка. Толстой был ее опекуном.
15 октября Толстой очень сжато и кратко набросал начало комедии, которую озаглавил «Дядюшкино благословение». Главные действующие лица этой комедии — муж и жена Енисеевы. Жена придерживается принципа «свободной любви», имеет двух любовников и влюблена в грузинского князя. Князь влюбляется в племянницу Енисеевых Ольгу, только что, к досаде Енисеевой, приехавшую из деревни. Что именно в комедии взято «из Оленькиной жизни» — неясно.
Задуманная комедия должна была носить остро сатирический характер. Толстой, следовательно, довольно скоро отступил от правила «отворачиваться от дурного», которое он так горячо отстаивал в письме к Ковалевскому всего за две недели до того, как им была начата комедия «Дядюшкино благословение».
VIII
К лету 1856 года относится начало значительных личных переживаний Толстого, оставивших глубокий след в его жизни.
14 июня к Толстому приехал его старый друг Д. А. Дьяков. Толстой остался очень доволен свиданием с Дьяковым. «Он лучший мой приятель и славный», — записал он в дневнике. Дьяков дал Толстому несколько советов по хозяйству, а главное, — посоветовал ему жениться на его соседке Валерии Владимировне Арсеньевой.
Семейство Арсеньевых, состоявшее из трех дочерей и сына, владело имением Судаково, расположенным в восьми верстах от Ясной Поляны по дороге в Тулу. По смерти отца Арсеньевых в 1854 году Толстой был назначен их опекуном. Валерия Владимировна была старшей в семье; в 1856 году ей было 20 лет.
Толстой серьезно отнесся к совету своего друга.
С этого времени он начинает часто ездить к Арсеньевым и внимательно приглядываться к заинтересовавшей его девушке и все свои наблюдения и выводы заносит в дневник. Эти наблюдения и выводы, которые Толстой делал в течение двух месяцев с 15 июня по 12 августа, бывали часто не только различны, но и совершенно противоположны. Вот наиболее характерные из его записей этого времени:
«Беда, что она без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная».
«В. мила».
«Она играла. Очень мила».
80
«В. болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть».
«Я с ней мало говорил, тем более она на меня подействовала».
«В. была ужасно плоха, и совсем я успокоился».
«В. в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».
«В. ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа».
«В. славная девочка, но решительно мне не нравится».
«В. очень мила, и наши отношения легки и приятны. Что ежели бы они могли остаться всегда такие».
«В. была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному ужасающи. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить».
Приехавший на именины сестры брат Сергей Николаевич, которому Толстой рассказал о своих отношениях с В. В. Арсеньевой, со своим обычным скептицизмом, как пишет Толстой, «много подлил» ему «холодной воды», но на Толстого расхолаживающие речи брата не произвели никакого впечатления. Через два дня он опять едет к Арсеньевым, после чего записывает в дневнике: «Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо».
Далее опять записи совершенно противоположного характера:
«В. ...не понравилась очень и говорила глупо».
«В., кажется, просто глупа».
«В. была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа».
«В. возбуждала во мне все одно [чувство] любознательности и признательности».
«Мы с В. говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра».
12 августа Валерия Владимировна поехала в Москву на коронацию Александра II. Толстой поехал ее проводить, а возвратившись, записал в дневнике: «Она была необыкновенно проста и мила».
В отсутствие Арсеньевой Толстой не переставал думать о ней с любовью и нежностью. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке», — записывает он 16 августа.
17 августа, соскучившись по Валерии Владимировне, он пишет ей письмо с единственной целью вызвать ее на ответ. Толстой убеждает ее не обращать внимания на то, что сосед лесничий найдет неприличным, чтобы она писала прямо ему, а не его тетушке, и просит описать ему все свое времяпровождение в Москве,
81
обещая, в случае получения от нее письма «три раза перевернуться колесом». Все письмо написано то в тоне веселого добродушного юмора, то в тоне легкой иронии, когда Толстой говорит о важности «представления ко двору и покупки кружев». По письму видно, что во время своих посещений Судакова Толстой относился к барышне покровительственно и нередко «читал ей мораль». Долгое, как казалось Толстому, молчание Валерии Владимировны огорчало его.
Но вот от Валерии Владимировны пришло письмо к его тетушке, но письмо не такое, какого он ожидал46. По письму было видно, что вихрь московских развлечений совершенно захватил барышню: каждый день визиты, обеды, спектакли, музыкальные утра и танцовальные вечера. Она была на параде войск в обществе пяти дам и двух кавалеров флигель-адъютантов. На параде была большая давка, и ее нарядный туалет сильно пострадал.
Это письмо очень огорчило Толстого. Он сейчас же написал Валерии Владимировне огорченное и взволнованное письмо. Он писал, что ее письмо вызвало в нем состояние «грусти и разочарования».
«Неужели какая-то смородина47, высший свет и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия?» — огорченно спрашивает он. Ему кажется, что Валерия Владимировна могла бы понять, насколько ему тяжело будет читать «милое» ее письмо. «Меня, вы знали, — пишет он, — как это подерет против шерсти».
И далее Толстой в самых определенных выражениях высказывает свое мнение о высшем свете. Он говорит: «Любить haute volée [высшее общество], а не человека, нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречается дряни, чем из всякой другой volée». О флигель-адъютантах, которых Толстой насмотрелся в Севастополе, он пишет: «Насчет флигель-адъютантов — их человек сорок, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки».
Далее Толстой, противопоставляя свое деревенское времяпровождение времяпровождению барышни в московском высшем свете, говорит, что он целый день «шлялся на охоте и так наслаждался, как не удастся ни одному оберкамерфурьеру и ни одной барыне в платье, brochée[отделанном] чем-то». И заканчивает письмо ядовитым обращением: «Пожелав вам всевозможных тщеславных радостей с обыкновенным их горьким окончанием, останусь ваш покорнейший, но неприятнейший слуга».
82
Толстой долго оставался под тяжелым впечатлением неожиданно для него обнаружившейся пустоты заинтересовавшей его девушки. Записи о «В.» прекращаются в дневнике на целых двенадцать дней. Только 4 сентября в дневнике вновь появляется запись: «О В. думаю очень приятно». Через два дня, отправившись на охоту, он заехал в Судаково и здесь «с величайшим удовольствием вспоминал о В.».
В Судакове Толстой увидел компаньонку его тетушки Наталью Петровну, писавшую письмо Валерии Владимировне. Он взял у нее начатое письмо, где было написано только: «Милые и бесценоя», и стал продолжать далее от себя. Его беспокоило, что он обидел и оскорбил соседку своим последним письмом. «Меня мучает, — писал он, — и то, что я написал вам без позволенья, и то, что написал глупо, грубо, скверно». И он просит написать ему два слова о том, сердится ли она, и как она сердится, выражает ей пожелания «совсем не иронически» побольше веселиться и спрашивает, когда она вернется домой. К письму Толстого Наталья Петровна поспешила сделать приписку о том, что «граф очень нездоров и так печален».
На первые два письма Толстого Валерия Владимировна не ответила. На это третье письмо, написанное в примирительном и покаянном духе, нельзя было не ответить — Толстой мог обидеться и порвать с ней всякие отношения. Она ответила сейчас же. Она писала, что нисколько не сердится на «любезного соседа» за его «мораль». «Мне всегда приятно ее слушать, потому что все ваши советы были мне всегда очень полезны», — писала Арсеньева. Но ей досадно, что ее письмо было понято неправильно и что ей сделаны «незаслуженные замечания насчет тщеславия, гордости и пр.» Дальнейшее содержание письма не могло обрадовать Толстого. Валерия Владимировна писала, что она «совсем завеселилась, всякий день где-нибудь на бале, или в опере, или в театре, или у Мортье» (француз-пианист, у которого она училась музыке), и что вскоре предстоят балы у австрийского и французского посланников48. Получение этого письма в дневнике Толстого не отмечено.
24 сентября Арсеньева после полуторамесячного отсутствия вернулась в деревню, и уже на другой день Толстой поехал к ней. Она произвела на него невыгодное впечатление. «В. мила, но, увы, просто глупа», — записывает он в дневнике. И на другой день: «Была В., мила, но ограниченна и фютильна невозможно».
Через два дня он опять едет к Арсеньевым и, оставшись у них ночевать, записывает в дневнике, что в этот вечер Валерия ему нравилась. Но на утро, проснувшись «злой», Толстой делает
83
в дневнике убийственную запись: «В. не способна ни к практической, ни к умственной жизни». В тот же день у Толстого зашел с Арсеньевой разговор о пианисте Мортье, у которого она в Москве брала уроки музыки, и «оказалось, что она влюблена в него». «Странно, — пишет Толстой, — это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства». Вернувшись домой и обдумав то, что он узнал, Толстой записывает: «В. ...страшно пуста, без правил и холодна, как лед, оттого беспрестанно увлекается».
Валерия Владимировна, конечно, заметила невыгодное для нее впечатление, произведенное на Толстого ее рассказом. От ее компаньонки, итальянки Вергани, Толстой получил «грустную» записку. Он пишет ответ, советуя Валерии Владимировне ехать в Москву. В следующую поездку к Арсеньевым Толстой был «зол и мрачен», а еще раз побывав у Арсеньевых, почувствовал, что Валерия для него «только неприятное воспоминание». Но, вернувшись домой, Толстой решил, что он был неправ и что ему надо объясниться с Валерией. Объяснение состоялось нескоро, так как Толстой поехал на охоту в имение сестры Покровское. Поездка продолжалась неделю.
Вновь явившись к Арсеньевым, Толстой объяснился с Валерией Владимировной посредством аллегорического рассказа, в котором сам он фигурировал под вымышленной фамилией Храповицкого, а она под фамилией Дембицкой. Валерия Владимировна поняла тайный смысл аллегории и утром на другой день (Толстой ночевал у Арсеньевых) «пришла смущенная и довольная», и ему было «радостно и совестно».
В тот же день Толстой поехал в Тулу, на бал, где «В. была прелестна». «Я почти влюблен в нее», — записывает он. Дневник следующего дня (25 октября) заканчивался словами: «Я ее люблю». Толстой показал Валерии Владимировне эту запись, и она вырвала из его дневника эту страничку.
Толстой чувствовал, что в своих отношениях к В. В. Арсеньевой он зашел слишком далеко. «Я совершенно невольно сделался чем-то вроде жениха. Это меня злит», — записывает он 28 октября. И опять записи о «В.» совершенно противоположного характера: «Она была проста, мила»; а через несколько дней: «Нечего с ней говорить. Ее ограниченность страшит меня».
31 октября Толстой вновь поехал на бал в Тулу, где В. опять была «очень мила». После бала Толстой поехал ужинать к Арсеньевым, в три часа ночи из Тулы выехал в Москву и «был почти влюблен».
Валерия Владимировна на другой день писала Т. А. Ергольской, что хотя бал был хорош, она была очень огорчена отъездом Льва Николаевича и «не могла танцовать от души».
84
Глава третья
В МОСКВЕ И В ПЕТЕРБУРГЕ
(1856—1857)
I
В дороге Толстой «думал только о В.» У него даже являлась мысль вернуться домой, поехать в Судаково и сделать предложение. Но началась опять свойственная ему беспокойная работа мысли, и он продолжал путь в Москву, куда и приехал 1 ноября.
На другой день, 2 ноября, Толстой с утра садится за письмо к Валерии.
Все это письмо написано в таком тоне, как будто его женитьба на ней была уже делом решенным. Он предвидит «счастливое время», но считает, что раньше им обоим предстоит еще «огромный труд — понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение». Труд этот, по его мнению, необходим «для их общего счастья». Если же такого взаимного понимания и уважения не будет, то очень скоро в их отношениях образуется «громадный овраг», который ничем нельзя будет заполнить. Тут же он делает барышне наставление о том, как ей жить, чтобы чувствовать внутреннее удовлетворение от своей жизни. «Главное, — пишет он, — живите так, чтоб, ложась спать, можно сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь и 2) сама стала хоть немножко лучше».
Толстой поясняет, что он понимает под словами «сделаться лучше»: научиться хорошо исполнять трудный музыкальный пассаж, прочувствовать хорошее произведение искусства или поэзии. Но важнее всего этого — сделать кому-нибудь добро и тем заставить этого человека «любить и благодарить за себя бога». «Это — наслаждение и для себя одной, — прибавляет он, — а теперь вы знаете, что есть человек, который все больше и больше, до бесконечности будет любить вас за все хорошее, что вам не трудно приобретать», который расположен «любить вас самой сильной, нежной и вечной любовью».
Толстому кажется, что это сам бог внушил ему мысль уехать из деревни, чтобы проверить свое чувство: «я один не мог бы этого сделать, — пишет Толстой. — Я верю, что он руководил
85
мной для нашего общего счастья». И заканчивает письмо словами: «Христос с вами, да поможет он нам понимать и любить друг друга хорошо».
На этот раз Толстой пробыл в Москве только пять дней. Оторвавши себя насильно от любимой девушки, он чувствовал «тоску невыразимую везде». Он побывал в Малом театре, где видел «Горе от ума» («Отлично», — записал он в дневнике про исполнение пьесы Грибоедова), читал «Полярную звезду» Герцена.
Еще летом в Ясной Поляне Толстой, как писал он Некрасову 2 июля, понял «всю нелепость» своего столкновения с Лонгиновым. Он тогда же написал в Москву своему приятелю В. С. Перфильеву, прося его побывать у Лонгинова и передать ему его извинение, что тот и исполнил. Теперь Толстой решил лично повидаться с Лонгиновым, чтобы совершенно покончить с происшедшим между ними недоразумением. Два вечера он ходил в Английский клуб, чтобы встретиться там с Лонгиновым, что ему и удалось сделать.
Кроме того, Толстой побывал у Островского, который произвел на него впечатление человека доброго и вместе с тем «холодного самолюбца»; два раза был у В. П. Боткина, причем во второй раз застал у него Аполлона Григорьева и Островского. Находясь в тоскливом расположении духа, Толстой в разговоре с Григорьевым и Островским, как записал он в дневнике, «старался оскорбить их убеждения». «Зачем? не знаю», — с недоумением говорит он в дневнике об этом споре, отдавая себе отчет в прошедшем дне. Тем не менее Толстой произвел на Боткина приятное впечатление. — «Был у меня Толстой, проездом из деревни в Петербург, — писал Боткин Тургеневу 10 ноября. — Одинокая жизнь в деревне принесла ему много добра, он положительно стал лучше, то есть проще, правдивее и сознательнее; кажется, и внутренней тревожности стало в нем меньше»1.
Незадолго до отъезда из Москвы Толстому пришлось говорить о В. В. Арсеньевой со своим троюродным братом князем Волконским. Разговор касался пребывания Валерии Владимировны в Москве у ее тетки Щербачевой в августе — сентябре во время коронационных торжеств. Волконский рассказал, что ему случайно пришлось услышать такой разговор между собой двух знакомых дам: «Какая гадкая женщина Щербачева — она выписала свою племянницу, хорошенькую молоденькую девушку, и решительно губит ее, сводит и влюбляет в какого-то музыканта, от которого эта барышня уже без ума и даже в переписке с ним».
86
Рассказ Волконского очень взволновал Толстого. Он ужаснулся легкомыслию, пустоте и ветренности той девушки, с которой он готовился соединить свою жизнь.
В удрученном состоянии Толстой 6 ноября выехал из Москвы в Петербург. Дорогой он читал роман Диккенса «Крошка Доррит».
II
7 ноября Толстой приехал в Петербург.
Он остановился сначала в гостинице, а затем снял квартиру в доме Блюмера на углу Большой Мещанской и Вознесенского проспекта.
Прежде всего он явился к начальнику Петербургского ракетного заведения генералу Константинову.
Еще в Ясной Поляне Толстой принял решение оставить военную службу, так как она мешала его литературным занятиям, и 30 сентября подал прошение об отставке. От генерала Константинова Толстой узнал, что вопрос о его отставке вскоре будет разрешен в благоприятном для него смысле.
Вместе с тем от того же Константинова Толстой узнал, что великий князь Михаил Николаевич, состоявший в то время председателем комиссии по улучшению военной части, слышал от кого-то, будто бы Толстой не только сочинил Севастопольскую песню, но и ходил по полкам и учил солдат ее распевать. По этому поводу Толстой ездил объясняться с помощником начальника штаба фельдцейхмейстера, генералом Якимахом. Якимах, повидимому, удовлетворился объяснением Толстого.
Вечером Толстой виделся с Дружининым и Анненковым; с Дружининым ему было «немножко тяжело». Тяжесть эта, вероятно, проистекала из того, что после тех чрезвычайно теплых, дружеских писем, какие писал Толстой Дружинину из деревни, ему неловко и неприятно было в ответ на свое дружеское отношение видеть ровное, спокойное, не выходящее из границ приличия отношение к нему Дружинина2.
На другой день 8 ноября Толстой с утра засел за письмо к Валерии Владимировне. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней после поразившего его разговора с Волконским, его чувство возмущения и огорчения так же сильно, как и раньше. Кроме того, его беспокоит то, что от Валерии не было ни одного письма к нему. Он вновь начинает склоняться к мысли, что любимая им девушка — натура холодная, неспособная любить
87
глубоко, и потому у нее одно увлечение быстро сменяется другим. Его ужасает догадка о том, что для нее оба чувства — и к Мортье, и к нему — были равны, «как и те, которые были прежде, и третье, и тридцать третье, которое будет после».
Письмо это, в котором Толстой называет тетку Валерии Владимировны «мерзейшей» женщиной, вышло настолько резко и мрачно, что Толстой сразу почувствовал, что посылать его не следует, и тут же начал другое, более спокойное, но очень грустное письмо. Без резких слов, спокойно высказывает Толстой то же мучившее его сомнение, — сомнение в том, что и первое, и второе увлечение девушки — и Мортье, и он — были только увлечения «натуры холодной, которая еще не способна любить». Это письмо было отправлено по назначению.
В тот же день 8 ноября Толстой виделся с Дружининым и Панаевым, после чего записал в дневнике: «Редакция «Современника» противна». Редакцию «Современника» составляли тогда только Панаев и Чернышевский; Некрасов был за границей. По дневнику Толстого не видно, чтобы он в этот день виделся с Чернышевским; но возможно, что у Панаева он встретился с кем-либо из других близких сотрудников «Современника».
Уже на другой день, 9 ноября, Толстой усиленно принялся за работу — начал новый рассказ, обещанный Дружинину в его журнал «Библиотека для чтения». Как всегда после усиленной работы, Толстой пришел в хорошее настроение. Так много ему самому давала его любовь к Валерии, что вечером того же дня он, забыв все свои гнетущие сомнения и все свои страдания, пишет Валерии письмо, все проникнутое любовью и нежностью. Не то, чтобы мучившее его сомнение исчезло совершенно, — он и теперь задает ей вопрос, не принадлежит ли она к числу тех людей, которые «всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий — моральных, разумеется». «Часто, — прибавляет он, — мне кажется, что вы — такая натура, и мне ужасно это больно». И задавая барышне непосильную для нее задачу, он просит сказать ему откровенно: «такая вы или нет?» И тут же прибавляет: «Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура».
Он признается, что чувство к ней служит для него убежищем ото всех неудач и огорчений. «Как только со мной случается маленькая или большая неприятность — неудача, щелчок самолюбию и т. п., я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: «все это вздор — там есть одна барышня, и мне все ничего». Он прибавляет, что такого чувства он раньше не испытывал ни к одной женщине. Но непосредственного чувства любви ему недостаточно. Для него необходимо еще, чтобы любимая девушка и духовно была ему вполне близка. Он наставляет барышню, что
88
ей нужно работать, потому что труд — это «первое условие нравственной, хорошей жизни и поэтому счастия». Он пишет, что он «прочувствовал, выстрадал» свое «убеждение» в том, что «единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью». Он оговаривается, что хотя это убеждение он носит в своей душе, но живет сообразно с ним «только каких-нибудь два часа в продолжение года»; а вот если бы она прониклась этим убеждением, то отдалась бы ему всецело. «А два человека, — уверенно заявляет Толстой, — соединенные этим убеждением — да это верх счастия». Но он понимает, что внушить это убеждение нельзя; нужно, чтобы человек пришел к нему путем самостоятельной внутренней работы. «Словами это не доказывается, а внушает бог, когда приходит время».
Шесть раз на протяжении всего письма Толстой в разных выражениях просит любимую девушку писать ему («Отчего вы мне не пишете?», «Да пишите же, ради бога, каждый день», «Пишите, ради бога, поскорее» и т. д.).
Все мысли Толстого, кроме работы над рассказом, поглощены одним и тем же: его отношениями к Валерии Владимировне.
В ночь с 12 на 13 ноября он, все еще не получивши от любимой девушки ни одного письма, начинает писать ей большое письмо, в котором делится с нею своими мыслями о том образе жизни, который они, по его мнению, должны вести, если им суждено жить совместной жизнью. Себя он называет в этом письме смешным именем Храповицкий, а невесту — именем Дембицкой. Предварительно он дает краткую общую характеристику и себя и ее. Про себя он говорит, что он человек «морально старый», «в молодости делавший много глупостей», но теперь «нашедший себе дорогу и призвание — литературу». Он «в душе презирает свет», потому что в светской рассеянной жизни «пропадают все хорошие, честные, чистые мысли», и «обожает тихую семейную нравственную жизнь». Идеалы Дембицкой совершенно другие. «Для нее счастье: бал, голые плечи, карета, брильянты, знакомства с камергерами, генерал-адъютантами и т. д.». Храповицкий и Дембицкая, следовательно, люди «с противоположными наклонностями», но они любят друг друга. Как же им устроить совместную жизнь при таком условии? — ставит Толстой вопрос и отвечает на него: нужно «делать уступки», и «тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны».
Храповицкий был бы готов всю жизнь прожить в деревне, где у него были бы три занятия: любовь к Дембицкой и заботы о ее счастье, литература и хозяйство. Тут же Толстой поясняет, что он разумеет под хозяйством: «исполнение долга в отношении
89
людей, вверенных мне». Толстой, следовательно, пока еще считается с крепостным правом, как с существующим фактом. Одно не нравится Толстому в этом плане постоянной жизни в деревне — то, что в таком случае он «невольно отстал бы от века, а это — грех».
У Дембицкой мечты совсем иные. Она мечтает о том, чтобы жить в Петербурге, «ездить на тридцать балов в зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете». Нужно выбрать среднее между идеалами Храповицкого и Дембицкой. Это среднее — семь месяцев в деревне и пять месяцев в Петербурге, но «без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов... и совершенно без света», занимая квартиру в четыре комнаты на пятом этаже. Только так позволяют средства Храповицких. Он может иметь две тысячи в год с имения («ежели он не будет тянуть последнее, как делают все, с несчастных мужиков», — оговаривается он) и около тысячи за литературные труды; у нее есть вексель на 20 тысяч, с которого она может иметь 800 рублей в год процентов. Других средств у Храповицких нет. На этом Толстой прервал свое письмо.
На другой день Толстой был у Дружинина, где застал также Анненкова и Гончарова. В том напряженном душевном состоянии, в каком он тогда находился, всякое общество было ему тяжело. «Все мне противны, — записал он в дневнике, — особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии». Характерно это выделение Дружинина, как «особенно противного» ему человека, — того Дружинина, к которому Толстой испытывал такое сильное чувство дружбы, не видя его, летом в Ясной Поляне.
Вечером Толстой дописал начатое накануне письмо Валерии. Не получив в течение двух недель ни одного письма, он уведомляет ее, что пишет ей в последний раз, и заканчивает письмо отчаянным воплем: «Во всяком случае, ради истинного бога, памятью вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренны со мной, совершенно искренны, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте, дай вам бог всего хорошего».
Четыре дня проходит в молчании со стороны Толстого.
19 ноября он получает, наконец, письмо от Валерии Владимировны. В дневнике он характеризует это письмо, как «недурное». «Но странно, — прибавляет Толстой, — под влиянием работы я к ней хладнокровен». Это было уже тревожным признаком, на который он, однако, не обратил большого внимания. В тот же день он пишет ей ласковый ответ, вновь излагая свой взгляд на жизнь, в котором, как ему кажется, она с ним сходится.
90
«Вы знаете, — пишет он, — мой характер сомнения во всем»; характер этот есть следствие «известной степени развития». Он сомневается «во всем в мире», но не сомневается в одном: «в том, что добро — добро». Он поясняет, что он разумеет под словом добро: это — «нравственное добро, т. е. любовь к ближнему, поэзия, красота, что все — одно и то же». Это — одно, — говорит Толстой, — «в чем я никогда не сомневаюсь и перед чем я преклоняюсь всегда, хотя почти никогда не практикирую». Он признается, что и к невесте своей он «имеет влеченье» именно потому, что ему «кажется», что она может быть «добра» — в том смысле, как он понимает это слово.
«Но вам скучна эта философия», — сам себя прерывает Толстой и продолжает письмо, весь охваченный порывом любви и нежности, называя свою невесту «голубчик» (выписывая только первую букву этого слова и дальше ставя много точек, что еще более увеличивало интимность всего письма).
На следующий день Толстой получил еще письмо, в котором не нашел для себя ничего нового и где девушка выказывала себя, как «неразвитая, любящая натура». Толстой в то время питал иллюзию, что он сможет своим влиянием способствовать ее развитию — «выучить думать». 19 ноября он вновь пишет ей ласковое письмо, в котором внушает, что для нее важнее всего выработать в себе силу воли, для чего нужно упорно бороться со своими дурными привычками, принуждать себя делать то, что должно, хотя бы это было скучно и тяжело. И далее снова возвращается к программе их будущей совместной жизни.
Программа эта интересна тем, что впоследствии ни в своей холостой, ни в женатой жизни Толстой не пытался осуществить что-нибудь подобное. Как и в предыдущем письме, он проектирует, что он с женой будет жить пять месяцев в городе и семь месяцев в деревне. Зимние месяцы они будут проводить поочередно в Петербурге или за границей. «Но непременно в Петербурге или за границей, — решительно заявляет Толстой, — для того чтобы ни тому, ни другому не отставать от века и не опровинцияливаться, что в своем роде несчастие». Он поясняет, что «не отставать от века» значит «знать, какая вышла новая замечательная книга, какой вопрос занимает Европу», какие передовые идеи распространяются в русском обществе. В Петербурге Храповицкие совершенно не будут ездить в свет и будут иметь только избранный круг знакомых, составленный «не из людей comme il faut и только, которых как собак, но из людей умных, образованных и хороших». Живя в деревне, Храповицкий «будет исполнять давнишнее свое намерение — сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми».
Вопрос об освобождении крестьян в то время волновал все интеллигентные круги Петербурга, без различия политических
91

Липовая аллея в Яснополянском парке.
С фотографии.
92
направлений. Анненков в своем письме к Тургеневу от 7 ноября 1856 года писал: «Вы мне поверите, если скажу, что нельзя обеда съесть и чаю напиться без того, чтоб не накричаться об эманципации крестьян и воспитании чести в народе»3. Конечно, и Толстой не мог не видеть, что вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости назревает и приближается к своему завершению. Тем не менее он не оставляет мысли о деятельности, посредством которой он мог бы «сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми», и полагает, что его жена не только «наверное поддержит» его в этом стремлении, но и сама примет участие в его осуществлении. «Я воображаю ее, — мечтает он, давая полный простор своей фантазии, — в виде маленького провиденья для крестьян, как она в каком-нибудь попелиновом платье, с своей черной головкой, будет ходить к ним в избы и каждый день ворочаться с сознанием, что она сделала доброе дело, и просыпаться ночью с довольством собой и желанием, чтобы поскорее рассвело, чтобы опять жить и делать добро, за которое все больше и больше, до бесконечности, будет обожать ее господин Храповицкий».
Без сомнения, когда Толстой рисовал эту идеальную картину, главной его целью было повлиять на свою невесту, чтобы вызвать в ней желание «делать добро», так как он считал, что «наслаждения добра, которое делаешь, чистой любви и поэзии» — это «высшие наслаждения, которые даны человеку». Позднее, в письме от 1 декабря, Толстой писал Валерии Владимировне относительно «Разговора на большой дороге» Тургенева, который ей не понравился: «Это — сатира на помещичий быт, всю пустоту и безнравственность которого вы еще не совсем понимаете».
И находясь в размягченном душевном настроении, Толстой в два часа ночи заканчивает письмо словами:
«Я так счастлив мыслью, что есть вы, которая меня любит, что не знаю, что бы со мной было, ежели бы вы вдруг мне сказали, что вы меня не любите».
Через три дня, получив «чудесное, славное, отличное» письмо от любимой девушки, Толстой 23 ноября пишет ей самое ласковое из всех написанных им писем и вновь излагает ей свой символ веры. «По письму мне показалось, — писал он, — что вы и любите меня и начинаете понимать жизнь посерьезнее и любить добро и находить наслаждение в том, чтобы следить за собой и итти все вперед по дороге к совершенству. Дорога бесконечная, которая продолжается и в той жизни, прелестная и одна, на которой в этой жизни находишь счастье».
Не довольствуясь таким общим наставлением, Толстой далее
93
касается того вопроса, который ближайшим образом был связан с их возможными отношениями в будущем. Он говорит, что «главное назначение женщины быть матерью», но не маткой — делает он оговорку и спрашивает: «Понимаете вы это различие?» А для того, чтобы быть матерью, а не маткой, говорит далее Толстой, нужно развитие. И он делает еще более уверенное, чем в предыдущем письме, заявление о будущем образе жизни так называемых Храповицких. У них будет собираться «лучшее общество во всей России в смысле ума и образованья», «самые замечательные люди России».
Вместе с письмом Толстой, по просьбе Валерии Владимировны, послал ей свой портрет, сделанный им по ее желанию. Это известная, много раз воспроизводившаяся фотографическая карточка, снятая у Везенберга; на ней Толстой изображен в артиллерийском мундире; взгляд спокойный и внимательный.
Толстой заканчивает письмо словами: «Прощайте, голубчик, голубчик, тысячу раз голубчик — сердитесь или нет, а я все-таки написал».
III
Но это письмо было апогеем, самым сильным выражением чувства Толстого к любимой девушке. После этого письма чувство его начинает постепенно ослабевать.
Вскоре Толстой получил одно за другим два письма от Валерии Владимировны, которые заставили его усомниться в глубине ее чувства к нему. «Она сама себя надувает, и я это вижу насквозь — вот что скучно», — записал он в этот день в дневнике. Привыкнув отыскивать «фразу» в речах своих знакомых литераторов, Толстой теперь вдруг почувствовал ту же «фразу» и в письмах любимой девушки, в ее уверениях, что она испытывает к нему «высокую и нежную любовь». Произошел надрыв чувства. Он пишет «холодное письмо Вальке» — так записано в дневнике. В этом письме в оправдание своих «нотаций», требований правдивости и откровенности Толстой говорит о том, как он смотрит на женитьбу. Он пишет: «От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые женясь думают: «Ну, а не удалось тут найти счастье — у меня еще жизнь впереди», — эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенного счастия, то я погублю все, свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться».
Надрыв в отношениях оказался очень глубоким. Через два дня Толстой записывает: «О В. мало и неприятно думаю». И, хотя еще через день он получил от нее «милое» письмо, но сам написал ей в ответ такое письмо, которое охарактеризовал
94
в дневнике словами: «ни тепло, ни холодно.» Ответ его написан в дружеском тоне, но раз возникшее сомнение в глубине ее чувства у него не исчезает и дает себя знать. Чтобы высказаться откровенно и вместе с тем позолотить пилюлю, он пишет: «Вот чего я боюсь. В переписке... мы... надуваем друг друга, то-есть... рисуемся, выказываем себя с самой выгодной стороны, скрываем каждый свои дурные и особенно пошлые стороны». Поэтому он боится за личное свидание, при котором эти недостатки ясно обнаружатся.
Однако в тот же день 1 декабря Толстой написал не дошедшее до нас письмо Тургеневу, в котором, кроме того, что хвалил его «Фауста» и писал о своих отношениях к нему, касался и своих отношений с В. В. Арсеньевой, повидимому, допуская возможность того, что отношения эти приведут к женитьбе. Тургенев остался очень доволен письмом Толстого, а касаясь тех намеков, которые делал Толстой о своих отношениях к девушке, не знакомой Тургеневу, Тургенев писал ему в ответ: «Дай бог, чтобы все устроилось благополучно и правильно, — а Вам это может принести ту душевную оседлость, в которой Вы нуждаетесь или нуждались, когда я Вас знал»4.
Вполне в курсе отношений Толстого к В. В. Арсеньевой была его любимая тетушка Татьяна Александровна, очень желавшая, чтобы отношения эти закончились браком. Она считала Валерию Владимировну подходящей женой для своего любимого Льва. «Тетушка, — писал Лев Николаевич своей невесте 17 ноября, — сердилась, зачем я еду в Петербург, а не в церковь».
Валерия Владимировна была совершенно откровенна с Т. А. Ергольской. В одном из писем она писала ей, что «получила очаровательное письмо от Льва и больше, чем счастлива».
1 декабря Толстой получил от тетушки письмо, до нас не дошедшее, в котором она, повидимому, советовала ему ускорить завершение своих отношений с Валерией Владимировной. Толстой ответил тетушке 5 декабря. К этому времени он уже совершенно разобрался в своих чувствах. «Только что я уехал, — писал он, — и неделю после этого мне кажется, что я был влюблен что называется, но с моим воображением это не трудно. Теперь же и после этого, — особенно, как я пристально занялся работой, — я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или просто люблю ее, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней — это благодарность за ее любовь».
Одно уже ироническое «что называется» после слов: «мне кажется, что я был влюблен» — показывает, что влюбленность к этому времени у Толстого совершенно исчезла. Он, однако,
95

Л. Н. Толстой в 1856 г.
С фотографии.
96
еще не отказывается от мысли жениться на Валерии. По его мнению, из всех девушек, которых он знал, она была бы самой подходящей ему женой. «Вот в этом-то, — писал Толстой тетушке, — я и желал бы знать ваше откровенное мнение — ошибаюсь я или нет». Он признается, что за последний месяц он часто переживал минуты «досады на себя» за то, что слишком далеко зашел в отношениях к этой девушке, но все-таки, — оговаривается Толстой, — «ежели бы я убедился, что она натура постоянная и будет любить меня всегда, — хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я ни минуты не задумался бы жениться на ней». Ему представляется, что после женитьбы его любовь к ней все больше и больше увеличивалась бы и «посредством этого чувства из нее бы можно было сделать хорошую женщину».
Таким образом, для Толстого вполне уяснились его отношения к Валерии Владимировне. Влюбленности нет и, как ему кажется, и не было; есть только чувство благодарности к девушке за ее любовь и рассудочное представление о том, что эта девушка могла бы быть ему хорошей женой. Но и в этом он не уверен и просит совета у тетушки.
С такими мыслями Толстой через два дня после письма к тетушке пишет Валерии Владимировне. В письме этом чувствуется уже тревога за будущую совместную жизнь, если ей суждено осуществиться. Нельзя любить друг друга, — пишет Толстой, — «с различными взглядами на жизнь»; а он чувствует, что их взгляды на жизнь совершенно различны. Особенно возражает Толстой против намерения В. В. Арсеньевой, выйдя замуж, продолжать ездить в свет. Возражает он на том основании, что ему в таком случае придется «водиться с людьми, которых он не уважает, с которыми ему противно, скучно», «терять время, переменить весь свой образ жизни, бросить то, что в нем есть лучшего — свои занятия». Чтобы не было этого различия взглядов, — пишет Толстой, — нужно «одно из двух: или вам надо потрудиться и догнать меня, или мне вернуться назад». Но он не может вернуться потому, что знает, что «впереди лучше, светлее, счастливее». «Валяйте на почтовых, — призывает он свою невесту, — я вам буду помогать, сколько могу; вам будет тяжеленько, но зато как счастливо, спокойно и с любовью (уж ежели вам это нужно) мы пройдем до конца дороги».
Во всем письме нет никакого намека на влюбленность. Дважды повторенное ласковое обращение «голубчик» пишется больше по привычке, чем по искреннему чувству.
Валерия Владимировна не успела еще получить это письмо, как Толстой получил от нее «оскорбленное», как он пишет в дневнике, письмо в ответ на то, какое он послал ей раньше. Она выражала недовольство тем, что ее корреспондент «только
97
умеет читать нотации»; его письма для нее только «нотации и скука». В. В. Арсеньева предупреждала, что пишет ему «последнее письмо».
Как записал Толстой в дневнике, он был «рад» такому письму Валерии Владимировны. Конечно, никакой радости это письмо доставить ему не могло, но он был доволен тем, что письмо разрешало его сомнения. Раньше он не мог решить, могла ли Валерия Владимировна быть ему подходящей женой, и спрашивал об этом совета у тетеньки; теперь, хотя он и подозревал, что письмо Валерии было не вполне искренне и что в нем она прибегнула к испытанному приему кокетливых женщин — «холодностью разжечь» его, он все-таки увидел ясно, что их жизненные интересы совершенно различны и потому о совместной жизни не может быть и речи.
Разумеется, открытие это не было для него радостно. «Мне очень грустно», — записывает он на другой день.
Как изображенный им впоследствии герой повести «Семейное счастье», в бессонные ночи он «разламывал, разрушал» ту любовь, которую раньше сам же создавал с такими усилиями и которая теперь так мучила его5.
Еще через день, 12 декабря, Толстой пишет «последнее письмо В.». Из ее письма он увидел, пишет он, как они далеки друг от друга. Его мысли и чувства, самые дорогие для него, о которых он ей рассказывает «чуть не со слезами на глазах», в ней не находят никакого отклика; а раз между ними нет ничего общего, то любовь и женитьба доставили бы им только страдания. «Постарайтесь простить меня и останемся добрыми друзьями», — пишет Толстой той девушке, с которой готовился было соединить свою жизнь.
И опять ему было «очень грустно».
Ночью его преследовали кошмары. Он видел во сне «резню на полу» и какую-то «коричневую женщину» у себя на груди, которая что-то шептала ему.
IV
Весь ноябрь и большую часть декабря 1856 года Толстой проводит в усиленной литературной работе. Он ведет замкнутый, уединенный образ жизни, не бывает в свете, видится главным образом с литераторами, слушает музыку и сам занимается музыкой, ежедневно делает гимнастику, читает и пишет. В дневнике его за этот период отмечено чтение «прелестной» «Обыкновенной истории» Гончарова, «слабой», по его мнению, комедии Островского «Бедная невеста», «Ифигении в Тавриде»
98
Гёте, которую он в одном из писем к Арсеньевой называет «удивительной вещью», и «Шварцвальдских деревенских рассказов» Ауэрбаха.
Все писатели, видевшиеся или переписывавшиеся с Толстым в то время, замечали большую перемену, происшедшую с ним за время пятимесячного пребывания в деревне. Он уже не держался с литераторами так вызывающе, как в первые месяцы после Севастополя. Боткин 6 декабря писал Тургеневу в Париж: «Толстой делается решительно милым, простым и восхитительным»6.
«Толстой делается проще и легче для меня», — писал в тот же день Тургеневу Панаев7.
На это письмо Тургенев ответил Панаеву 16 (28) декабря: «Радуюсь появлению «Юности» и умиротворению самого Толстого — это очень хорошо»8.
Самому Толстому в ответ на его письмо от 1 декабря Тургенев 8 (20) декабря писал: «Ото всего письма веяло чем-то кротким и ясным, какой-то дружелюбной тишиной»9.
Толстой старается теперь применять на практике то «открытие», которое он сделал летом в Ясной Поляне: что только человек любящий находится в нормальном душевном состоянии. «Любовь, любовь — одно безошибочно дает счастие», — записывает он в дневнике 16 ноября. На другой день он провел вечер с Боткиным и Дружининым и был «добр и скромен», и оттого ему «хорошо было».
Усиленная литературная работа Толстого в течение ноября была вызвана тем, что в октябре в газетах уже появилось объявление редакции «Современника» о том, что с 1857 года четыре известнейших литератора — Григорович, Островский, Толстой и Тургенев — будут помещать все свои новые произведения исключительно в «Современнике»10. Участники этого «обязательного соглашения» не имели права в следующем 1857 году печататься в каких-либо журналах, кроме «Современника». Между тем Толстой уже обещал Дружинину предоставить
99
какой-нибудь рассказ или повесть в начинавшую выходить под его редакцией «Библиотеку для чтения». Толстой сначала хотел дать Дружинину написанный им в 1854 году для неосуществившегося военного журнала очерк «Как умирают русские солдаты». Он просмотрел этот очерк, дал ему новое заглавие. — «Тревога», но затем, очевидно, решил, что вещица эта, незначительная по размеру и элементарная по содержанию, не подойдет «Библиотеке для чтения» и начал писать для Дружинина совершенно новый рассказ. Он спешил закончить его с тем расчетом, чтобы он мог появиться в декабрьской книжке журнала за 1856 год.
Замысел этого нового рассказа, названного «Разжалованный», относится еще ко времени пребывания Толстого на Кавказе. 3 декабря 1853 года в записанном в дневнике Толстого перечне сюжетов, занимавших в то время его внимание, между прочим значится: «Пропащий человек». Но на Кавказе Толстой не приступил к осуществлению этого замысла. Теперь, сразу же по приезде в Петербург, Толстой уже 9 ноября начал диктовать писарю новый рассказ. 14 ноября рассказ начерно был закончен. 15 и 18 ноября происходила отделка рассказа для печати, и вскоре рассказ был передан Дружинину. 29 и 30 ноября Толстой читал корректуру своего нового рассказа.
Главный герой рассказа, носящий фамилию Гуськов, разжалованный из офицеров в рядовые, имеет своими прототипами два лица: петрашевца Н. С. Кашкина, сосланного на Кавказ, с которым Толстой виделся в Железноводске в 1853 году, и А. М. Стасюлевича, разжалованного в рядовые за то, что в его дежурство из Тифлисской тюрьмы бежало несколько арестантов11. Стасюлевич рассказывал Толстому свою историю в Старогладковской в ноябре 1853 года.
Главный интерес рассказа — психологический, раскрытие психологии представителя высшего московского света, утратившего свое положение, терпящего вследствие этого различные унижения и морально опустившегося. Несомненно, что автор желал вызвать в читателях сочувствие к своему герою, когда заставлял его произносить такие слова: «Все дурное я принимал к сердцу, бесчестность, несправедливость, порок были мне отвратительны, и я прямо говорил свое мнение, и говорил неосторожно, слишком горячо и смело»12. (Эта самохарактеристика Гуськова не была пропущена цензурой).
Кроме психологического, рассказ имеет также большой бытовой интерес. Автор с нескрываемым удовольствием вспоминает
100
различные подробности кавказской военной жизни. С добродушным юмором рисует он комическую сцену игры в городки, когда рассказчик и два другие офицера, проигравшие две партии, «к общему удовольствию и смеху зрителей — офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого». Солдаты, по утвердившейся терминологии автора Севастопольских рассказов, и в этом рассказе — «солдатики». Симпатией к «солдатикам» проникнут и рассказ о том, как, возвращаясь ночью от начальника артиллерии, рассказчик «не раз уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался или к сказке, которую рассказывал балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках».
Собственные социальные взгляды автора выразились в тех характеристиках, которые он дает отцу и особенно сестре Гуськова. О сестре Гуськова сказано: «В ней был развит в высшей степени тот русский, особенно петербургский, аристократизм, выражающийся только в подобострастии перед известным светом и известным comme il faut, сквозь который они криво, косо и безнравственно смотрят на весь мир божий, и аристократизм, который никакие несчастия, никакое влияние не в состоянии выбить из человека, ежели он правильным воспитанием и еще хуже — успехом в свете привит к нему».
Об отце Гуськова автор говорит, что это был человек, «наживший себе на службе весьма значительное состояние». Рассказчик признается, что, зная по слухам отца Гуськова и его сестру, он «не ожидал от молодого Гуськова ничего хорошего».
По всему рассказу разбросаны блестки художественных описаний кавказской природы и военного быта, в которых Толстой еще раньше заявил себя таким первоклассным мастером, — как например: «Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо»; орудия, «как будто вытянув шеи, стояли неподвижно»; равнина начала «одеваться сумерками» и т. п.
Рассказ Толстого встретил некоторые препятствия со стороны цензуры. Дружинин писал Толстому, что начальник Петербургского цензурного комитета князь Щербатов просит переменить заглавие рассказа, смягчить резкие выражения об офицерах и вообще кавказцах и «показать от лица автора, что он возмущен был злостными отзывами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах»13.
101
Идя навстречу желанию Дружинина, Толстой изменил заглавие (рассказ появился в журнале под заглавием: «Встреча в отряде с московским знакомым»), сделал некоторые смягчения в тексте (между прочим была исключена приведенная выше характеристика сестры Гуськова) и осудил от лица автора отношение Гуськова к кавказским офицерам. Это осуждение выражено было автором в следующих словах: «Мне было противно, что он потому, верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которые я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов». Без сомнения, делая в свой рассказ эту вставку, Толстой нисколько не кривил душой, а выражал свое действительное отношение к бывшим своим товарищам по службе.
5 декабря чтение корректур «Разжалованного» было закончено, после чего рассказ благополучно прошел через цензуру и появился в № 12 «Библиотеки для чтения».
В литературных кругах новый рассказ Толстого большого успеха не имел. 15 ноября Толстой прочел его вслух Боткину и Дружинину — они «приняли холодно» (запись в дневнике того же числа). 3 января 1857 года Боткин писал Тургеневу, что рассказ Толстого в «Библиотеке для чтения» «прошел почти незаметным»14. После богатых по содержанию и ярких по художественной изобразительности предшествовавших произведений Толстого от нового его рассказа ожидали больше того, что в нем оказалось.
В печати «Встреча в отряде с московским знакомым» вызвала только один отзыв — в журнале «Сын отечества»15. Анонимный критик хвалил рассказ Толстого как за «мастерски обрисованное» лицо главного героя, так и за изображение других типов кавказских военных.
В промежуток между работой над «Разжалованным» 12 и 13 ноября Толстой набросал план и два явления первого действия комедии «Свободная любовь»16. Содержание новой комедии весьма близко подходит к содержанию комедии «Дядюшкино благословение», за месяц перед этим начатой в Ясной Поляне. В центре комедии, действие которой происходит в Москве, — богатая дама Лидия Андреевна Шурина, проводившая в своей жизни идеи Жорж Санд о свободной любви. Муж предоставляет ей свободу. Он гордится тем, что стоит «выше суеверий
102
толпы». В числе действующих лиц три любовника Лидии Андреевны, один из которых ее родной дядя, и молодой грузинский князь, в которого она влюблена. Отталкивающее впечатление, производимое четой Шуриных, усиливается еще больше от того, что они живут на средства ее любовника дяди и ее племянницы Ольги, выписанной из деревни. Нам ничего неизвестно о каких-либо прототипах комедии «Свободная любовь», за исключением Ольги, в которой, надо думать, отражены некоторые черты сестры В. В. Арсеньевой Ольги Владимировны.
Комедия «Свободная любовь» так же, как начатая месяцем раньше комедия «Дядюшкино благословение», должна была носить ярко выраженный сатирический характер и вполне выражать все то отвращение к проповеди и практике «свободной любви», какое имел к ней автор.
К продолжению начатой комедии Толстой не вернулся, и комедия осталась незаконченной, хотя Толстой и впоследствии иногда вспоминал о начатых драматических произведениях и строил планы работы над ними. Так, 28 декабря 1856 года он записывает в дневнике: «Все думал о комедии», но тут же сурово останавливает самого себя в этих мыслях: «вздор». По дороге из Петербурга в Москву 12 января 1857 года, перебирая в своей памяти все начатые и задуманные произведения, Толстой вспомнил и комедию, сюжет которой рисовался ему в то время в следующих чертах: «Практический человек, Жорж-Зандовская женщина и Гамлет нашего века — вопиющий больной протест против всего, но безличие».
Здесь Толстой соединил в своем представлении и сюжеты комедий «Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь», и комедий «Практический человек» и «Дворянское семейство», начатых им в Ясной Поляне в июне 1856 года. Но на этот раз дальше записи в дневнике планов о продолжении начатых работ дело не пошло.
V
Еще не закончив работу над рассказом для «Библиотеки для чтения», Толстой начинает обдумывать рассказ для другого журнала — «Отечественные записки».
Толстой тогда только что прочитал появившуюся в ноябрьской книжке «Отечественных записок» рецензию на отдельное издание его «Детства и Отрочества» и «Военных рассказов». Рецензия была неблагоприятная. Автор рецензии, С. С. Дудышкин, отметив, что их журнал первый обратил внимание на талант Толстого, далее писал, что со времени «Детства и Отрочества» Толстой нисколько не пошел вперед; что у него нет женских образов; что в рассказе «Севастополь в августе», вопреки
103
его заглавию, нет изображения последних дней Севастополя и потому рассказ можно было бы назвать с равным правом «Севастополь в январе», «в феврале» и т. д.; что в рассказе «Метель» не отражено ощущение тревоги путника, как в «Бесах» Пушкина.
Все эти утверждения рецензента были совершенно ложны.
После «Детства» и «Отрочества» Толстой значительно шагнул вперед и в «Записках маркера» с их своеобразным психологическим содержанием, нисколько не похожим на содержание автобиографических повестей, и в кавказских и Севастопольских рассказах, где им были даны такие реальные картины войны, каких до Толстого не давал ни один писатель ни русский, ни иностранный, и кроме того мастерски изображены типы русских солдат и офицеров, чего в «Детстве» и «Отрочестве» не могло быть по самому содержанию этих повестей. Далее: повесть «Севастополь в августе» изображает именно последний месяц и последние дни осады и штурм города, и то, что в ней рассказано, не могло происходить в январе или в феврале того же года, когда Севастополь имел совершенно иной вид, чем он предстоит перед нами в повести Толстого. Превосходно очерченный женский образ находим в повести «Два гусара», на что, как мы видели, обратил внимание Чернышевский. Рассказ «Метель» нельзя сравнивать с «Бесами» Пушкина именно потому, что у Толстого его путник не испытывает чувства тревоги: его заражают своим бодрым настроением окружающие его люди из народа — ямщики, как бы весело играющие с разбушевавшейся стихией.
В рецензии Дудышкина явно чувствовалось раздражение, вызванное объявлением «Современника» об исключительном участии в нем четверых крупнейших писателей того времени, в том числе и Толстого, что лишало «Отечественные записки» надежды на его сотрудничество в будущем.
Однако Толстой, всегда склонный умалять достоинства своих произведений, не только не заметил вопиющей несправедливости рецензии «Отечественных записок», но, напротив, нашел ее «умной и дельной» (запись дневника от 11 ноября). За Толстого возмутился Тургенев, который 13 января 1857 года писал Дружинину из Парижа: «Каков однако бессовестный Андриас! Какую статеечку он об «Детстве и Отрочестве» тиснул!»17.
В свою очередь и Толстой возмутился, когда тот же журнал обрушился со столь же несправедливой статьей на Тургенева. Е. Я. Колбасин писал Тургеневу по поводу этой статьи о нем в «Отечественных записках»: «Из литераторов больше всех почувствовал эту философски рассчитанную ложь... кто бы вы думали?
104
Толстой. К моему крайнему изумлению, он был возмущен страшно, а остальные литераторы только помалчивали»18.
Лживая и неосновательная статья «Отечественных записок» несомненно представляла собою «щелчок самолюбию», как выразился Толстой в одном из писем к В. В. Арсеньевой. Но в том морально приподнятом настроении, в каком находился тогда Толстой, статья эта не заставила его нарушить данное им редактору «Отечественных записок» обещание предоставить ему какой-нибудь рассказ. Д. Я. Колбасин в письме от 27 ноября 1856 года извещал Тургенева, что «Лёвушка» дал рассказ Краевскому, «говоря, что не желает наживать себе врагов»19. Толстой руководился при этом не какими-либо практическими соображениями, как это можно было бы подумать по письму Колбасина, а побуждениями нравственного порядка. Он писал про себя 28 ноября В. В. Арсеньевой, что «имеет правилом и держится его — не иметь врагов, не иметь во всем мире ни одного человека, с которым бы ему тяжело было встретиться».
Толстой решил предложить «Отечественным запискам» несколько глав из начатого им на Кавказе «Романа русского помещика». Перечитавши в переписанном виде все написанные им главы этого произведения, Толстой решил, что после переработки «может выйти хорошая вещь». 17 ноября эта переработка была начата. 29 ноября работа была закончена, и Толстой сам свез рукопись в редакцию. Рассказ появился в № 12 «Отечественных записок» 1856 года под заглавием «Утро помещика».
Приступив к обработке «Романа русского помещика» для печати, Толстой сначала стал перерабатывать все произведение с первой главы, но затем решил сделать в нем сокращения. Были выпущены целиком начальные главы: описание обедни, вся глава о «ближайшем соседе» — помещике консерваторе и тартюфе Облескове; оставлен был только обход Нехлюдовым своих крестьян и описание его душевного состояния после этого обхода. Но и в этих главах были произведены большие сокращения и в некоторых местах существенные изменения текста для большего выяснения основной идеи произведения и усиления художественной выразительности.
Теперь, когда для Толстого его деятельность в пользу своих крестьян была уже делом давно прошедшим, он усиливает в рассказе критическое, а порой и ироническое отношение к своему герою. Так, в самом начале рассказа говорится, что Нехлюдов считал свою тетку «самой гениальной женщиной в мире». Далее, в рассказе о посещении Нехлюдовым крестьянина Ивана Чуриса вместо слов о том, что Нехлюдов «рассердился даже»
105
на Чуриса за то, что тот не говорил ему про свою нужду, теперь сказано более решительно: Нехлюдов «почувствовал даже некоторую злобу на мужика». Вместе с тем автор усиливает описание того гнетущего впечатления, какое производит на Нехлюдова вид крестьянской нищеты, и того чувства неловкости и стыда, которое он испытывал при посещении своих крестьян. В то время, как в предыдущей редакции было сказано, что, уговаривая Чуриса отдать своего мальчика в школу, Нехлюдов «говорил, стараясь выражаться как можно популярнее», в новой редакции Нехлюдов говорит, «стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и запинаясь».
Общее впечатление Нехлюдова от вида нищеты Чуриса в предыдущей редакции повести было выражено в следующих словах: «Дмитрий знал, в какой бедности живут его крестьяне, но мысль эта была так невыносимо тяжела для него, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему напоминали ее, у него на сердце становилось еще тяжелее и грустнее». Теперь эта фраза заменяется следующей: «Нехлюдов уж давно знал не по слухам, не на веру к словам других, а на деле всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне, но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то совершенном неискупленном преступлении мучило его».
Далее Толстой значительно сокращает главы, рассказывающие о посещении Нехлюдовым Юхванки Мудреного и Давыдки Белого. Целиком выбрасывается все рассуждение автора (в которое входит также и его обращение к читателю), объясняющее причину того, почему действующими лицами его повести будут только «мужики» и в повести ни одного слова не будет сказано о любви. Вводится новое лицо — кормилица Нехлюдова, которой он рассказывает свои планы относительно крестьян. Значительно расширяется изображение зажиточного мужика Дутлова и трех его сыновей ямщиков и беседа с ними Нехлюдова на пчельнике, где его неистово жалят пчелы, в чем ему «по какому-то детскому самолюбию» не хочется признаться перед стариком Дутловым. Нехлюдов рассказывает Дутлову про новые способы устройства пчелиных ульев, о которых он читал в книге по агрономии, в ответ на что слышит от Дутлова характерное для старого русского крестьянина возражение: «Оно... точно, в книжке пишут. Да может это так дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает!»
Последние три главы рассказа были Толстым написаны
106
(частью продиктованы) заново. Они содержат описание душевного состояния Нехлюдова после обхода крестьян.
Толстой пользуется случаем высказать, приписав ее Нехлюдову, ту мысль, которая так занимала его в то время и которую он неоднократно выражал в написанных тогда же письмах к В. В. Арсеньевой — о том, что «любовь и добро есть истинное счастие, и одно истинное и одно возможное счастие в мире»; что «любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая, счастие». Рассказывается, что когда Нехлюдову в чудное майское утро в лесу «в первый раз» пришла эта мысль, он испытал «новое для него чувство радостного волнения и восторга». И как сам Толстой в письме к Ковалевскому от 1 октября 1856 года сообщал, что он «открыл удивительную вещь» (о том, что «можно ужасно многое любить» в жизни), так и Нехлюдов приходил в восторг от «вновь открытой ему, казалось совершенно новой, истины». Проникнувшись этой истиной, Нехлюдов мечтал о том, как он будет «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа» с целью «избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, ...исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро». Практически эти стремления выразятся в том, что он будет давать «общие справедливые пособия», заведет фермы, сберегательные кассы, мастерские.
К этим мечтаниям у Нехлюдова в «Утре помещика» прибавляются еще новые, которых не было у героя «Романа русского помещика», — мечты, которые так волновали в то время самого Толстого, — о том, что в этой деятельности на пользу крестьян ему будет помогать его жена, — та его жена, которую он будет любить «так, как никто никогда никого не любил на свете».
Помощь своей будущей жены крестьянам Нехлюдов в своих мечтаниях рисует себе следующим образом: «она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение». Совершенно так же мечтал и сам Толстой о деятельности на пользу его крестьян своей невесты В. В. Арсеньевой в письме к ней от 19 ноября.
Все эти мечты Нехлюдова рассыпаются в прах от соприкосновения с действительностью. Вместо доверия и сочувствия со стороны крестьян он встречает на своем пути «ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность». После обхода крестьянских дворов Нехлюдову пришлось еще заняться разбором целого ряда крестьянских распрей и ссор. Проживя лето в деревне, Толстой
107
смело рисует эту мрачную сторону крестьянской жизни (чего не было в «Романе русского помещика»).
В удрученном душевном состоянии, испытывая «смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния», Нехлюдов возвращается к себе домой и, как и в «Романе русского помещика», садится за рояль и, импровизируя аккорды, дает полную волю деятельности воображения. В беспорядке, сменяя одна другую, перед ним проносятся различные картины крестьянской жизни, которые он наблюдал утром. Дольше всего воображение Нехлюдова останавливается на картинах ямщицких поездок молодого Илюшки Дутлова. Нехлюдов видит, как Илюшка, въехав на постоялый двор, убрав коней, «садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами», потом устраивается на ночлег на пахучем сене под навесом, откуда ему видно звездное небо, около лошадей, «которые переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях»; как он быстро засыпает «здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека» и видит во сне и Киев, и Ромен, и Одест, и даже Царьград. «Славно!» — шепчет Нехлюдов, представляя себе эту манящую его к себе картину, «и мысль, зачем он не Илюшка, тоже приходит ему».
Этими словами, которыми заканчивается рассказ, Толстой дает читателю ясно почувствовать все преимущество простой, естественной, близкой к природе жизни молодого крестьянского парня Илюшки перед сложной, полной сомнений и внутренней неудовлетворенности жизнью Нехлюдова.
Основная мысль рассказа «Утро помещика», не высказанная автором, но неизбежно вытекающая из всего повествования, это — совершенная невозможность улучшения быта крестьян при существовании крепостного права, несмотря на все самые искренние намерения помещика.
В «Романе русского помещика» дело, начатое Нехлюдовым, представляется страшно трудным, но не невозможным; «Утро помещика» не оставляет никакой надежды на успешное выполнение Нехлюдовым своей миссии. Весь рассказ написан в духе глубокого разочарования Нехлюдова, а вместе с ним и самого автора в плодотворности благотворительной деятельности помещика в пользу своих крепостных крестьян20.
108
С напечатанием «Утра помещика» закончилась работа Толстого над произведением, которое так упорно занимало его в течение нескольких лет.
Находясь в Севастополе, Толстой 1 августа 1855 года, после разговора с офицером-сослуживцем о крепостном праве, записывает в дневнике, что главная мысль начатого им «Романа русского помещика» должна быть — уяснение «невозможности жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством». «Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны», — писал Толстой.
Теперь, после того как вопрос об отмене крепостного права был предрешен, уже не было надобности изображать «все нищеты» крепостничества. Намеченный Толстым план произведения уже устарел и был им оставлен. Кроме того, после своих летних неудачных переговоров с яснополянскими крестьянами об их освобождении, Толстой окончательно убедился в том, что вековое недоверие крестьян к помещикам парализует всякую деятельность помещика в пользу крестьян, хотя бы она, как у Нехлюдова, вытекала из самых добрых побуждений.
Уже во время работы над «Утром помещика» у Толстого появился новый план продолжения «Романа русского помещика». По этому плану герой после «мечтаний о счастии семейном» «едет трепаться по русской жизни»21. Но этот новый план, очевидно, оказался настолько сложным и трудным по широте замысла, что Толстой даже и не пробовал приступать к его выполнению.
В кругу литераторов, близких знакомых Толстого, «Утро помещика» не было оценено по достоинству. Когда Толстой 29 ноября прочитал свой рассказ в редакции «Отечественных записок», то Дудышкин и Гончаров, как записал он в дневнике, только «слегка похвалили» его произведение. Анненков нашел новую вещь Толстого «довольно посредственной»22. Боткин писал Тургеневу 3 января 1857 года, что «Утро помещика» «впечатления не произвело, хотя некоторые лица мужиков очень хороши»23.
Несравненно большую проницательность в оценке «Утра помещика» проявил Тургенев.
«Главное нравственное впечатление этого рассказа, — писал Тургенев Дружинину 13 (25) января 1857 года относительно «Утра помещика», — (не говорю о художественном) — состоит
109
в том, что пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения — и это впечатление хорошо и верно».
Но далее Тургенев — неизвестно на каком основании — делает оговорку, что рядом с главным впечатлением рассказа «бежит другое, побочное, пристяжное, — а именно то, что вообще просвещать мужика, улучшать его быт ни к чему не ведет — и это впечатление неприятно».
И, как всегда чуткий к художественным достоинствам произведений Толстого, Тургенев заключает свой отзыв об «Утре помещика» словами: «Но мастерство языка, рассказа, характеристики великое»24.
Печатных отзывов от «Утре помещика» появилось немного.
Газета «Петербургские ведомости» причислила «Утро помещика» к «лучшим произведениям» Толстого25.
Журнал «Сын отечества» в обзоре художественных произведений, появившихся в 1856 году, отметил «поэтический и в то же время дагерротипически верный очерк из крестьянского быта графа Л. Н. Толстого»26.
Обстоятельная и глубоко верная оценка «Утра помещика» была дана Н. Г. Чернышевским в его статье «Заметки о журналах», напечатанной в № 1 «Современника» за 1857 год.
«Граф Толстой, — писал Чернышевский, — с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик чрезвычайно верен своей натуре, — в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостию и рельефностью, как характеры наших солдат. В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в «Рубке леса». В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата».
Кратко передавая содержание рассказа, Чернышевский нисколько не сомневается в искренности стремлений Нехлюдова «жить для блага своих крестьян». «Это у него не фраза, а правдивое дело», — замечает Чернышевский.
Далее Чернышевский делает длинную выписку из «Утра помещика», содержащую разговор Нехлюдова с Чурисом, повидимому, главным образом для того, чтобы обратить внимание
110
читателей «Современника» на нарисованную Толстым картину народной нищеты, и заканчивает свой обзор словами:
«Но если бы мы захотели указать все удачные лица мужиков, все правдивые и поэтические страницы, нам пришлось бы представить слишком длинный перечень, потому что большая часть подробностей в «Утре помещика» прекрасны».
Значение «Утра помещика» в истории русской литературы, кроме той верности изображения психологии русского крепостного крестьянина, которая отмечена Чернышевским, определяется еще и тем, что в этом рассказе впервые в художественной русской литературе XIX века был поставлен вопрос о крепостном праве как причине бедности крестьян. В то время как Тургенев в «Записках охотника» и Григорович в «Антоне Горемыке» и «Деревне» с большой силой обрисовали гнет крепостничества над личностью крестьянина, но не касались экономической основы крепостного права, Толстой устами Нехлюдова прямо задает Ивану Чурису вопрос: «Отчего вы так бедны?» И из ответа Чуриса вытекало с полной очевидностью, что главной причиной крестьянской бедности является крепостное состояние.
VI
Ноябрь (вторая половина) и декабрь 1856 года были для Толстого временем сближения с группой литературных критиков, приверженцев теории «свободного творчества», которую составляли А. В. Дружинин, В. П. Боткин, П. В. Анненков.
В письме к Боткину от 20 января 1857 года Толстой называет всю эту группу своим «бесценным триумвиратом». Дневник Толстого этого периода говорит о частых его встречах с этими новыми друзьями.
По мере того, как отношения Толстого к В. В. Арсеньевой становились более ровными, а под конец даже холодными, и сам он становился спокойнее, отношения его к «бесценному триумвирату», далекие в первые дни по приезде его в Петербург, становились все более и более дружелюбными. До самого конца 1856 года он почти ежедневно видится с кем-либо из членов «триумвирата», а иногда и со всем «триумвиратом» в его полном составе. В дневнике его времяпровождение с членами «триумвирата» обычно характеризуется, как «приятное». В письме от 5 декабря к тетушке Татьяне Александровне, рассказывая ей о своей жизни, Толстой писал, что он встречается изредка с Дружининым, Боткиным и Анненковым, «с которыми мы иногда проводим вечера, часов шесть болтая о пустяках и рассуждая о деле, так что не видим, как летит время».
В записи дневника от 21 декабря Толстой называет триумвират «наша компания» («Обедала у Боткина наша компания»).
111
Уже расставшись с «триумвиратом», Толстой 20 января 1857 года из Москвы писал Боткину, что в общении с «триумвиратом» он чувствовал себя «глупым оттого, что слишком многое понять и сказать хочется».
Все отзывы в дневнике Толстого о членах «триумвирата»» как о личностях, в этот период только сочувственные. Про Дружинина в одной записи (10 декабря) сказано даже, что он был «велик». В Боткине, у которого из всех членов «триумвирата» Толстой бывал чаще, чем у других, он, повидимому, особенно ценил понимание и любовь к музыке и любил с ним вместе посещать оперу и музыкальные вечера. Об Анненкове в дневнике Толстого находим еще более сочувственные отзывы, чем о двух его товарищах по «триумвирату». «Ужинали с Анненковым и много толковали, он очень умен и человек хороший», — записывает Толстой 15 ноября. Затем 25 ноября: «Был милый Анненков». 15 декабря: «Анненков прелестен»27.
Членов «триумвирата» объединяла известная близость во взглядах на искусство. Главным теоретиком кружка был Дружинин. В известной степени взгляды кружка на искусство разделял в этот период и Толстой, хотя единение его с Дружининым в этом вопросе было далеко не полным.
Кроме основных членов дружининского кружка, составлявших его ядро, к кружку примыкали, более или менее приближаясь к его основным воззрениям, и некоторые другие писатели. Дружинин в своем дневнике 18 декабря 1856 г. отметил: «Боткин, Анненков, я и Толстой составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майков, Писемский, Гончаров и т. д. Разные новые лица к нам присовокупляются и придают разнообразие беседам».
Почти то же самое писал Дружинин Тургеневу 26 декабря 1856 года: «Круг наш сходится чаще, чем когда-либо, то-есть почти что всякий день. Центральные персоны — Боткин, Толстой, Анненков; сверх того Ермил28, Гончаров, Жемчужников, Толстой Алексей»29.
Свои взгляды на искусство вообще и свое отрицательное отношение к «гоголевскому направлению» в художественной литературе и критике, органом которого был «Современник» и главным представителем Чернышевский, Дружинин высказал в
112
двух статьях под заглавием: «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», напечатанных в 11 и 12 номерах за 1856 год редактируемого им журнала «Библиотека для чтения».
Чтение первой статьи Дружинина отмечено в дневнике Толстого под 18 ноября 1856 г. без всякого отзыва; это показывает, что статья не произвела на Толстого большого впечатления. Но мнение Дружинина, что статьи Чернышевского «рабские, бледные, сухие, бездарные копии старого оригинала» (т. е. статей Белинского) Толстой в то время разделял, как это видно из его писем к Тургеневу.
В то время Толстой продолжал доверять критическому чутью Дружинина, как доверял ему и Тургенев30, и его признание авторитета Дружинина по вопросам искусства бросалось в глаза окружающим. Анненков, бывший у Толстого 25 ноября, на другой день писал Тургеневу, что Дружинин и Толстой «теперь одно составляют»31. Тому же Тургеневу его постоянный корреспондент Д. Я. Колбасин, не расположенный к Толстому, писал 27 ноября: «Лёвушка... до обожания поддался авторитету Дружинина»32. То же самое утверждал и брат Колбасина, Елисей, в письме к Тургеневу от 2 декабря: «Дружинин теперь звезда первой величины, все вокруг него вертится, а Толстой на него чуть не молится» и «питает благоговение к Дружинину, как к критику»33.
Во второй своей статье, напечатанной в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1856 год, Дружинин изложил сущность своих воззрений на поэзию. Все системы поэзии — так начинает Дружинин свою статью — могут быть подведены под две противоположные теории. Одна теория — «артистическая, то есть имеющая своим лозунгом чистое искусство для искусства»; вторая теория — «дидактическая, то есть стремящаяся действовать на нравы, быт и понятия человека через прямое его поучение».
Теория «артистическая», утверждающая, что «искусство служит и должно служить само по себе целью», по мнению Дружинина, «опирается на умозрения неопровержимые». Руководствуясь этой теорией, поэт «признает себя созданным не для
113
житейского волненья, но для молитв, сладких звуков и вдохновения».
Поэт дидактический, по терминологии Дружинина, в противоположность поэту артистическому, «служит политическим, нравственным и научным целям первостепенной важности»; он «идет с своей лирой не как гость мира и житель Олимпа, а как труженик и работник на общую пользу». Дружинин не отрицает того, что поэт дидактический, если он человек «здравомыслящий и практически развитой», может принести большую пользу своим современникам. Но песнь таких поэтов, «выигрывая в поучительном отношении, не может не терять многого в отношении вечного искусства».
Эта вторая статья Дружинина решительно не встретила сочувствия в Толстом. 7 декабря он записывает в дневнике: «Прочел вторую статью Дружинина. Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это всё». Этой записью Толстой не только отметил самоуверенный, чуждый всяких сомнений тон статьи Дружинина, но и выразил свое отношение к его теории. Толстой, который всегда считал, что «никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни», не мог не назвать вздором представление Дружинина о поэте, сидящем на Олимпе и лишь по временам, как гость, сходящем на землю Толстой в лучшие периоды своей жизни стремившийся к тому, чтобы приносить пользу своими произведениями и твердо заявлявший, что «сладеньким» он быть не может, как не может и «переливать из пустого в порожнее», не мог не считать вздором представление о поэте, пишущем только для своего наслаждения.
Статья Дружинина заставила Толстого глубоко задуматься над теорией искусства для искусства, и вот что в то время записал он об этой теории в своей записной книжке: «Мы спасаемся в искусстве для искусства. Разве это не то же таинство, не таинство религии, которого мы, как бы устав, решили на время не искать источников»34. Смысл этой лаконической, сделанной Толстым только для себя, записи состоит в том, что теория искусства для искусства есть вера столь же слепая, как и религиозная вера. Но сторонники теории искусства для искусства закрывают глаза («решили на время не искать источников») на то, что признаваемая ими теория не имеет разумных начал и основана только на слепой вере. И Дружинин, главный в то время теоретик чистого искусства так же не позволял себе усомниться в правильности этой теории, как религиозные люди не позволяют себе усомниться в догматах своей веры.
114
Много лет спустя, в своей «Исповеди», написанной в 1882 году, Толстой, вспоминая свое общение с писателями по приезде из Севастополя, вспомнил и о приверженцах теории искусства для искусства, причем определял эту теорию именно как вероучение. Здесь он писал: «Взгляд на жизнь этих людей, моих товарищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь, и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы, — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. Для того же, чтобы не представился естественный вопрос самому себе: «что я знаю и чему мне учить?» — в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит... Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно»35.
Дружинин ту же точку зрения на искусство, которую он высказывал в своих статьях о Белинском, проводил и в статьях о Толстом, помещенных в его журнале в том же 1856 году.
Первую из этих статей, посвященную разбору «Метели» и «Двух гусаров», Дружинин начинает общим очерком литературной деятельности Толстого. Он отмечает, что начало широкой известности Толстого положили его Севастопольские рассказы. «Со знанием дела» он утверждает, что ни в Англии, ни во Франции не появилось произведений, посвященных осаде Севастополя, равных по своим достоинствам Севастопольским рассказам Толстого. Противопоставляя Севастопольские рассказы письмам корреспондента газеты «Times» Росселя, Дружинин говорит, что рассказы Толстого, «в которых действуют вымышленные лица, поражают правдою и отсутствием фразы; письма великобританского рассказчика, в которых все списано с натуры, озадачивают внимательного читателя иногда стремлением к фразе, иногда положительною неправдою».
Дружинин далее указывает на большую популярность Толстого «между образованнейшими классами военного сословия». «Служащая молодежь читает произведения его с жадностью, — говорит Дружинин. — Много раз нам приходилось своими ушами слышать отзывы такого рода: «Никогда ни один русский писатель не умел таким образом изображать русского военного человека».
Подводя общий итог всей литературной деятельности Толстого, Дружинин отмечает в нем «независимость», «разумность направления», «отвращение ко всякой фразе, — качество, до крайности редкое в наше время» — оговаривается Дружинин. По этим признакам Дружинин считает Толстого «одним из бессознательных
115
представителей теории свободного творчества», — той теории, которая Дружинину «одна кажется истинною теориею всякого искусства». Дружинин не сомневается в том, что Толстой «навсегда останется независимым и свободным творцом своих произведений».
После обзора «Метели» и «Двух гусаров» Дружинин опять переходит к общей характеристике творчества Толстого. Близко зная его лично, Дружинин правильно определяет некоторые характерные черты Толстого того времени и как писателя, и как человека. Толстой, говорит Дружинин, «имеет свои твердые, чистые убеждения и крепко держится за них, не воспринимая ни одной новой мысли без строгой оценки».
В заключение своей статьи Дружинин ставит в пример Толстого, «самого младшего по годам, но самого самостоятельного, самого энергичного из наших талантливых повествователей», тем «будущим беллетристам, которые бы увлеклись дидактическим настроением». Этим будущим беллетристам Толстой, по мнению Дружинина, может служить примером как «творческой независимости», так и «строгого, блистательного, оригинального положения вне всяких литературных партий».
Вторая статья Дружинина была посвящена рассмотрению вышедших в то время отдельной книгой «Военных рассказов» Толстого и «Губернских очерков» Щедрина, в которых Дружинин находил нечто общее с рассказами Толстого. В этой статье Дружинин отметил в рассказе «Набег» не только «пленительное» изображение «поэзии военной жизни», но и не менее «пленительное и верное» изображение типов военных, особенно Розенкранца и Хлопова, которых «еще не бывало в нашей повествовательной литературе».
Далее Дружинин утверждает, что с появлением «Рубки леса» за Толстым окончательно утвердилась слава «образцового военного рассказчика». Наконец, в Севастопольских рассказах сказался «сильный талант, наблюдатель и мастер, военный человек, истинный воин по службе и по призванию». В Севастопольских рассказах Толстой проявил себя, как «чуть ли не единственный знаток поэзии военного быта».
В заключение своей рецензии Дружинин, подводя итог сказанному, говорит, что Толстой является создателем многочисленных военных типов, которыми мы «наслаждаемся» в его рассказах.
Обе статьи Дружинина, при всех своих несомненно верных и метких замечаниях об отдельных произведениях и об отдельных сторонах творчества Толстого, страдают односторонностью и непониманием его существенных особенностей.
Для Дружинина произведения Толстого, как и всякого другого писателя, были прежде всего средством наслаждения их
116
художественными достоинствами. Между тем, хотя Толстой действительно прилагал огромные усилия к тому, чтобы сделать свои произведения художественно совершенными, творчество его служило для него прежде всего средством выражения самых сокровенных мыслей и чувств своего «воззрения», а также раскрытия правды жизни, но отнюдь не средством доставления читателю только эстетического наслаждения.
Этой стороны творчества Толстого Дружинин совершенно не понимал. Поэтому он не мог понять и оценить обличительный элемент произведений Толстого. В то время как для Тургенева «Севастополь в мае» был «страшной вещью», для Дружинина этот хватающий за душу рассказ был только изображением «поэзии военного быта».
Таким образом, Дружинин в своих статьях о Толстом проявил полное непонимание основного движущего начала творчества Толстого.
VII
Вторым представителем теории «чистого искусства» в русской литературе 1850-х годов был В. П. Боткин.
Боткин очень редко выступал в печати. В первом номере «Современника» за 1857 год он напечатал статью о стихотворениях Фета. Первая часть этой статьи содержит изложение общих воззрений автора на искусство и, в частности, на поэзию.
Начав с утверждения, что «общество человеческое живет и движется только нравственными идеями» и что «никогда дух человеческий не может удовлетвориться одним материальным довольством», Боткин далее говорит, что «главным и самым сильным орудием и выражением» нравственных идей является искусство.
«Поэзия есть вечное, существенное свойство человеческой души». Дать точное определение того, что мы называем поэзией, невозможно. «Истинный поэт полон безотчетного стремления высказывать внутреннюю жизнь души своей». И «в этом безотчетном, невольном акте» и состоит «первейшее условие поэтических произведений».
Термин «искусство для искусства» представляется Боткину «весьма сбивчивым». Он предпочитает ему термин «теория свободного искусства». Теория эта, по мнению Боткина, имеет в своей основе «или невольное излияние души» поэта, или «имеющее только одну цель — высказать в какой бы то ни было форме свое чувство, воззрение, мысль не для поучительной общественной, словом какой-нибудь житейской цели, а только ради самих этих переполняющих душу художника чувств, воззрений, мыслей».
Эту теорию Боткин противопоставляет другой теории, «утилитарной, которая хочет подчинить искусство служению практическим
117
целям». Боткин так же, как и Дружинин, выступает противником этой «утилитарной» теории, считая, что теория эта «противоречит сущности искусства, разрушая единство, полноту и самостоятельность его деятельности».
Поэтическое чувство Боткин готов назвать «шестым и самым высшим чувством в человеке».
В поэтическом творчестве есть всегда «нечто бессознательное»; однако вопрос о бессознательном элементе в творчестве, несмотря на то, что им занимались многие представители философии, остается до сих пор не решенным. Боткин находит справедливым воззрение Шеллинга, что в искусстве «с сознательной деятельностью должна соединяться какая-то бессознательная сила» и что «только полное слияние и взаимодействие их составляют великое в искусстве».
«У нас, — говорит далее Боткин, явно намекая на только что появившееся тогда в печати стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин», — и в прозе и в стихах сочиняли, чем должен быть поэт: особенно любят изображать его карателем общественных пороков, исправителем нравов, проводником так называемых современных идей». Такое представление о поэте, по мнению Боткина, совершенно противоречит «и сущности поэзии и основным началам поэтического творчества». Боткин допускает, что поэт может быть «всем этим», но только в том случае, если он «не думает о поучении и исправлении», «не задает себе задачи проводить те или другие отвлеченные идеи», так как поэт «под одеждою временного имеет в виду вечные свойства души человеческой».
Боткин считает даже, что «действительно поэтический талант в эпоху своей силы и свежести никогда не может отдаться дидактическим целям». Дидактическое направление, по мнению Боткина, «есть свидетельство или не вполне поэтического таланта, или упадка его, тем более что на дидактическом поприще могут с успехом подвизаться и самые посредственные дарования».
После этого общего введения, посвященного основным вопросам искусства и поэзии, Боткин переходит к рассмотрению стихотворений Фета.
В своем личном отношении к искусству Боткин целиком придерживался тех взглядов, какие были высказаны им в статье о Фете. Всякое произведение искусства Боткин рассматривал прежде всего с точки зрения наслаждения, которое оно ему доставляло. «Я дорожу искусством за наслаждение, которое оно мне доставляет; и до всего прочего мне нет дела», — писал он Фету 27 ноября 1867 года36. В другом письме к нему же, описывая
118
действие, какое произвели на него квартеты Бетховена, Боткин писал: «Это было не просто удовольствие, это было какое-то сладострастное ощущение, и как сладострастие оно действует изнурительно»37.
Такой характер отношения к искусству, с годами все более и более усиливавшийся, намечался у Боткина еще во времена его дружбы с Белинским. От проницательного взора Белинского это не ускользнуло. Возражая на мнение Боткина, что в повести Григоровича «Антон Горемыка» он не находит никаких достоинств, Белинский писал ему: «Ты, Васенька, сибарит, сластена — тебе, вишь, давай поэзии да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами»38.
Такое отношение к искусству вытекало у Боткина из его эпикурейского миросозерцания, которое с годами все более и более укреплялось в нем. Ко всем вопросам общественной жизни он был совершенно равнодушен. «Признаюсь откровенно, все эти вопросы политико-экономические, финансовые, политические — внутренно нисколько меня не интересуют... — писал он Фету 10 февраля 1866 г. — Я понимаю ясно, что они составляют настоятельную необходимость, да я чужой в них»39.
Социальные корни теории «чистого искусства» были прекрасно вскрыты Чернышевским в последней главе его «Очерков гоголевского периода русской литературы»:
«Приверженцы так называемого чистого искусства сами не замечают истинного смысла своих желаний или хотят вводить других в заблуждение, говоря о чистом искусстве, которого никто не знает и никто, ни сами они, не желает... Они заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение. Дело в том, что есть люди, для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом. Для этих изящных эпикурейцев жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзиею Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины — больше не нужно для них ничего... Они хотели бы, чтобы и литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытия служат им фразы о чистом
119
искусстве, независимом, будто бы, от интересов жизни... Слова: «искусство должно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницею другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу...»40.
VIII
Толстой читал статью Боткина о Фете еще в рукописи или слышал ее в чтении автора и чем-то остался в ней недоволен. 17 декабря 1856 года он записывает в дневнике, что, будучи у Боткина, «не похвалил его статью, он злился». Надо думать, что именно теория искусства для искусства, так решительно провозглашенная Боткиным, та теория, всю несостоятельность которой Толстой ясно видел уже в то время, оттолкнула его от статьи Боткина.
Когда статья Боткина была напечатана, Толстой еще раз перечел ее и в письме к автору, написанном уже из Москвы 20 января 1857 года, высказал свое мнение. Он писал автору статьи о Фете: «Ежели вы не приметесь серьезно за критику, то вы не любите литературы». Толстой, как мы видим, прежде всего хвалит Боткина за критическую часть его статьи, посвященную разбору стихотворений Фета. Очевидно, что эта часть статьи Боткина вызвала у Толстого бо̀льшее сочувствие, чем первая, чисто теоретическая часть. Об этой первой части статьи Боткина Толстой высказывает сначала не свое, а чужое мнение. Он пишет: «Есть тут некоторые господа читатели, которые говорили мне, что это не критика, а теория поэзии, в которой им говорят в первый раз то, что они давно чувствовали, не умея выразить». Соглашаясь с этим мнением, Толстой далее говорит: «Действительно, это поэтический катехизис поэзии, и вам в этом смысле сказать еще очень много. И именно вам».
Похвала, которую в этих словах воздает Толстой статье Боткина, называя ее «поэтическим катехизисом поэзии», касается только принципов художественности, изложенных Боткиным. Но в том же самом письме Толстой, говоря о пьесе Островского «Праздничный сон до обеда», указывает недостаток этой пьесы, состоящий, по его мнению, в том, что «воззрение» автора «мелко». Между тем в статье Боткина ничего не говорится о том, что писатель должен иметь свое «воззрение», и при том воззрение не «мелкое», если не считать неопределенного и сделанного как бы мимоходом утверждения о том, что поэт судит современность с точки зрения «глубокого нравственного чувства».
120
Это письмо и особенно письмо из Парижа от 10 (22) февраля 1857 года проливает свет на характер отношений Толстого к Боткину и ко всему «бесценному триумвирату». В письме из Парижа, в ответ на не дошедшее до нас письмо Боткина, в котором тот сочувственно отзывался об их общей знакомой Елиз. Ив. Менгден, Толстой обращался к Боткину со следующими словами: «Л. И. Менгден вам нравится — я ужасно рад. Видно, мы не в одной поэзии сходимся во вкусах».
Эти слова Толстого показывают, что основное, в чем они с Боткиным «сходились во вкусах», была поэзия. Боткин был чутким ценителем и знатоком произведений искусства. Это было отмечено еще Белинским, который в письме к М. А. Бакунину от 16 августа 1837 года в числе других достоинств В. П. Боткина указывал также на его «всегдашнюю готовность к восприятию впечатлений искусства»41.
Толстой в последние месяцы 1856 года и в первых числах января 1857 года находился в состоянии высокого морального подъема и в этом состоянии был особенно восприимчив к искусству. Его дневники и письма этого периода пестрят восторженными отзывами о различных произведениях поэзии и музыки. В. В. Арсеньевой Толстой писал 23 ноября 1856 г. о том «неописанном великом наслаждении, которое испытываешь, понимая и любя поэзию». Он и к своей собственной литературной деятельности в это время предъявлял особенно возвышенные требования. 23 ноября он записывает в дневнике: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве — ужасно высоко и чисто».
Дружба Толстого с В. П. Боткиным была основана именно на том, что, как говорил Толстой почти через 40 лет после появления статьи о Фете, он считал Боткина человеком с «хорошим художественным вкусом»; поэтому помнил и хвалил эту его статью42. На этой общности чисто художественных интересов была основана и кратковременная дружба Толстого с другими членами «триумвирата» — Дружининым и Анненковым.
121
Без сомнения, члены «триумвирата» высоко ценили в Толстом также и его моральные качества. Они видели также (особенно Анненков и Боткин), что интересы Толстого не ограничиваются одной сферой искусства, что в нем идет напряженная внутренняя работа и никогда не прекращается борьба с самим собою. Своими впечатлениями от личности Толстого и бесед с ним все члены «триумвирата» делились с их общим другом Тургеневым, находившимся в то время за границей. Еще до приезда Толстого в Петербург Дружинин писал Тургеневу 13 октября 1856 года: «Я не понимаю, отчего вы всегда не ладили с Толстым. Чем больше узнаю я и его и его талант, тем более я к нему привязываюсь. Вот настоящая юная и сильная натура, русская, светлая, привлекательная и в капризах и в ребячестве»43.
Затем, уже по приезде Толстого в Петербург, Дружинин писал о нем Тургеневу 26 декабря 1856 года: «На днях я с вниманием слушал его спор с Станкевичем44, который, как вы знаете, человек затхлый и не чуждый пророчества. Толстой был так кроток и исполнен цивилизации, что мне невольно пришли на ум его прошлогодние неистовства»45.
Боткин писал Тургеневу 3 января 1857 года: «Толстой все это время здесь — ты бы не узнал его, если бы увидел. Это во всех отношениях редкая натура; много сил и необыкновенное внутреннее стремление»46.
Наиболее определенную характеристику моральных исканий Толстого дал в своих письмах к Тургеневу П. В. Анненков. 26 ноября 1856 года Анненков писал: «Толстой неузнаваем, и путь, который он пробежал в течение лета и осени, просто огромен... Я с ним сошелся и, просто сказать, любуюсь им. Вы не поверите, какое он впечатление производит на меня, когда, свернувшись в клубочек на диване, пустит он глаза внутрь себя и начинает вытаскивать оттуда гадину за гадиной, нелепость за нелепостью, и потом, подумав несколько, блевать на них с омерзением. Работа в нем идет страшная, и, признаюсь, этот человек между светящимися нашими гнилушками имеет силу действовать на мои нервы»47.
Затем через два месяца, 25 января 1857 года, уже по отъезде Толстого из Петербурга, Анненков писал Тургеневу: «В последнее время я пришел к такому убеждению, что между нами нет лица более нравственного, чем Толстой. Он способен к героизму
122
внутренней честности или по крайней мере понимает ее в героических размерах»48.
Но и Боткин и Анненков (не говоря уже о Дружинине) были способны только на то, чтобы «любоваться» той внутренней работой, которая происходила в Толстом. Поэтому и дружба его с «бесценным триумвиратом», чуждым тех моральных исканий, к которым постоянно непреодолимо тяготел Толстой, не могла быть прочной и через некоторое время сошла на нет.
IX
Постоянным корреспондентом Толстого в последние месяцы 1856-го и в январе 1857 года был Тургенев, живший в то время в Париже.
К сожалению, из трех писем, написанных Толстым Тургеневу за этот период времени, неизвестно ни одно, и о содержании их мы можем судить лишь по ответным письмам Тургенева49.
В письме от 1 декабря 1856 года Толстой хвалил повесть Тургенева «Фауст» и выражал ему свое дружеское расположение.
Тургенев вполне оценил и то и другое. «Ваше сочувствие меня искренно и глубоко обрадовало», — писал он в ответном письме от 8 декабря по поводу отзыва Толстого о его «Фаусте». На выражение Толстым своего дружеского чувства к нему Тургенев в том же письме отозвался следующими словами: «Мне остается протянуть Вам руку через овраг, который уже давно превратился в едва заметную щель, да и о ней запоминать не будем — она этого не стоит».
По письмам как самого Толстого, так и их общих знакомых Тургенев видел сближение Толстого с Дружининым, но, хорошо изучив натуру Толстого, зная, что Толстой, как сам Тургенев писал ему в одном из предыдущих писем, слишком твердо стоит на своих ногах, «чтобы сделаться чьим-нибудь последователем», Тургенев очень сомневался в прочности этого сближения. Свое мнение по этому вопросу он выразил в очень деликатной форме. «Вы, я вижу, — писал он в том же письме, — теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только смотрите, не объешьтесь и его».
Повидимому, Толстой в своем письме выражал недовольство редакцией «Современника», в чем Тургенев с ним соглашался.
123
«А что «Современник» в плохих руках, это несомненно», — писал он далее в своем ответе. (Руководили тогда «Современником» Панаев и Чернышевский; Некрасов был в то время за границей.)
Делился Толстой с Тургеневым и своим сожалением о том, что вступил в «коалицию», то есть заключил «обязательное соглашение» с редакцией «Современника» о печатании своих новых произведений исключительно в этом журнале; «коалиция» эта, по мнению Толстого, не заключала в себе ничего «величественного». И в этом Тургенев соглашался с Толстым.
Получение этого письма Тургенева Толстой отметил в своем дневнике под 20 декабря словами: «Получил милое письмо от Тургенева».
В следующем письме от 16 (28) декабря Тургенев отвечал на письмо Толстого, написанное в начале декабря. Толстой в этом письме опять выражал свое недовольство редакцией «Современника» и заключенным с нею «союзом». Особенно он нападал на Чернышевского за его «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которых он, повторяя Дружинина, видел «фетишизм» в отношении автора к Белинскому и даже упрекал Чернышевского в том, что он преподносит своим читателям «тухлые яйца» вместо здоровой пищи.
В своем ответном письме Тургенев соглашался с тем, что «обязательное соглашение» с редакцией «Современника» имеет некоторые «неудобства», «но отступить теперь, — писал он, — было бы и нечестно, и неловко — даже смешно». Но Тургенев горячо встал на защиту статьи Чернышевского о Белинском и самого Белинского. Белинский, — писал Тургенев, — был человек, «который и радовался, и страдал, и жил в силу своих убеждений»; «в него за высказывание тех самых мыслей, которые стали теперь общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами»; «он смертью избежал судьбы может быть очень горькой». Говоря о нападках Дружинина на Белинского за его резкую статью о Марлинском, Тургенев говорит, что вопрос здесь шел не о Марлинском: «дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета мнимой силы и величавости». И только благодаря статьям Белинского о Марлинском, Бенедиктове и других ложных авторитетах «мы пошли вперед»50.
Боясь, что это письмо раздражит Толстого, Тургенев в конце сделал оговорку, что письмо его «вышло как-то очень полемично». В действительности Тургенев писал Толстому о статье Дружинина очень сдержанно по сравнению с тем, что он писал о ней же другим. Так, Е. Я. Колбасину Тургенев 14 декабря
124
писал о дружининской статье: «От нее веет холодом и беспристрастием. Такими искусно спеченными пирогами с «нетом» — никого не накормишь»51.
Но опасения Тургенева не оправдались: Толстому, напротив, понравилась искренность и горячность этого письма. «Получил сухое, но милое письмо от Тургенева», — записал он в дневнике 1 января 1857 года. («Сухое» — в отношении к нему, к Толстому.)
Наконец, в последнем письме к Толстому перед его отъездом за границу, написанном 3 (15) января 1857 года, Тургенев писал, что письма Толстого его «утешают», что в Толстом, «очевидно, происходит перемена — весьма хорошая». «Вы утихаете, светлеете и — главное, становитесь свободны от собственных воззрений и предрассудков», — писал Тургенев. И заканчивал письмо словами: «Ну, прощайте, милый Толстой. — Разрастайтесь в ширину, как Вы до сих пор в глубину росли — а мы со временем будем сидеть под Вашей тенью — да похваливать ее красоту и прохладу».
Последнее письмо Тургеневу перед отъездом в Москву было написано Толстым 4 января 1857 года, — в тот самый день, когда он с восторгом читал статьи Белинского о Пушкине. На это письмо Тургенев уже не успел ответить за отъездом Толстого за границу.
Своими наблюдениями над происходившей в Толстом моральной переменой Тургенев делился с другими своими корреспондентами. Так, Дружинину он писал 13 (25) января 1857 года: «Толстой мне пишет, что он собирается сюда ехать... По письмам его я вижу, что с ним совершаются самые благодатные перемены — и я радуюсь этому, «как нянька старая»52. О последнем перед отъездом письме Толстого Тургенев 12 (24) января писал Панаеву, что письмо это его «очень обрадовало»53.
Расположение Тургенева к Толстому, как к автору и как к человеку, доходило в то время до того, что в письме к Панаеву он поручал Толстому держать корректуру предназначавшейся для «Современника» и ранее не пропущенной цензурою его пьесы «Нахлебник», причем давал Толстому право делать «поправки и сокращения»54. Но это поручение Тургенева не могло быть исполнено, так как его письмо уже не застало Толстого в Петербурге.
125
X
Получая от Толстого письма с выражением его недовольства заключенным с редакцией «Современника» «обязательным соглашением», а также и самой редакцией «Современника», Тургенев счел нужным известить об этом Некрасова, находившегося в то время в Риме. Это письмо Тургенева к Некрасову, к сожалению, остается неизвестным. Вероятно, Тургенев написал его вполне охотно, так как и сам тяготился «коалицией» и был недоволен редакцией «Современника».
Некрасова письмо Тургенева очень взволновало. Он очень дорожил сотрудничеством Толстого в «Современнике» и боялся потерять его.
На письмо Тургенева Некрасов ответил 18 (30) декабря 1856 года55.
Письмо Некрасова написано в не свойственном его письмам тоне раздражения. По поводу недовольства Толстого направлением «Современника», о чем писал ему Тургенев, Некрасов пишет: «Какого нового направления он хочет? Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста?.. Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит всякий честный человек в России».
С негодованием отвергает Некрасов подозрение Толстого в том, что «Современник» придерживается известного направления из-за денежных соображений, и заканчивает свое письмо вопросом: «Чем его [Толстого] удержать? Не удержит его покуда хоть то, что он — при обстоятельствах, доныне не изменившихся, — подписал наше условие? Заставить журнал дать ложное обещание публично — поступок нехороший».
Но Некрасов совершенно напрасно опасался, что Толстой может нарушить «обязательное соглашение» с «Современником» и перейти в журнал Дружинина. Толстой не только не помышлял об этом, но и на других участников соглашения старался воздействовать в смысле подбадривания их к работе для журнала. Так, 5 января 1857 года он делает приписку к письму Панаева к Островскому, присоединяясь к просьбе Панаева прислать теперь же в «Современник» свою новую комедию, и прибавляет: «Ежели ты не пришлешь ничего ко второй книжке, союз наш не только примет окончательно комический характер, но просто шлепнется во всех отношениях».
Сообщая Боткину, в то время близко к сердцу принимавшему дела «Современника», уже из Парижа 10 (22) февраля
126
1857 года, что «Тургенев ничего не пишет», Толстой прибавлял: «Пилить я его буду, но что выйдет из того, не знаю».
Хотя и раскаиваясь иногда в заключении «союза», Толстой в то же время едва ли не больше всех других участников «обязательного соглашения» старался о наиболее добросовестном его выполнении как им самим, так и другими участниками.
XI
Отношения между Толстым и Чернышевским в последние месяцы 1856 и в январе 1857 годов сложились следующим образом.
Первое упоминание о Толстом, без обозначения его имени, было сделано Чернышевским в рукописи рецензии на стихотворения Огарева, появившейся в № 9 «Современника» за 1856 год.
Здесь Чернышевский писал, что «передовые люди» русской литературы пока еще не подняли ее выше тех идеалов, которые указываются в поэзии Огарева. «Некоторые из них, — писал далее Чернышевский, — мы могли бы назвать двоих: одного прозаика, другого поэта, — идут вперед, по всей вероятности поведут за собою и литературу; мы могли бы сказать, что по некоторым благородным и свежим качествам таланта можно еще не оставлять надежды на деятельность третьего... Но то, что будет, когда-то еще будет...»56.
Все это место не вошло в печатный текст рецензии Чернышевского, вероятно, потому, что он счел неудобным в таком смысле говорить о здравствовавших в то время писателях и притом ближайших сотрудниках того самого журнала, где должна была появиться его рецензия.
Ни один из трех упоминаемых Чернышевским писателей им не назван; однако раскрыть их имена не представляет трудности. Упоминаемый Чернышевским прозаик это, конечно, Тургенев, на которого Чернышевский возлагал большие надежды; поэт — без сомнения, Некрасов, к стихотворениям которого Чернышевский относился восторженно. Третий писатель — это, конечно, Толстой, так как характеристика этого писателя, данная здесь Чернышевским, совпадает с тою, какую он дал Толстому в особой статье, посвященной анализу его творчества и напечатанной вскоре после рецензии на стихотворения Огарева.
В ожидании приезда Толстого в Петербург Чернышевский 5 ноября 1856 года писал Некрасову: «На днях приедет Толстой и привезет «Юность» для первого № «Современника». Я побываю у него, — не знаю, успею ли получить над ним некоторую
127
власть, — а это было бы хорошо и для него, и для «Современника»57.
Приехавши 7 ноября 1856 г. из Москвы в Петербург, Толстой продолжал относиться к Чернышевскому так же недружелюбно, как и раньше. Это недружелюбное отношение еще усилилось, когда Толстой узнал, что, уезжая за границу, Некрасов передал Чернышевскому свой голос в делах редакции «Современника» и что Чернышевский вместе с Панаевым является в отсутствие Некрасова редактором журнала. Д. Я. Колбасин 27 ноября 1856 года писал Тургеневу, что у Толстого «против Чернышевского озлобление адское и доверия ни на грош»58.
Такое отношение к Чернышевскому вызывалось у Толстого двумя причинами: недовольством обличительным направлением в литературе, главным представителем которого в глазах Толстого был Чернышевский, о чем он писал Некрасову еще 2 июля 1856 года, и недоверием к Чернышевскому как к критику. В этом недоверии к Чернышевскому как к критику Толстой не был одинок: недоверие это разделяли с ним не только все представители эстетической школы, но также Панаев и Тургенев. Дружинин прямо обвинял Чернышевского в пропаганде «отрицания поэзии»59. Анненков тому же Тургеневу 16 ноября 1857 года писал о Чернышевском: «Он обладает хорошенькой женой, и это единственное изящество, которое, кажется, он понимает в свете»60.
Панаев в письме к Боткину от 28 сентября 1856 года, «умоляя» его закончить свою статью о стихотворениях Фета, прибавлял: «Чернышевский не может оценивать поэтическую сторону; вследствие этого его разборы о поэтах односторонни»61. Под «односторонностью» разборов Чернышевского Панаев разумел, очевидно, то, что Чернышевский в своих критических статьях главное внимание обращал на содержание и общественное значение литературных произведений, а не на их художественные достоинства.
Тургенев также считал, что Чернышевский «плохо понимает поэзию», но, по мнению Тургенева, «это еще не великая беда, критик не делает поэтов и не убивает их». Тургенев считал Чернышевского полезным писателем, так как он понимает «потребности действительной, современной жизни»62. Но в глазах
128
Толстого «плохое понимание поэзии» было для критика ничем не возместимым пороком.
Иногда и Некрасов склонялся к мнениям Тургенева и Панаева о Чернышевском. Так, получив от Чернышевского письмо с отзывом об очерке Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе», как о «пустой и плохой вещи», Некрасов писал Тургеневу 10 (22) апреля 1857 года: «Чернышевский собственного носу лишен, что видно из глупейшего приговора, который сделал он рассказам об охоте на Кавказе Н. Толстого»63. Вместе с тем, однако, известно, что Некрасов имел полное доверие к Чернышевскому как одному из редакторов «Современника».
Приехав в Петербург, Толстой не искал встречи с Чернышевским, хотя и виделся несколько раз с Панаевым. Почти через месяц после приезда Толстого, 5 декабря 1856 года, Чернышевский, уже прочитавши в рукописи его «Юность», писал Некрасову: «Кстати о Толстом. По совести, «Юность» должна быть несколько хуже «Детства» и «Отрочества» — я сужу по первой половине, которую прочитал. Но все-таки вещь недурная... Я не имел еще случая сойтись с ним, но Боткин говорит, что он исправляется от своих недостатков и делается человеком порядочным. На днях я увижу его у Боткина, который по-прежнему благоволит ко мне, чему я рад... На этой неделе, увидевшись с Толстым, я напишу Вам еще письмо»64.
В том же письме Чернышевский сообщал Некрасову, что он написал «статейку» о Толстом и написал ее так, что статья эта «конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время истину»65.
Статья Чернышевского, написанная по поводу отдельных изданий «Детства и Отрочества» и «Военных рассказов», появилась в декабрьском номере «Современника» за 1856 год. Эта статья не была беглой рецензией на новые книги; Чернышевский ставил своей задачей определить основные особенности «прекрасного таланта» Толстого.
Указав на то, что талант Толстого «быстро развивается» и поэтому после следующего его произведения то, что можно сказать о нем теперь, «будет уже нуждаться в значительных пополнениях», Чернышевский утверждает, что талант Толстого «уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшей внимательностью».
129
Перейдя к определению главных особенностей творчества Толстого на данный период времени, Чернышевский указывает их две: первая особенность — это тончайший и глубочайший психологический анализ. Определяя тот особенный характер психологического анализа, который свойственен именно Толстому, Чернышевский далее говорит:
«Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем».
Кратко Чернышевский характеризует отмеченную им особенность таланта Толстого следующей формулой: Толстого всего более занимает «самый психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином».
Как превосходный образец такого глубочайшего раскрытия «диалектики души», Чернышевский выписывает целиком из «Севастополя в мае» описание предсмертных переживаний ротмистра Праскухина и далее дает от себя следующую оценку этому описанию: «Это изображение внутреннего монолога надобно без преувеличения назвать удивительным. Ни у кого другого из наших писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения».
Обращаясь к истории русской литературы, Чернышевский находит, что предшественником Толстого в изумительном раскрытии «диалектики души» следует считать Лермонтова; но и у него, как указывает Чернышевский, эта сторона психологического анализа «играет слишком второстепенную роль, обнаруживается редко».
Психологический анализ, по мнению Чернышевского, «есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту».
Психологический анализ свойственен и другим крупным поэтам, но обыкновенно поэты анализируют одно «определенное неподвижное чувство» или, если и рисуют «драматические переходы одного чувства в другое, одной мысли в другую», то изображают только «два крайние звена этой цепи, только начало и конец психического процесса», а не тот «таинственный процесс, посредством которого вырабатывается мысль или чувство».
130
Не то мы видим у Толстого. Толстой «не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою или неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым».
Чернышевский уподобляет Толстого тем живописцам, которые «знамениты искусством улавливать мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков». «Нечто подобное, — говорит Чернышевский, — делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни». «Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело».
Чернышевский вскрывает источник этой отличительной черты таланта Толстого. Источник ее — не только в способности, врожденной от природы. «Только самостоятельною нравственною деятельностью развивается талант», — утверждает Чернышевский. Источник необычайной способности Толстого к раскрытию «диалектики души» его героев лежит в его «самоуглублении», в «стремлении к неутомимому наблюдению над самим собою». «Кто не изучил человека в самом себе, — уверенно заявляет Чернышевский, — никогда не достигнет глубокого знания людей»66. Именно самонаблюдение дало Толстому «прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений». Самонаблюдение «должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным взглядом».
«Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны» есть, по мнению Чернышевского, «едва ли не самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя». В этом знании человеческого сердца — «основная сила» таланта Толстого; и что бы он ни написал впоследствии, «глубокое изучение человеческого сердца» будет неизменно составлять «очень высокое достоинство» его произведений.
Другую особенность творчества Толстого Чернышевский видит в «чистоте нравственного чувства», проникающей все его произведения. Эта «непосредственная, как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества свежесть нравственного чувства придает поэзии особенную — трогательную и грациозную очаровательность». Именно от этого качества, говорит
131
Чернышевский, «во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого».
Критик утверждает, что «без непорочности нравственного чувства» было бы невозможно «не только исполнить, но и задумать» такие повести, как «Детство» и «Отрочество». Точно так же и другое произведение Толстого — «Записки маркера» — «мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту».
«Эти две черты — глубокое знание тайн движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства» «останутся существенными чертами» таланта Толстого, «какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии», — утверждает Чернышевский.
Далее Чернышевский высмеивает нелепые упреки Толстому со стороны критика «Отечественных записок» Дудышкина в том, что Толстой в своих произведениях не касается общественной жизни и не изображает женских характеров. Для опровержения последнего упрека Чернышевский ссылается на образ Лизы из «Двух гусаров». В противоположность Дудышкину Чернышевский утверждает, что Толстой «обладает истинным талантом», что «его произведения художественны», так как «в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении».
В заключение статьи Чернышевский высказывает следующее замечательное предвидение будущего развития дарования Толстого: «Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами, имеющему перед собою еще долгий путь — многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь дает его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное доныне графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залоги!»67.
Выше уже были приведены слова Чернышевского в письме к Некрасову, что его статья о Толстом была написана так, чтобы она не слишком нарушала истину. Мы можем с полным правом утверждать, что статья Чернышевского о Толстом написана так, что она ни в чем не нарушает истину. Статья написана с такой силой убеждения, с таким воодушевлением, автор отнесся к взятой им на себя задаче с такой серьезностью, что не может быть и речи о какой-либо фальши или неискренности с его стороны. Нельзя не согласиться с мнением Н. М. Чернышевской, что «среди критических статей Чернышевского статья
132
о Толстом должна быть поставлена на одно из первых мест»68.
Ни в дневнике, ни в письмах Толстого чтение статьи Чернышевского не отмечено; но не может быть никакого сомнения в том, что Чернышевский был прав, ожидая, что статья его понравится Толстому.
Всегда до тонкости разбираясь в себе самом, Толстой 14 ноября 1856 года занес в свой дневник: «Я страшно восприимчив к похвале и порицанью». Но на основании замечания не вполне расположенного к Толстому Е. Я. Колбасина мы должны в это самонаблюдение Толстого внести существенную поправку. 15 января 1857 г. Колбасин писал Тургеневу про Толстого: «Он, как я заметил, страшно любит похвалы, да дело в том, что каждую он потом подвергает критике, и так спокойно и строго, как будто разбирает прочитанную книгу»69. И Толстой, конечно, вполне разобрался в тех похвалах себе, какие он прочел в статье Чернышевского, и не мог не признать, что похвалы эти справедливы. Из этой статьи он увидел с полной очевидностью, что критик обличительного направления, последователь Белинского, несравненно глубже и тоньше понял сущность его дарования, чем критики эстетической школы.
Таким образом лед был сломлен; открылась возможность дружелюбного личного общения.
Первое свидание Толстого с Чернышевским после появления его статьи произошло в квартире Панаева 18 декабря 1856 года. «Чернышевский мил», — записал в этот день Толстой в своем дневнике.
За первой статьей Чернышевского о Толстом последовала небольшая вторая статья70, появившаяся в № 1 «Современника» за 1857 год. Эта статья, вызванная напечатанным в «Отечественных записках» рассказом Толстого «Утро помещика», написана в более сдержанном тоне, чем первая.
В самом начале статьи Чернышевский оговаривается, что в первой своей статье о Толстом он говорил «только о силах, которыми теперь располагает его дарование, почти совершенно не касаясь вопроса о содержании, на поэтическое развитие которого употребляются эти силы». А между тем, — говорит Чернышевский, — «вопрос о пафосе поэта, об идеях, дающих жизнь его произведениям, — вопрос первостепенной важности». Чернышевский и теперь не намерен касаться вопроса о содержании произведений Толстого, хотя и полагает, что было бы очень легко «определить границы» содержания до сих пор напечатанных
133
его произведений. Не делает он этого потому, что считает такое определение преждевременным, потому что в лице Толстого мы имеем дело с «талантом молодым и свежим, до сих пор быстро развивающимся», что сказывается уже в том, что Толстой в каждом почти своем новом рассказе берет содержание «из новой сферы жизни».
Перейдя далее к разбору «Утра помещика», Чернышевский отзывается об этом рассказе с величайшей похвалой, как о «дышащем правдою». В особую заслугу Толстому Чернышевский, как сказано выше, ставит то, что он замечательно верно изображает не только крестьянский быт, но и типичную крестьянскую психологию.
Эта вторая статья Чернышевского о Толстом дает возможность понять смысл сделанной им в письме к Некрасову оговорки о том, что первая его статья написана так, чтобы «не слишком нарушить истину». Первая статья ни в чем не нарушала истину, то есть не содержала в себе ничего неискреннего и фальшивого и выражала действительные мнения автора; но в ней было кое-что недосказано. Недосказано было мнение Чернышевского о содержании произведений Толстого, которое его не вполне удовлетворяло. Большое недовольство в Чернышевском вызвала только что появившаяся тогда «Юность». В то время как в письме к Некрасову Чернышевский отозвался о «Юности», как о вещи «недурной», преувеличенно резкий отзыв о том же произведении Толстого находим в его письме к Тургеневу от 7 января 1857 года. Здесь Чернышевский писал: «Толстой... будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры копаться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкою по взгляду на жизнь... Прочитайте его «Юность» — Вы увидите, какой это вздор, какая это размазня (кроме трех-четырех глав) — вот и плоды аристарховских советов — аристархи в восторге от этого пустословия, в котором 9/10 пошлость, скука, бессмыслие, хвастовство бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы, — именно потому и не прикрывающим, что павлин слишком кичливо распустил его. Жаль, а ведь есть некоторый талант у человека. Но — гибнет оттого, что усвоил себе пошлые понятия, которыми литературный кружок руководится при суждениях своих»71.
Этот отзыв, стоящий в противоречии не только с тем, что писал Чернышевский Некрасову относительно «Юности», но и с его первой статьей о Толстом, появившейся в печати всего за месяц до этого письма, объясняется отчасти полемической целью — предостеречь Тургенева от влияния «аристархов», то есть критиков эстетической школы, которые отсоветовали Тургеневу
134
печатать его роман «Два поколения». К этому времени роман этот был уже уничтожен автором, о чем не знал Чернышевский, умолявший Тургенева в том же письме прислать свое произведение «для спасения «Современника».
Но если долю резкости в отзыве Чернышевского приписать его полемике против «аристархов», имевшей в данном случае и чисто практическую цель, то все-таки несомненно, что содержание «Юности» в целом не могло удовлетворить Чернышевского. Три-четыре главы, которые выделял Чернышевский в «Юности», это, конечно, последние главы повести, в которых изображены студенты-разночинцы. Об этих главах Чернышевский одобрительно отозвался в своей статье об «Утре помещика».
Через четыре дня после этого письма к Тургеневу, 11 января 1857 года, Чернышевский исполнил свое давнишнее намерение побывать у Толстого. Он поспешил это сделать ввиду уже намеченного отъезда Толстого из Петербурга (Толстой уехал на другой день).
Об этом единственном посещении его Чернышевским записано два устных воспоминания Толстого.
П. А. Сергеенко Толстой в 1905 году рассказывал, что познакомился с Чернышевским у Некрасова. «Курчавый, розовый, больше молчал. Однажды пришел ко мне и начал говорить самоуверенно, что «Записки маркера» — лучшее мое произведение, что в искусстве нужна идея...»72.
Гораздо более обстоятельный и подробный рассказ Толстого о свидании с Чернышевским был записан П. И. Бирюковым, вероятно, в том же 1905 году. Приводим его целиком73.
«Лев Николаевич помнит одно из немногих сношений своих с Чернышевским. Раз в Петербурге он готовился куда-то уезжать. Льву Николаевичу доложили, что его желает видеть господин Чернышевский. После приглашения, в комнату вошел человек с робким видом, который, сев на предложенный ему стул, сильно стесняясь, стал говорить о том, что вот у Льва Николаевича есть талант, уменье, но что он не знает, что нужно писать, что вот такая вещь, как «Записки маркера», это очень хорошо, надо продолжать писать в этом духе, т. е. обличительно. Воодушевляясь более и более, он прочел Льву Николаевичу целую лекцию об искусстве и затем удалился, и больше они уже не видались».
Воодушевленная защита Чернышевским идейного искусства произвела на Толстого сильное впечатление. Он, повидимому, только теперь как следует понял Чернышевского. В этот день он
135
записал в своем дневнике: «Пришел Чернышевский, умен и горяч».
К сожалению, это была последняя встреча Толстого с Чернышевским. Толстой уехал за границу, а по возвращении бывал в Петербурге только наездами на несколько дней и с Чернышевским не виделся.
Характерно для Толстого, что либерал Кавелин, с которым Толстой виделся в тот же день, произвел на него совершенно другое впечатление, чем Чернышевский. «Пылок и благороден, но туп», — записал Толстой о Кавелине через несколько строк после записи о Чернышевском. Между тем первое впечатление от Кавелина, полученное Толстым при первом знакомстве с ним, было иное. «Кавелин — прелестный ум и натура», — записал Толстой в дневнике 11 апреля 1856 года. Не исключена возможность того, что именно контраст между впечатлением от «умного» Чернышевского и от «тупого» Кавелина натолкнул Толстого на такое резкое изменение характеристики пользовавшегося в то время большой известностью К. Д. Кавелина.
XII
Отправив 24 сентября 1856 г. свою «Юность» на суд Дружинину, Толстой стал терпеливо дожидаться ответа, который он получил только 15 октября.
В своем письме от 6 октября 1856 года74 Дружинин начал свой отзыв о «Юности» с утверждения, что «ни один из теперешних писателей не может так схватить и очертить волнующийся и бестолковый период юности», как сделал это Толстой. «Поэзии в вашем труде бездна», — писал далее Дружинин. Он перечислил те главы, которые ему особенно понравились, после чего перешел к указанию недостатков повести. Некоторые главы, по мнению Дружинина, «сухи и длинны»; а главное, против чего восстает Дружинин, это — «чрезмерная тонкость анализа, которая может развиться в большой недостаток». Желая в образной форме выразить свою мысль, Дружинин иллюстрирует ее такой фразой: «Иногда вы готовы сказать: «у такого-то ляжки показывали, что он желает путешествовать по Индии».
Это замечание Дружинина показывает с полной ясностью, каким новаторством был для того времени тот углубленный психологический анализ, которым характеризовались все произведения Толстого. Обратим внимание также и на то, что Чернышевский, писавший о необыкновенном мастерстве Толстого в раскрытии «диалектики души», ни одним словом не говорил о чрезмерности психологического анализа Толстого.
136
«Обуздать эту наклонность вы должны, — наставлял далее Дружинин Толстого, — но гасить ее не надо ни за что на свете».
Этот протест Дружинина против той особенности творчества Толстого, которой сам он наиболее дорожил, надо думать, не произвел на Толстого большого впечатления. Он придавал такое значение этой стороне своего дарования, что именно «ни за что на свете» не согласился бы не только погасить, но и сколько-нибудь «обуздать» в себе эту наклонность.
Далее Дружинин переходит к языку «Юности». Он утверждает, что Толстой «сильно безграмотен», но безграмотностью двоякой: «иногда безграмотностью нововводителя и сильного таланта, переделывающего язык на свой лад и навсегда», иногда же «безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже». Как явствует из дальнейшего, под безграмотностью армейского офицера, признаки которой он усматривал в «Юности», Дружинин разумел просто необычные обороты речи и длинные периоды, которые он советовал дробить на два, на три, не жалея точек, а также вымарывать десятками частицы «что», «который», «это».
Общий итог всего своего разбора «Юности» Дружинин выразил в следующих словах: «Ею вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что в вас есть и чего мы еще от вас дождемся»75.
В своем ответном письме Дружинину от 19 октября Толстой выражал намерение по приезде в Петербург исправить повесть по его указаниям. Но приехав в Петербург, Толстой занялся рассказами «Разжалованный» и «Утро помещика» и не сразу обратился к «Юности». Одно время у него была мысль выпустить свою повесть отдельной книгой, но затем это намерение было оставлено, и «Юность» была передана Панаеву для «Современника».
Панаев остался очень доволен новой повестью Толстого. «Панаев хвалит «Юность» очень. Приятно», — записал Толстой в дневнике 3 декабря. Отзыв Панаева о «Юности» был приятен Толстому потому, что хотя он и считал Панаева человеком легкомысленным, он видел в то же время, что Панаев «любил очень литературу»76.
5 декабря Панаев возвратил Толстому «Юность» для исправления. Возвращая Толстому его повесть, Панаев в письме, приложенном к рукописи, писал: «Посылаю Вам Вашу «Юность».
137
Это вещь прекрасная — и если уж надо делать какие-нибудь замечания, то по моему мнению — местами надо немного посжать, поопределеннее сделать Дмитрия... да в ценсурном отношении смягчить последние главы — в таком виде, в каком они есть теперь, их не пропустят... Периоды, кажется, кое-где длинноваты и темноваты от длинноты, частое повторение одних слов, все это я заметил в рукописи и проч.; пожалуйста, Лев Николаевич, по мере исправлений присылайте ко мне тетради. Через несколько дней надо будет начать печатать»77.
На другой день после этого письма Панаев писал о «Юности» Тургеневу. Он сообщал, что возвратил рукопись Толстому «для исправления в языке». «Писать совсем не умеет, — жаловался Панаев на Толстого, — периоды у него в два аршина, мысль — прелесть, а в выражении ее часто путаница, и не потому, чтобы мысль в голове у него не была ясна, — нет, просто от неуменья выражаться».
В то же время Панаев с величайшей похвалой отзывался о художественных достоинствах «Юности». «Такой прелестнейшей автобиографии, я думаю, нет ни в какой литературе, — писал Панаев Тургеневу в том же письме. — Автор ее так и роется в себе, так, кажется, и боится упустить всякое свое внутреннее движение и выводит его на свет божий, обставляя его внешними мельчайшими подробностями и аксессуарами и воскрешая свое прошедшее со всеми подробностями в данную минуту. Все эти мелочи у него выходят не только не утомительны, а необходимы и поэтичны. А две сцены — впечатление весны, когда в деревне выставили двойные рамы — и на автора пахнуло весенним воздухом — и картина лунной летней ночи, когда он лег на ночь на балконе и ему не спится — это прелесть поэтическая!..»78.
10 декабря Толстой принялся за последний пересмотр всей «Юности» и окончил эту работу 22 декабря. Подбадривало его в работе то, что, как он узнал, не только Панаев, но и Боткин был «в восхищении от «Юности»» (дневник от 18 декабря). По словам Е. Я. Колбасина, Боткин говорил Толстому, что в «Юности» «каждая строчка написана на меди»79.
Первые главы «Юности», описывающие поездку в монастырь и исповедь, были еще до того, как Толстой окончил редактирование всей повести, отправлены редакцией «Современника» на просмотр в духовную цензуру и вернулись оттуда перемаранными. Толстой лично ездил объясняться с духовным цензором. Удалось ли ему отстоять свой текст, или цензор оказался непреклонным
138
— неизвестно. Надо думать, что один эпизод из поездки Николеньки в монастырь для исповеди был несомненно вычеркнут цензором. Он сохранился во второй редакции повести. Здесь рассказывается, что когда Николенька спросил у проходившего мимо монаха «с пушистыми, как пена, волосами», где пройти к духовнику, монах, указавши ему келью, после этого для чего-то высунул ему язык «и запрыгал дальше». Хотя Николенька и объяснил этот странный поступок монаха тем, что у него «верно, была очень глупая рожа», место это не могло быть пропущено тогдашней цензурой, на что, повидимому, указывает и то, что в окончательной редакции повести, напечатанной в «Современнике», в соответствующем месте проставлено многоточие. Если, кроме этого пропуска, духовным цензором были сделаны еще другие, то эти пропуски восстановлены быть не могут, так как рукопись окончательной редакции повести, за исключением нескольких листов, не сохранилась.
Кроме того, общей цензурой, во главе которой стоял поэт П. А. Вяземский, ранее друг Пушкина и Гоголя, бывший теперь товарищем министра народного просвещения, был исключен конец предпоследней главы «Юности», в котором рассказывается о поступлении студента Семенова в рекруты. Толстой, всегда равнодушный к судьбе своих напечатанных произведений, не сохранил у себя ни оригинала, ни копии этой главы, и во всех прижизненных изданиях «Юность» печаталась с пропуском этого куска. Только после смерти Толстого, в 1911 году, не пропущенный цензурой в 1856 году конец XLIV главы «Юности» был напечатан по случайно попавшей в архив библиографа П. А. Ефремова копии.
XIII
Существуют три редакции повести «Юность».
Как сказано было ранее, работа над «Юностью» была начата Толстым еще в Симферополе 12 марта 1855 года и продолжалась в Севастополе до 13 апреля того же года. К этому времени, как записал Толстой в дневнике 14 апреля, была написана почти половина всей повести.
Сохранившаяся рукопись этой первой редакции «Юности»80 содержит шесть глав. Были ли написаны следующие главы, до нас не дошедшие, или работа прекратилась тогда на шестой главе — неизвестно81.
139
Действие первых глав повести происходит не в усадьбе, а в городе. Местом действия называется Москва. Повесть начинается, как и в окончательном тексте, с описания морального подъема, который пережил Николенька Иртеньев вместе с обновлением природы — наступлением весны. Работа над этой главой облегчалась для Толстого тем, что была весна, и он сам находился в состоянии морального подъема.
«Проталинки в палисаднике, на которых кое-где показывались ярко-зеленые иглы новой травы с желтыми стебельками; ручьи мутной воды, по которым вились прутики и кусочки чистой земли; пахучий воздух; весенние звуки — все говорило мне: ты мог бы быть лучше, мог бы быть счастливее! Чувство природы указывало мне почему-то на идеал добродетели и счастия. Мое прошедшее не совсем совпадало с ним, и грусть, которую я чувствовал, была почти раскаяние, но слившееся до того с сознанием будущности и убеждением в усовершенствовании, что это было не чувство раскаяния, а чувство сожаления и надежды, чувство юности».
Далее довольно бегло рассказываются эпизоды, в окончательной редакции развитые подробно; поездка в монастырь на вторую исповедь, подготовка к вступительным экзаменам в университет, самые экзамены, сближение с семейством Нехлюдова.
Обращает на себя внимание описание латинского экзамена в главе третьей («Экзамены»). Иртеньев идет на экзамен смело, зная, что он подготовлен не хуже других. Но стоило ему улыбнуться при ответе одного из студентов, который, как узнал Иртеньев впоследствии, жил у этого профессора, как профессор настроился против него недружелюбно и во все продолжение экзамена всячески придирался к нему. Николенька больно переживает оказанную ему несправедливость и испытывает «чувство оскорбленного самолюбия» и «унижения». Иртеньеву «хотелось обругать» профессора, он «думал в эту минуту: что, ежели вдруг ударить его книгой по носу и сказать: «дурак, свинья».
Далее зачеркнуто: «Я не уважал больше ни науки, ни заведения, в которое поступаю, даже к самому себе потерял как-то уважение»82.
Вся эта сцена написана так живо, столько в нее вложено чувства, что трудно отрешиться от мысли, что что-нибудь
140
подобное не происходило с самим автором при поступлении его в Казанский университет или, быть может, на одном из переходных экзаменов.
1 июля 1855 года Толстой набросал план всей повести, существенно отличный от того плана, по которому писалась «Юность» в окончательной редакции. План этот был осуществлен только в первых главах. Не были написаны многие главы, в которых Толстой предполагал рассказать о целом ряде событий своей прошлой жизни. Таковы, например, «Поездка в деревню, Чувство сострадания к мужикам», «Сенокос», «Франклиновский журнал» и др. Оканчиваться «Юность» по этому плану должна была тем, что Николенька, перейдя на второй курс университета, отдав дань светским удовольствиям и пережив «напущенную любовь», не выдерживает экзаменов, кутит, играет в карты, испытывает «стечение несчастий», после чего «опоминается» и уезжает в деревню «с планами составления философии и помещичества, которые в себе ничего не имеют, кроме тоски». Его «сбивают», и он поступает юнкером на военную службу.
Вновь обращение к работе над «Юностью» отмечено в дневнике под 25 июля, когда Толстой записал: «Вчера начал писать «Юность», но ленился. Написал только ½ листа». Затем 27 июля: «Ленился, написал только ½ листочка». После этого перерыв в работе до 12 августа, когда записано: «Дописал 1 главу «Юности». Весьма мало». И на следующий день: «Написал весьма мало, хотя и был в духе».
На этом записи о работе над «Юностью» в Севастополе прекращаются. Разумеется, боевая обстановка делала работу над художественным произведением невозможной.
В этот период были, повидимому, написаны только две главы «Юности»: глава I — «Выставляют окна» и глава II — «Постный обед»83.
Написанные в Севастополе главы «Юности» Толстой захватил с собой в Петербург.
Во время своего шестимесячного пребывания в Петербурге, с ноября 1855 года по май 1856 года, Толстой не дотрагивался до «Юности». И только с приездом в Ясную Поляну в мае 1856 года работа двинулась вперед, и то не сразу.
27 июня 1856 года началась работа над второй редакцией «Юности».
Условия, в которых находился Толстой в Ясной Поляне летом 1856 года, очень благоприятствовали работе именно над таким произведением, как «Юность». Остались далеко позади не только опасности севастопольской боевой жизни, но и шумный
141
Петербург и ожесточенные споры с писателями. После первых недель яснополянской жизни, когда Толстой был занят тем, что настойчиво стремился склонить своих крестьян к переходу на оброк, но не имел никакого успеха и это его расстраивало и волновало, — со второй половины июня 1856 года для него наступили месяцы спокойной жизни, чрезвычайно благоприятствовавшей его писательской работе. Все те главы повести, которые описывали усадебную жизнь Николеньки Иртеньева, лучше всего могли быть написаны именно в Ясной Поляне.
На общем характере «Юности» сказались те условия жизни, в которые вступил Толстой после пятилетнего пребывания на Кавказе, в Севастополе и в Петербурге. Он теперь наслаждался своей Ясной Поляной — ее полями, лугами, лесами, общением с близким ему крестьянским народом, и ему не хотелось пока затрагивать в своей повести больших и трудных вопросов жизни. Это заметно отразилось на характере новой редакции «Юности».
Первая глава второй редакции «Юности», написанная заново, была озаглавлена «Что я считаю началом юности?» С полной откровенностью рассказывает здесь Толстой о том состоянии морального подъема, который, по его позднейшим воспоминаниям, он пережил в возрасте около 15 лет. Со времени этого подъема Николенька и считает начало своей юности. В окончательной редакции повести автобиографический элемент этой главы, изложенный в восторженных выражениях, был почти совершенно устранен автором.
Заканчивается вторая редакция «Юности» указанием на новый моральный подъем, испытанный Николенькой после того, как он не выдержал переходных экзаменов на второй курс. Последняя глава второй редакции «Юности», в которой говорится об этом новом моральном подъеме, озаглавлена «Правила либеральные». Здесь рассказывается, что когда у Николеньки прошел первый период душевного упадка после провала на экзамене, он «решился вести правила исправления и Франклиновский журнал». Первым «правилом исправления» он записал следующее: «избегай всех отношений с людьми, которые выше тебя по положению — в них больше пороков». В этом-то признании большей порочности людей высшего круга и состояло одно из проявлений «либерализма» Николеньки Иртеньева.
За «правилами» следовало обещание Николеньки рассказать впоследствии, долго ли продолжался у него этот новый «моральный порыв», в чем он заключался и какое влияние имел на его дальнейшую жизнь. На этом заканчивалась вторая редакция «Юности».
Таким образом, по сравнению с планом, написанным в 1855 году, финал повести во второй редакции был изменен. В то время как по плану повесть заканчивалась описанием одних
142
только внешних перемен в жизни Николеньки, финал второй редакции говорит о моральных переменах в его сознании, вызванных житейскими неудачами.
XIV
Третья, окончательная редакция «Юности», над которой Толстой работал с 27 августа по 24 сентября 1856 года, отличалась главным образом развитием характеров и положений, уже определившихся во второй редакции.
Главный герой произведения, как и в «Детстве» и «Отрочестве», — Николенька Иртеньев; но в отношении автора-рассказчика к этому образу заметно существенное отличие. В то время как в «Детстве» автор в самом задушевном тоне рассказывает о всех событиях детской жизни Николеньки, о его мыслях, чувствах и мечтах, находя для себя самого величайшую отраду в том, чтобы переноситься мыслью в душу ребенка и в свое далекое детство, в то время, как в «Отрочестве» с полным сочувствием и только изредка с юмором говорится об усложнившейся жизни мальчика в отроческие годы, его размышлениях и постигающих его неудачах, — в «Юности» отношение автора к своему герою двойственное. С одной стороны, в герое «Юности» мы видим отражение многих самых задушевных, самых дорогих автору мыслей, чувств и стремлений, с другой стороны, автор, очевидно, задается целью изобразить тип тщеславного молодого человека, аристократа, олицетворение comme il faut, — тип, к которому сам автор в период писания своей повести относится уже совершенно отрицательно.
Это двойственное отношение автора к своему герою проявляется уже в первых главах повести. Такая двойственность нисколько не нарушает реальности образа. Подобную двойственность чувствовал в себе несомненно и сам автор «Юности» в возрасте, соответствующем возрасту его героя.
История Николеньки в «Юности» — это история молодого человека с самыми благородными душевными качествами, но воспитанного в ложных предрассудках аристократического общества, от которых он освобождается к концу повести, благодаря размышлению и встречам с новыми товарищами не аристократами.
Основная мысль, идея всей повести та, что нравственное начало должно быть руководящим принципом жизни. Повесть в окончательной редакции, как и в двух первых, начинается описанием морального возрождения Николеньки под влиянием обновления природы. Вторая глава повести так и называется — «Весна». В тот «особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека», Николенька с необыкновенной силой
143
чувствует, что «счастье и добродетель» — все это «легко и возможно», что нужно «скорей, скорей, сию же минуту, сделаться другим человеком и начать жить иначе».
Этому «голосу раскаяния и страстного желания совершенства» рассказчик (а в сущности говоря сам автор) придает особенно большое значение в ходе своего внутреннего развития. Устами своего героя Толстой, вспоминая все периоды своей жизни, протекшие со времени «туманной юности» до того дня, когда он писал свою повесть, восклицает: «Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастие в будущем, — благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?»
Практически этот моральный подъем у Николеньки выражается прежде всего в его попытке написать себе расписание обязанностей и занятий, «изложить на бумаге цель своей жизни» и составить правила, «по которым всегда уже, не отступая, действовать». Но даже этого ему не удается выполнить, и он с грустью думает: «Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе, и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?»
Другим проявлением морального подъема Николеньки была исповедь, к которой он готовился с величайшей серьезностью и торжественностью. Но автор тут же вносит в характеристику Николеньки с его восторженным настроением маленький штришок, который сразу нарушает впечатление серьезности его настроения, внося в его духовный облик комическую черту. Прежде чем идти к духовнику, Николенька, посмотревшись в зеркало, зачесывает себе волосы кверху, что, по его наблюдению, придавало ему «задумчивый вид». Другой подобного же рода расхолаживающий штришок вводится автором в описание настроения Николеньки после второй исповеди. Николеньке, возвращающемуся на извозчике из монастыря, приходит в голову, что его духовник теперь «верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных».
В дальнейшем на протяжении всего хода действия повести, которое продолжается в течение целого года, Николенька уже не испытывает состояния морального подъема, которое вновь появляется у него только в самом конце повествования.
В числе действующих лиц «Юности» находим прежде всего тех, которые уже знакомы нам по «Детству» и «Отрочеству»: отец, брат Володя, сестра Любочка, гувернантка Мими с дочерью
144
Катенькой, гувернер Сен-Тома, который почти никакой роли в повести не играет, друг Николеньки Дмитрий Нехлюдов, товарищ, Илинька Грап и некоторые другие. Но кроме этих лиц, уже известных по первым двум частям трилогии, в повести появляется целый ряд новых персонажей: вторая жена отца и ее семья, мать, тетка и сестра Нехлюдова84, университетские товарищи Николеньки и несколько эпизодически появляющихся лиц.
В следующих главах рассказывается, как Николенька, поступив в университет, чувствует себя выросшим в своих собственных глазах и в глазах своих семейных и делает необходимые визиты своим светским знакомым. Семейство князя Корнакова, которому Николенька одному из первых делает визит, изображается, как и в «Отрочестве», в ироническом свете. Когда старшая из княжен в отсутствие матери занимает Николеньку разговором, все пятеро ее младших сестер повторяют все ее движения и копируют всякое изменение выражения ее лица: она делает испуганное или печальное лицо — и сестры делают то же; она смеется — и сестры смеются.
Это единственное сатирическое изображение во всей повести. Во время работы над «Юностью» Толстой находился в таком душевном состоянии, когда ему хотелось следовать незадолго до этого записанному им правилу: «Всё то, на что нужно негодовать, лучше обходить». Этим объясняется незначительность сатирического элемента в «Юности».
Образ Нехлюдова, только намеченный в «Отрочестве», в «Юности» получает полную определенность. Толстой в своих замечаниях на «Биографию» П. И. Бирюкова писал, что материалом для изображения дружбы Николеньки Иртеньева с Дмитрием Нехлюдовым послужила ему его дружба в Казани с Д. А. Дьяковым. Следует заметить, однако, что в образе Нехлюдова совершенно явственно проступают некоторые черты брата Толстого Дмитрия Николаевича.
Общий характер своего брата Дмитрия Толстой во время работы над «Юностью» определял, как «переменчиво нежно-кроткий и способный на жестокость» (запись в дневнике от 9 декабря 1856 года). Таков и Дмитрий Нехлюдов. Далее — необычная любовь Нехлюдова к жившей у них в доме Любови Сергеевне воспроизводит в общих чертах привязанность Дмитрия Толстого к проживавшей в семье Толстых женщине, также носившей имя Любовь Сергеевна, причем Толстой в данном
145
случае смягчил краски. В то время как в «Юности» Любовь Сергеевна только «очень нехороша собой», действительная Любовь Сергеевна, жившая у Толстых, как рассказывает Лев Николаевич в «Воспоминаниях», была «жалкое, кроткое, забитое существо», а во время своей предсмертной болезни была «не только жалка, но отвратительна». С этой-то несчастной Любовью Сергеевной и сблизился Д. Н. Толстой, проводил с ней время, читал ей вслух, нисколько не тяготясь ее болезнью и отталкивающей внешностью. В «Юности» рассказывается о подобном же отношении Нехлюдова к девушке, на которой он, несмотря на всю ее непривлекательность, даже собирался жениться.
От брата Дмитрия Толстой заимствовал и другую характерную черту Нехлюдова — его дружбу с оборванным, грязным, необразованным студентом Безобедовым, хуже которого «на вид не было студента во всем университете». Дмитрий Толстой так же, как рассказывает Лев Николаевич в «Воспоминаниях», «из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым)». Даже некоторые мелкие черты внешности, как, например, судорожное подергивание шеей во время волнующего или раздражающего разговора, приписанные автором «Юности» Дмитрию Нехлюдову, были свойственны его брату Дмитрию Николаевичу.
Кроме Нехлюдова, в «Юности» еще один образ заимствован из ближайшего родственного окружения Толстого — это тетка Нехлюдова Софья Ивановна, немолодая женщина, рожденная для семейной жизни, но не вышедшая замуж и изливающая весь хранящийся в ее сердце запас любви «на некоторых избранных». Образ этот несомненно навеян Толстому личностью его любимой тетушки Т. А. Ергольской, как и значится в записной книжке Толстого85. Разумеется, Толстой и здесь не копировал в точности черты прототипов, но на основе их характерных черт создавал типические образы.
Отношение автора к своему герою и рассказчика к самому себе, во время пребывания его в университете, продолжает оставаться ироническим. Такие фразы, как: «Я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром» (глава XXVI), или: «полагая, что я исполнял всё, что требовали от меня мой чин, воротник и пуговицы, что всем очень понравилось», и им подобные пестрят на страницах повести.
Временем и местом действия нескольких глав своей повести Толстой сделал весенний вечер в подмосковной местности Кунцево. Здесь происходит задушевный разговор Николеньки с
146
Нехлюдовым и его первое знакомство с семейством Нехлюдова. Толстой рисует чудесную картину весеннего пейзажа, вспоминая, несомненно, то сильное впечатление от кунцевской природы, которое он испытал незадолго до этого, когда 23 мая 1856 года приезжал в Кунцево на дачу к Боткину. В этот день Толстой записал в дневнике: «В Кунцеве и дорогой до слез наслаждался природой». Рисуя этот пейзаж, Толстой одушевляет природу, как бы стремясь проникнуть в ее тайны, не видные нашему глазу. Так, вечером, перед дождем, картина, окружающей природы рисуется в следующих красках: «В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью; зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью». Далее жизнь деревьев под дождем изображается следующим образом: «Что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось, с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые прозрачные капли»86.
Проведя только один день на даче у Нехлюдова, Николенька с братом уезжает в свое Петровское. Толстой пользуется случаем вспомнить в задушевных выражениях, как он сам испытал на себе «ласку милого старого дома» при возвращении в Ясную Поляну после нескольких лет отсутствия (вероятно, в феврале 1854 года по приезде с Кавказа). С еще более отрадным чувством вспоминает Толстой свои юношеские мечтания о любви и счастье в летние лунные бессонные ночи, когда он сливался в одно с «таинственной, величавой природой», и свои искренние стремления к смутно сознаваемому им, туманному и неопределенному, но возвышенному и прекрасному идеалу. По силе и глубине чувства, по яркости художественных образов эта глава (которая так и называется «Юность») — одна из самых поэтических во всей повести, что было признано и самим автором, самым строгим судьей своих произведений, назвавшим конец этой главы «превосходным».
Естественно возникает вопрос: живя летом в деревне, как относился Николенька к тем крепостным крестьянам, которые своим напряженным трудом кормили его и его семейных? Сознавал ли он несправедливость своего положения?
На этот вопрос ответ дается в той же главе «Юность». Когда Николенька во время прогулки встречал крестьян или крестьянок на работах, несмотря на то, что «простой народ» «не существовал» для него, он «всегда испытывал бессознательно сильное смущение» и старался уйти незамеченным. Еще в ту
147
пору своей жизни, не будучи владельцем имения, Николенька, хотя и смутно, но сильно чувствует всю несправедливость крепостного права.
XV
Нарисованные в «Юности» картины жизни, каких бы сфер они ни касались, носят строго реалистический характер. В частности, реализм этот проявляется в том, что автор нисколько не идеализирует семейной жизни описываемого им круга лиц, а, напротив, склоняется скорей к скептическому, даже пессимистическому взгляду на те семейные отношения, которые ему приходилось близко узнавать в той сфере жизни, где он вращался. Он говорит о частом в семейной жизни явлении, когда для посторонних в течение нескольких лет взаимные отношения членов той или другой семьи бывают скрыты «ложной завесой приличия», и только благодаря какому-нибудь случайному незначительному обстоятельству, спору по ничтожному поводу, «к удивлению присутствующих», «все истинные грубые отношения» между членами семьи «вылезают наружу»87. В другом месте герой «Юности» говорит даже, что он был «так несчастлив в жизни», что в тех браках, которые он наблюдал на своем веку, «никогда не видал... ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было»88.
По всем главам повести разбросаны частные психологические наблюдения автора. Одна из глав, озаглавленная «Любовь», посвящена почти вся обобщению психологических наблюдений автора.
Во время работы над «Юностью» Толстого особенно занимал вопрос о значении физиономических признаков для определения характера. В его записной книжке 1856 года находим ряд записей на эту тему, как например: «Для меня важный физиономический признак — спина и, главное, связь ее с шеей; нигде столько не увидишь неуверенность в себе и подделку чувства»89. Или: «Крутая спина — признак страстности»90. Или еще: «Физиология морщин может быть очень верна и ясна»91. Такого рода физиономически-психологические наблюдения находим во всех редакциях «Юности». Из первой редакции повести мы узнаем, что извозчик, который возил Николеньку в монастырь,
148
«со спины и затылка» казался ему «таким добрым». В окончательной редакции руки Дубкова описаны в следующих выражениях: «У Дубкова [был] тот сорт рук, на которых бывают перстни и которые принадлежат людям, склонным к ручным работам и любящим иметь красивые вещи»92.
Дружинин, как мы видели, советовал Толстому «обуздать» свою склонность к такого рода психологическим изысканиям, основанным на внешних портретных признаках. Едва ли, однако, Толстой, пересматривая «Юность», воспользовался этим советом Дружинина. Он слишком дорожил своим даром, который позволял ему мастерски раскрывать «диалектику души» своих героев, и в этом раскрытии пользовался всеми представлявшимися ему средствами, в том числе и своими физиономически-психологическими наблюдениями.
Вряд ли Толстой обратил большое внимание также и на другой совет Дружинина, к которому затем присоединился и Панаев: о сокращении периодов в некоторых главах «Юности». Периоды «в два аршина», так огорчавшие Панаева, остались и в окончательной редакции повести. Так, в главе XXXII («Юность») находим период в 128 слов с 9—10-ю подлежащими («Тогда всё получало — какого-то недоконченного счастия»); в главе XXXIX («Кутеж») встречаем период в 251 слово с 27-ю придаточными предложениями («Не помню, как и что следовало одно за другим — притворяясь в том же»); в главе XLII («Мачеха») — период в 114 слов с 14-ю придаточными предложениями («Часто, глядя на нее — по слабо освещенным комнатам»).
Повидимому, такие длинные периоды не представлялись Толстому недостатками стиля, если мысль была выражена в них достаточно ясно. Напротив, длинные периоды казались ему наиболее подходящими для описания сложного душевного состояния или быстрой смены отдельных фактов, составлявших в своей совокупности одно явление.
XVI
Когда Толстой почти через 50 лет перечитал свою «Юность», некоторые главы этой повести дали ему повод обвинять себя в неискренности. В 1903 году в предисловии к своим «Воспоминаниям» Толстой писал, что, перечитав «Юность», он усмотрел в этой повести «желание выставить (ранее было написано: «себя в наилучшем свете»; затем исправлено) как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным — мое демократическое направление». В этих словах Толстой имел в виду четыре
149
главы своей повести: главу XXXI («Comme il faut») и три последние главы: «Новые товарищи», «Зухин и Семенов» и «Я проваливаюсь».
Глава «Comme il faut» содержит классическую, нигде более не встречающуюся в нашей литературе характеристику этого понятия, служившего главным правилом поведения в светском обществе. Николенька уже видит всю пустоту, просто глупость этой основы оценки людей в аристократическом обществе.
В последних главах «Юности» рассказывается о встрече Николеньки с кружком студентов-разночинцев. Все студенты-разночинцы, во главе которых стоят Зухин и деклассированный дворянин Семенов, изображены в повести с привлекательной стороны.
Познакомившись со студентами-разночинцами, Иртеньев ясно увидел все преимущества их и в умственном и в нравственном отношениях перед ним и вообще перед студентами-аристократами. Иртеньев увидел в среде студентов-разночинцев истинно дружеские отношения всех членов кружка друг к другу; убедился в их широких умственных интересах и больших знаниях сравнительно с интересами и знаниями студентов-аристократов. Иртеньева привлекал даже буйный разгул его новых товарищей, выражавшийся в неистовых попойках и разгроме трактиров. Он сравнивал их бесшабашный разгул с тем кутежом у барона Радзивилла93, с жженным ромом и шампанским, в котором он принимал участие, и ясно видел, что там было только притворство веселья, здесь же была «сильная поэзия удальства».
Несомненно, что в бытность свою казанским студентом Толстой встречал подобные типы среди своих университетских товарищей.
Общение со студентами-разночинцами вызывает у Николеньки Иртеньева критическое отношение к себе самому. Сравнивая себя с этими студентами, Иртеньев задает себе вопрос: какими он обладает преимуществами, чтобы считать себя выше их? Он перечисляет все эти мнимые преимущества, которые составляли характерные признаки людей comme il tauf: знакомство с представителями аристократии, собственные дрожки, белоснежное белье, выхоленные ногти, — и у него появляется роковое сомнение: «Да уж не вздор ли все это?»94. Вопрос, так
150
поставленный, заключал уже в себе определенный ответ: да, вздор, несомненный вздор.
Мало того. Иртеньев чувствовал себя даже виноватым перед своими новыми товарищами, — виноватым за свое материальное благосостояние, которого они не имеют. Он испытывал, следовательно, по отношению к этим бедным студентам чувство, похожее на то, которое он испытывал при случайных встречах с теми крестьянами, которые работали на него и на его семью.
Вот эти-то главы «Юности», при перечитывании их почти через 50 лет, вызвали со стороны Толстого упрек себе в неискренности.
В действительности отрицательное отношение к комильфотности установилось у Толстого еще задолго до начала работы над этими последними главами «Юности». Еще на Кавказе 16 октября 1853 года Толстой записал, что «так называемые порядочные люди» только потому, что их признают в своем кругу порядочными людьми, считают себя вправе смотреть на людей не своего круга сверху вниз и потому бездействуют, между тем как те, которые в аристократическом обществе не считаются порядочными людьми, трудятся; и как только «порядочные люди» выходят из своей сферы и входят в ту сферу, «где не ценятся условные достоинства порядочности», они сразу «падают гораздо ниже людей непорядочных, которые, не гордясь ничем, стараются приобретать хорошее»95.
Взгляд на комильфотность, выраженный в этой записи Толстого, в существе своем тот же самый, который позднее был им высказан в последних главах «Юности».
Позднее, в год написания «Юности», в письме Толстого к его невесте В. В. Арсеньевой от 19 ноября 1856 года находим уже совершенно уничтожающий отзыв о людях comme il faut. Об этих людях Толстой отзывается здесь презрительно, говоря, что их так же много, «как собак»96.
151
Доказательством того, что в своем восхищении отчаянной удалью Зухина и Семенова Толстой был вполне искренен, служит то, что в своей критической оценке всех глав «Юности», которая была сделана Толстым по окончании работы над повестью только для одного себя, без всякой мысли о напечатании, относительно главы XLIV («Зухин и Семенов») им была сделана помета: «Содержание прелестно».
Далее, приняв во внимание настроение Толстого во время работы над «Юностью», его полемику с Некрасовым относительно Чернышевского, его высокое мнение о Дружинине как критике, которому и была послана на суд «Юность», нельзя не признать совершенно неправдоподобным предположение о том, будто бы Толстой в своей повести выставлял напоказ свой в действительности ему в то время не свойственный демократизм, чтобы понравиться кому-то (кому же? не эстету ли Дружинину, который был первым судьею произведения Толстого?).
Таким образом, приходится прийти к заключению, что самообвинение Толстого в неискренности по поводу последних глав «Юности», описывающих общение Николеньки Иртеньева со студентами-разночинцами, следует решительно отвергнуть.
Если оставить в стороне вопрос об автобиографическом элементе в «Юности» и взглянуть на последние главы повести исключительно с историко-литературной точки зрения, то следует отметить, что в повести Толстого впервые в русской литературе были даны образы активных разночинцев. Зухин и Семенов и их товарищи — предшественники поколения 60-х годов, разумеется, не в смысле определенного революционного миросозерцания, которого они не имели, а в смысле общего тяготения к демократизму и чрезвычайной активности натуры. Их буйный разгул — это только грубое проявление той молодой кипучей энергии, которая требовала выхода и, не находя разумной и полезной деятельности, выражалась в неистовом отчаянном удальстве. В иной обстановке эта энергия нашла бы себе иной, достойный выход. И замечательно, что моральное возрождение Иртеньева совершается не под влиянием его друга Нехлюдова, одинаково с ним стремящегося к нравственной жизни, а именно под влиянием бесшабашных студентов-разночинцев97.
Текст последней главы повести не оставляет в этом отношении ни малейшего сомнения. Здесь сказано определенно: «По вечерам на меня после общества Зухина и других товарищей находила мысль о том, что надо переменить что-то в своих убеждениях, что что-то в них не так и нехорошо».
152
Идея «Юности» — рост сознания молодого человека, понявшего все ничтожество того светского общества, к которому он принадлежал. В этой повести Толстой впервые затронул ту тему «воскресения», которая впоследствии составила содержание многих его произведений. Раньше подобное же прояснение сознания было изображено Толстым лишь в рассказе «Записки маркера», но там пробуждение сознания привело к невозможности продолжения жизни и к добровольной смерти героя. В противоположность герою «Записок маркера» герой «Юности» не приходит к отчаянию, а начинает новую жизнь, которой требует от него пережитый им «моральный порыв»98.
XVII
«Юность» в печатном тексте, как и во второй редакции, заканчивалась обещанием Николеньки рассказать «в следующей, более счастливой половине» о том, долго ли продолжался его новый «моральный порыв», в чем он заключался и какие «новые начала» положил его «моральному развитию». Толстой, следовательно, обещал читателям «Современника» написать вторую часть своей повести. В «Современнике» «Юность» так и появилась с подзаголовком: «Первая половина».
Как Толстой представлял себе содержание «второй половины» «Юности» — неясно. Сохранившиеся в его архиве два плана второй части «Юности»99 были написаны им еще во время работы над первой частью, что видно из того, что некоторые пункты первых глав плана составили содержание последних глав первой части. По своему содержанию оба плана второй половины «Юности» не соответствуют заключительным частям первой половины, где автором было обещано рассказать читателям во второй части о результатах испытанного Николенькой морального подъема, на что в планах нет никакого намека.
В дневнике Толстого 12 января и 3 апреля 1857 года находим записи о намерении продолжать повесть, но написана была первая глава второй части «Юности» лишь 9 июня того же года.
«Юность» и после своего появления в печати продолжала привлекать внимание сотрудников «Современника» и вызывать с их стороны разнообразные отклики.
153
Сдержанно отозвался о «Юности» Е. Я. Колбасин в письме к Тургеневу от 15 января 1857 года. «Юность» — превосходная вещь, — писал Колбасин, — но, по-моему, есть жидковатые страницы, и сколько великолепны мужские характеры, столько слабы женские»100.
Восторженный отзыв о «Юности» дал Анненков в письме к тому же Тургеневу от 25 января 1857 года. «Юность» Толстого, — писал Анненков, — восхищает здесь всех, но с одной общей оговоркой — несколько растянуто и менее поэзии, и свежести, чем в первых частях. По мне, однакож, просто изумительно, как много мыслил этот человек о нравственности, добре и истине — и с каких ранних пор. В анализе противуположных им явлений он иногда совершенно теряет лицо из вида, и описания его делаются просто выкладками, моральными диференциалами и интегралами, уравнениями и т. п. Но все это превосходно — и поясняется его собственным лицом»101.
Боткин в письме к Толстому, написанном в январе 1857 года, дал более сдержанный отзыв по сравнению с тем, который он, по словам Колбасина, высказывал Толстому в личной беседе. Письмо Боткина не сохранилось, но о характере его отзыва можно судить по ответному письму Толстого от 20 января. В этом письме Толстой писал Боткину: «Благодарствуйте за ваш суд о «Юности». Он мне очень, очень приятен, потому что, не обескураживая меня, приходится как раз по тому, что я сам думал, — мелко».
В печати «Юность» при своем появлении вызвала только три отзыва.
Анонимный критик журнала «Сын отечества»102 находил, что рассказ Толстого «вышел немножко длинен, немножко скучен и местами не занимателен». По мнению критика, если бы из рассказа выкинуть глав десять или даже больше, то он «выиграл бы и в сжатом виде произвел бы гораздо сильнее впечатление». При этом, однако, критик отмечал и ряд достоинств повести, состоящих, по его мнению, в верности описания умственного развития героя, в прекрасных портретах студентов, брата Володи, соседки, в превосходных пейзажах весны, летней ночи («картина одной летней ночи до того хороша, что от нее трудно оторваться»), в замечательных эпизодах, как картина кутежа, приготовление к экзаменам «бедных, но добрых и умных студентов», изображение отношения мачехи к отцу.
Критик «Петербургских ведомостей» П. Е. Басистов103 уже
154
ничего не находил в «Юности» заслуживающим внимания. В повести Толстого критик усматривал не что иное, как «убийственную холодность и даже сухость», и не нашел «ничего, кроме пошленьких стремлений и маленьких замашек». По словам критика, в повести не отведено ни малейшего места «тем неразгаданным, темным силам, тем непонятным, но благородным стремлениям, которых неугомонное брожение составляет вечный характер и все очарование юношеского возраста». Представлять героя «Юности», «как тип русских юношей, значит клеветать и на общество и на самый возраст юности». «Впрочем, — тут же оговаривается критик, — может быть, граф Толстой вовсе и не думал представлять в своей «Юности» тип русского студента», и может быть, в следующей части повести в герое пробудятся «дремлющие теперь благородные силы души».
Мы видим, что ни тот, ни другой критик совершенно не поняли основной идеи замечательного произведения Толстого.
С большой похвалой отозвался о «Юности» Константин Аксаков. Говоря об «анализе самого себя», как об одном из свойств таланта Толстого, К. Аксаков находил, что в «Юности» «этот анализ принимает характер исповеди, беспощадного обличения всего, что копошится в душе человека. Это самообличение является бодрым и решительным, в нем нет ни колебания, ни невольной попытки извинить свои внутренние движения... Внутренний анализ Тургенева имеет в себе нечто болезненное и слабое, неопределенное, тогда как анализ гр. Толстого бодр и неумолим»104.
XVIII
Новый 1857 год Толстой встретил у своего приятеля А. Д. Столыпина, «слушая прелестнейший в мире трио Бетховенский»105.
Музыка занимала важное место в жизни Толстого в последние месяцы 1856 года в Петербурге. Он часто посещал итальянскую оперу, где слушал «Гугенотов» Мейербера, которые ему не понравились так же, как и «Итальянка в Алжире» Россини; зато он восхищался другой оперой того же композитора «Граф Ори» (записи в дневнике: «отлично», «чудо»). «Очень поэтической вещью» нашел Толстой и «Дон-Жуана» Моцарта. Любопытно, что в это же время у Толстого начинает складываться критическое отношение к опере, как к виду музыкального искусства, удержавшееся в нем на всю жизнь. «Опера — ложный
155
род, — записывает он 1 декабря, — ибо оскорбляет драматическое чувство изящного»106.
Кроме опер, Толстой слушал «чудную» симфонию Гайдна (какую именно — неизвестно), «отличную» «Тишь на море» Мендельсона. Но особенно восторгался Толстой Бетховеном, которого слушал на музыкальных вечерах у А. Д. Столыпина и А. М. Тургенева. «Вчера я был у О. Тургеневой, — писал Толстой В. В. Арсеньевой 27 ноября, — и слышал там Бетховенское трио, которое до сих пор у меня в ушах. Восхитительно».
Один музыкальный вечер Толстой устроил у себя.
Вместе с Толстым принимал участие в устройстве музыкальных вечеров Боткин, который 22 января 1857 года писал своей сестре М. П. Боткиной: «Мы с ним [с Толстым] очень сошлись, и даже вкусы наши оказались одинаковыми, устраивали с ним музыкальные вечера и вдоволь наслушались Бетховена...»107. Тургеневу Боткин писал 3 января 1857 года, что Толстой «просто упивается» Бетховеном108.
Усиленное влечение к музыке вызывалось в то время у Толстого двумя причинами: высоким моральным подъемом — с одной стороны, и его чувством к В. В. Арсеньевой, которое в то время достигло своего апогея — с другой. Когда же последовал разрыв, музыка помогала ему легче преодолевать то тяжелое настроение, которое вызвал в нем этот разрыв.
29 декабря Толстой получил большое письмо от Валерии Владимировны.
Барышня, несомненно, не ожидала того, что ее короткое письмо, в котором она выговаривала Толстому за его нотации и скуку его писем и запрещала ему писать к ней, так сильно на него подействует. В действительности она вовсе не желала прекращать с ним переписку, а надеялась раззадорить его своим искусственно холодным письмом. Теперь она возобновила переписку, сославшись на то, что ей нужны были ноты для игры на рояле, и прося достать ей эти ноты.
Это возобновление переписки было очень неприятно Толстому. Он чувствовал и оскорбление, и досаду на самого себя за «жар души, растраченный в пустыне». Он был глубоко потрясен всем пережитым. «Нервы мои убиты до сих пор», — записал он в дневнике в день получения письма от Валерии Владимировны. Письмо это было для него лишним напоминанием о том, о чем ему хотелось забыть на всю жизнь. Ему хотелось совершенно
156
вычеркнуть из своей памяти эту столь дорого обошедшуюся ему попытку устройства своего личного счастья109.
В первый день нового 1857 года Толстой ответил на письмо В. В. Арсеньевой. Стараясь писать так, чтобы ничем не обидеть ее и вместе с тем сделать для нее менее чувствительным разрыв, он старался самого себя представить в самом непривлекательном виде. Он писал, что «ужасно гадок и груб был и, главное, мелок» в своих отношениях к девушке; писал, что хотя одиночество для него тяжело, но сближение с людьми невозможно. «Я сам дурен, а привык быть требователен».
Письмо это Толстой вымучил из себя насильно. На другой день он писал брату: «Отношения мои с гостями [с Валерией Владимировной] продолжаются, но тяготят меня ужасно, и я не знаю, как прекратить их, потому что чувствую не только совершенное равнодушие, но досаду и раскаяние на себя за то, что я так зашел далеко».
А между тем жажда женской любви попрежнему продолжала томить его. Он с большой охотой посещает А. М. Тургенева, дочь которого Ольга Александровна (к которой был очень расположен также и ее однофамилец И. С. Тургенев) ему очень нравилась.
XIX
Последние дни 1856-го и первые дни 1857 года Толстой переживал состояние особенно большого умственного и нравственного подъема. Подъем этот подтверждается как дневником и письмами самого Толстого, так и письмами близких к нему лиц.
Так, Дружинин 26 декабря 1856 года писал Тургеневу: «Лев Толстой, говоря без всякого пристрастия, становится превосходным литератором, умнея и образовываясь с каждым часом. Уж он понимает «Лира» и пил за здоровье Шекспира, читает Илиаду, а для того чтобы понять все наше литературное движение, собирается перечитать все статьи Белинского. Например, он свирепо читает «Антигону» Софокла в переводе Водовозова и понимает ее всю»...110
Возможно, что Дружинин не вполне точно передал отношение Толстого к драме Шекспира «Король Лир». По крайней мере в дневнике Толстого под 11 декабря 1856 года сказано, что чтение «Короля Лира» «мало подействовало» на него.
Первая запись о чтении Шекспира была сделана Толстым
157
в дневнике 15 ноября 1856 года. 16 ноября он записал: «Дочел «Генриха IV». Нет!». Лаконичность и категоричность этого отзыва указывают, повидимому, на то, что Толстой принялся за чтение этой драмы Шекспира под влиянием уговоров со стороны приятелей (особенно, надо думать, Дружинина) и чтение это разочаровало его.
Но несомненно, что когда в последних числах декабря 1856 года Толстой вновь взялся за перечитывание Шекспира, отношение его к Шекспиру было иное, чем прежде. Это видно из не дошедшего до нас письма Толстого к Тургеневу от 21 декабря 1856 г., в ответ на которое Тургенев между прочим писал: «Знакомство Ваше с Шекспиром — или говоря правильнее — приближение Ваше к нему — меня радует»111. По контексту письма Тургенева можно допустить, что Толстой писал ему именно о «Короле Лире».
Боткин не только, как Дружинин, видел напряженные умственные искания Толстого, но и тот моральный подъем, который происходил в нем в то время. «Теперь настал для него период Lehr-Jahre, и он весь исполнен жажды знания и учения, — писал Боткин Тургеневу 3 января 1857 года. — Ты удивился бы, сколько цепкости и твердости в этом уме и сколько идеальности в душе его. Великий нравственный процесс происходит в нем, и он все больше и больше возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом году так затемнены были разными житейскими дрязгами прежнего кружка и прежней колеи жизни»112.
Весь поглощенный происходившей в нем напряженной работой, Толстой приходит к выводу, что «истина в движеньи — только»113.
Только теперь приступает Толстой к выполнению того совета, который Дружинин давал ему еще в письме от 5 октября 1856 года — «ознакомиться с ходом журналистики» и для того прочесть основные статьи Белинского. Вероятно, Дружинин и устно повторял Толстому этот совет, — тем более после двух своих статей, посвященных выяснению отношения к Белинскому.
2 января 1857 года Толстой записывает в дневник: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться». Статья, которую читал Толстой в этот день, им не названа. Быть может, это была статья о Марлинском, о которой Тургенев писал ему в письме от 16 (28) декабря 1856 года. По крайней мере в 1907 году
158
Толстой говорил, что он читал Белинского для того, чтобы «с Тургеневым мог говорить про него»114.
На следующий день, 3 января, Толстой прочел одну из статей Белинского о Пушкине, которую нашел «прелестной». Запись следующего дня, 4 января, говорит уже о восторженном отношении к Белинскому. «Статья о Пушкине — чудо, — пишет Толстой. — Я только теперь понял Пушкина». Повидимому, здесь говорится уже о другой статье Белинского о Пушкине, а не о той, которая отмечена в записи предыдущего дня. Какие именно из восьми статей Белинского о Пушкине читал Толстой, остается неизвестным.
Необходимо отметить, что чтение Белинского вызвало в Толстом не только умственный, но и моральный подъем. Далее в записи того же числа читаем: «Обедал у Боткина с одним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движенья вперед и вперед».
Чтение Белинского продолжалось и после 4 января, хотя в дневнике это позднейшее чтение не было отмечено. Это видно из письма к Тургеневу от 15 января 1857 года его постоянного петербургского корреспондента — литератора Е. Я. Колбасина. В этом письме Колбасин писал, что, зайдя к Толстому «дней десять тому назад» (в действительности Колбасин, как это записано в дневнике Толстого, был у него 8 января), он увидел, что перед Толстым лежат статьи Белинского о Пушкине. «По поводу этого, — писал далее Колбасин, — завязался между нами разговор, и боже! какая славная перемена. Самолюбивый и упрямый оригинал растаял, говоря о Белинском, торжественно сознался, что он армейский офицер, дикарь, что Вы задели его страшно своею — по его выражению — «непростительною для литератора громадностью сведений» и т. д.»
Свое общее впечатление от Толстого Колбасин в этом письме выразил в следующих словах: «Он восхитил меня и порадовал, я подивился этой крепкой натуре, которая ничего не хочет принять на слово и все добывает посредством собственной критики. В добрый час, благословите этого сильного и развивающегося человека»115.
В то же время отношение Толстого к «бесценному триумвирату» начинает колебаться.
Он попрежнему часто видится с членами «триумвирата». Переведя сказочку Андерсена «Новое платье короля», он
159
1 января 1857 года читает свой перевод вслух за обедом у Боткина. Перевод не понравился, и Толстой, по всей вероятности, уничтожил рукопись. 6 января, после обеда у Боткина, Толстой записывает в дневнике: «Я больше и больше люблю их». Но еще 2 января Толстой писал брату Сергею Николаевичу: «Хотя я душевно люблю этих литературных друзей: Боткина, Анненкова и Дружинина, но все умные разговоры уже становятся скучны мне, хотя и были истинно полезны для меня».
Что же касается главы «триумвирата», А. В. Дружинина, то Толстой неожиданно для самого себя чувствует в это время не только охлаждение к нему, но даже отчуждение от него. «Удивительно, что мне с ним тяжело с глазу на глаз», — записывает Толстой 8 января про свои отношения с Дружининым. И эту неожиданно для него появившуюся тяжесть в отношениях с Дружининым Толстой даже не скрывал от посторонних. Е. Я. Колбасин в том же письме к Тургеневу от 15 января писал, что в разговоре с ним Толстой «сознался, что ему тяжело оставаться с Дружининым с глазу на глаз»; хотя он и хороший человек, но он «не может ему прямо смотреть в глаза». Об охлаждении Толстого к Дружинину узнал и член «триумвирата» Анненков, который, по словам Колбасина в том же письме, торжествовал по поводу того, что Толстой «вырван наконец из когтей чернокнижника».
Таким образом, предвидение Тургенева сбылось: Толстой «объелся» Дружинина, вероятно, даже раньше, чем этого ожидал Тургенев.
Надо полагать, что неловкость, которую испытывал Толстой в то время в личных отношениях с Дружининым, проистекала из того, что он не мог быть с ним вполне откровенен. Разобравшись как следует в теории «чистого искусства», которую так неустанно проповедовал Дружинин, придававший этому вопросу первостепенную важность, Толстой совершенно отошел от этой теории, хотя и продолжал страстно любить искусство в его наиболее совершенных произведениях. Но Толстой, вероятно, не высказывал Дружинину прямо своего несогласия с его взглядами, отчасти не желая огорчать его своим несогласием, отчасти не надеясь на полное понимание своих взглядов со стороны Дружинина — тем более, что Дружинин, думавший о себе высоко и не отличавшийся проницательностью, вероятно, считал Толстого своим полным единомышленником, как считал он своим единомышленником Панаева, в чем он, по словам самого Панаева, жестоко ошибался116.
Такая неоткровенность — особенно в самом близком для него в то время деле искусства — была совсем не в характере Толстого.
160
Он в письме к Островскому (от 29 января 1857 года) высказал совершенно откровенно свое мнение как о достоинствах, так и о недостатках его новой пьесы «Доходное место», несмотря на то, что ему было известно, какого высокого мнения держался о своих пьесах сам Островский. Кроме того, слишком пылкое чувство дружбы, которое выказывал Толстой к Дружинину заочно летом 1856 года, при близком личном знакомстве сменилось разочарованием, и это также приводило Толстого к неполной откровенности в его отношениях с своим бывшим воображаемым другом.
Но в одном деле Толстой вполне сочувствовал Дружинину. Дело это было — основание Литературного фонда. Начиная с 1856 года, Дружинин усердно пропагандировал мысль об основании Литературного фонда. В 1857 году он поместил в «Библиотеке для чтения» большую статью «Несколько предположений по устройству русского Литературного фонда для пособия нуждающимся лицам ученого и литературного круга»117.
2 января 1857 года Толстой вместе с Дружининым и Анненковым писал проект устава Литературного фонда118.
XX
По окончании работы над «Юностью» Толстой некоторое время не начинал никакого другого произведения. Ни одна из намеченных им тем и ни одно из начатых произведений не захватили его настолько, чтобы он мог отдаться работе над ними. Случайная встреча положила конец этой тягостной для Толстого бездеятельности.
5 января 1857 года Толстой познакомился с историком музыки, автором биографических работ о Моцарте и Бетховене, А. Д. Улыбышевым. Вечером того же дня он был в увеселительном заведении, носившем название «танцкласс»119. Здесь он услышал скрипача, поразившего его вдохновенностью своей игры. Это был немец Георг Кизеветтер, приехавший в Петербург из Ганновера в 1848 году. Он поступил на службу в императорские театры, но не удержался на этой службе — был удален за
161
пьянство120. Теперь это был спившийся, неряшливо одетый, изможденный человек; но когда он начинал играть, в лице его загорался огонь вдохновения, он забывал себя самого, всех окружающих и весь мир и жил только в звуках.
Невольно Толстому напрашивался контраст между пользующимся почетом и материальным достатком, спокойным, уравновешенным историком искусства Улыбышевым и несчастным, презренным, голодным артистом, промышлявшим случайным заработком. Толстой заинтересовался Кизеветтером и от него самого или от окружающих узнал историю его жизни121.
Толстой пригласил Кизеветтера к себе, чтобы у себя дома еще раз послушать его игру. Кроме того, вполне возможно, что Толстой, как изображенный им в повести «Альберт» Делесов, думал как-нибудь помочь Кизеветтеру — одеть его и пристроить к какому-нибудь месту.
Уже через два дня после первой встречи с Кизеветтером Толстой записывает в дневнике: «История Кизеветтера подмывает меня». На другой день, 8 января, утром Кизеветтер пришел к Толстому на квартиру. Повидимому, тогда же Толстой пригласил его прийти к нему еще раз вечером того же дня. Своей скрипки у Кизеветтера не было, и Толстой где-то достал для него скрипку. Вечером Кизеветтер пришел вторично и «играл прелестно», как записано у Толстого в дневнике. «Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый» — такими словами характеризует Толстой Кизеветтера в этой записи.
На следующий день Толстой «начал писать с удовольствием». Повидимому, это и был первый (несохранившийся) набросок «истории Кизеветтера».
10 января Кизеветтер вновь явился к Толстому, но совершенно пьяный и потому «играл плохо». Толстой уложил его спать, а сам уехал. Вернувшись, он увидел Кизеветтера спящим, похожим на труп. Проспавшись, вечером Кизеветтер опять играл, и Толстой был глубоко (он подчеркнул это слово в дневнике) тронут его игрой.
Этими четырьмя встречами ограничилось знакомство Толстого с талантливым артистом, вдохновившим его на создание повести, над которой он работал более года.
Главной целью, с какой Толстой в ноябре 1856 года приехал в Петербург, было желание «испытать себя», проверить свое чувство к В. В. Арсеньевой. Эта задача была выполнена. Толстой
162
вполне убедился не только в непрочности своего чувства, но и в том, что, как писал он тетушке Ергольской 14 января 1857 года, «он никогда не имел и никогда не будет иметь к В. ни малейшего чувства истинной любви» (перевод с французского).
Вторая цель поездки Толстого в Петербург была — устройство своих литературных дел. И эта цель была достигнута. «Юность» была отдана в «Современник», два рассказа — в другие журналы.
Служба теперь уже не связывала Толстого: 26 ноября 1856 года он был «за болезнью» уволен от военной службы в чине поручика артиллерии. От своих новых литературных друзей Толстой получил все то, что они могли ему дать. Теперь уже ничто не привязывало его больше к Петербургу, и он стал подумывать об отъезде.
Уже в письме к Тургеневу от 21 декабря Толстой выражал сомнение в том, проживет ли он всю зиму в Петербурге, причем высказывал намерение съездить на Кавказ повидаться с братом Николаем Николаевичем, который в 1855 году вновь поступил на военную службу и находился в той самой станице Старогладковской, в которой и сам Толстой прожил больше двух лет и с которой у него были связаны самые приятные воспоминания. Но это намерение было скоро оставлено, и Толстой решил отправиться за границу, предварительно заехав на несколько дней в Москву для свидания с сестрой.
10 января 1857 года Толстой после долгих хлопот получил заграничный паспорт и через два дня, 12 января, в 9 часов утра выехал из Петербурга в Москву.
XXI
Толстой до старости любил передвижение во всех его формах — не только потому, что всякое передвижение доставляло ему материал для наблюдения и возможность общения с разными людьми, что́ его всегда очень интересовало, но и потому, что при всяком путешествии — пешком, верхом, в экипаже, по железной дороге — у него гораздо интенсивнее работала мысль. «Думается дорогой несвязно, но живо», — писал он в «Юности»122. Толстой полагал, что путешествие потому так привлекательно, что движение есть эмблема всей жизни.
По дороге из Петербурга в Москву Толстой перебрал в своей памяти и перечислил в дневнике все начатые им работы и все задуманные сюжеты художественных произведений. Их оказалось семь. В числе них — начатые «Отъезжее поле», «Беглец», вторая часть «Юности», комедия и «Пропащий». Далее задуманные:
163
«Казак» — сюжет, который рисовался Толстому в то время отдельно от «Беглеца» и главным героем которого должен был быть дядя Епишка, и еще замысел, к исполнению которого Толстой не приступил: «роман женщины — «тогда орехи, когда зубов у белки нет». Любит и чувствует себя вправе тогда, когда уже дает слишком мало».
В дороге Толстой усиленно обдумывает «Пропащего» — так называет он теперь задуманную им повесть на сюжет «истории Кизеветтера». Он записывает в дневнике основную мысль задуманного произведения: показать, что этот спившийся артист, имеющий «дар огромный», — «царь и велик», и наряду с этим образом дать другой — человека, презирающего артиста за его падение. Этому человеку третий задуманный персонаж — «русский добросовестный художник» — говорит: «Он сгорел, а ты не сгоришь».
13 января Толстой приехал в Москву и на другой же день отправился с визитом к Аксаковым. Аксаковы, как записал Толстой в дневнике, были ему рады, но побеседовав с ними, он пришел к заключению, что они «тупы и самолюбивы».
В этот же день, 14 января, Толстой пишет В. В. Арсеньевой ответ на ее второе после разрыва письмо, в котором она спрашивала о причине перемены его отношения к ней. Повидимому, из ее письма Толстой убедился в том, что она очень дорожит своими отношениями к нему, любит его и желала бы любви с его стороны. Но Толстой, столько перемучившийся из-за своих отношений к этой девушке, был теперь, как писал он в тот же день тетушке Ергольской, «более чем равнодушен» к ней. В своем ответе В. В. Арсеньевой, оговорившись, что никогда ни к одной женщине у него «сердце не лежало и не лежит» так, как к ней, он совершенно откровенно признается: «Я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне». Стараясь сделать разрыв наименее чувствительным для девушки, Толстой уверяет ее, что «в смысле сердца» он не стоит ее ногтя и сделал бы ее несчастье. Вместе с тем, чтобы еще более затушевать свои настоящие отношения к ней, он дает барышне свой парижский адрес и просит писать ему, прибавляя, что в случае получения от нее письма «он будет счастлив и спокоен».
В то же время он продолжал томиться отсутствием женского общества. Чтобы восполнить этот недостаток, он начинает ездить в свет. На одном из балов он видит «много хорошеньких женщин». На другом бале его внимание привлекает замужняя женщина, баронесса Елизавета Ивановна Менгден, бывшая старше его на шесть лет. «Менгден замечательная женщина», — записывает он 25 января. Уже по дороге в Париж, он вспоминает в дневнике, что три дня назад провел вечер у Менгден, и ему
164
было «ужасно приятно». Затем 3 февраля, тоже еще в дороге, Толстой записывает, что ему хочется написать Е. И. Менгден письмо и затем прибавляет: «Она прелесть. И какие могут быть отрадные отношения. Отчего с сестрой я не нахожу такого наслаждения?» И как разгадку своих «отрадных отношений» к этой далекой ему женщине, Толстой далее высказывает предположение: «Может, вся прелесть состоит в том, чтобы стоять на пороге любви», — то есть не допускать никаких физических проявлений чувства.
О поэтическом увлечении Толстого Е. И. Менгден сообщает в своих воспоминаниях и его знакомый Н. С. Кашкин, амнистированный петрашевец, проживавший в то время в Москве, с которым Толстой познакомился в Железноводске в 1853 году. «Я помню, — рассказывает Кашкин, — часто мы с Толстым бывали на балах. Ему очень нравилась баронесса Е. И. Менгден, красивая, молодая интересная женщина... Наши дамы уезжали с балов обычно до ужина, мы их провожали»123.
Это поэтическое увлечение Толстого, подобное его детской любви к Сонечке Колошиной и такому же увлечению Александрии Оболенской, кончилось вместе с его отъездом из Москвы и более не возобновлялось.
Посещение Толстым московских балов не означало его сближения с московской аристократией. Он ясно видел все пороки аристократического общества. Побывавши у своего знакомого К. А. Булгакова, Толстой 19 января записывает в дневнике: «Его отец отвратительный аристократ». (Речь идет об А. Я. Булгакове, ранее служившем московским почтдиректором, а в то время бывшем сенатором Московского департамента.)
«Все это не то», — писал Толстой Боткину 20 января о своем светском времяпровождении.
Несравненно больше, чем московский свет, занимали Толстого литературные знакомства.
У С. Т. Аксакова он слушал чтение отдельных глав из продолжения его «Семейной хроники» («Детские годы Багрова внука»). Вещь эту Толстой нашел «замечательной», как писал он Боткину 28 февраля124.
Что же касается учения славянофилов, то Толстой в письмах к Боткину высказывается о нем совершенно отрицательно. Еще раньше, в письме к Островскому из Петербурга от 5 января 1857 года, Толстой назвал орган славянофилов «Русскую
165
беседу» «раскольничьим журналом». Теперь, после нескольких встреч с Аксаковыми, Толстой в письмах к Боткину высказывает совершенно определенно свой взгляд. «Славянофилы, — писал он Боткину 20 января, — тоже не то. Когда я схожусь с ними, я чувствую, как я бессознательно становлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно говоришь по-французски с теми, кто дурно говорит». И во втором письме к нему же от 29 января: «Славянофилы мне кажутся не только отставшими так, что потеряли смысл, но уже так отставшими, что их отсталость переходит в нечестность».
Около 25 января Толстой виделся с Островским. На этот раз Островский как человек произвел на Толстого невыгодное впечатление: «самолюбие невозможное» — записал Толстой про Островского 25 января. Толстой находил, что эта черта характера Островского вредит его творчеству. «Островский, — писал Толстой Боткину 20 января, — который был сочен, упруг и силен, когда я познакомился с ним прошлого года, в своем льстивом уединении, хотя так же силен, построил свою теорию, и она окрепла и засохла».
Подобную же характеристику Островского Толстой дает и во втором письме к Боткину — от 29 января. «Островский, — писал здесь Толстой, — не шутя гениальный драматический писатель; но он не произведет ничего вполне гениального, потому что сознание своей гениальности у него перешло свои границы. Это сознание у него уже теперь не сила, движущая его талант, а убеждение, оправдывающее каждое его движение».
Толстому удалось прослушать чтение двух новых комедий Островского: «Праздничный сон до обеда» и «Доходное место». Суждения его об этих комедиях интересны тем, что раскрывают взгляды на литературу, которых он в то время придерживался. Относительно комедии «Праздничный сон до обеда» Толстой писал Боткину 20 января: «Мотивы все старые, воззрение мелкое..., но талантливо очень и отделано славно». Отзыв этот не оставляет сомнения в том, что для Толстого того времени «воззрение» писателя, то есть основная мысль, тенденция, идея произведения, стояло на первом плане. Художественные достоинства произведения, как бы они ни были велики, не освобождают автора от необходимости проводить в своем произведении известное воззрение, и воззрение это не должно быть «мелко».
Те же мысли высказывает теперь Толстой и в своих отзывах о другой комедии Островского — «Доходное место». «Островского «Доходное место», — записал Толстой в дневнике 25 января, — лучшее его произведение и удовлетворенная потребность выражения взяточного мира». Смысл этой необработанной, набросанной автором только для себя оценки комедии Островского
166
раскрывается в письмах Толстого к Боткину и к самому автору, написанных, вероятно, в один и тот же день — 29 января. «Комедия Островского, — писал Толстой Боткину, — по-моему есть лучшее его произведение. Та же мрачная глубина, которая слышится в «Банкруте», после него в первый раз слышится тут в мире взяточников чиновников, который пытались выразить Соллогубы, Щедрины и компания. Теперь же сказано последнее и настоящее слово. Так же, как и в «Банкруте», слышится этот сильный протест против современного быта; и как там этот быт выразился в молодом приказчике, как в «Горе от ума» в Фамусове, так здесь в старом взяточнике секретаре Юсове. Это лицо восхитительно. Вся комедия — чудо».
Самому Островскому Толстой писал, что «Доходное место» — «огромная вещь по глубине, силе, верности современного значения и по безукоризненному лицу Юсова».
Смысл сделанной Толстым оценки «Доходного места» совершенно ясен. Толстой придает первостепенную важность общественному (по его терминологии «современному») значению художественного произведения. Обличение мира чиновников-взяточников представляется ему удовлетворением назревшей в обществе потребности. Общественное значение «Доходного места», по мнению Толстого, подобно общественному значению для своего времени «Горя от ума» и первой комедии Островского «Свои люди сочтемся» («Банкрут»), а по художественным достоинствам комедию Островского он ставит выше «Губернских очерков» Щедрина. «Протест против современного быта» есть в глазах Толстого великое достоинство комедий Грибоедова и Островского.
Несомненно, что эти принципы оценки художественных произведений находятся в полном противоречии с «артистической» теорией «чистого искусства», которую пропагандировал Дружинин; единомышленником Дружинина в этом вопросе в кругу «Современника» одно время считали также и Толстого. Так, Панаев в письме к Тургеневу от 6 декабря 1856 года, одобрительно отзываясь о статье Боткина по поводу стихотворений Фета, которая, как он писал, «говорит о поэзии и сама исполнена поэзии», прибавлял: «С Боткина взглядом об искусстве нельзя не соглашаться, он понимает его глубоко; а Дружининское, Толстовское и отчасти Анненковское «свободное творчество», воля твоя, нет средств переваривать»125.
Толстой в известной степени сам был повинен в неправильном понимании его взглядов на искусство. В спорах он любил выражать свои взгляды в резко заостренной форме, чтобы как можно сильнее поразить противника. Панаев в том же письме
167
жаловался Тургеневу: «Толстой дошел до того, что уверяет будто шапка, описанная художественно, лучше, чем статьи Щедрина и «Провинциальные воспоминания» в «Современнике». — Надо думать, что Толстой в этом споре с Панаевым хотел сказать главным образом то, что литература обличительная, как и всякая другая, должна отличаться художественными достоинствами, — и высказал свою мысль в резкой, вызывающей форме.
Принципы оценки Толстым «Доходного места» находятся также в полном противоречии и с той формулой назначения искусства, которую он сам записал в своей записной книжке 29 мая 1856 года: «Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить».
Стоило Толстому познакомиться с произведением обличительного характера, удовлетворяющим его художественным требованиям, как он совершенно забыл свою собственную формулу искусства, направленную против обличительной литературы.
В том же письме к Боткину от 20 января, в котором Толстой писал о «Доходном месте», он в следующих словах сообщал свое мнение о последней статье Дружинина, написанной по поводу рассказов Писемского126: «Его вступление в критику Писемского прекрасно».
Толстому, вероятно, в статье Дружинина понравились прежде всего те места, где он говорит о силе (по его терминологии — «энергии») и о «здравости направления» русской литературы, выразившихся в том, что, даже во времена господства чужеземных влияний, наша литература не утрачивала своей самостоятельности.
Перейдя далее к обзору современной русской литературы, Дружинин выделяет трех писателей — Островского, Писемского и Толстого, как «молодых и независимых прозаиков», «достойных зваться новейшими представителями школы чистого, независимого творчества». Далее поясняется, что под «независимостью» названных писателей автор разумеет их «независимость» от критики гоголевского периода, то есть от Белинского.
Собственно о Толстом Дружинин говорит: «Граф Толстой начинает свое дело, как человек, твердо держащийся за свою самостоятельность на зло всем недавним авторитетам». Такой отзыв об общем характере его литературной деятельности, разумеется, не мог не быть приятен Толстому. Но тому взгляду на назначение искусства, который развивал Дружинин в своей статье, Толстой сочувствовать не мог. Дружинин и здесь повторяет свой излюбленный тезис о необходимости «примирения с жизнью», «светлого взгляда на вещи», «беззлобного отношения
168
к действительности» и восстает против «бесплодного недовольства той средой жизни, которую мы должны любить и изучать с любовью».
Консерватизм миросозерцания Дружинина выступает здесь с полной очевидностью. «Независимость» Островского Дружинин (тогда еще не знакомый с «Доходным местом») видит в том, что он «полагает предел бесплодному отрицанию и создает идеалы положительной русской жизни». Как видим, характеристика Островского, сделанная Дружининым, совершенно противоположна той, какую давал ему Толстой, высоко ценивший в этом писателе именно его «протест против современного быта». Толстой не мог сочувствовать тому взгляду на Островского, который высказывал в этой статье Дружинин, как не мог сочувствовать и выраженному в ней общему миросозерцанию Дружинина.
Проницательный Некрасов не верил в то, что Толстой может быть единомышленником Дружинина. «Вы не можете разделять убеждений гг. Гончарова и Дружинина, — писал он Толстому 31 марта (12 апреля) 1857 года, — хотя меня в том и уверяли как в несомненном»127.
***
Толстой провел в Москве две с половиной недели «чрезвычайно приятно», как писал он тетушке Ергольской из Парижа 10 (22) февраля.
Для настроения Толстого того времени характерно то, что, так много наслушавшись музыки в Петербурге, в Москве он скучает по музыке. «Музыка все не устраивается», — записывает он 19 января. Только 26 января удалось ему вновь услышать то же самое трио Бетховена, которое он слушал под новый год у Столыпина и о котором он теперь записывает в дневнике: «70 opus — чудо!»
29 января 1857 года, отдав последние визиты Аксаковым и тетушке Пелагее Ильиничне, Толстой отправился за границу.
169
Глава четвертая
ПЕРВОЕ ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(1857)
I
29 января 1857 года Толстой выехал из Москвы в Варшаву в мальпосте, то есть на почтовых лошадях.
Одной из причин, побудивших его ускорить свой отъезд, было желание окончательно разорвать очень тяготившие его отношения с В. В. Арсеньевой.
Путь, по которому пришлось ехать Толстому, проходил через Вязьму, Смоленск, Оршу, Минск, Бобруйск, Несвиж и Кобрин на Варшаву, куда Толстой прибыл 4 февраля. Расстояние от Москвы до Варшавы (1269 верст) Толстой проехал в 5 дней, проезжая, следовательно, около 250 верст в сутки. Дорогой Толстой обдумывал «Пропащего».
Из Варшавы Толстой отправил телеграмму в Париж Тургеневу, прося ответить, долго ли он пробудет в Париже. Тургенев сейчас же ответил, что пробудет долго и что вместе с ним в Париже находится Некрасов. Получив это известие, Толстой сейчас же отправился в дальнейший путь и почти без остановок доехал по железной дороге до Парижа, куда прибыл 9 (21) февраля1.
Переезд по железной дороге был Толстому приятен («наслаждение», как писал он сестре 22 февраля)2. Обдумывание «Пропащего» продолжалось всю дорогу. Кизеветтер, — писал Толстой Боткину на другой день по приезде, — «в продолжение дороги так вырос, что уже кажется не по силам».
В том же письме к Боткину Толстой писал, что Германия, которую он видел только мельком, произвела на него «сильное и приятное впечатление». О том же в тот же день сообщал Толстой и сестре: «Германия как будто промелькнула мимо меня, но то, что я успел заметить — общий характер — очень понравилось мне, и я на возвратном пути непременно проедусь по ней à petite journée» [не торопясь].
170
Толстому казалось, что с приездом в Париж начинается какая-то новая полоса в его жизни. «Я один без человека сам все делаю, — записал он в дневнике тотчас по приезде. — Новый город, образ жизни, отсутствие связей и весеннее солнышко, которое я понюхал. Непременно эпоха».
В первый же день по приезде Толстой поспешил увидеться с Тургеневым и Некрасовым, но, вопреки его ожиданиям, встреча была нерадостна. «Они оба блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь», — писал Толстой на другой день Боткину.
Мрачное состояние Тургенева и Некрасова вызывалось как их болезненным состоянием, так и осложнениями в их личной жизни. Некрасов на другой же день уехал в Рим, а с Тургеневым Толстой виделся почти ежедневно во все время своего пребывания в Париже.
II
Тургенев, приехавший в Париж раньше Толстого, писал ему 28 ноября 1856 года: «Французская фраза мне так же противна, как Вам, и никогда Париж не казался мне столь прозаически плоским. — Довольство не идет ему; я видел его в другие мгновенья — и он мне тогда больше нравился»3. (Тургенев был в Париже в 1848 году.)
«Довольство» Парижа того времени вызывалось прежде всего победоносным окончанием Восточной войны. Заключенный в марте 1856 года Парижский мир хотя и не принес Франции каких-либо реальных выгод, но слава французского оружия, утраченная в 1812—1814 годах, была восстановлена, что льстило национальному самолюбию французов.
Наполеон III старался всячески поддерживать и разжигать шовинистические настроения, чтобы укрепить установленный им режим личной диктатуры. Политическая жизнь страны была подавлена. Законодательный корпус заполнялся большей частью людьми, угодными правительству. Все видные противники империи находились в заточении или в изгнании.
Наполеона III и созданный им режим поддерживала как крупная, так и мелкая буржуазия, городская и деревенская, напуганная революцией 1848 года. Приверженцами Наполеона III являлись крупные финансовые дельцы, промышленная и торговая буржуазия, зажиточное крестьянство. Капитализм при поддержке правительства быстро развивался. Возникали новые промышленные предприятия, была построена сеть железных дорог, французская биржа начала играть крупную роль на мировом
171
денежном рынке. Двор императора был обставлен с необычайной роскошью, давались пышные балы, устраивались смотры, торжественные приемы. Высшее французское общество, за которым тянулись и средние круги, старалось подражать двору в роскоши обстановки, костюмов, выездов.
Энгельс такими словами характеризует империю Наполеона III: «Началась Вторая империя — эксплуатация Франции шайкой политических и финансовых авантюристов, но вместе с тем и такое промышленное развитие, какое было совершенно невозможно при мелочной и трусливой системе Луи-Филиппа... Луи Бонапарт отнял у капиталистов их политическую власть под предлогом защиты буржуазии против рабочих и, с другой стороны, рабочих против буржуазии; но зато его господство благоприятствовало спекуляции и промышленной деятельности, короче говоря — невиданному до тех пор экономическому подъему и обогащению всей буржуазии в целом. Еще больше способствовало его господство продажности и всеобщему воровству, центром которых стал императорский двор, получавший крупный процент с этого обогащения»4.
Правительство Наполеона III поощряло всякого рода развлечения и увеселения. По отзывам современников, никогда раньше Париж не жил так роскошно и не веселился так шумно, как в эпоху Второй империи. Во французских театрах пользовалась огромным успехом оперетта, начало которой было положено Оффенбахом. Появилось множество увеселительных заведений, обставленных с необыкновенной роскошью и привлекавших туристов из всех стран Европы.
Эта сторона парижской жизни — шум и блеск парижских развлечений — прежде всех других бросилась в глаза Толстому. В самый день своего приезда в Париж, несмотря на усталость, Толстой вместе с Некрасовым и Тургеневым отправился на традиционный карнавальный бал-маскарад, устраиваемый ежегодно в субботу на маслянице в залах парижской «Большой оперы». На эти балы, отличавшиеся большим оживлением и непринужденностью, сходилась преимущественно учащаяся молодежь и артистическая богема. Свое впечатление от этого бала-маскарада Толстой лаконически выразил в дневнике одним словом: «Бешенство». Толстого поразил тот свойственный французам национальный характер веселости и оживления, который он подметил на этом парижском балу. «Забавны французики ужасно, — писал Толстой на другой день сестре, — и чрезвычайно милы своей искренней веселостью, доходящей здесь до невероятных размеров. Какой-нибудь француз нарядился в дикого,
172
выкрасил морду, с голыми руками и ногами, и посереди залы один изо всех сил семенит ногами, махает руками и пищит во все горло. И не пьян, а трезвый отец семейства, но просто ему весело»5.
После того Толстой еще трижды побывал на публичных, балах в Париже.
III
Толстой пробыл в Париже полтора месяца.
Он остановился в одном из пансионов, где, кроме него, было еще около двадцати человек приезжих. Благодаря свойственным французской нации общительности, веселости и живости характера, у Толстого осталось приятнее воспоминание о своей жизни в парижском пансионе. В очерке «Люцерн», написанном в Швейцарии по отъезде из Парижа, Толстой, сравнивая чопорность обитателей люцернской гостиницы, большую часть которых составляли англичане, с атмосферой непринужденности, царившей в парижском пансионе, говорит: «То ли дело бывало в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу как на забаву. Там сейчас же с одного конца на другой разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову... Мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приязненно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания...».
Живя в Париже, Толстой большую часть времени проводил в том, что со свойственной ему ненасытной любознательностью всматривался в новые для него условия жизни, поражавшие его своим разнообразием и отличием от условий русской жизни того времени.
«Толстой здесь и глядит на все, помалчивая и расширяя глаза», — писал Тургенев Боткину 1 марта 1857 г.6. Иногда Толстой просто скитался по парижским улицам и бульварам, всматриваясь и вслушиваясь в шумную уличную жизнь французской столицы.
Новых и разнообразных впечатлений было так много, что во все время своего пребывания в Париже Толстой, не пропуская ни одного дня, ежедневно в дневнике давал самому себе краткий
173
отчет в том, что он делал, где был и что прошло перед его глазами в течение минувшего дня.
Посещение парижских театров заняло у Толстого много времени; в общей сложности он побывал в разных театрах шестнадцать раз. Он смотрел пьесы как классического, так и современного репертуара. Из пьес классических Толстой очень одобрил комедии Мольера «Смешные жеманницы», «Скупой» (запись в дневнике: «отлично») и «Мнимый больной», а также Бомарше «Женитьба Фигаро» (отзыв в дневнике: «славно») и Мариво «Мнимые признания» («прелесть элегантности») и очень не одобрил комедию Расина «Тяжущиеся» («дрянь»). Так же отрицательно отозвался Толстой и о трагедии Альфиери «Мирра», в которой видел влияние школы Расина, отметив при этом превосходную игру артистки Ристори, которая, однако, по его словам, не спасала плохой пьесы («одно поэтическое движение стоит лжи пяти актов»). Сейчас же, вслед за этим отзывом о трагедии Альфиери, Толстой записывает в дневнике (4 апреля): «Драма Расина и тому подобных — поэтическая рана Европы. Слава богу, что ее нет и не будет у нас».
Называя драматические произведения Расина и его подражателей «поэтической раной Европы», Толстой разумел, повидимому, элементы классицизма, присущие этим произведениям: соблюдение «единств» времени, места и действия, выбор героев исключительно из «благородных» сословий и пр.
Из пьес современного репертуара Толстой видел комедию Дюма-сына «Денежный вопрос», которую нашел очень плохой, и комедию Барьера и Капандю «Мнимые добряки», которая получила в его дневнике оценку: «чудесно». Обе эти пьесы рисовали типы и нравы французской буржуазии того времени, ее эгоизм, хищность и лживость.
Заглядывал Толстой и в опереточный театр Оффенбаха и остался очень доволен исполнявшимися в этом театре водевилями. «Истинно французское дело, — записал он в дневнике 18 марта, после посещения этого театра. — Смешно. Комизм до того добродушный и без рефлексии, что ему все позволительно».
Из оперных спектаклей Толстой видел «Севильского цирюльника» Россини (запись в дневнике: «славно»), «Риголетто» Верди. Неоднократно бывал Толстой и в различных концертах. 3 марта он слушал «прелестный трио» Бетховена, — то самое трио, которым он так наслаждался в Петербурге и в Москве. Исполнение он нашел превосходным. На другой день он писал В. В. Арсеньевой: «Французы играют Бетховена, к моему великому удивлению, как боги, и вы можете себе представить, как я наслаждаюсь, слушая эту musique d’ensemble [музыкальный ансамбль], исполненную лучшими в мире артистами».
174
Побывал Толстой и в народном балагане, где видел какую-то великаншу и слушал песни диких.
Толстой навсегда сохранил высокое мнение о французах как исполнителях произведений искусства. По воспоминаниям его сына Сергея Львовича, Толстой говорил, что он никогда не слыхал такого совершенного музыкального исполнения, как в концертах Парижской консерватории. Он считал французских актеров, игравших комические и бытовые роли, выше всех других, особенно в пьесах Мольера. «Для французского искусства, — говорил Толстой, — характерна законченность, отделка, le fini»7.
Но Толстой не усмотрел проявлений собственного поэтического творчества у французских поэтов и писателей того времени. Вместе с Тургеневым он приходил к заключению, что французы — народ не поэтический. «Правду писал Тургенев, — писал Толстой Боткину 5 апреля, — что поэзии в этом народе il n’y a pas» [не существует]8. Недостатком французской литературы того времени Толстой считал ее несамостоятельность, слишком большое приспособление ко вкусам читателей. Знакомство с французской литературой того времени вызвало в записной книжке Толстого от 21 февраля следующую запись: «Задача достижения совершенства в каждом роде есть гениальное соединение двух крайностей. В литературе, как в искусстве, одна крайность — только личность, другая — всё требования читателя. Французская попала в эту». Под «личностью» Толстой разумел здесь, конечно, личные взгляды и убеждения писателя, не всегда совпадающие с общепринятыми взглядами.
Много времени посвящал Толстой осмотру исторических достопримечательностей Парижа, музеев, картинных галерей, произведений архитектуры. Он побывал в Клюнийском музее («Hôtel de Cluny»), где особенное впечатление произвело на него собрание бытовых древностей, относящихся к эпохе средних веков. Глядя на эти древности, Толстой, как записал он в своем дневнике, «поверил в рыцарство», то есть ясно, конкретно представил себе это характерное явление средних веков.
Трижды посетил Толстой знаменитый Лувр, помещающийся в бывшем дворце французских королей и содержащий произведения искусства всех времен и народов. Судя по записям дневника, в Лувре внимание Толстого привлекли особенно автопортрет Рембрандта, картина Леонардо да-Винчи «Джиоконда» и картина Мурильо «Непорочное зачатие». Впоследствии Толстой
175
говорил, что Лувр не оставил в нем «никакого особенного впечатления, кроме старой скульптуры»9.
Посещение знаменитого Версальского музея, расположенного в бывшем дворце Людовика XIV и содержащего богатую коллекцию как произведений искусства, так и бытовых предметов XVII и XVIII веков, вызвало в дневнике Толстого запись о том, что он чувствует «недостаток знаний». Это сознание недостаточности своих знаний побудило Толстого посещать хотя эпизодически отдельные лекции профессоров в Парижском университете (Сорбонне) и в научно-учебном заведении Collège de France. В дневнике им отмечено посещение лекций профессоров по римской литературе, по философии, французской литературе, истории драматической поэзии, политической экономии, правоведению и латинскому красноречию. Из любопытства Толстой присутствовал на торжественном заседании Французской Академии наук по случаю приема вновь избранного члена Фредерика Фаллу.
Толстой лично познакомился в Париже с некоторыми французскими писателями и артистами, в том числе с поэтом демократом Пьером Дюпоном, о котором Толстой записал в дневнике: «красный и славная натура»10, историком и критиком Луи де Ломени, журналистом Луи Ульбахом, писателем и путешественником Мармье, побывавшим в 1840-х годах в России, драматической артисткой О. Броган. Краткость списка литературных знакомств Толстого в Париже объясняется тем, что хотя Тургенев и был знаком со многими французскими писателями того времени, в том числе с А. Дюма и Мериме, Тургенев сам не испытывал чувства удовлетворения от общения с ними. «Ни в одно мое пребывание в Париже, — писал Тургенев Анненкову 15 мая 1857 года, — не познакомился я с таким множеством людей, как в это... Замечательного — привлекательного лица не встретил ни одного: все сухо, узко, гладко и коротко»11.
Познакомился Толстой и с двумя немецкими писателями-эмигрантами, из которых Мориц Гартман12 показался ему «весьма милым человеком», а другой, Генрих Оппенгейм, впоследствии поддерживавший политику Бисмарка, был ему «противен».
176
В одном из парижских салонов, куда Толстой зашел вместе с Тургеневым, он познакомился с некоторыми французскими академиками, имена которых им не названы, но академики эти произвели на него невыгодное впечатление, которое он выразил в дневнике словами: «мелко, пошло, глупо».
Из русских писателей и ученых, бывших в то время в Париже, Толстой познакомился с другом Пушкина, ректором Петербургского университета П. А. Плетневым, который был ему «очень приятен», либеральным профессором М. М. Стасюлевичем и писателем-славянофилом Н. А. Жеребцовым, а также с писателем-декабристом Н. И. Тургеневым, который, однако, показался Толстому «туп ужасно».
Чтению Толстой в бытность свою в Париже уделял мало времени. В его дневнике отмечено лишь чтение на итальянском языке трагедии Альфиери «Мирра» и, кроме того, чтение романа «Онорина» Бальзака, в котором Толстой увидел «талант огромный».
IV
3 марта Толстой вновь получил письмо от В. В. Арсеньевой. Хотя после разрыва прошло уже два месяца, она все-таки не теряла надежды на возобновление прежних отношений и спрашивала, чем объяснить перемену в его отношениях к ней.
Это письмо от той девушки, которая давно уже не занимала в его сердце никакого места, было Толстому очень неприятно, и он решил написать ей такой ответ, который бы окончательно прекратил ее переписку с ним.
В письме, отправленном на другой день, Толстой писал, что никакой перемены в его отношениях к ней в сущности не было, что сначала ему самому было неясно, какое чувство он к ней испытывал. Позднее он уяснил свои отношения. «В Петербурге, — писал Толстой, — я вел жизнь уединенную, но несмотря на то, одно то, что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблен в вас».
Понятно, что после такого решительного ответа Валерии Владимировне не оставалось ничего другого, как прекратить переписку13.
Но жажда женской любви попрежнему томила Толстого. Бывая у знакомых, он находил особенную отраду в женском обществе; иногда у него появлялась даже мысль о женитьбе. Так, побывавши у своего петербургского знакомого, князя Г. В. Львова и познакомившись с его племянницей, Толстой
177
записал в дневнике: «Княжна так мила, что я вот уж сутки чувствую на себе какой-то шрам, делающий мне жизнь радостною». И через месяц: «К Львовым. Княжна была. Она мне очень нравится, и кажется я дурак, что не попробую жениться на ней». На другой день после этой записи, 8 апреля, Толстой уехал из Парижа, а еще через день, 9 апреля, из Женевы в письме к Тургеневу просил его «сказать откровенно», «может ли случиться», чтобы такая девушка, как А. В. Львова, полюбила его. «Под этим, — пояснил Толстой, — я разумею только то, что ей бы не противно и не смешно бы было думать, что я желаю жениться на ней». Но, написав это письмо, Толстой, очевидно, сам испугался того решительного шага, который он задумал было предпринять, и письмо осталось неотправленным.
Что касается дружеских отношений, то друзьями Толстого во время его пребывания в Париже можно считать В. П. Боткина и Тургенева.
Боткина, который в то время находился в Петербурге, Толстой в одном из писем называет своим «милейшим и мудрейшим другом», прибавляя, что он «алкает» видеть его и беседовать с ним. В свою очередь и Боткин питал в то время к Толстому самые искренние дружеские чувства. Начавши свое письмо к Толстому от 29 июня 1857 года признанием: «Потребность быть и говорить с вами невольно тянет к бумаге», Боткин закончил это письмо следующим дружеским излиянием: «Милый, дорогой мой Лев Николаевич, жму вам крепко руку, мысленно гляжу в ваши лучистые глаза и стыжусь говорить вам нежности»14.
В своей переписке с Боткиным Толстой не только рассказывал о своих заграничных впечатлениях, но делился мыслями о новых литературных произведениях и сообщал свои размышления по важнейшим вопросам жизни. Дружба Толстого с Боткиным была основана не на их единомыслии, которого не было, а на том, что Толстой считал Боткина способным, если не сочувствовать, то во всяком случае понимать его мысли и его стремления. А для Толстого, так страстно жаждавшего в то время любви и дружбы, даже и это одно было очень важно.
Отношения Толстого с Тургеневым продолжали оставаться, как и раньше, очень изменчивыми, несмотря на их постоянные усилия сойтись как можно ближе. Записи парижского дневника Толстого о встречах и разговорах с Тургеневым очень многочисленны и часто противоречивы. Наиболее существенные из них следующие:
«Пошел к Тургеневу и легко и приятно болтал с ним до часу» (26 февраля).
178
«Обедал с Тургеневым, и было легко, он просто тщеславен и мелок» (1 марта).
«Тургенев плавает и барахтается в своем несчастии» (2 марта)15.
«С Тургеневым ходил, он тяжел и скучен» (4 марта). И вторая запись в тот же день: «Сидел с Тургеневым часа три приятно».
На следующий день, 5 марта: «Опять вечер славно провел у Тургенева за бутылкой вина и камином».
Тургенев «добр и слаб ужасно» (8 марта). И тут же интересная запись, характеризующая их взаимоотношения: «Я с ним смотрю за собой. Полезно. Хотя чуть-чуть вредно чувствовать всегда на себе взгляд чужой и острый; свой деятельнее».
«Тургенев ни во что не верит, вот его беда, — не любит, а любит любить» (9 марта).
«Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило. За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя» (10 марта).
«Тургенев мил, но просто устал и не вер[ит]» (11 марта).
«Тургенев скучен... Увы! Он никого никогда не любил» (13 марта).
«Зашел к Тургеневу. Он дурной человек по холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий» (16 марта).
«Зашел к Тургеневу. Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним — невозможно» (17 марта).
«Зашел Тургенев как будто виноватый; что делать, я уважаю, ценю, даже пожалуй люблю его, но симпатии к нему нету, и это взаимно» (19 марта).
Предпоследняя запись о Тургеневе в парижском дневнике Толстого от 6 апреля: «Пошел к Тургеневу. Он уже не говорит, а болтает; не верит в ум, в людей, ни во что. Но мне было приятно». И через два дня, 8 апреля, в день отъезда из Парижа:
«Заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека».
Эта прочувствованная запись, говорящая об истинно дружеских отношениях Толстого к Тургеневу, завершает собою записи о Тургеневе в парижском дневнике Толстого.
179
Что касается Тургенева, то о своих впечатлениях от Толстого и об отношениях к нему он писал из Парижа многим из общих знакомых. Так, Анненкову Тургенев писал 28 февраля:
«С тех пор как я писал вам, много произошло нового... Толстой приехал. Действительно, он изменился во многом и к лучшему, — но скрып и треск его внутренней возни всё еще неприятно действует на человека, нервы которого и без того раздражены. Все-таки я очень рад его приезду»16.
На другой день, 1 марта, Тургенев писал Я. П. Полонскому: «Толстой здесь. В нем произошла перемена к лучшему весьма значительная. Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след»17.
В тот же день Тургенев писал Боткину: «Толстой... поумнел очень — но всё еще ему неловко с самим собою — а потому и другим с ним не совсем покойно. — Но я радуюсь, глядя на него: это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы»18.
«Толстой здесь, — сообщал Тургенев 7 марта М. П. Лонгинову. — Он уже две недели, как приехал. Я вижусь с ним ежедневно и нахожу, что он изменился к лучшему во многом. — Он работает прилежно, и должно думать, что из него выйдет большой человек»19.
«Толстой очень мил и работает», — уведомлял Тургенев Дружинина в письме от 15 марта20.
«С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишком мы врозь глядим», — писал Тургенев Е. Я. Колбасину 20 марта21.
«Нет! — писал Тургенев 21 марта Анненкову. — Несмотря на все мои старания сердечно сблизиться с Толстым, я не могу. — Он слишком иначе построен, чем я. — Все, что я люблю, он не любит — и наоборот. — Мне с ним неловко — и ему также, вероятно, со мною. В нем нет, с одной стороны, спокойствия, а с другой, — нет кипения молодости, и выходит que je ne sais pas où le prendre [что я не знаю, с какой стороны к нему подойти]. Но из него выйдет человек замечательный — и я первый буду любоваться и рукоплескать — издали»22.
И, наконец, последнее упоминание о Толстом в парижских письмах Тургенева находим в его письме к Боткину от 4 апреля.
180
«Толстой начинает приучаться к терпимости и спокойствию; перебродит это вино — и сделается напитком, достойным богов»23.
Общий смысл всех высказываний Тургенева о Толстом в его парижских письмах сводится к тому, что, при всех колебаниях в личных отношениях, Тургенев нисколько не сомневается в блестящей литературной будущности, которая, по его мнению, предстоит Толстому.
V
Считая Тургенева «художественно очень умным», Толстой охотно делился с ним своими размышлениями по литературным вопросам.
В 1902 году Толстой вспоминал, как в бытность свою в Париже они с Тургеневым, возвращаясь из театра, беседовали о форме и содержании художественных произведений. Толстой высказал мысль, что «каждый большой художник должен создавать и свои формы», и что «если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то также и их форма». Тургенев, по словам Толстого, совершенно согласился с ним в этом вопросе. Друзья-писатели стали вспоминать лучшие произведения русской литературы — такие, как «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Записки охотника», «Детство», и пришли к единодушному заключению, что во всех этих произведениях «форма совершенно оригинальна»24.
Затем в 1907 году Толстой рассказывал, что именно он дал Тургеневу мысль о стихотворениях в прозе25. Вполне вероятно, что этот разговор Тургенева с Толстым происходил именно во время их совместного пребывания в Париже, так как к 1857 году относится стихотворение в прозе, написанное самим Толстым и озаглавленное «Сон».
Тургеневу в марте 1857 г. пришлось быть свидетелем непродолжительного творческого подъема Толстого.
В первые две недели своего пребывания в Париже Толстой писал очень мало. Уже на третий день по приезде Толстой начал было «Дневник путешествия», но обилие разнообразных впечатлений парижской жизни отвлекло его от этой работы. «Дневник путешествия» продолжения не получил, и рукопись, очевидно, была уничтожена самим автором.
181

В. В. Арсеньева (Талызина) в первые годы замужества.
С фотографии.
182
24 февраля Толстой принялся за начатый им еще в Петербурге рассказ «Пропащий», но написал только один листок. Затем 26 февраля он «чуть-чуть и плохо пописал» «Пропащего», а 27 февраля «написал страницу».
В условиях рассеянной парижской жизни работа не шла; между тем Толстому хотелось поскорей закончить рассказ, чтобы он мог поспеть к апрельской книжке «Современника».
Когда Тургенев в начале марта собрался ехать для лечения в старый провинциальный город Дижон, расположенный в 315 километрах к югу от Парижа, Толстой решил поехать вместе с ним, чтобы там в тишине и уединении докончить начатый рассказ.
Они выехали утром 9 марта. Дорогой осмотрели большой заповедный лес, примыкающий к городу Фонтенбло и славящийся красотою своих видов. В Дижоне остановились в гостинице, и Толстой, не теряя времени, в самый день приезда вечером принялся за работу, но остался недоволен написанным, потому что «писал слишком смело». На другой день работа продолжалась — Толстой писал «и плохо и хорошо, — больше первое», потому что «слишком смело и небрежно». 10 марта Толстой утром «написал главу славно», а вечером «написал главу порядочно».
В тот же день Тургенев сообщал Анненкову:
«Вообразите себе, что я здесь не один. Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую им большую повесть. Несмотря на жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остановились, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня, — он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность»26.
На следующий день Толстой «утро писал порядочно», а вечером «писал с удовольствием».
12 марта «набрасыванье» «Пропащего» было закончено. «Что выйдет — не знаю, — записал Толстой в этот день в дневнике о законченном начерно рассказе. — Не нравится».
На другой день Толстой прочел «Пропащего» Тургеневу, но тот «остался холоден». Однако в своих письмах Тургенев отзывался о «Пропащем» с большой похвалой. Так, Анненкову он писал 17 марта: «Толстой в Дижоне окончил вещь, которую он читал мне. Ее надо будет несколько переделать и обчистить — и тогда выйдет отличнейшая штука. Вы увидите»27.
183
VI
Повесть «Альберт» в первой редакции не была никак озаглавлена и начиналась иначе, чем в окончательном тексте. Она начиналась с того, что пятеро молодых людей, выходя в четвертом часу ночи из лучшего петербургского трактира, заканчивают начатый ранее разговор об искусстве и об элементах сознательного и бессознательного в искусстве. Этим началом автор как бы указывал на основное содержание повести.
Затем четверо из собеседников едут на окраину города в так называемый «танцкласс», к некоей Анне Ивановне. Попутно дается превосходная, нигде больше у Толстого не встречающаяся картина морозной зимней ночи на окраине Петербурга, когда на улицах «все было бело и прозрачно» при свете «перевернутой кверху рогами четверти месяца»28. У Анны Ивановны гости слушают вдохновенную игру опустившегося скрипача, который в этой редакции носит имя Вольфганг.
Толстой усиленно старается найти такие художественные образы, которыми передавалась бы вся сила и мощь музыкального вдохновения Вольфганга. «Не слышно было ни смычка, ни скрипки, слышны были звуки и виден был вдохновенный человек, который, с скрипкой вместе слившись в одно, производил их. С каждым тактом он больше и больше проникал собой производимые звуки, давал им больше силы и власти, больше своего, и заметно было, с каждым тактом больше и больше воодушевлялся, чувствовал себя счастливым, независимым и гордым. Он чувствовал прикованные к себе взгляды всех присутствующих, и чувство славы, видимо, соединялось в нем с забвением всего и наслаждением одними своими звуками и воодушевляло его... Крапивин [фамилия одного из гостей] бессознательно следил за каждым движением музыканта и с жадностью впивал в себя каждый звук, замечая, как иногда при сильной ноте какой-то невидимый круг сжимал его голову и лоб и колол невидимыми иголками, как каждый волос становился чувствителен, мороз пробегал по спине, и к горлу подступало что-то и щипало в носу. Вольфганг вырастал все выше и выше с каждой нотой... Все в комнате жили и дышали одними его звуками. В одно время более или менее замирали или свободно дышали».
Пораженный игрой Вольфганга, Крапивин на другой день разыскивает его и приводит к себе домой. Этот Крапивин — мнимый поэт и представитель распространенного в то время среди известной части русской интеллигенции ходячего, показного, тщеславного либерализма. Таковы же и его гости, которых он пригласил послушать игру Вольфганга: сын министра, «молодой
184
развратный скептик», и молодой петербургский пианист-француз, «довольно хороший музыкант и добрый малый, хотя и льстивый и нахальный, где только было можно».
Игра в либерализм началась за обедом. «Обед, — рассказывает Толстой, — прошел в болтовне о лицах и обстоятельствах общеизвестных, в щегольстве взапуски известным казенным либерализмом, из которого каждый хотел выйти в оригинальность, но не выходил». Когда опустившийся, в потрепанном платье, Вольфганг приходит к Крапивину, Крапивин выходит ему навстречу, вводит его в гостиную и пожимает ему руку, но делает это только тогда, когда все его гости могли видеть этот либеральный жест.
Вольфганг стал играть «Венецианский карнавал» Паганини, и все слушатели опять «были покорены» его игрой, за исключением сына министра, совершенно лишенного способности музыкального восприятия. Француз-пианист «улыбался от наслаждения и чувствовал себя частью Вольфганга». Даже слуга Крапивина Захар «с сладким недоумением, подняв плечи и глаза, улыбался».
Крапивин оставляет Вольфганга у себя, обещает найти ему место в театре, но Вольфганг чувствует себя у Крапивина стесненным и ночью покидает его.
После тщетной попытки попасть к Анне Ивановне или в ночной трактир, Вольфганг устраивается на ночлег в конюшне вместе с лошадьми. Так заканчивалась повесть в первой редакции.
Предпоследняя глава первой редакции содержит апологию Вольфганга, которую произносит один из гостей Крапивина — художник. «Он царь, а вы рабы», — говорит художник, обращаясь к другим гостям. — «Огня того, которого только одного вы все любите, в вас ни в ком нет... Он сгорел уже от того огня, который есть счастие — поэзия, и никогда уже больше не поднимется. Он один из всех счастлив и добр истинно, он всех любит или, скорее, всех презирает, любит одно благо — красоту. Бога он любит... Искусство подымает на такую высоту, на которой трудно удержаться здравым, по-вашему, по-людскому. Искусство — борьба с богом... Он пал за лучшее, за самое дорогое для человечества дело — за поэзию».
Первая редакция повести «Альберт» дает уже вполне законченный образ вдохновенного артиста, включая его внешность, приемы игры и его суждения о музыке. Равным образом отношение автора к своему герою, высказываемое одним из действующих лиц, остается неизменным во всех последующих редакциях повести.
Дальнейшая работа над повестью состояла главным образом в художественной отделке некоторых эпизодов, особенно описания
185
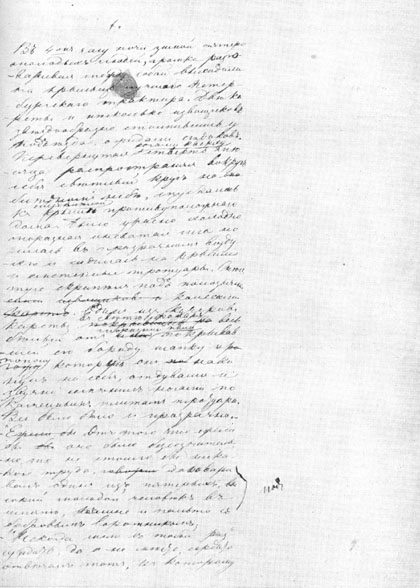
Первая страница первой редакции повести «Альберт»
(1857 г.).
186
игры Вольфганга-Альберта, в усилении его апологии в заключительной главе повести, в замене одних второстепенных образов другими. Тем не менее работа эта потребовала от Толстого еще больших творческих усилий и заняла у него много времени.
***
Пробывши в Дижоне пять дней, друзья 14 марта возвратились в Париж. На этот раз путешествие по железной дороге Толстому не понравилось — он увидел в нем «несчастье».
Возвратившись в Париж, Толстой лишь урывками мог заниматься переработкой «Поврежденного» (так теперь назвал Толстой свой рассказ). 5 апреля Толстой писал Боткину, что он только недавно сумел устроиться так, что может несколько часов в день отдавать работе, прибавляя при этом однако: «Ужасно грязна сфера Кизеветтера, и это немножко охлаждает меня, но все-таки работаю с удовольствием».
Панаев, с нетерпением ожидавший нового рассказа Толстого, обратился к Тургеневу с письмом, в котором очень просил посодействовать тому, чтобы рассказ Толстого был получен к майской книжке «Современника». Тургенев 7 апреля ответил Панаеву, что Толстой «прилежно трудится над переправкой» своей повести, «а вещь будет славная», и что к маю повесть наверное поспеет29.
В том же духе писал Тургенев о «Поврежденном» и Некрасову, что видно из следующих строк письма Некрасова к Толстому от 12 апреля 1857 года; «Тургенев мне писал, что Вы окончили новую повесть. Он ее очень хвалит»30.
VII
Наблюдая парижскую жизнь в самых разнообразных ее проявлениях, Толстой, конечно, не мог не заметить сравнительных преимуществ буржуазно-демократического строя перед самодержавным строем дореформенной крепостной России.
Во Франции Толстой, как писал он Боткину 5 апреля, увидал ту «социальную свободу», о которой он «в России не имел даже понятия». Еще определеннее об этой стороне парижской жизни писал Толстой в тот же день Д. Я. Колбасину: «Не говоря о людях, которых взгляд совершенно изменяется от такого путешествия, нет такого дубины офицера... на которого не подействовало бы это чувство социальной свободы, которая составляет главную прелесть здешней жизни и о которой, не испытав ее, судить невозможно».
187
К проявлениям «социальной свободы» в культурном отношении Толстой несомненно относил и «набитую народом» парижскую публичную библиотеку, которую он посетил, и, главное, «клуб народных стихотворцев», помещавшийся в предместье Парижа, в котором Толстой побывал дважды. Под именем «клуба народных стихотворцев» Толстой разумел одну из так называемых «гогет», очень распространенных в Париже в первой половине прошлого века. (Название «гогета» происходит от французского gogue — шутка, забава.) Это были своего рода народные клубы, посещавшиеся рабочими, ремесленниками, студентами, мелкими служащими. Собрания их происходили в кабачках и дешевых ресторанах. Вход в гогеты был свободный для всех желающих; каждый посетитель мог в них выступить с песнями своего сочинения или других авторов. Содержание песен, распевавшихся в гогетах, было очень разнообразно; нередко песни затрагивали политические и социальные темы, вследствие чего некоторые гогеты подвергались преследованиям со стороны правительства. Толстой, однако, разочаровался в гогетах с чисто поэтической точки зрения, найдя, что в исполнявшихся в них песнях «поэзии нет и традиции поэтической тоже» (дневник 5 апреля).
Толстой уже в Казани в своем разборе «Наказа» Екатерины II проявил себя убежденным противником монархического образа правления. Монархические традиции, в которых он был воспитан, были им навсегда отброшены. Подобострастие и отсутствие чувства собственного достоинства у слуг монархии вызывали у него презрение и гадливость, которые он выразил в следующей заметке в записной книжке от 3 марта 1857 года: «Гордость и презрение к другим человека, исполняющего подлую монархическую должность, похожи на такую же гордость и самостоятельность б.»31.
Противен был Толстому и Наполеон III с его деспотизмом и тупым самодовольством. Речь Наполеона III, произнесенную им 16 февраля 1857 года при открытии Законодательного корпуса, в которой он превозносил себя самого за достигнутые Францией под его управлением успехи, Толстой читал «с неописанным отвращением» (дневник 23 февраля). В этой речи Наполеон III говорил, что «одушевлен одним желанием: действовать повсюду в пользу человечества и цивилизации», что его цель — «просвещать и направлять», что он черпает свою силу главным образом «из привязанности народа», который знает, что «все минуты жизни» императора «посвящены его пользам», что все его мероприятия имеют целью «восстановление порядка и благосостояния
188
Франции», что он утвердил в стране «систему права, основанную на воле и пользе народов», что Франция находится «в цветущем состоянии», что ей предстоит блестящая будущность и пр. Самоуверенность и самовлюбленность императора Франции дошли даже до того, что он счел возможным развязно благодарить депутатов за то, что они «участвовали» в его радости, когда «небо даровало» ему «славный мир и вожделенного сына»32.
Речь Наполеона III навела Толстого на такие размышления: «Никто так не понял, как французы, что нахальство покоряет людей. Прямо кулаком в нос; только решительно, всякий посторонится и еще почувствует себя виноватым. На эту мысль навела меня речь Наполеона»33.
Отвращение вызывал у Толстого и культ Наполеона Бонапарта, очень распространенный в то время во Франции. Толстой уже тогда был близок к тому взгляду на Наполеона, который впоследствии был им выражен в «Войне и мире». 16 марта он осмотрел гробницу Наполеона, находившуюся в подземной крипте, сооружение которой было закончено в 1853 году и обошлось государству в 2 000 000 франков. Здесь под гигантским куполом собора, в громадном саркофаге из сибирского порфира, находились останки Наполеона, привезенные в 1840 году с острова Святой Елены. «Обоготворение злодея ужасно», — записывает Толстой в дневнике, осмотревши гробницу Наполеона.
Тут же Толстой высказывается и как убежденный антимилитарист. «Солдаты, — говорит он, — ученые звери, чтобы кусать всех».
Что касается экономического строя современной Франции, то Толстой в то время мало интересовался этой стороной жизни; но те проявления алчности и хищности представителей быстро развивавшегося во Франции капитализма, которые ему пришлось видеть своими глазами, вызывали в нем чувство глубокого омерзения. Такое впечатление произвело на Толстого зрелище парижской биржи. После посещения биржи Толстой 18 марта записал в своем дневнике: «Биржа — ужас».
Чтобы ясно представить себе, какая картина открылась перед глазами Толстого, когда он в качестве зрителя наблюдал биржевых дельцов, заключавших сделки, следует обратиться к напечатанному в «Современнике» письму Фета, побывавшего в Париже незадолго до Толстого.
«Огромное здание, — писал Фет34, — выстроено в виде греческого храма с колоннадой и террасами кругом. Втереться в
189
среду самой залы, на место действия, и трудно и незачем, а добраться до круглых перил, у которых ежедневно производятся покупка и продажа акций, едва ли возможно. Равнодушные зрители отправляются на верхнюю галлерею и смотрят на живую драму через перила. Все, что можно сказать или только вообразить о шумных собраниях, бледно по сравнению с ревущей действительностью. Черная толпа, плечо с плечом, напирает к перилам двойного круга, в средине которого агенты предлагают те или другие акции, торгуясь из-за денежки. Таких агентов человек более ста. Они то перебегают к своим доверителям ко внешним перилам круга, то снова, крича во все горло, с лицами и глазами, налившимися кровью, предлагают друг другу свой изменчивый товар. Вся зала заинтересована ходом дел, и никто не может передать даже ближайшему соседу роковой новости иначе, как криком из всей силы. Совершенный пандемониум. Не знаю, как они могут понимать друг друга. Ровно в 4 часа раздается звонок, адский крик утихает, и зала мало-помалу пустеет».
Не только биржа, но и железные дороги, сеть которых быстро разрасталась в то время во Франции, были также расценены Толстым прежде всего как средство обогащения темных финансовых дельцов и спекулянтов. Уже уехав из Парижа в Женеву, Толстой 13 апреля заносит в свою записную книжку замечание о том, что «разврат и мерзость биржи, железных дорог и т. п.» таковы, что ими «умеют пользоваться» «только шельмы и дурные люди»35.
Таким образом, Толстой уже в 1857 году выступает противником капитализма, поскольку имел возможность лично, своими глазами наблюдать его яркие проявления. Отрицательное отношение к капитализму вызывалось у Толстого противоречием капиталистической системы хозяйства всем его нравственным требованиям: душевному благородству, честности, полезному труду на общую пользу. Тип алчного и хищного буржуа был глубоко противен его нравственному чувству.
VIII
Приехав в Париж, Толстой первое время намеревался пробыть по Франции только один месяц, а затем ехать в Италию и в Англию, где хотел побывать у Герцена. Сейчас же по приезде в Париж Толстой начинает под руководством учителей изучать английский и итальянский языки, чтобы недостаточное знание этих языков не затрудняло его во время путешествия. В архиве Толстого сохранилась тетрадь его упражнений по
190
итальянскому языку, содержащая перевод отдельных фраз с французского языка на итальянский.
Но по истечении месяца и даже полутора месяцев своей жизни в Париже Толстой не думал об отъезде. 5 апреля он писал Д. Я. Колбасину: «Вот я уже слишком полтора месяца живу в Париже, и уезжать не хочется, — так много я нашел здесь интересного и приятного». О том же в тот день писал Толстой и Боткину: «Я живу все в Париже вот скоро два месяца и не предвижу того времени, когда этот город потеряет для меня интерес и эта жизнь свою прелесть».
Однако рассеянный, малодеятельный образ жизни, недостаточная творческая и вообще умственная работа привели к тому, что Толстой все чаще и чаще стал испытывать глубокое недовольство своей жизнью.
«Грустно ужасно, — записывает он в дневнике 16 марта, — деятельность — единственное средство». Но удовлетворяющей деятельности не было, и через несколько дней тяжелое душевное состояние выразилось у Толстого в приступе «сомнения во всем». «Вчера ночью, — записывает он 19 марта, — мучало меня вдруг пришедшее сомненье во всем. И теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем? И что я такое? Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы; но нет, я их не закрепил жизнью».
«Тоска, от которой не могу отделаться», — записывает Толстой 5 апреля. «Я начал испытывать без всякой причины необъяснимую тоску», — вспоминал Толстой после отъезда из Парижа 11 апреля в письме к тетушке Ергольской.
Причины этой тоски были ему неясны; неясно было и то, что ему следовало предпринять для того, чтобы избавиться от столь мучительного душевного состояния. Единственная перемена образа жизни, мысль о которой приходила ему в голову, состояла в том, чтобы, как писал он Боткину, переселиться из Парижа в какую-нибудь ближайшую деревню. Совсем уехать из Парижа Толстой не желал между прочим и потому, что ему хотелось увеличивать запас своих знаний, так как именно в Париже, как писал он Боткину, он почувствовал себя «круглым невеждою».
Но все планы, которые строил Толстой относительно своего образа жизни в ближайшие месяцы, неожиданно потерпели крушение от совершенно непредвиденного им обстоятельства.
IX
5 апреля Толстой узнал, что утром на другой день предстоит на площади, перед одной из парижских тюрем, совершение публичной смертной казни посредством гильотины. Он решил поехать посмотреть на казнь.
191
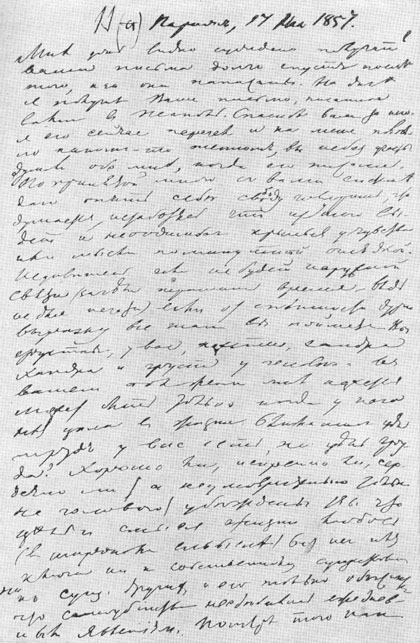
Первая страница письма Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому
от 17 мая 1857 г.
192
Преступник, некий Франсуа Ришё, по профессии повар, был осужден судом присяжных за два убийства с целью ограбления. В обоих случаях убитые были приятелями Ришё и были убиты им во время сна, когда он ночевал в одной с ними комнате.
По сообщениям газет, Ришё выслушал свой смертный приговор совершенно спокойно и только просил заблаговременно уведомить его о дне казни, чтобы он мог перед смертью «как следует покутить» на остававшиеся у него деньги.
В ночь с 5 на 6 апреля при свете факелов на площади перед тюрьмой, в которой содержался Ришё, была сооружена гильотина. Громадная толпа собралась на необычное зрелище. Газетные корреспонденты определяли численность этой толпы, в которой было много женщин и детей, от 12 до 15 тысяч. Ночные трактиры, расположенные на ближайших улицах, бойко торговали всю ночь.
В семь с половиной часов утра в камеру осужденного вошли начальник тюрьмы, начальник полиции и священник, в сопровождении которых осужденный отправился к месту казни, где сам, без посторонней помощи, поднялся по ступенькам на помост гильотины, поцеловал поданное ему священником распятие, — и через минуту всё было кончено.
На Толстого вид смертной казни произвел потрясающее впечатление.
«Больной встал в 7 часов, — записал он в дневнике, — и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! — Сильное и не даром прошедшее впечатление».
И Толстой делает для себя вывод из того ужасного зрелища, которое он наблюдал:
«Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу».
Более подробно о впечатлении, произведенном на него зрелищем смертной казни, Толстой в тот же день писал Боткину:
«Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь... Это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть... человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного».
Толстой не верит в то, что посредством судебных приговоров осуществляется справедливость. «Справедливость, — пишет он, — которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное».
193
Возмущает Толстого праздная и легкомысленная толпа, собравшаяся смотреть на казнь, как на развлечение: «Толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным, удобным механизмом это делается, и т. п.».
Только что накануне писавший в письмах о наслаждении «гражданской свободой», которое он испытывает в Париже, Толстой теперь отказывается ставить вопрос о преимуществах французского или какого-либо другого государственного устройства. — «Я же во всей этой отвратительной лжи, — пишет он, — вижу одну мерзость, зло и не хочу и не могу разбирать, где ее больше, где меньше».
Он повторяет где-то прочитанное или услышанное им мнение: «Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное, для развращения граждан». Повидимому, отголоском какой-то прочитанной книги или какого-то разговора, выражением несогласия с чьим-то мнением, служит дальнейшее утверждение Толстого, что современные государства не могут эволюционным путем перейти к социализму: «Государства... из этого порядка в социализм перейти не могут».
Далее в письме Толстого раскрывается значение сделанной им в дневнике лаконической записи: «Мораль и искусство». Толстой пишет: «Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, не обязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность; я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и сознал нынче».
И как вывод о своем будущем, также развивая высказанную и дневнике краткую запись: «Я не политический человек», Толстой в конце своего письма к Боткину говорит:
«Уж верно с нынешнего дня я не только никогда не пойду смотреть этого, — никогда не буду служить нигде никакому правительству».
Толстой подчеркивает слово «никакому»: вопреки тому, что он писал накануне на первой странице того же письма, теперь он не ставит государственный строй Франции с его «гражданской свободой» выше самодержавного строя крепостной России.
В своих позднейших сочинениях Толстой дважды вспоминал о том потрясающем действии, которое произвело на него зрелище публичной смертной казни в Париже. В первый раз в «Исповеди», написанной в 1882 году, Толстой рассказал, какой ужас он испытал, увидав, как «голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящике», и что он тогда «понял не умом, а всем существом, что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка, и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения
194
мира находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно...»36.
Вторично вспомнил Толстой о смертной казни, которую он видел в Париже, в трактате «Так что же нам делать?», писавшемся в 1882—1886 годах. Здесь Толстой говорит:
«Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно, но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял — не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха...»37.
Толстой с молодых лет был противником смертной казни. Против смертной казни он высказывается в своем разборе «Наказа» Екатерины II, написанном в 1847 году. На Кавказе в 1851 году он вписывает в свой дневник выдержку из какого-то сочинения о Французской революции с изложением содержания речи члена Учредительного собрания А. Дюпора, высказывавшегося за отмену смертной казни. Толстой, повидимому, совершенно соглашался с Дюпором в том, что «общество, оставляя за собою право убийства человека, оправдывает до некоторой степени убийство, совершаемое убийцею, и что самым действительным средством заклеймить убийство и предупредить его было бы — самому обществу выразить перед ним священный ужас»38.
Теперь Толстой — уже не только теоретический противник смертной казни, но он уже пережил, прочувствовал весь ее ужас. Воспоминание об этом ужасе никогда не изгладилось из его памяти.
X
Под страшным впечатлением смертной казни Толстой долго не мог есть39, а ночью его мучили кошмары. «Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться», — записал он в дневнике. Тургенев через несколько дней рассказывал И. С. Аксакову, что Толстому «гильотина снилась во сне. Ему казалось, что его самого казнят»40.
195
На другой день после казни Толстой встал нездоровым, принялся было за чтение, но вдруг ему «пришла простая и дельная мысль — уехать из Парижа».
Но куда ехать?
Толстой в то время находился в таком угнетенном состоянии, что ему нужно было дружеское участие близкого человека, которому бы он мог излить все то, что накопилось у него в душе и мучило его.
Он вспомнил об одном таком человеке — это была его двоюродная тетка Александра Андреевна Толстая, жившая в то время в Женеве. Не теряя времени, Толстой на следующий же день, 8 апреля, выехал из Парижа в Женеву, что вовсе не предполагалось первоначальными планами его путешествия.
Переезд по железной дороге был Толстому скучен; но зато, когда он ночью пересел в дилижанс и продолжал дальнейший путь на лошадях, усевшись рядом с кучером на открытом переднем месте (банкете), его взволнованное и подавленное настроение сразу сменилось бодростью и жизнерадостностью. Молодость, неистраченные душевные и физические силы взяли свое. «Пересев в дилижанс ночью — полная луна, на банкете — все выскочило, залило любовью и радостью». «В первый раз после долгого времени искренно опять благодарил бога за то, что живу», — писал он далее в дневнике.
Не застав в Женеве своих теток, Лев Николаевич отправился в гостиницу и весь вечер просидел один в своем номере, «смотрел на лунную ночь, на озеро», читал Евангелие, оказавшееся в номере, и чувствовал себя «ужасно счастливым до слез», как он в тот же вечер писал Тургеневу, о котором он, по его словам, «ужасно много думал всю дорогу».
«Отлично я сделал, — писал Толстой в этом письме, — что уехал из этого содома». То же советовал Толстой сделать и Тургеневу.
Упоминание о предположении жениться на их общей знакомой А. В. Львовой, вырвавшееся у Толстого в конце его письма к Тургеневу, но затем, очевидно, показавшееся ему необдуманным, привело Толстого к решению не отправлять этого письма. Вместо него через два дня было написано другое, до нас, к сожалению, не дошедшее, о котором Тургенев 15 апреля сообщал Анненкову:
«Толстой внезапно уехал в Женеву — и уже написал мне оттуда презамечательное письмо, где он называет Париж Содомом и Гоморрой, а себя сравнивает с камнем на дне реки, которого заносит понемногу илом и которому непременно нужно вдруг сорваться с места и поискать другую реку, где быть может меньше илу. — Действительно, — согласился Тургенев, — Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю».
196
И далее Тургенев дает следующую общую характеристику личности Толстого, какой представлялась она ему в то время:
«Странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, — высоко нравственное и в то же время несимпатичное»41.
Затем 18 апреля Тургенев из Парижа писал Д. Я. Колбасину, что Толстой «уже две недели слишком как выехал отсюда, получив (как он выражается) отвращение к здешней Содому и Гоморре. Он уехал в Женеву, где поселился на берегу озера — и доволен, то есть доволен пока — пока новое место ему не прискучило»42.
На другой день по приезде в Женеву Лев Николаевич отправился к своим двоюродным теткам Толстым, из которых одна, Александра Андреевна, была фрейлиной дочери Николая I Марии Николаевны, а другая, Елизавета Андреевна, воспитательницей его внучки. Жили они в то время вместе с великокняжеской семьей на вилле Бокаж близ Женевы. В своих «Воспоминаниях» А. А. Толстая рассказывает, что, явившись к ним, Лев Николаевич объявил:
«Я к вам прямо из Парижа. Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел. Чего я там ни насмотрелся!... Во-первых, в maison garnie [пансионе], где я остановился, жили 36 ménages [семей], из которых 19 незаконных. Это ужасно меня возмутило. Затем, хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться. К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве, и бросился к вам опрометью, будучи уверен, что вы меня спасете».
«Действительно, — пишет далее А. А. Толстая, — высказавши все, он скоро успокоился, и мы зажили с ним прекрасно»43.
Отношения с Александрой Андреевной наложили свою печать на весь период швейцарской жизни Толстого. Александра Андреевна нравилась ему и как женщина и особенно как человек. «У Александрин чудная улыбка», — записал Толстой в дневнике 12 апреля. Уже вернувшись в Ясную Поляну, Толстой, перебирая в голове свои заграничные впечатления, находил, что из всей его заграничной жизни воспоминание об Александре Андреевне было для него «самое милое, дорогое и серьезное», как писал он ей 18 августа. По душевным качествам Толстой ценил Александру Андреевну выше всех других женщин, которых он знал. Уже в Петербурге, 22 октября (3 ноября) 1857 года, он дал А. А. Толстой такую характеристику: «Прелесть Александрин,
197
отрада, утешенье. И не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена».
В своих «Воспоминаниях», написанных через 30 лет после встреч со Львом Николаевичем в Швейцарии, А. А. Толстая следующим образом характеризует их отношения: «Наша чистая, простая дружба торжественно опровергала общепринятое ложное мнение о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной. Мы стояли на какой-то особенной почве и, могу сказать совершенно искренно, заботились, главное, о том, что может облагородить жизнь, — конечно, каждый со своей точки зрения»44.
Самому Толстому Александра Андреевна писала после его отъезда из-за границы: «Я знаю, сколько у вас данных, о которых вы, может быть, даже сами не подозреваете, чтобы поднять дух; сами того не сознавая, вы просто необыкновенно добры и потому, находясь вблизи вас, трудно не чувствовать себя счастливой... Когда я вас вижу, мне всегда хочется стать лучше, и мысль о вашей дружбе (правда, немного слепой) производит на меня то же действие»45.
Несомненно, однако, что в отношениях между Львом Николаевичем и «Александрин», как он называл ее обычно, проявлялся также и некоторый оттенок поэтической влюбленности. Это видно и по характеру их переписки, дышащей самой искренней привязанностью, и по общему настроению веселости и жизнерадостности, в котором обычно находился Толстой во все время своего пребывания в Швейцарии, и даже по некоторым упоминаниям его дневника, в одном месте которого А. А. Толстая названа «Сашей», а в другом месте сказано, что он «не видал, как прошло время с милою Толстою». Очевидно, только разница возраста (А. А. Толстой было в то время 40 лет) помешала тому, чтобы Лев Николаевич, так томившийся в то время жаждой женской любви («любовь душит меня, любовь плотская и идеальная», записывает он 24 мая), серьезно увлекся ею. «Ежели бы Александрин была десятью годами моложе», — с сожалением заносит Толстой в свой дневник 11 мая.
Впоследствии отношения между Толстым и Александрой Андреевной перешли в тесную и крепкую дружбу, продолжавшуюся до самой смерти А. А. Толстой в 1904 году и только изредка нарушавшуюся их религиозными несогласиями.
XI
В Женеве Толстой пробыл почти две недели. Здесь он проводил время в том, что любовался природой, наблюдал «здешний
198
свободный и милый народ», как писал он тетушке Ергольской 17 апреля, читал и писал.
«Видя нас всех говеющими, — рассказывает А. А. Толстая в своих «Воспоминаниях», — Лев тоже собрался говеть». Но Толстой уже не смотрел, как в детстве, на исповедь, как на «таинство»: отметив в своем дневнике, что он исповедовался, он счел нужным для себя самого тут же прибавить оговорку: «хорошее дело во всяком случае».
Вера в церковные догмы в нем к этому времени уже совершенно исчезла. «Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу» — пишет А. А. Толстая в своих «Воспоминаниях»46. Последняя фраза подтверждается записью дневника Толстого, в которой он выражает сожаление об утрате веры. Познакомившись с настоятелем русской церкви в Женеве Петровым, Толстой 11 мая записывает в дневнике, что это человек «умный, горячий и знающий свое дело», «асцетик» (то есть аскет), и тут же прибавляет: «прошу бога, чтобы он дал мне эту веру». Но, не имея веры в церковные догматы, Толстой уже тогда принимал нравственное учение христианства, считая его спасительным для человечества. При этом он не придавал никакой цены работам различных несогласных между собой историков, занимавшихся разыскиванием данных о жизни Христа. По этому поводу он делает в записной книжке следующую запись: «Дали людям учение счастия, а они спорят о том, в каком году, в каком месте и кто им дал это учение».
Много времени Толстой посвящал чтению. Он прочел роман Бальзака «Кузина Бетта» и его же предисловие к «Человеческой комедии», которое нашел «мелким и самонадеянным». Вообще же от чтения Бальзака Толстой вынес впечатление, что «у Бальзака в образах возможность, а не необходимость поэтическая»47.
Эта характеристика романов Бальзака включает в себя один из важных пунктов эстетики Толстого. По его мнению, совершенное художественное произведение оставляет в читателе впечатление, что действующие в нем лица не только могли, но и должны были поступать именно так, как поступают они в данном произведении, не могли поступать иначе.
Читал Толстой также роман Александра Дюма-сына «Женщина с жемчугом» и, признавая в авторе художественный талант, в то же время ужасался низменности миросозерцания автора. «Грунт, на котором он работает, ужасен», — записал Толстой в дневнике 20 апреля. Он находил, что «деправация» (развращенность), которую можно усмотреть в романах Бальзака, —
199
«цветочки», по сравнению с «деправацией» в этом романе Дюма.
Кроме художественных произведений, Толстой читал также книги по истории Французской революции (Токвиль «Старый порядок и революция») и по истории Швейцарии, а также положение о швейцарской конституции.
Историческое чтение навело Толстого на ряд мыслей об исторических событиях, которые он занес в свою записную книжку.
Питая чувство отвращения ко всякому кровопролитию, в том числе и к кровавым государственным переворотам, Толстой в желательном для него свете понимает и ход исторических событий. Убежденный в том, что «кровь — зло одно», он объясняет слабость французской Директории 1795 года тем, что в революцию «всех перебили, не осталось людей», а успешность переворота, произведенного Наполеоном в 1799 году, тем, что при этом перевороте «не было крови»48. С возмущением отмечает Толстой в своем дневнике зверство Наполеона, по приказанию которого, во время франко-турецкой войны 1799 года, весь сдавшийся французам турецкий гарнизон города Яффы в количестве 4000 человек был истреблен за убийство французского парламентера.
Писательская работа Толстого первых месяцев его швейцарской жизни определялась его общим душевным состоянием. В то время задачи художественной литературы он понимал следующим образом: «Евангельское слово «не суди» глубоко верно в искусстве: рассказывай, изображай, но не суди»49. Он вернулся к начатой еще на Кавказе повести из казачьей жизни — «Беглец».
14 апреля, перечитав написанное на Кавказе начало повести, Толстой нашел, что в нем «мало связи между лицами» и потому «приходится все переделать». Он написал новое начало, а на другой день «вновь передумал» весь план повести и пришел к выводу, что «выходит страшно неморально». Тем не менее Толстой продолжал обдумывать начатую повесть и 19 апреля написал конспект. Конспект этот сохранился50. По этому конспекту содержание повести, озаглавленной «Беглец», должно было состоять в следующем.
Молодой казак Терешка любит дочь станичного атамана Марьяну, но отец соглашается отдать за него дочь только в том случае, если он получит крест в походе против чеченцев. Старый казак Ерошка, сосед Терешки, принимает живое участие в его судьбе. В то время как казаки были в походе, в станицу
200
пришла рота солдат. Офицер, ротный командир, влюбился в Марьяну, но Марьяна продолжала любить Терешку. В сражении против чеченцев Терешка получил крест, и станичный атаман выдал за него свою дочь. Терешка изменял своей жене. Она попрекнула его при народе; ему сказали, что и к ней ходит офицер, хотя на самом деле Марьяна никогда не изменяла своему мужу. Терешка подкараулил офицера и ударил его ножом, а сам бежал в горы. Там он сделался вожаком шайки и устраивал набеги на казачьи станицы. «Его боялись, им пугали». Через пять лет Терешка, соскучившись по родной станице, ночью пришел к дяде Ерошке. Офицер, который продолжал стоять в той же станице, убил его.
Понятно, что такой сюжет должен был представляться Толстому «страшно неморальным»; но его привлекала, очевидно, драматичность этого сюжета в соединении с поэтическими подробностями казачьего быта. Ему приятно было вспоминать весь аромат кавказской жизни, покинутой им более трех лет тому назад, о которой у него осталось столько отрадных воспоминаний. Этим объясняется, почему Толстой в течение двух лет много раз возвращался к «Беглецу», пытаясь развить этот сюжет и найти для него такую художественную форму, которая бы его удовлетворила.
XII
21 апреля Лев Николаевич вместе с А. А. Толстой выехал из Женевы на пароходе в Кларан, местечко в 82 километрах от Женевы, на северо-восточном берегу Женевского озера. Здесь Толстой прожил до 30 июня, совершая отсюда поездки и прогулки по горным хребтам, деревням и городам Швейцарии.
Окружающая природа и особенно вид Женевского озера с его удивительной сине-голубой окраской приводили Толстого в восхищение. «Положительно невозможно оторвать глаз от этого озера и его берегов, — писал Толстой тетушке Ергольской 18 мая, — и я провожу большую часть времени в том, чтобы смотреть и восхищаться на прогулках или просто из окна моей комнаты». То же писал Толстой в своих путевых записках, начатых 2 июня: «Удивительное дело, я два месяца прожил в Кларане, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером после обеда отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно с силой неожиданного действовала на меня».
Созерцание этой красоты производило на Толстого сильное моральное действие. «Тотчас же, — говорит он далее, — мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел
201
о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу»51.
В Кларане Толстой близко сошелся с некоторыми русскими семействами, там проживавшими. Это, прежде всего, были жившие с ним в одном пансионе муж и жена Пущины. Капитан лейб-гвардии саперного батальона Михаил Иванович Пущин, родной брат лицейского товарища и друга Пушкина, Ивана Ивановича Пущина, за участие в заговоре декабристов был разжалован в рядовые и сослан на Кавказ. Здесь он в 1829 году встретился с Пушкиным. Об этой встрече он рассказал Толстому, и Толстой уговорил его описать для Анненкова, работавшего над биографией Пушкина, свою встречу с великим поэтом, что Пущин и исполнил. Толстой написанную Пущиным записку отправил Анненкову52.
Толстой очень подружился с Пущиным и его женой. «Пущин, — писал он 29 мая тетушке Ергольской, — самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире», а его жена — «вся доброта и самопожертвование».
Иное впечатление производило на Толстого другое русское семейство, жившее в окрестностях Кларана, — семейство князя П. Н. Мещерского, женатого на дочери Карамзина, Екатерине Николаевне.
Мещерские сначала казались Толстому «хорошими людьми», но, узнав их ближе, он увидал, что это — «отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте, озлобленные консерваторы», «не мои люди» (записи в дневнике от 22, 24 и 28 апреля). Хотя Толстой и пытался объяснить консерватизм жены Мещерского ее опасением за судьбу своих детей, все же у него осталось впечатление, что оба они «ужасно тупы» (дневник 16 и 22 мая). В письме к Ергольской от 29 мая Толстой более снисходительно охарактеризовал Мещерских: «немножко аристократы, но чрезвычайно добрые люди». Это «но» очень характерно для отношения Толстого того времени к аристократизму.
Е. Н. Мещерская лично знала Пушкина и рассказывала о нем Толстому. Так, она передавала Толстому следующие слова Пушкина, сказанные ей во время его работы над последними главами «Евгения Онегина»: «А вы знаете, ведь Татьяна-то
202
отказала Онегину и бросила его: этого я от нее никак не ожидал»53. Толстой любил приводить эти слова Пушкина, как характерные для настоящего поэта53а.
Впервые видя швейцарскую природу и притом в цветущее время года, Толстой много времени отдавал пешеходным прогулкам. Однажды Толстой на лодке пересек Женевское озеро и высадился в Савое, в местечке Мелльри. Он записал в своем дневнике, что местечко это — «прелесть»: характер его — «дикость, бедность и поэзия».
Но все-таки, когда его тетушки выражали слишком большой восторг от красот швейцарской природы, Толстой уверял их, что «все это — дрянь в сравнении с Кавказом»54.
Находясь в обществе А. А. Толстой и других знакомых женщин, Толстой иногда приходил в юношески игривое настроение и смешил, и оживлял всех присутствующих своими остротами и разными невинными шалостями и проделками, в которых не отставал от него и М. И. Пущин, бывший старше его почти на тридцать лет. Такое свое настроение Толстой в дневнике называл образно: «хвост закорючкой».
Некоторое время Толстой все же посвящал литературным занятиям. Перечитав «Поврежденного», он нашел, что «хорошо», и приступил к переработке этой повести. Но больше внимания Толстой уделял работе над другой начатой им повестью — «Беглый казак». 29 апреля Толстой начинает новую редакцию «Беглого казака». Были написаны только две первые главы, описывающие приход в станицу двух рот пехотного полка во главе с молодым ротным командиром и его встречу с красавицей, хозяйской дочерью Марьяной. Это начало не удовлетворило Толстого, и на следующий день он предпринимает оригинальную попытку — начинает писать свою повесть (скорее поэму) в стиле (хотя и невыдержанном), близком к ритмической прозе. Эту новую редакцию Толстой в дневнике называет «поэтическим казаком».
В «поэтическом казаке» действуют та же Марьяна, ее жених Терешка, старый казак, который здесь носит имя Гырчик, мать и отец Марьяны, мать Терешки, но приезжего офицера пока совсем нет. Толстым были написаны всего две главы, из которых первая были озаглавлена — «Старое и новое» (очевидно, в смысле старого и молодого поколения казаков), а вторая —
203
«Ожидание и труд»55. Обе главы разделены на небольшие пронумерованные абзацы, как бы соответствующие строфам стихотворения. В первой главе таких абзацов 43, во второй, недоконченной, — 9. Большие куски текста написаны ритмической прозой в размере анапеста. Вот несколько примеров.
Марьяна рассказывает, как простился с ней ее возлюбленный, уходя в поход. «Шапку снял, прочь коня повернул, и прощай! Только видела я, как он плетью взмахнул, ударил справа, слева коня».
Старый казак Гырчик рассказывает про своего молодецкого коня: «Так ведь с берега бросится сам, только брызги летят, — знай за гривку держись, а уж он перебьет поперек, шею выгнет, да уши приложит, только фыркает все, равно человек. Как раз под станицу тебя приведет».
Отдельные небольшие куски ритмической прозы разбросаны почти по всем абзацам отрывка, как например:
«Отвечала казачка сердито и грубо...»
«И она, отвернувшись, нахмурила черные брови...»
«Старик, покачав головой, засмеялся...»
«Гырчик был крестный отец и няня (друг) ее казака, Терешки Урвана...»
«Он жил бобылем, день и ночь проводя на охоте...»
По содержанию «поэтический казак» дает главным образом картины казацкой жизни: проводы казаков в поход, грусть казачки по своем возлюбленном, ее разговор с матерью, возвращение старого казака с охоты, его рассказ о своей жизни и воспоминания о былых казацких богатырях и их богатырских конях.
Язык «поэтического казака» очень прост и подходит к языку народных былин и песен. Эпитеты по своему характеру приближаются к эпитетам народного творчества: «алый чихирь», «янтарная рыба».
Как записал Толстой в дневнике, «поэтический казак» показался ему «лучше» «прозаического казака». Однако форма ритмической прозы была все-таки несвойственна его таланту и дальше начала второй главы работа не пошла56.
Толстой находился в нерешительности относительно того, в какой форме и в каком тоне писать ему кавказскую повесть. Одно было для него несомненно: в данный момент притягивал его к себе именно эпический, а не лирический род поэзии. 4 мая он пишет письмо Анненкову, делясь с ним своими сомнениями.
204
«Эта субъективная поэзия искренности, — пишет Толстой, — вопросительная поэзия — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь».
Под «субъективной поэзией искренности» Толстой разумел здесь тот автобиографический жанр, в котором были им написаны трилогия, «Записки маркера», «Утро помещика». Термин «вопросительная поэзия», употребленный Толстым, в данном случае имеет то же значение, что и термин «субъективная поэзия искренности», указывая на изменчивость внутренних переживаний личности, составляющих предмет субъективной поэзии, в противоположность положительным данным объективной действительности. Что «субъективная поэзия искренности» «опротивела немного» Толстому — это, очевидно, надо понимать в том смысле, что такого рода поэзия утомила его своим однообразием; ему хочется отойти от изображения внутренних движений своей души и начать изображать жизнь других людей в ее самых разнообразных формах, — в данном случае поэтическую действительность Кавказа. Ему хотелось вспомнить близко ему знакомый чудесный кавказский край и в нем весь исполненный поэзии казачий патриархальный станичный быт и поэтические образы молодых и старых казаков и казачек. Но здесь-то и возникли затруднения.
«Я пустился, — пишет далее Толстой в том же письме Анненкову, — в необъятную и твердую положительную объективную сферу и ошалел — во-первых, по обилию предметов или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы».
Толстой рассказывает, что он начал свою повесть «в четырех различных тонах», но до сих пор не знает, какую из этих четырех редакций начала повести ему выбрать или как их все соединить вместе. Но ему все-таки кажется, что «в этом хаосе» «копошится смутное правило», по которому он будет в состоянии определить надлежащий тон, в каком следует ему писать свою повесть. У него «какая-то кутерьма происходит в голове все с большей и большей силой». Работа над повестью была прервана до того времени, пока не угомонилась эта «кутерьма» в голове писателя.
XIII
Не довольствуясь короткими прогулками по окрестностям Кларана, Толстой решил предпринять большое путешествие в глубь Швейцарии.
Он решил совершить это путешествие не один, а в компании с одиннадцатилетним мальчиком из знакомой русской семьи — Сашей Поливановым. Взял он с собой этого компаньона потому,
205
что, как записал он еще в апреле, его интересовало «путешествие с невинным мальчиком, его взгляд на вещи»57.
Путешествие продолжалось одиннадцать дней — с 27 мая по 6 июня. Определенного маршрута пути у Толстого не было, но путешественники сделали довольно большой круг от Кларана через Шато д’Э, Интерлакен, Шейдег, Тун, Берн, Фрибург. Сначала шли пешком, затем, утомившись, стали также пользоваться экипажами, дилижансами и — по озерам — лодками.
В дорожном мешке, который Толстой нес за плечами, лежала тетрадь дневника, повсюду его сопровождавшая, и запас чистой бумаги. Ежедневно, останавливаясь на ночлег или на отдых, Толстой кратко записывал в дневник все свои путевые впечатления, а 2 июня, остановившись в Гриндельвальде, начал писать подробный дневник путешествия.
Вернувшись в Кларан, Толстой еще в течение трех дней — 7, 9 и 10 июня — продолжал работу над дневником путешествия, очевидно имея в виду послать его в форме письма из-за границы для напечатания в «Современнике». Однако, описав только первые два дня своего путешествия, Толстой почему-то оставил эту работу, и «Отрывок дневника 1857 года», как произведение названо в рукописи, остался незаконченным58. Об этом нельзя не пожалеть, так как написанное начало дневника отличается большими художественными достоинствами, поэтическим изображением швейцарской природы, живым описанием местных жителей, их быта, нравов и образа жизни, вместе с глубокими размышлениями по различным вопросам, даваемыми в виде отступлений от основного текста. И все это облито ярким светом молодости, полного физического и душевного здоровья, всегдашнего веселого, жизнерадостного настроения, непоколебимой веры в жизнь и в людей, несокрушимой энергии.
Толстой все видит, всем интересуется, всматривается в каждого попадающегося ему на пути человека, замечает все особенности жизни неизвестного ему народа, внимательно наблюдает и поэтически описывает окружающую природу. В то же время он глубоко обдумывает и расценивает все то, что проходит перед его глазами.
В самом начале пути, неподалеку от деревни Аван, путников «вдруг поразил необыкновенный, счастливый белый весенний запах». Этот «сладкий, одуревающий запах» исходил от огромного поля белых нарциссов, покрывающих всю долину. Хозяйка, у которой Толстой остановился на ночлег, объяснила ему, что скотина не любит в сене этих цветов, и потому жители переводят поля с нарциссами. Это случайное обстоятельство навело Толстого
206
на такие размышления: «Неужели такой закон природы, что полезное противоречит прекрасному, цивилизация — поэзии? Зачем же эта путаница? Зачем несогласуемые противоречия во всех стремлениях человека?»
«Впрочем, — продолжает Толстой далее свои размышления, — все эти кажущиеся несогласуемыми стремления жизнь как-то-странно, по-своему, соединяет их. И из всего этого выходит что-то такое не конченное, не то дурное, не то хорошее, за которое человек сам не знает, благодарить или жаловаться».
Такую же сложность замечает Толстой и в том чувстве, которое вызывает в нем красота природы. «Красота природы, — пишет он, — всегда порождает во мне... чувство, не то радости, не то грусти, не то надежды, не то отчаяния, не то боли, не то наслаждения».
На второй день пути Толстой поднялся на Жаманскую гору, откуда открывался вид на Женевское озеро и Савойские горы. Но вид этот не произвел на Толстого никакого впечатления. «Я не люблю этих так называемых величественных знаменитых видов, — пишет он, — они холодны как-то... Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а [Толстой написал было «декорация», но затем поправил:] что-то такое хорошее».
И далее Толстой объясняет, какая природа и почему производит на него впечатление и какая не производит и почему.
«Я люблю природу, — говорит он, — когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух и этот же воздух клубясь уходит в бесконечную даль; когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов; когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса; когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, — когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползут коровки, везде кругом заливаются птицы. А это — голая холодная, пустынная сырая площадка, и где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, — не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного целого».
На всем пути Толстой делал наблюдения над встречавшимися ему местными жителями. Он заметил, что в Швейцарии попадается очень много «ужасно грязно одетых и изнуренных» рабочих; он «нигде не встречал такой уродливой, идиотической старости рабочего класса, как в Швейцарии».
207
В католическом Фрибургском кантоне Толстому сразу бросились в глаза «особенности католического края»: «грязные, оборванные дети, большой крест на перекрестке перед деревней, надписи на домах, уродливо вымазанная статуэтка мадонны над колодцем», старики и больные дети, просящие милостыню.
Пройдясь по одной деревне, Толстой увидал в ней много больших и красивых домов, но заметил, что «одежда и вид народа ужасно бедны». Вместе с тем Толстой довольно часто встречает в разных местах Швейцарии среди крестьян «милый и поэтический, красивый тип», который он характеризует следующим образом: «громадные широкие плечи и грудь, чрезвычайно развитые мышцы ног и рук, небольшая белокурая голова, румянец во всю щеку и благодушная, кроткая, немного глуповатая улыбка».
Отталкивающее впечатление производили на Толстого встречавшиеся ему в пути представители швейцарской городской мелкой буржуазии. «Это, — пишет Толстой, — безжизненная, притворная, нелепо подражающая французам, презирающая рабочий класс швейцарцев и отвратительно корыстно мелочная порода людей».
Вид молодых швейцарских мужчин, возвращающихся с учебного военного сбора, подал Толстому повод вновь высказать свои в то время уже твердо сложившиеся антимилитаристические убеждения. Он отмечает ту перемену, которую он заметил в одном и том же швейцарце, когда тот проводит утро у себя дома за работой и когда в полдень возвращается с учебного сбора. Дома он благодушен, учтив, приветлив; его лицо выражает ум и добродушие: в полдень, возвращаясь с учебного сбора, он пьян, груб, «лицо его выражает какую-то бессмысленную гордость или, скорее, наглость»; он распевает непристойную песню, «готов оскорбить встретившуюся женщину или сбить с ног ребенка». «А все это, — объясняет Толстой, — только оттого, что на него надели пеструю куртку, шапку и бьют в барабан впереди». «Нигде, как в Швейцарии, не заметно так резко пагубное влияние мундира, — говорит Толстой, — действительно, вся военная обстановка как будто выдумана для того, чтобы из разумного и доброго создания — человека сделать бессмысленного, злого зверя».
Освеженный физически, с большим запасом новых и разнообразных впечатлений и от людей, и от природы (он, между прочим, спускался в один из могучих альпийских глетчеров близ Гриндельвальда), Толстой 6 июня вернулся в Кларан.
XIV
Еще во время путешествия Толстой дважды пытался продолжать «Беглого казака» и один раз «Поврежденного».
По возвращении из путешествия Толстой испытал подъем
208
творческой энергии и приступил сразу к работе над пятью вещами: 1) «Поврежденный», 2) «Беглый казак», 3) «Отъезжее поле», 4) вторая часть «Юности» и 5) «Дневник путешествия».
Повесть «Поврежденный» пишется во второй редакции.
Толстой снабжает теперь свою повесть эпиграфом из Пушкина, долженствующим выразить основную мысль произведения:
«Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
Уже первые строки повести в новой редакции ясно говорят о том, что она писалась вдали от больших городов59.
«Над Петербургом стояла пасмурная зимняя ночь. Большой холодный город спал тем горячечным, беспокойным сном, которым спит пьяный после дня разврата. С черного неба мимо мрачных громад домов, слабо освещенных кое-где догорающими фонарями, падали белые сухие клочья снега на взрытое грязное тесто улиц... Там и сям за красными занавесками догорали огни домов веселья».
Действие повести во второй редакции в основном развертывается так же, как и в первой. Ценитель музыки, покровительствующий Вольфгангу, носит здесь фамилию Седьмый. Он служит в каком-то учреждении, но понимает, что служба его — «только узаконенная совершенная праздность». Его отталкивает общество богатых людей, он видит, что «богатство притягивает к себе самое отребье общества», и потому богатые люди «живут в отвратительной сфере подлости и лести», которая их портит и из которой они вырваться не могут. Отрадой жизни Седьмого является искусство; потому-то и игра Вольфганга оказывает на него такое сильное действие.
Толстой и в этой редакции делает большие творческие усилия для того, чтобы как можно ярче изобразить вдохновенную игру Вольфганга. Для описания его игры Толстой находит теперь следующие слова:
«Звуки становились все сильнее, нежнее, трогательнее и одушевленнее. Наконец они полились так страстно, так отчаянно, что слышны были уже не звуки, а сам собой в душу каждого лился какой-то прекрасный, но бурный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии».
Во время игры лицо Вольфганга «совершенно переродилось и сияло какой-то непрерывной восторженной радостью. Глаза горели необыкновенным блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения. Иногда голова ближе наклонялась
209
к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого бесконечного блаженства. И вслед затем он вдруг вскидывал волоса, выпрямлялся, выставлял ногу, и его лоб и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, как будто он чувствовал, что все присутствующие находятся в его совершенной власти».
Находясь под сильнейшим впечатлением игры Вольфганга. Седьмый долго не мог заснуть ночью. «Отчаянно грустные стоны скрипки и вдохновенная фигура артиста неотвязно, ежеминутно, с необычайной ясностью возникали в его воображении. Он давно не испытывал такого сильного чувства».
И Седьмый берет артиста к себе, надеясь поставить его на ноги. На этом работа над второй редакцией «Поврежденного» прекратилась.
Повесть «Беглый казак» пишется теперь с начала в новой редакции60. Эта редакция открывается живым описанием весеннего народного праздника в станице. Дается яркий образ молодой красивой казачки Марьяны, которым, видимо, любуется сам автор. Марьяну любит молодой застенчивый казак Кирка. Кирка приходит к старому казаку дяде Ерошке и просит устроить его женитьбу на Марьяне. Дается не менее яркий портрет дяди Ерошки, оставшийся в своих основных чертах неизменным во всех дальнейших редакциях повести, включая окончательную.
Кирка ведет дядю Ерошку к себе в дом, угощает его чихирем, и, выслушав его наставления о том, что он должен быть «молодец, шутник», возбужденный его речами, идет на площадь, чтобы увидеть Марьяну. На этом работа над повестью остановилась.
Новое произведение — вторая часть «Юности» — было начато 9 июня. Работа продолжалась всего один день. Толстой написал первую главу, озаглавленную «Внутренняя работа», в которой рассказал про свои юношеские моральные искания, восторги и мечтания, когда он «по-своему перестраивал весь мир божий». Для второй главы, озаглавленной «Троицын день», было написано только несколько строк61.
Рукописи повести «Отъезжее поле» полностью не сохранились, и мы не можем сказать с уверенностью, что именно было написано Толстым в этот период работы над повестью.
Таким образом, ни одно из произведений, над которыми Толстой работал по возвращении в Кларан, не было им закончено. Обилие новых впечатлений мешало сосредоточенно работать, и охвативший Толстого творческий порыв быстро угас.
210
Кроме того, Толстому не сиделось на месте, и спустя шесть дней после возвращения в Кларан, 12 июня он предпринял новое большое путешествие — на этот раз в другом направлении, чем прежде. Он поехал в Женеву и оттуда через Савойю — в Турин, бывший в то время столицей Сардинского королевства, ради встречи с Дружининым и Боткиным. Судя по дневнику, встреча с ними не произвела на Толстого большого впечатления. Внимание его привлекла общественная жизнь Турина.
Как известно, Сардинское королевство в то время было наиболее передовым из всех итальянских государств, со сравнительно либеральной конституцией. Оно деятельно готовилось к объединению Италии под своим господством. В 1859 году начало этому объединению было положено удачной войной Сардинии с Австрией, закончившейся присоединением Ломбардии к Сардинскому королевству.
Толстой побывал в Сардинской палате депутатов и, познакомившись ближе с общественной жизнью Турина, испытал даже «чувство зависти к этой молодой, сильной, свободной жизни» (дневник 17 июня). Он слышал (что так далеко было от порядков самодержавной России) оживленные толки по поводу речи члена Сардинской палаты депутатов Анжело Брофферио, примыкавшего к либерально-демократическому направлению и производившего большой эффект своими остроумными и ядовитыми нападками на правительство.
17 июня Толстой вместе с младшим братом Боткина, Владимиром Петровичем, двадцатилетним юношей, отправился частью в дилижансе, частью пешком по направлению к горному проходу Сен-Бернар. Задержавшись на один день по случаю дождливой погоды в деревне Грессонэ, Толстой написал здесь «листочка два» «Беглого казака» и читал стихотворения Гёте, из которых «Встречу и разлуку» нашел «восхитительным» (дневник 19 июня).
21 июня путники приехали в город Аосту, где осматривали многочисленные остатки римских архитектурных древностей, и в тот же день прибыли на Сен-Бернар. Здесь Толстой переночевал в странноприимном доме, а на другой день смотрел знаменитых сенбернардских собак, побывал в церкви и в морге и затем в продолжение двух часов спускался вниз в тумане по снегу.
В Кларан Толстой вернулся 23 июня. На другой день он прочел Боткину обе начатые им повести: и «Беглого казака», и «Поврежденного». «Беглый казак» Боткину очень понравился, а «Музыкант» менее, — он нашел, что «главному лицу не дано той поэтической привлекательности, какую следовало ему дать», хотя во всей повести «много хорошего»62.
211
Под влиянием похвалы Боткина. Толстой начал писать продолжение «Беглого казака» и написал сцену свидания Кирки с Марьяной в садах; «немного пописал» также и «Погибшего» (так теперь назвал он свою повесть).
Несколько раз в Кларане Толстой виделся с Дружининым и под конец дал ему в своем дневнике такую характеристику: «Он короток ужасно, но зато толст и кругол». Эту характеристику надо понимать, повидимому, в том смысле, что Толстой увидел, что умственные интересы и миросозерцание Дружинина очень ограничены («он короток ужасно»), но в той сфере, которая его интересует, у него много знаний, и он вполне удовлетворен этой сферой («толст и кругол»).
30 июня Толстой покинул Кларан, сохранив навсегда самое приятное воспоминание об этом городке и его окрестностях, где, по его словам, так удивительно сказывалось «спокойное, гармоническое и христианское влияние» природы63.
Толстой приехал в Женеву, откуда через три дня выехал в Ивердон и затем в столицу Швейцарии — Берн.
В вагоне железной дороги Толстой попал в большую толпу, отправлявшуюся в Берн на народный праздник. На промежуточных станциях население горячо приветствовало проезжающих. Толстому было очень интересно наблюдать это зрелище, подобного которому не могло быть в тогдашней самодержавной России. «Крики, венки, приемы путешествующему владыке — народу», — записал он в дневнике 4 июля.
Вид народного воодушевления и созерцание, хотя бы из окна вагона, прекрасной швейцарской природы в ночное время сильно подействовали на Толстого и привели его в приподнятое настроение. «Восхитительная лунная ночь, — записывает он тогда же в дневнике, — пьяные крики, толпа, пыль не расстраивают прелести; сырая, светлая на месяце поляна, оттуда кричат коростели и лягушки, и туда, туда тянет что-то. А приди туда — еще больше будет тянуть вдаль. Не наслаждением отзывается в моей душе красота природы, а какой-то сладкой болью».
Но самый праздник в Берне вызвал в Толстом чувство разочарования. Это был, вероятно, обычный «праздник стрелков», который справляется в определенное время в разных городах Швейцарии. На этот раз бернский праздник, судя по описанию Толстого, превратился в своего рода патриотическую манифестацию, вызванную политическими событиями. Незадолго до
212
этого Швейцария вышла победительницей в так называемом Невшательском вопросе. Швейцарский город Невшатель, ранее находившийся в подчинении прусскому королю, был признан независимым от Пруссии и формально вошел в состав Швейцарского союза.
Но Толстой увидел много искусственного в организации этого праздника: лозунги, которые были вывешены на улицах, представились ему «напыщенным вздором», храбрость, которая в них афишировалась, напускной; во всей организации праздника его поразило полное отсутствие поэзии, — это привело его к общему выводу, что швейцарцы «не поэтический народ».
Уйдя с праздника, Толстой побывал в цирке, в анатомическом театре, в зверинце и даже, несмотря на все впечатления дня, смог настолько сосредоточиться, чтобы написать хотя два листа «Погибшего».
XV
6 июля Толстой из Берна приехал в Люцерн, где в то время находилась А. А. Толстая. Он остановился в лучшей гостинице города, носившей название Швейцергоф.
Гостиница «Швейцергоф» была в то время заселена главным образом богатыми туристами-англичанами. Толстому, считавшему, как писал он в очерке «Люцерн», что «одно из лучших удовольствий жизни» есть «наслаждение друг другом, наслаждение человеком», была невыносима холодная чопорность и замкнутость англичан, их «совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему», особенно проявлявшееся за обедом, когда человек сто обедающих в совершенном молчании и тишине больше всего боялись нарушить «строгое, законом признанное приличие».
Вечером на второй день пребывания Толстого в Люцерне случилось происшествие, давшее ему повод начать единственное произведение, законченное им за границей.
Возвращаясь из города в гостиницу, Толстой услыхал на улице пение, поразившее его своей оригинальностью. Это странствующий певец распевал тирольские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Подойдя ближе, Толстой невольно заслушался его музыкой и пением. Голос у него был небольшой, но приятный, а исполнение обнаруживало огромное природное дарование. Толстой дал ему несколько монет и посоветовал продолжить пение под окнами гостиницы «Швейцергоф». Певец согласился.
Заслышав звуки пения и гитары, обитатели «Швейцергофа», эти «блестящие нарядами широкоюбные барыни, господа с белейшими воротничками», как писал потом Толстой в очерке «Люцерн», вышли на подъезд и столпились у окон и на балконах,
213
чтобы слушать певца. Внизу его окружила прислуга гостиницы и гуляющая публика. Во все время, пока он пел, в толпе слушателей «царствовало почтительное молчание».
Пропев несколько песен, певец снял фуражку и в изысканных выражениях обратился к собравшимся с просьбой дать ему что-нибудь на пропитание. Никто ничего не положил ему в фуражку; однако публика продолжала стоять в ожидании следующей песни. Певец спел еще песню; в толпе со всех сторон послышались возгласы одобрения. Окончив песню, певец еще раз, сняв фуражку, обратился к слушателям с той же просьбой, но и на этот раз никто ничего ему не дал. В третий раз — то же самое. Смущенный певец надел фуражку и отправился обратно в город.
Толстой был поражен такой холодной бесчувственностью богачей к бедному человеку. Как рассказывает он в «Люцерне», он почувствовал «невыразимую злобу» на этих людей. Он догнал певца, пригласил его с собой в «Швейцергоф», спросил лучшего шампанского и, несмотря на насмешки и презрительный вид прислуги, усадил бедно одетого артиста с собой за стол. Швейцары и лакеи гостиницы держали себя развязно и неучтиво обходились с певцом только потому, что он был бедно одет. Это возмутило Толстого, он накричал на них и «взволновался ужасно».
Простившись с певцом, Толстой пошел гулять. Прекрасная природа и погода, еще не улегшееся впечатление от поразившего его пения, сознание своей правоты в столкновениях из-за бедного певца с прислугой гостиницы привели Толстого в восторженное, радостное и религиозное настроение, которое он в дневнике выразил в следующих словах: «Ночь — чудо. Чего хочется, страстно желается? — не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! — когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. — Боже мой! Боже мой! Что я? И куда? И где я?»
После случая с певцом Толстой не мог более выносить «тупоумных, скучных обедов» в обществе «замороженных» англичан и переселился из «Швейцергофа» в дешевый пансион, где занял две маленькие комнатки на чердаке совершенно отдельного домика. Обстановка в этих комнатках была самая простая, что было Толстому очень по душе; все в них было «просто, деревенско и мило ужасно», как в тот же день писал Толстой Боткину.
Случай с певцом так поразил Толстого, что уже на третий день после этого происшествия 9 июля он начал очерк с описанием этого случая. Толстой выбрал для своего очерка форму письма из-за границы, причем воображаемым адресатом, которому Толстой направлял свое письмо, был В. П. Боткин. Толстой имел в виду в этом письме к воображаемому адресату описать не только
214
случай с певцом, но и другие свои заграничные впечатления. Работа продолжалась еще два дня, и 11 июля очерк был закончен. Таким образом, весь очерк был написан в три дня и в дальнейшем не подвергался существенной переработке. С такой быстротой писались Толстым до того времени только самые задушевные его произведения — «Записки маркера» и «Севастополь в мае».
Работая над «Люцерном», Толстой в то же время в виде отдыха читал роман немецкого писателя Густава Фрейтага «Дебет и кредит» и по окончании чтения записал в дневнике свою оценку этого романа. Толстой пишет, что роман «плох», так как «невозможна поэзия аккуратности». Замечание это было вызвано тем, что роман Фрейтага был посвящен прославлению поднимающейся немецкой буржуазии, представители которой наделены в романе разными добродетелями, в том числе — типическим качеством буржуа — педантичной «аккуратностью», которой всегда так чужд был пылкий и увлекающийся Толстой.
Окончив «Люцерн», Толстой в тот же день отправился путешествовать по окрестным деревням, местечкам и городам. Дорогой он любовался идиллическими деревенскими картинами (видел, как «старички пьют вдвоем винцо под деревом»), сторонился от «поганых буржуа», взбирался на гору Риги, но, как это и раньше бывало с ним в подобных случаях, остался совершенно холоден к открывающемуся с этой горы прославленному виду. «Отвратительный глупый вид», — записал он в дневнике. И на следующий день: «Тот же глупый вид на природу и на людей».
Вернувшись в Люцерн вечером 14 июля, Толстой уже на другой день принялся за переделку «Люцерна». Форма письма к воображаемому адресату была изменена; очерк был начат сперва в форме дневника князя Нехлюдова, героя «Отрочества», «Юности», «Записок маркера» и «Утра помещика».
18 июля новая редакция «Люцерна» была закончена, но Толстой остался не совсем доволен формой очерка, находя ее «diffus» (расплывчатой). Что же касается содержания, то еще по окончании первой редакции Толстой записал в дневнике относительно своего нового произведения: «Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного».
Что же именно «нового и дельного» хотел Толстой сказать и действительно сказал в своем «Люцерне»?
XVI
Соприкосновение с новыми для него формами государственного устройства послужило для Толстого толчком к усиленным
215
размышлениям о политических вопросах, нашедшим свое выражение в его дневнике и записной книжке. По этим записям мы не можем причислить Толстого ни к одному из существовавших в то время общественно-политических направлений. Он не революционер-демократ, не либерал, не консерватор, не западник, не славянофил. Размышления на общественно-политические темы не сложились в то время у Толстого в какую-либо определенную систему взглядов, но показывают всю напряженность его поисков разумного разрешения поставленных перед ним самой жизнью вопросов.
Под влиянием чтения Прудона Толстой 25 мая записывает: «Все правительства равны по мере зла и добра. Лучший идеал — анархия»64. Но, повидимому, «анархия» (в смысле безвластия) рисовалась Толстому в то время только как смутный идеал, так как необходимость известных государственных форм он в то время несомненно признавал. В его записной книжке того времени находим следующую запись: «Возможно отсутствие законов, но должно быть обеспечение против насилия»65. Утверждая, что «все правительства равны по мере зла и добра», Толстой в то же время понимал желательность и неизбежность замены самодержавной формы правления республиканской. «Ежели бы Россия, кроме религиозного и народного знамени, выставила бы республиканское или хоть конституционное, мир бы был ее», — записывает он вскоре после приведенной записи об анархии как идеале66.
Здесь Толстой имеет в виду известную формулу русской государственности, утвердившуюся в правящих кругах при Николае I: православие, самодержавие, народность. Из этой формулы Толстой принимает народность, принимает и православие, понимая его в широком смысле религиозности вообще, но самодержавия не принимает, считая необходимым замену самодержавной формы правления республиканской или, по крайней мере, конституционно-монархической.
В другой записи Толстой выражает свое убеждение в том, что «русский народ способен к республиканской жизни». Иногда ему казалось даже, что в глазах русского народа «правительство не есть потребность, а случайность» и что русский народ «допускает царя преимущественно по своей терпимости... Почему и царю не быть, коли ему хорошо»67.
Будущее государственное устройство России рисовалось Толстому некоторым подобием общественного устройства (как он представлял себе это устройство) казачьих общин, пока они
216
были самостоятельны. «Будущность России, — писал он, — казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого»68.
Последний пункт этой программы Толстого носит демократический характер: в то время в России обязательная воинская повинность существовала только для низших сословий; дворянство было свободно от отбывания воинской повинности.
Молодой Толстой начинает понимать решающую роль народных масс в исторических событиях. Он видит ложность точки зрения Наполеона, который «забыл, что цари растут из народа», и «ожидал переворотов в Европе от личностей, владык»69.
Толстой испытывает смутное тяготение к социализму. Еще год тому назад он считал социализм «политической неразрешимой пешкой»70. Теперь он думает иначе. «Социализм, — пишет он, — ясен, логичен и кажется невозможен, как казались пары71. Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти назад»72.
Молодой Толстой — противник всякого национализма и шовинизма. Он говорит, что «национальность — единственное препятствие развитию свободы», разумея под «национальностью», очевидно, именно национальный шовинизм. Дипломаты, по его мнению, должны не разжигать национальную ненависть, а должны быть «высоконравственные распространители общечеловеческих идей и уничтожители национальностей»73.
Толстой — противник грабительской колониальной политики европейских правительств. Он находит «отвратительными» действия англичан в Китае (дневник 30 апреля). Факт, так возмутивший Толстого, состоял в следующем. Осенью 1856 года китайские власти на английском корабле, плывшем по реке Янтцекианг, арестовали нескольких китайцев, подозревая их в незаконной торговле опиумом. Английские власти сочли этот арест оскорблением британского флага и послали к берегам Китая флот, который обстрелял и разрушил целый ряд прибрежных китайских городов. Затем был высажен десант, который предавал разграблению города, убивал мирных жителей и производил другие насилия.
Кроме непосредственного соприкосновения с общественно-политической
217
жизнью европейских стран, а также чтения по общественно-политическим вопросам (между прочим, он прочел какое-то сочинение французского теоретика анархизма Прудона), наводили Толстого на размышления также и многочисленные встречи с представителями привилегированных классов разных стран Европы. Нередко встречи эти производили на него неблагоприятное впечатление, отмечавшееся им в дневнике.
«Ничего не может быть глупее француза comme il faut», — записывает он 14 июля. В другой раз, прослушавши до трех часов ночи болтовню своего соседа по отелю, француза, мечтающего попасть в депутаты, рассказывавшего и про свои политические планы, и про поэзию, и про любовь, Толстой заносит в свой дневник убийственное замечание об этом своем собеседнике:
«Что за ужас. Я бы лучше желал быть без носа, вонючим, зобастым, самым страшным кретином, отвратительнейшим уродом, чем таким моральным уродом» (дневник 26 июля).
Но особенно неблагоприятное впечатление производили на Толстого богатые туристы-англичане, составлявшие, по его наблюдениям, девять десятых всех путешествующих по Швейцарии.
«Англичане все читали Шекспира, Байрона, Диккенса, все поют, играют, в церковь ходят, семьяне74, но всё это удобства жизни, а не потребность внутреннего мира — он спит», — записывает Толстой около того же времени в записной книжке75.
Позднее, уже в Германии, Толстой пишет про англичан, своих спутников на пароходе: «Молодые англичане не знают своей литературы и улыбаются над моим варварством» (дневник 22 июля).
Все свои размышления относительно западноевропейской буржуазной цивилизации, все свои сомнения в ее ценности Толстой высказал в очерке «Люцерн».
XVII
Очерк «Люцерн» начинается противопоставлением красот люцернской «странной, величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы» пошлым, безвкусным сооружениям на городской набережной в угоду богатым туристам. Далее дается картина «тупоумного, скучного» обеда в гостинице «Швейцергоф», в обществе богатых чопорных англичан, где «со всех сторон блестят белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие
218
настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки», а на лицах заметно одно выражение — «сознания собственного благосостояния». Затем описывается подробно случай с певцом.
Изливая свое негодование против богатых обитателей гостиницы «Швейцергоф», так безучастно отнесшихся к нищему певцу, Толстой говорит: «Всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что всё это должно быть, и что на всё это имеют полное право, что я... понял, что́ таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей».
В этих словах Толстой впервые выступил с резким обличением праздной, роскошной жизни представителей высших классов. Если бы в этом месте рассказа речь шла не об английских лордах, а о русских аристократах, эта часть текста «Люцерна» в то время, конечно, не была бы пропущена цензурою.
Подсмеивания лакеев над певцом, которого автор привел в «Швейцергоф», и их развязное поведение дали исход «тому готовому запасу злобы» против обитателей «Швейцергофа», который он «не успел еще сорвать ни на ком».
Здесь Толстой делает важное автобиографическое признание. «Я совсем озлился, — рассказывает он про себя устами героя своего очерка, — той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей».
В эту минуту Толстой, по его словам, был так возмущен и раздражен, что не только «с наслаждением подрался бы» с кельнерами и швейцарами, не только «палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню», но даже, если бы был в Севастополе, «с наслаждением бросился бы колоть и рубить в английскую траншею». И он не только излил все свое негодование против тех слушателей, которые безучастно отнеслись к бедному певцу, но и обрушился против Швейцарской республики, обозвав ее «паршивой» за то, что в ней существует одна только видимость равенства — так называемое равенство перед законом.
Рассказав весь эпизод с певцом и описав все возмущение и негодование, вызванное в нем этим случаем, Толстой заканчивает очерк обширным изложением своих размышлений по этому поводу. Сначала он ропщет на обитателей «Швейцергофа» за то, что они не ценят «лучшего блага в мире» — поэзии, хотя во всех них есть «потребность поэзии». Затем, прямо обращаясь
219
к богатым обитателям отеля со словами возмущения и обличения, Толстой задает им вопрос: «Как вы, дети свободного человечного народа, вы, христиане, вы, просто люди, — на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой?»
Толстой негодует и на «бессмысленную толпу», которая «смеясь преследовала и оскорбляла» певца, и на богатых обитателей «Швейцергофа» за то, что они «холодны, жестоки и бесчестны». Факт этот, по мнению Толстого, гораздо значительнее и серьезнее и имеет более глубокий смысл, чем многие из тех фактов, о которых пишут в газетах и рассказывают историки. Он перечисляет ряд таких фактов: «что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету; что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск..., что император Наполеон гуляет пешком в Пломбьер и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа». В черновом тексте «Люцерна», после слов «англичане убили еще тысячу китайцев», следовало: «русские — тысячу чеченцев». Конечно, это упоминание о войне правительства Николая I с горцами не могло быть пропущено тогдашней цензурой.
Все это, — говорит Толстой, — слова, скрывающие или показывающие давно известное». (В черновом тексте «Люцерна» эта фраза имеет такую редакцию: «Это слова пустые, означающие давно известные гнусные страсти человека».)
Как видим, Толстой в этих строках протестует против всей колониальной политики европейских народов. Варварские действия англичан по отношению к безоружному в то время Китаю давно возмущали Толстого. Теперь, кроме англичан, он возмущается также действиями французов в Великой Кабилии, расположенной в северо-западной части Алжира. Воинственное племя кабилов долгое время вело героическую борьбу с французскими войсками, вторгшимися в их территорию, пока наконец в 1857 году французам не удалось путем жестоких репрессий сломить сопротивление кабилов. Так же, как колониальная политика англичан и французов, осуждается Толстым и колониальная политика Николая I. Таким же обманом, как и колониальная политика европейских народов, проводимая под флагом распространения цивилизации и христианства, представляется Толстому и лицемерное утверждение императора Наполеона III о том, что он царствует «по воле всего народа». (В черновом тексте «Люцерна» упоминание о Наполеоне III имело такой вид: «император Наполеон гуляет пешком и делает комедию выборов».)
Толстой вскрывает фальшь заявлений западноевропейских политиков о том, будто бы в западноевропейских республиках
220
существует «равенство» всех граждан. Толстой утверждает, что равенство это совершенно фиктивно. «Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?» — спрашивает Толстой. Говорят, что в республиках существует «равенство перед законом». «Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? — возражает Толстой. — Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества». А здесь, «в сфере нравов и воззрения общества» (подразумевается: буржуазного) нет никакого признания равенства людей. Здесь уважается богатство и презирается бедность. Общественными деятелями в республиканских государствах «в их палатах, митингах и обществах» руководит не желание общего блага, а «тщеславие, честолюбие и корысть».
От этих частных вопросов Толстой переходит к общему вопросу о цивилизации и первобытном состоянии. Он не соглашается с тем, что цивилизация всегда благо, а «варварство» всегда зло. В человеческой натуре, — говорит Толстой, — заложена «инстинктивная первобытная потребность добра»; человек чувствует потребность «инстинктивной и любовной ассоциации», которая иногда вступает в противоречие с рассудочной (по терминологии Толстого — «разумной») «себялюбивой ассоциацией людей, которую называют цивилизацией».
«Кто больше человек и кто больше варвар?» — задает Толстой вопрос, — тот лорд, который не уделил бедняку «мильонной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства», или бедный певец, утешающий людей своим пением, который, «усталый, голодный, пристыженный» отошел от окон богатого «Швейцергофа»?
Для Толстого нет колебаний в ответе на этот вопрос.
Но как же разрешить противоречие между цивилизацией и первобытным состоянием? На этот вопрос Толстой дает следующий ответ: «Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель — Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу». (В черновой редакции «Люцерна» эта фраза заканчивается такими словами: «вот только слушай этот голос чувства, совести, инстинкта, ума, — назовите его, как хотите, — только этот голос не ошибается». И далее: «И этот голос слышится яснее в положении того, что вы называете варварство, чем в положении того, что вы называете цивилизацией». Еще ранее этого в черновой редакции «Люцерна» упоминается Руссо с его взглядом на цивилизацию: «Не
221
смешной вздор говорил Руссо в своей речи о вреде цивилизации на нравы».)
По поводу этих религиозно-философских воззрений Толстого, выраженных в последней части «Люцерна», В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» писал:
«В «Люцерне» (писано в 1857 году) Л. Толстой объявляет, что признание «цивилизации» благом есть «воображаемое знание», которое «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре». «Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, — восклицает Толстой, — Всемирный Дух, проникающий нас»76.
В. И. Ленин совершенно справедливо связывает приводимые им цитаты из «Люцерна» с общим религиозно-философским миросозерцанием позднего Толстого. Связь эта несомненна.
Далее В. И. Ленин определяет те общественные условия, на почве которых выросло религиозно-философское учение Толстого.
«Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, какие общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»77.
Окончание «Люцерна» написано в другом тоне, чем весь очерк. Здесь Толстой говорит, что у богатых лордов нет такой «беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром», как у бедного певца, и из этого делает вывод: «Бесконечна благость и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям». Только человек, этот «ничтожный червяк, дерзко, беззаконно пытающийся проникнуть его законы, его намерения», видит противоречия, в то время как «Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво бесконечно движетесь».
Это окончание с такой страстностью и волнением написанного очерка психологически можно объяснить тем, что автору самому было ново, непривычно и тяжело то состояние негодования и возмущения, в котором он писал свой очерк. Нужно было найти выход, путь разрешения тех противоречий действительности, которые он так мучительно переживал. Этого выхода он не
222
видел, и разрешением противоречий представилась ему на некоторое время давно ему известная гегелевская идея «бесконечной гармонии мира».
Впоследствии отношение Толстого к философии, изложенной в заключительной части «Люцерна», совершенно изменилось,
23 октября 1874 года, прочитав только что вышедшую книгу В. Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов», Толстой писал Страхову, что книга эта ему «очень понравилась», за исключением окончания. «В нем есть, то-есть в статье, — писал Толстой, — один недостаток — гегелевская зловредная фразеология. Вдруг с бух да барахты является в конце статьи какой-то дух, мне очень противный и давно знакомый»78.
Совершенно отрицательное отношение к учению Гегеля о всемирном духе находим в трактате Толстого «Так что же нам делать?», написанном в 1882—1886 годах. Здесь Толстой, вспоминая о той популярности, какую имело учение Гегеля в ту пору, когда он «начал жить», то есть в 1830—1840-х годах, говорит далее, что для современного образованного человека гегелианство уже не существует. Если современному ученому, образованному человеку начать говорить об учении Гегеля, он «не станет оспаривать, а только удивится. Какой дух? Откуда он? Зачем это? Зачем он проявляется? Зачем он мне нужен?»79.
К этому же периоду относится устное высказывание Толстого о гегелианстве и о влиянии гегелианства на его очерк «Люцерн».
В ноябре 1885 года, заговорив о двух представителях «бесценного триумвирата», Боткине и Анненкове, к которым Толстой в то время был уже совершенно равнодушен, он вспомнил и свой очерк «Люцерн», и сказал, что он «испорчен» упоминанием о «гармонии мира»80.
Но в 1905 году, составляя сборник изречений мыслителей всех стран и народов под названием «Круг чтения», Толстой в книге афоризмов из его произведений81 прочел цитату из окончания
223
«Люцерна» о «всемирном духе» и в числе других поместил ее целиком в свой сборник82. Позднее, в 1908 году, Толстой ту же мысль взял эпиграфом к одной из глав своей статьи «Закон насилия и закон любви»83.
XVIII
Вернувшись в Россию, Толстой 1 августа (ст. стиля), на даче у Некрасова, прочел вслух «Люцерн» Некрасову и Панаевым. «Подействовало на них», — записал Толстой в дневнике.
Либеральные писатели и критики все без исключения отнеслись к «Люцерну» отрицательно — не за выраженные в нем религиозно-философские мысли, которые прошли никем не замеченными, кроме Тургенева, но за его критику западноевропейских нравов и буржуазных общественно-политических порядков.
Панаев, со всех сторон слыша отрицательные суждения об очерке Толстого, поспешил отречься от своего первоначального мнения о нем. «Его рассказ «Люцерн», — писал он Боткину 16 октября, — на публику подействовал неблагоприятно. Когда я слышал его из уст автора, читавшего с раздражением внутренним и со слезами в конце, — рассказ этот подействовал на меня сильно, но потом, когда я перечел его сам, он произвел на меня совсем другое впечатление. Видно, что это писал благородный и талантливый, но очень молодой человек, из ничтожного факта выводящий бог знает что и громящий беспощадно все, что человечество выработало веками потом и кровью»84.
Боткин, в понимании и сочувствии которого Толстой не сомневался, совершенно не оправдал его уверенности. Спокойный, уравновешенный, самодовольный буржуа, убежденный в том, что «задача русской жизни» в течение многих поколений будет состоять в том, чтобы «внутренне окраситься европейской цивилизацией», — Боткин прежде всего не мог простить Толстому негодующего тона его очерка. «Люцерн» Толстого я наконец прочел, — писал Боткин Панаеву 29 января 1858 года. — Это во всех отношениях не только детская вещь, но еще неприятная..., и самую непривлекательную роль разыгрывает в ней сам автор»85.
Столь же отрицательно, как Панаев и Боткин, отнесся к «Люцерну» типичный западник Анненков. «Повесть Толстого, — писал он Тургеневу 16 ноября, — ребячески-восторженная, мне не
224
понравилась. Она походит на булавочку, головке которой даны размеры воздушного шара в три сажени диаметра»86.
Разумеется, совершенно не одобрил «Люцерн» и Тургенев, который читал этот очерк еще в рукописи в Баден-Бадене, получив его из рук автора. «Я прочел небольшую его [Толстого] вещь, написанную в Швейцарии, — писал Тургенев Боткину 4 августа. — Не понравилась она мне: смешение Руссо, Теккерея и краткого православного катехизиса»87. Самому Толстому Тургенев писал 25 ноября (7 декабря): «Идите своей дорогой — и пишите, — только разумеется не люцернскую морально-политическую проповедь»88.
Два противоположных мнения о «Люцерне» сообщал Григорович в двух своих письмах. Боткину Григорович писал 25 сентября: «Повесть Толстого прошла без внимания; многим она очень даже не понравилась»89. Через десять дней тот же Григорович писал Некрасову: «В Москве мне говорили, что Толстой ничего не написал лучше; обшее мнение, что повесть отличная»90.
Отрицательную оценку вызвал «Люцерн» и в печати. Газета «Петербургские ведомости» писала, что не стоило бы и упоминать об этом рассказе, если бы он не был подписан именем графа Толстого, и выражала удивление, «как можно видеть в этом ничтожном случае какой-то глубокий смысл и серьезное значение»91. (Отзыв этот Толстой прочел 11 октября, после чего записал в дневнике: «Меня обругали Петербургские ведомости», — очевидно, считая, что «обругали» напрасно.)
Журнал «Сын отечества» находил в очерке «теплые страницы», «верные размышления», «благородную гуманную цель», но и этот журнал считал, что не следовало автору называть швейцарскую республику «паршивой»92.
225
«Люцерн» Толстого был в то время в русской подцензурной печати единственным художественным произведением, в котором выражено было критическое отношение к западноевропейской буржуазной цивилизации.
В истории творчества Толстого «Люцерн» был вторым, после «Севастополя в мае», обличительным произведением. Обличительный элемент был в нем выражен еще сильнее, чем в «Севастополе в мае».
XIX
Живя в Люцерне, Лев Николаевич ежедневно бывал у А. А. Толстой.
Двор великой княгини, при которой Александра Андреевна состояла фрейлиной, Толстой иронически называл «трубой»92а; однако, после одного из посещений Александры Андреевны, он записал в своем дневнике: «Трубный запах, к стыду моему, мне нравится». Толстой уже был тогда убежденным противником самодержавия, но монархическое воспитание, как пережиток, давало себя знать, и атмосфера придворной жизни («трубный запах») доставляла ему некоторое удовольствие. Толстой заметил в себе это противоречие.
19 июля Толстой выехал из Люцерна в Цуг, затем в Цюрих и Шафгаузен, а 22 июля совершенно покинул Швейцарию, унося на всю жизнь приятные воспоминания о тех швейцарских деревнях, в которых ему пришлось побывать.
Он направился в Германию.
23 июля, находясь уже в Штутгарте, Толстой отмечает в дневнике наплыв значительных мыслей. Здесь появилась у него первая мысль о крестьянской школе. «Главное, — записывает Толстой в дневнике, — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде».
Тогда же появились у него новые планы относительно начатых повестей. Образ казака в повести «Беглый казак» должен быть «дик, свеж, как библейское предание». Повесть «Отъезжее поле» должна заключать в себе «комизм живейший», образы необходимо «концентрировать», дать «типы, и все резкие». Но в условиях путешествия планы эти не могли быть осуществлены.
На другой день 24 июля Толстой приехал в Баден-Баден и здесь отдал дань своей давнишней страсти — азартной игре, на этот раз в рулетку. Сначала он много выиграл, но, продолжая игру, проиграл не только все бывшие у него в наличности деньги, но и те, которые он занял у знакомых — в общей сложности
226
более 3000 франков. Разумеется, такое забвение себя в игре вызвало в Толстом глубокое недовольство собой. «Дурно, гадко», — записывает он 29 июля. Затем 1 августа — «Давно так ничто не грызло меня».
С просьбой о деньгах для уплаты проигрыша Толстой обратился, кроме других лиц, к Тургеневу, находившемуся в то время в Зинциге. Получив письмо Толстого, Тургенев сам приехал в Баден-Баден. Встреча была очень дружественная, хотя Тургенев «срамил» неудачливого игрока. «Ванечка мил»; «нам славно с ним», — пишет Толстой в дневнике.
В Баден-Бадене Толстой познакомился с А. С. Смирновой-Россет, салон которой в 1830-х годах посещали воспевавшие ее в стихах Пушкин, Лермонтов, Жуковский, а также Гоголь, состоявший с ней в продолжительной переписке. Повидимому, что-то интересовало Толстого в Смирновой, так как бывал он у нее довольно часто; но все отзывы о ней в дневнике Толстого — отрицательные («несносно скучна», «смешно и гадко» и т. п.).
Впоследствии, в разговоре по поводу прочитанной вслух статьи о Гоголе, где Смирнова называлась «пленительной», Толстой заметил: «Не пленительна, а умна была»93.
Толстой намеревался из Германии поехать в Голландию, а оттуда — в Англию, где предполагал увидаться с Герценом94, но неожиданно он получил из дома известие, которое перевернуло все его планы. Брат Сергей Николаевич и тетушка Татьяна Александровна писали ему, что его сестра Мария Николаевна разошлась со своим мужем вследствие его развратного поведения и, оставив его, поселилась в доставшемся ей по разделу с братьями имении Покровское. (Как рассказывала мне впоследствии Мария Николаевна, она объявила своему мужу, что «не желает быть старшей султаншей в его гареме».)
Муж Марии Николаевны В. П. Толстой решил отказаться в пользу детей от трех принадлежащих ему имений, оставив себе одно самое небольшое и, не простившись с семьей, уехал. «Эта новость задушила меня», — пишет Толстой в дневнике. Он решил сейчас же вернуться домой.
Из Баден-Бадена Толстой выехал во Франкфурт только для свидания с А. А. Толстой. Свидание это принесло ему душевное успокоение, утраченное вследствие потери власти над собой в азартной игре и неожиданного семейного несчастия. «Бесценная
227
Саша, — записал он в девнике. — Чудо, прелесть. Не знаю лучше женщины». Успокоенный, он едет из Франкфурта в Эйзенах и дорогой записывает: «Будущее всё улыбается мне».
Из Эйзенаха Толстой направился в Дрезден, где дважды побывал в картинной галерее. Как записал он в дневнике, Сикстинская Мадонна Рафаэля «сразу тронула» его. К остальным картинам, выставленным в галерее, он остался холоден. Побывал также в дрезденском театре, где видел трагедию Гуцкова «Уриэль Акоста».
Из Дрездена Толстой, проехал в Берлин, где его поразил «разврат на улицах», и на другой день выехал в Штеттин, откуда в тот же день на пароходе отправился в Россию.
На пароходе вместе с Толстым ехало много русских. Из разговоров с ними Толстой увидал, что они «все либералы» и в то же время «ничего не делают для просвещения». Оговорка эта показывает, что поставленный им перед собой вопрос о народном образовании продолжал занимать его. Особенно не понравилась Толстому из его спутников на пароходе какая-то Мордвинова, «отвратительная, лицемерная либералка».
30 июля по старому стилю Толстой приехал в Петербург.
XX
Значение первого заграничного путешествия в жизни Толстого состояло в том, что благодаря ему он получил непосредственное знакомство с европейской жизнью. Ранее Толстой имел лишь смутное представление относительно европейской жизни, составленное по книгам и по рассказам знакомых, побывавших за границей. После того как он сам провел шесть месяцев в двух республиканских государствах — во Франции и в Швейцарии, Толстой увидел там не только проявления «социальной свободы», от которой так далека была самодержавная Россия того времени, но и разные темные стороны европейской жизни.
Толстой увидел, что во Франции «социальная свобода» совмещалась с преклонением перед Наполеоном III и с культом Наполеона I. Он был до глубины души потрясен видом смертной казни в Париже, поразившим его холодной рассчитанностью всей процедуры казни и бесчувственностью толпы, сошедшейся смотреть на это зрелище.
В Швейцарской республике Толстому очень понравились типы крестьян, но вместе с тем он увидал там бедность народа, грубый милитаризм и отталкивающие типы черствых разбогатевших буржуа, презирающих народ. Здесь же он увидел многочисленных представителей высшего английского общества, которых так много путешествовало в то время по Швейцарии, поразивших его своим самодовольством и нравственной тупостью.
228
Толстой еще очень молодым читал книгу Прескотта «Завоевание Мексики», из которой он впервые узнал поразившую его историю порабощения мексиканского народа испанцами. Это было первое знакомство Толстого с варварскими методами колониальной политики европейских правительств. Позднее Толстой узнал много фактов относительно колониальной политики других европейских государств, особенно Англии, и его негодование против европейских правительств, порабощавших колониальные народы, все больше и больше возрастало. В Швейцарии встречи с многочисленными английскими богачами-туристами вновь напомнили ему все те жестокости англичан в колониальных странах, на которых было основано благосостояние этих гордых лордов. Уже не из книг, не из сочинений Диккенса и Теккерея, а своими глазами увидал Толстой тех представителей английского высшего общества, которым выгодно было ограбление колониальных народов.
После пребывания за границей возмущение и отвращение Толстого к колониальному грабежу еще более усилилось. В 1858 году (24 марта) он отмечает в дневнике «бесчеловечность Англии» при подавлении восстания в Индии. Отвратительно спокойный тон английских сообщений о казнях восставших индусов, наряду с преувеличенным значением, придаваемым другим текущим событиям, Толстой саркастически высмеивает в такой заметке в записной книжке: «Слава богу, спокойно расстреляли 94 человека, а Wats, слава богу, здоров» (запись 30 марта)95. Эта заметка вызвана следующим перепечатанным из английской прессы сообщением в «Московских ведомостях» о действиях английского капитана при подавлении восстания индусов: «Капитан Осборн с нетерпением ожидал вспомогательных войск и не надеялся, что его отряд будет готов казнить мятежников; когда же пришли к нему на помощь войска, то он казнил в один день 94 мятежников: 2 были повешены и 92 человека расстреляны»96. Уотс, упоминаемый в заметке Толстого, это английский механик, находившийся на сардинском пароходе, захваченном неаполитанским правительством, которое подозревало, что на этом пароходе находятся итальянские революционеры. Уотс был посажен в тюрьму, где заболел психическим расстройством. По настоянию английского правительства, Уотс был освобожден и возвращен в Англию97. Толстой отмечает контраст между шумом, поднятым в английской печати по случаю ареста одного английского гражданина, и спокойным отношением той же
229
печати к казням сотен индийских повстанцев, отстаивавших свою свободу от английского деспотизма.
Вслед за вышеприведенной заметкой в записной книжке Толстого под тем же числом следует другая, написанная также в саркастическом тоне: «Вербовка негров, croomens, которые не едят, а работают». Эта заметка вызвана прочитанным Толстым сообщением о прениях в палате лордов 23 марта 1858 г. по вопросу о вербовке африканских негров для службы в индийских войсках, когда лорд Элленборо заявил, что существовал проект набора негров из племени круменов, которые отличаются большой выносливостью, питаются одним рисом и довольствуются малым жалованием, вместо которого к тому же охотно принимают охотничьи ружья и боевые припасы98. Толстой был поражен этим ярким примером бессовестной эксплуатации людей черной расы «цивилизованными» европейцами.
Первое заграничное путешествие, доставившее Толстому возможность своими глазами увидать европейскую жизнь, оставило глубокий след в его сознании. Оно дало ему богатый материал для сделанной им много лет спустя общей характеристики общественно-политических условий жизни европейских народов: «Очень чиста матерьяльно эта европейская жизнь, но ужасно грязна духовно»99.
Но этим не ограничивается значение первого заграничного путешествия в жизни Толстого. Значение это состояло также и в том, что, путешествуя пешком по швейцарским деревням, Толстой узнал и полюбил швейцарских крестьян. Он убедился, что ему близок не только русский трудовой крестьянский народ, но и трудовой народ других стран.
230
Глава пятая
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1857—1858 ГОДАХ
(Петербург, Ясная Поляна, Москва)
I
Приехав 30 июля 1857 года в Петербург, Толстой прежде всего отправился к Некрасову, но не застал его, так как Некрасов в то время жил на даче в Петергофе.
Прошло полгода после короткой встречи Толстого с Некрасовым в Париже.
За время своего пребывания за границей Толстой переписывался с Некрасовым, но, к сожалению, ни одно из его писем к Некрасову за этот период до нас не дошло. Четыре ответных письма Некрасова за то же время сохранились в архиве Толстого. Письма эти исключительно интересны тем, что из всей сохранившейся переписки Некрасова с разными лицами они выделяются своей особенной серьезностью, задушевностью и откровенностью, мало свойственной сдержанному, замкнутому Некрасову. Это особенно относится к письму Некрасова от 5 (17) мая из Парижа, являющемуся ответом на то не дошедшее до нас письмо Толстого, о котором Некрасов писал Тургеневу 15 (27) мая. «Получил письмо от Толстого — очень умное, теплое и серьезное»1.
В этом письме Некрасов излагал Толстому свой взгляд на жизнь. «Ближайшая цель, — писал он, — труд, у Вас есть, но цель труда? Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к существованию других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением». «Человек создан быть опорой другому, — продолжал Некрасов, — потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние. Вот
231
основание хандры в порядочном человеке — думайте, что и с другими происходит то же самое, и спешите им на помощь».
Это свое письмо к Толстому Некрасов заканчивал словами: «Прощайте, ясный сокол (не знаю, сказывал ли я Вам, что мысленно иначе Вас не называю)»2.
Встреча Толстого с Некрасовым в Петергофе была очень дружественной. «Он очень хорош», — записал Толстой в дневнике о Некрасове.
Толстой прочел Некрасову и Панаевым только что законченный им «Люцерн», — прочел, вероятно, с тем же одушевлением, с каким писал его. «Люцерн» был принят Некрасовым для помещения в ближайшей, сентябрьской книжке «Современника».
В Петербурге, где Толстой провел несколько дней, он читал какое-то произведение Салтыкова, после чего записал в дневнике: «Салтыков — талант, серьезный».
II
Вновь увидеть родную природу Толстому было радостно. Уже на второй день своего пребывания в Петергофе он записывает в дневнике: «Утро сизое, росистое, с березами, русское, славно».
6 августа Толстой выехал из Петербурга в Ясную Поляну. В дневнике он приветствовал родное гнездо стихом Пушкина:
«Приветствую тебя, пустынный уголок!»
«Прелесть Ясная. Хорошо и грустно», — пишет он. — «Но Россия противна», — пишет он далее, подразумевая под «Россией» общественно-политические условия русской жизни того времени.
За девять месяцев, проведенных им в Москве, в Петербурге и за границей, Толстой много передумал, много перевидал и значительно вырос умственно и нравственно; и те явления жизни, мимо которых он раньше проходил равнодушно, не замечая их, теперь стали для него мучительны. «Чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня», — пишет он в дневнике. Побывавши в имении своего брата и сестры Пирогово, он записывает: «Бедность людей и страдания животных ужасны».
О своих тяжелых впечатлениях от окружающей жизни Толстой писал Некрасову в не дошедшем до нас письме от 12 августа и А. А. Толстой в письме от 18 августа. «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в
232
глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие», — писал Толстой своей тетке.
Эти строки Толстого очень напоминают начало известного стихотворения Некрасова, написанного им почти одновременно с письмом Толстого — в июле 1857 года и тоже по возвращении из-за границы:
«В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина».
Далее Толстой в том же письме к тетке перечисляет возмутительные факты, которых он был свидетелем или о которых узнал в первую же неделю после своего возвращения в Ясную: барыня на улице палкой била свою «девку»; становой пристав отказался выдать удостоверение его крестьянину, если он, Толстой, не пришлет становому воз сена; чиновник на дороге избил семидесятилетнего старика за то, что тот будто бы зацепил его, тогда как в действительности виноват был сам чиновник; бурмистр Толстого, желая ему угодить, наказал загулявшего садовника тем, что избил его, а потом послал босиком по жнивью стеречь стадо.
Позднее (4 октября) Толстой записал в дневнике, что в этот один день он видел «ужасы» в суде, у станового пристава и в казенном лесничестве при продаже на сруб участков леса.
Некрасов в ответном письме от 29 августа писал Толстому: «Так Вам многое не понравилось вокруг Вас. Ну, теперь будете верить, что можно искренно, а не из фразы ругаться»3. Так писал Некрасов, вспоминая прошлогодние горячие споры Толстого в кругу «Современника».
Не будучи в состоянии какими-либо средствами бороться с темными явлениями окружающей его действительности, Толстой находил спасение в том, чтобы, как писал он тетке, уходить в «мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей». Он читает, пишет свои произведения и письма, разыгрывает на рояли сонаты Бетховена.
Он читает — повидимому, впервые — стихотворения Кольцова и восхищается ими, находя в них «прелесть и силу необъятную» (дневник 26 августа). При вторичном чтении Кольцова Толстой находит, что его «Думы» хороши, но видит «большой недостаток» этого поэта в том, что у него «удаль форсирована» (дневник 1 сентября). Однако образы кольцовской поэзии крепко запомнились Толстому, и через некоторое время, слушая
233
у местного лесничего рассказы одного из гостей о приволжском крае, Толстой почувствовал, что от этих рассказов «пахнет кольцовской поэзией» (дневник 24 сентября).
Читает Толстой также второй том «Мертвых душ» и находит, что написано «аляповато». Тем не менее чтение это вызвало в нем ряд мыслей относительно начатого им «Отъезжего поля». Он решает, что ему следует писать одну только эту повесть, «и тетеньку туды», то есть он предполагал ввести в свою повесть персонаж с основными чертами тетушки Татьяны Александровны Ергольской. Очевидно, под влиянием чтения Гоголя, у Толстого появилась мысль о большой повести широкого бытового охвата со многими и разнообразными характерами; но замысел этот осуществления не получил.
Читает Толстой и письма Гоголя к разным лицам, впервые вышедшие тогда в собрании его сочинений, и составляет себе очень невыгодное представление о его личности. «Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь», — пишет Толстой о Гоголе в дневнике 8 сентября. Это впечатление от прочитанных им писем Гоголя было у Толстого так твердо, что он в тех же и даже еще более сильных выражениях писал об этом спустя четыре дня своему брату Сергею Николаевичу: «Получил я новое изданье Гоголя, его письма. Что это был за дрянь человек — себе представить нельзя».
Не может быть никакого сомнения в том, что Толстой впоследствии не повторил бы такой убийственной характеристики личности Гоголя. В 1909 году в статье, написанной по поводу столетней годовщины со дня рождения Гоголя, Толстой отметил в Гоголе «прекрасное сердце», но вместе с тем «небольшой, несмелый, робкий ум», чем Толстой и объяснял ту «ужасную, отвратительную чепуху», какую он находил во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и во многих письмах, входящих в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями»4.
В сентябрьской книжке «Современника» Толстой прочитал стихотворение Некрасова «Тишина». Это то самое стихотворение, о котором Некрасов 29 августа писал Толстому: «Я написал длинные стихи, исполненные любви (не шутя) к родине»5.
Стихотворение «Тишина» состоит из четырех частей; Толстому понравилась только первая часть («Все рожь кругом, как степь живая...»). «Первое превосходно, — писал он Некрасову
234
11 октября про первую часть стихотворения, — это самородок, и чудесный самородок». Остальные части этого стихотворения Толстой нашел «слабыми» и «сделанными» в сравнении с первой частью.
В том же письме Толстой высказывает свое общее впечатление от сентябрьской книжки «Современника». Ему не нравится «Современное обозрение» (написанное Добролюбовым, Чернышевским и Е. Колбасиным): хотя оно и «интересно», но «слишком оно петербургское, а не русское». Вообще, заключает Толстой, «книжечка так себе, скорее плоха».
С увлечением читает Толстой «Илиаду» в переводе Гнедича и подробно заносит в дневник свои впечатления от этого чтения. Первая, восторженная, запись о чтении «Илиады» сделана 15 августа: «Читал «Илиаду». Вот оно! Чудо!». На следующий день более сдержанно: «Илиада». Хорошо, но не больше». После записей без отзывов о чтении «Илиады» 17 и 18 августа, запись 24 августа: «Читал Гомера. Прелестно». Затем 25 августа: «Читал восхитительную «Илиаду». Гефест и его работы» (говорится о 21 песне «Илиады»). И, наконец, последняя запись от 29 августа: «Дочел невообразимо прелестный конец «Илиады».
В тот же день Толстой читал и Евангелие. Чтение это навело его на размышления о том, почему «Илиада» при всех ее поэтических красотах, при самом тонком проникновении в психику изображаемых лиц, при ее общем жизнерадостном тоне не содержит в себе учения о нравственности, подобного тому, какое содержится в Евангелиях. «Как мог Гомер не знать, что добро — любовь!» — задает себе вопрос Толстой и отвечает на него: «Откровение — нет лучшего объяснения». В то время Толстой довольствовался таким объяснением.
Перечитывал Толстой и «Фауста» Гёте, о котором в записной книжке написал своеобразное суждение: «Гёте холоден. В Фаусте. Ежели бы он был молод и силен, то все бы Фаустовские мысли и порывы развил. А развил бы — не уложил бы в эту форму»6.
III
Уже после первого чтения «Илиады» 15 августа Толстой записывает в дневнике: «Переделывать надо всю кавказскую повесть». Затем через два дня: «Илиада» заставляет меня совсем передумывать «Беглеца». 18 августа: «Кавказской я совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо, — недостаточны. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним. Один выход».
235
Эта запись дает представление о том идейном содержании, которое Толстой хотел вложить в свою повесть. Не довольствуясь, как Гомер, поэтическими красотами и раскрытием психологии («диалектики души») своих героев, Толстой хочет показать проявление добра в сфере близкой к природе казацкой жизни; хочет, как Пушкин в «Цыганах», показать, что и в этой сфере жизни, как и во всякой другой, «те же страсти»; хочет, наконец, провести мысль, что «дикое состояние», то есть близкая к природе, первобытная жизнь имеет преимущества перед жизнью цивилизованной. Но все эти мысли казались ему недостаточными для того, чтобы сделать повесть глубоко содержательной.
Характерно также и то, что Толстой, вопреки заключительным строкам недавно написанного им «Люцерна», не чувствует себя твердо убежденным в том, что действительно «дикое состояние» хорошо.
Но никакой новой идеи для повести о казаках в то время не было найдено.
Новая редакция начала «Беглого казака», которую можно отнести к августу — сентябрю 1857 года7, содержит изумительно яркое описание праздника в казачьей станице. Епишка, фигурирующий здесь под своим собственным именем, представлен молодым коноводом казачьего разгула и разных отчаянных проделок. Очень эффектна картина праздничной гульбы казаков, когда человек пятнадцать молодых и средних лет казаков, под предводительством Епишки, сцепившись за руки, с громкими песнями проходят по станице, занимая всю улицу.
Автор несомненно любуется созданным его воображением молодым Епишкой, когда рисует его следующими чертами: «Все в этом всаднике, от широкой, загнутой назад папахи до шитой шелками и серебром седельной подушки, изобличало охотника и молодца... Чувствовалось, что в одно мгновенье вместо этой щегольской небрежности он мог слиться одним куском с лошадью, перегнуться на сторону и понестись, как ветер, что в одно мгновенье вместо игривого похлопыванья плетью эти широкие руки могли выхватить винтовку, пистолет или шашку и вместо самодовольного веселья в одно мгновенье глаза могли загореться хищным гневом или необузданным восторгом».
В этом варианте следы чтения «Илиады» находим также и в новом заглавии повести — «Казаки», вместо прежнего «Казак» или «Беглый казак», и в широкой картине народной казачьей жизни, где участвует все население станицы, — не только старые и молодые казаки и казачки, но и дети. Но вариант этот дальнейшего развития не получил.
236
Кроме нового начала кавказской повести, Толстой в августе 1857 года начал совершенно новое произведение, озаглавленное «Записки мужа», — начал его «из дна», как записал он в дневнике 21 августа8. Это — попытка осуществления какого-то глубокого психологического замысла. Герой повести, одинокий мужчина 33 лет, хочет рассказать историю всей своей жизни. Он испытывает глубокое недовольство собой, своим «себялюбивым, подлым сердцем», безнадежно смотрит на свою жизнь «без сил, без надежд, без желаний, с одним ужасным знанием — с знанием себя, своей слабости, истасканности и неисцелимой холодности». Все его попытки «вырваться из этого старого, пыльного, затхлого, гниющего заколдованного круга себя» оканчивались неудачей, и все же его не оставляет желание «вырваться на свет и свободу и хоть раз свободно и независимо дыхнуть чистым воздухом и взглянуть на не омраченный, не сжатый, не оклеветанный, а великий, ясный и прелестный мир божий».
Таков был замысел новой повести Толстого, работа над которой продолжалась только один день. Общий мрачный тон написанного начала новой повести соответствовал тому мрачному настроению, которое изредка (только изредка) находило на Толстого в то время. Так, 16 августа в его дневнике записано: «...Опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Матерьяльное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь вечная. Мне всё кажется, что я скоро умру».
И в то же время Толстой чувствовал такое изобилие мыслей и художественных образов, что сейчас же вслед за этим мрачным несбывшимся предчувствием пишет, что ему «лень» «писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами».
Молодость и сила жизни вновь брали свое. Мрачное настроение прошло, а с ним вместе исчез и интерес к продолжению «Записок мужа», которые так и не продвинулись дальше первых трех страниц.
21 августа Толстой получил из «Современника» корректуру «Люцерна». Прочитывая корректуру, Толстой нашел, что очерк его написан «ужасно взбалмошно», то есть порывисто, с преобладанием чувства, но всё-таки проредактировал его и отослал в журнал.
IV
То отчуждение от окружающей его действительности, в котором Толстой находился первое время после своего возвращения
237
в Ясную Поляну, не могло долго продолжаться. Жизнь предъявляла свои требования и их нельзя было не удовлетворять.
Вопрос, который нужно было решить прежде всех остальных, был нерешенный вопрос об отношении к крепостным крестьянам. Крепостные отношения становились для Толстого все более и более мучительными. Гостя в Пирогове, он вместе с сестрой и ее детьми отправился «на бал» к ее крестьянам, но ему было «стыдно, больно» (дневник 1 сентября).
Попрежнему продолжал Толстой предлагать своим крестьянам переходить с барщины на оброк, и сначала лишь немногие крестьяне соглашались на это предложение. Кончилось, однако, тем, что все яснополянские крестьяне перешли с барщины на оброк, а свое собственное хозяйство Толстой начал вести наемным трудом9. Таким образом, к концу 1857 года в Ясной Поляне создалось такое положение, что, как писал Толстой Боткину 21 октября, «будь завтра освобождение», он мог бы не приезжать из Москвы в деревню, «и там ничего не переменится».
Толстой приступил еще к другому начинанию: он решает начать отпускать на волю своих дворовых. Под 13-м августа в дневнике Толстого записано: «Приступил к отпуску с выкупом дворовых». Однако из дальнейших записей дневника видно, что дворовые отпускались Толстым на волю без всякого выкупа. 26 августа он записывает: «Дал пять вольных. Что будет — бог знает, а делать людям лучше, хотя и не пользуясь нисколько благодарностью, все-таки дело, и в душе что-то остается».
В дневнике под 4-м сентября помечено: «Отпустил Сашку, уговорился с ним, с Федором». «Сашка» — это молодой крестьянский парень, садовник, бывший крепостной Толстого; «уговорился» Толстой с ним и с другим крестьянином относительно их работы у него в хозяйстве в качестве вольнонаемных рабочих.
Больше чем через сорок лет после крестьянской реформы, в 1904 году, Толстой рассказывал о своих мероприятиях по отношению к крепостным крестьянам: «Кажется, у меня того греха нет, чтобы я отпускал за деньги; а оброк брал, этот грех у меня на душе есть»10.
Ведение хозяйства на новых началах, то есть с заменой крепостного труда вольнонаемным, представляло на первых порах большие трудности; не хватало рабочих рук, и Толстой приходил
238
иногда в уныние, но в конце концов решил, что «дело пойдет со временем».
Понемногу Толстой втянулся в хозяйственные дела и заботы как по Ясной Поляне, так и по Пирогову, имению сестры, оставшейся одинокой. Его записная книжка этих месяцев наполнена разнообразными хозяйственными записями. Он озабочен тем, чтобы посеять клевер, что в то время в Тульской губернии было редкостью, своевременно вывезти на поля удобрение, очистить лес от валежника, укрепить плотину, заняться рубкой леса и выкорчевать пни, заделать рытвины, привести в порядок оранжерею, засадить края оврага с целью укрепления почвы, «на Грецовке завести примерное хозяйство» и др. Он едет за 125 верст покупать лошадей на ярмарку в город Ефремов. На этой ярмарке он увидел «много интересного» и даже успел на квартире, где остановился, написать четыре листка «Поврежденного», которыми остался очень доволен.
Вторая большая поездка, которую в то время устроил Толстой, была более чем за сто верст — в имение Моховое Новосильского уезда Тульской губернии, принадлежавшее И. Н. Шатилову, к управляющему этим имением ученому лесоводу Францу Майеру. Толстой ездил к нему для того, чтобы посоветоваться по ряду интересовавших его вопросов, в том числе относительно «разделения полей», то есть, повидимому, многопольной системы ведения хозяйства, а также для того, чтобы приобрести у него хвойных саженцев. Это ему удалось. Толстой закупил у Майера 2000 елей, 2000 сосен, 3000 сосен Ваймут, 2000 лиственниц.
По приезде в Ясную Поляну Толстой в течение двух дней с утра до вечера занимался посадкой деревьев. До сих пор в трех местах яснополянской усадьбы сохраняются деревья, посаженные Толстым в 1857 году: между главным домом и флигелем, в урочище «Полторы» по левому берегу реки Кочак (ели) и на краю оврага «Плоцкий верх» (дубы).
Проведя три месяца в Ясной Поляне, Толстой, естественно, должен был отдать долг вежливости — побывать у Арсеньевых в Судакове; и он действительно был у них три раза и каждое посещение отмечал в своем дневнике. Первый раз, 17 августа, он не застал Валерии Владимировны. В дневнике об этом посещении записано: «Грустно и мрачно в этом доме, никаких воспоминаний». При вторичном посещении Толстым Судакова, 4 сентября, Валерия Владимировна была дома. Она еще не теряла надежды на возобновление прежних отношений, что видно из того, что в свой дневник Толстой в этот день записал: «У Арсеньевых все по-старому, хоть с начала начинай. Она добра, но пошлейшая девушка». Через пять дней Толстой вновь побывал у Арсеньевых и по возвращении записал: «Заехал в
239
Судаково, как будто ничего не бывало, зовут каждый день, она ничего. Но это относительно. Не буду ездить».
И Толстой остается верен принятому решению и больше к Арсеньевым не едет.
V
Сентябрь и начало октября 1857 года Толстой работает над третьей редакцией «Поврежденного», озаглавленной «Погибший».
Приступив к работе над своей повестью, 6 сентября Толстой записывает в дневнике: «О своем писаньи решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать».
Большинство последующих записей о работе над третьей редакцией повести или даны без всяких суждений или выражают недовольство написанным. Так, 18 сентября Толстой записывает: «Писал довольно много, но вся вещь плохая. Хочется свалить ее поскорее». 22 сентября: «Писал довольно, но решительно плохо».
5 октября третья редакция «Погибшего» была подписана, но работа над ней продолжалась еще некоторое время. Уже на другой день Толстой записывает, что «обдумал окончательную отделку «Погибшего». Эта работа над «окончательной отделкой» продолжалась еще в течение нескольких ближайших дней.
Отличие данной редакции от предыдущей прежде всего в том, что эпиграф из Пушкина вычеркивается; исключается также картина петербургской зимней ночи, и действие начинается прямо с появления музыканта у Анны Ивановны. Музыкант носит имя уже не Вольфганг, а Альберт. Покровитель Альберта назван в этой редакции Делесовым.
И в этой редакции Толстой вновь много работает над центральной главой повести, изображающей действие игры «гениального юродивого» на слушателей. Появляется следующая новая характеристика его игры:
«Ни один ложный или неумеренный звук не нарушал покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны... Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенеслись в другой светлый мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания о лучших, невозвратимых минутах жизни, то безграничной потребности власти и блеска, то покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно нежные, то порывисто отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом...»
240
Вслед за тем Толстой отводит целую главу описанию особенно сильного действия музыки Альберта на одного из гостей, который лежал ничком на диване и плакал. Это те самые четыре «горячие», по выражению Толстого, листка, которые он написал в Ефремове перед покупкой на ярмарке лошадей. Стареющему гостю музыка Альберта напомнила его давно прошедшее. Он вспомнил себя красивым, веселым, молодым на деревенском скромном свадебном бале; тут же была и она — любимая девушка. Он танцует с ней вальс и не чувствует ни своего, ни ее тела. «Я подхожу к ней, она уж встала, оправила платьице; что там таится под этим платьицем, я ничего не знаю и не хочу знать, — может быть ноги, а может быть ничего нет». Все описание состояния влюбленного юноши, забывающего себя и весь мир в своем чистом чувстве, дано в таком поэтическом изображении и в таких ярких красках, которые редки даже у Толстого. «Стыдиться? Чего? Мы гордимся, мы ничего лучше, никто в мире ничего лучше, прелестнее не мог сделать», — не столько думает, сколько чувствует юноша после первого поцелуя.
Но все это давно, давно прошло, и теперь скрипка Альберта говорила этому стареющему мужчине только одно: «Прошло, прошло это время, никогда не воротится, плачь, плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, это все-таки одно лучшее счастье, которое осталось тебе на этом свете». «И он плакал и наслаждался».
Вся эта глава, несмотря на ее изумительные поэтические достоинства, была безжалостно отброшена автором при дальнейшей работе над повестью. Он, очевидно, увидел, что воспоминания этого гостя слишком подробны, занимают слишком много места и замедляют ход действия11.
В следующей главе, содержащей беседу Делесова с Альбертом об искусстве, вводится новый яркий штрих для характеристики музыканта. Здесь он говорит: «Много нужно для искусства; но главное — огонь!» «И действительно, — прибавляет автор, — страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре».
Эта черта — пожирающий его внутренний огонь — как самая характерная для Альберта, остается во всех дальнейших редакциях повести, вплоть до окончательного текста. И именно этой чертой герой Толстого особенно близок самому автору. «Поэзия, — писал Толстой в 1870 году, — есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает... Настоящий поэт сам невольно и с страданьем горит и жжет других»12.
241
Есть в отношении Альберта к искусству еще другая черта, также сближающая его с автором повести. Относительно итальянской певицы Анджелики Бозио, гастролировавшей в то время в Петербурге, Альберт высказывает такое суждение: «Бозио хороша, очень хороша, изящна необыкновенно, но тут не трогает» (он указал на ввалившуюся грудь). «Чувства красоты мало, в искусстве нужна страсть. А у нее нет, она радует, но не мучает».
Через пятьдесят лет после написания «Альберта» Толстой в одном из писем, по поводу выступавшей в Ясной Поляне польской пианистки Ванды Ландовской, писал почти то же самое и даже почти в тех же выражениях, в каких Альберт отозвался о пении Бозио: «У нас сейчас Ванда Ландовская, играет мило, приятно, но не переворачивает душу, что, как ни тяжело это бывает, люблю испытывать»13.
Дальнейшее повествование гораздо пространнее, чем в первой редакции. Делесов приглашает к себе на вечер послушать игру Альберта своих знакомых. В числе других гостей приходят известный знаток музыки Аленин и старый приятель Делесова — «чудак, умная, пылкая голова, энтузиаст и большой спорщик» художник Бирюзовский.
Между художником и Алениным происходит горячий спор относительно Альберта. Услышав от Аленина безапелляционное суждение, что такие люди, как Альберт, «язва для серьезного искусства», художник с жаром начинает говорить, — что Альберт не пропойца, а «падший гений», «падший не за себя, а за нас, за самое дорогое для человечества дело — за поэзию». «Огонь счастия поэзии» «жжет других», и потому «трудно тому, кто носит его в себе, не сгореть самому».
Как пушкинская «чернь», Аленин задает художнику вопрос: какую пользу этот музыкант принес обществу? Художник отвечает Аленину, что его понятия о пользе очень близоруки. Пользу музыкант этот принес тем, что «не пройдет даром в жизни, как мы все, а сгорит сам и зажжет других».
«Искусство — высочайшее проявление могущества в человеке», — говорит Аленину художник, возвеличивая Альберта. Оно «поднимает избранника на такую непривычную человеку высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. Искусство есть следствие неестественного напряжения, порывов, борьбы».
И нарушая все общепринятые светские приличия (как их нарушал в подобных случаях и сам Толстой), художник обращается к Аленину со словами: «Вы не сопьетесь небось, вы книжку об искусстве напишете и камергером будете».
242
После этого художник Бирюзовский внезапно исчезает из повести Толстого. Он переименовывается в самое близкое Толстому из его героев лицо — в хорошо знакомого его читателям Нехлюдова.
Аленин, глубоко оскорбленный словами Нехлюдова, холодно прощается с хозяином и уходит. Расходятся и другие гости, а Альберт идет ночевать к Анне Ивановне. Та не пускает его, так как у нее важный гость, который его не любит. Альберт отправляется ночевать в конюшню к знакомому дворнику. После различных фантастических образов, представляющихся его воображению, после разнообразных мелодий «одна прелестнее другой», которые «пели» в его голове, он слышит, наконец, «мужской стройный и медленный надгробный хор».
Но смерть не пугает Альберта. Нет и не может быть счастья на земле, думает он. «Не то что-то на этом свете, совсем не то, что надо». «Идет, идет что-то, уж близко... Иди! Вот она!» Но «это была не смерть, а сладкий, спокойный сон, который дал ему на время лучшее благо мира — полное забвенье».
Так заканчивалась повесть «Погибший» в третьей редакции, написанной в Ясной Поляне в сентябре — октябре 1857 года.
VI
17 октября Толстой вместе с сестрой выехал из Ясной Поляны в Москву. Он остановился в гостинице, а затем поселился в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой улице (один из домов, ныне значащихся под номерами 12 и 16, или ранее расположенный на этом месте). Вскоре в Москву приехал и брат Толстого Николай Николаевич, окончательно вышедший в отставку с военной службы14.
В Москве Толстой подвел итог своим яснополянским впечатлениям.
Возвратившись из-за границы в Ясную Поляну, Толстой, как сказано выше, писал своей тетке в Петербург, что находит спасение от всех тревог и волнений жизни в том, чтобы укрыться в своем личном моральном и эстетическом мире. Но это ему не удалось. Теперь он понял, что это и не могло и не должно было удаться. Об этом в двадцатых числах октября пишет он той же тетушке замечательное письмо. Он пишет:
«Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем. Да что счастие — глупое слово; не счастье, а хорошо; а бесчестная тревога,
243
основанная на любви к себе, это несчастье. Вот вам в самой сжатой форме перемена во взгляде на жизнь, происшедшая во мне в последнее время. Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя... Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного»15.
О том же писал Толстой 21 октября и В. П. Боткину, причем в этом письме он определенно связывал перемену своих взглядов с тяжелыми впечатлениями крепостной деревни. Здесь он писал:
«Я не мог, как прежде бывало, вспорхнуть над жизнью и с ужасом увидал, что вся эта тяжелая, нелепая и нечестная действительность — не случайность, не досадное приключение именно со мной одним, а необходимый закон жизни. Грустно мне было расстаться с мечтой о спокойном и честном счастии, без путаницы, труда, ошибок, начинаний, раскаяний, недовольства собой и другими; но я, слава богу, искренно убедился в том, что спокойствие и чистота, которую мы ищем в жизни, не про нас, что одно законное счастие есть честный труд и преодоленное препятствие».
Мысли, подобные высказанным в этих письмах к А. А. Толстой и к Боткину, появлялись у Толстого и раньше. Так, еще за год до этого в письме к В. В. Арсеньевой от 9 ноября 1856 г. он писал: «Wage nur zu irren und zu träumen» [«Дерзай только ошибаться и мечтать»]...16. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда дойдешь до истины».
Теперь в письмах к А. А. Толстой и к Боткину эти же самые мысли были выражены еще более сильно и уверенно.
VII
Приехав в Москву, Толстой побывал у Аксаковых, у Фета, у Берсов; но вследствие ли недовольства собой или вследствие
244
резкости перехода от тихой деревенской к рассеянной московской жизни, Толстой в этот свой приезд в Москву большей частью находился в мрачном настроении, и потому в мрачном свете видел и все окружающее. У Аксаковых ему была неприятна «отвратительная литературная подкладка»; в Фете, несмотря на его добродушие, не понравилась Толстому «перенятая литераторская вычурность» и сам Фет показался ему «самолюбив и беден»; друг детства Любочка (Любовь Александровна) Берс оказалась «ужасно плешива и слаба».
21 октября Толстой выехал из Москвы в Петербург, где пробыл 9 дней.
Он побывал у Некрасова, которого застал в мрачном настроении; у Салтыкова-Щедрина, с которым беседовал о современном направлении литературы; у Анненкова и затем у Дружинина, которым читал своего «Погибшего». Прослушав повесть, Анненков высказал мнение, что это «будет хорошая вещь», если автор полнее раскроет внутреннюю жизнь своего героя. «Если он [музыкант], — говорил Анненков, — не от мира сего, то надо, чтоб имел свой полный, разумный мир, отвечающий за самого себя»17. Дружинин тоже сделал какие-то замечания, после чего Толстой, к большому сожалению Некрасова, не передал ему свою повесть для напечатания в «Современнике», а увез ее с собой обратно в Москву для переработки.
Очень отрадны были ему встречи с А. А. Толстой, которую он в записях дневника этих дней дважды называет «прелестью».
Одной из целей приезда Толстого в Петербург было попасть на прием к министру государственных имуществ, чтобы представить ему на рассмотрение свой проект о реорганизации лесного хозяйства в России.
Вероятно, после поездки к Майеру и опыта посадки деревьев в Ясной Поляне, Толстой обратил внимание на условия ведения лесного хозяйства министерством государственных имуществ. Он пришел к выводу, что лесное хозяйство во многих отношениях ведется неправильно, и составил свой проект изменения всей системы эксплуатации государственных лесов в России. В этом проекте Толстой предлагал передать дело лесонасаждения частным предпринимателям, обязав их, за право владения землей в течение известного срока, очищать вырубленные участки леса от пней и дурных пород и засаживать их определенным количеством известных пород саженцев. Толстой подробно перечисляет те условия, на которых, по его мнению, можно было бы предоставить частным предпринимателям право лесонасаждения в казенных лесных дачах. В виде опыта он
245
предлагал ввести в действие его проект в Тульской губернии, начиная с 1858 года18.
Проект Толстого был обсужден специальным комитетом по лесной части лишь 17 января 1858 г. Комитет нашел, что проект невыгоден для казны. Выписка из журнала заседания комитета по этому вопросу была послана Толстому.
Получив 16 апреля эту выписку19, Толстой в тот же день написал «злое», как он называет его в дневнике, письмо товарищу министра государственных имуществ А. А. Зеленому, настаивая на целесообразности своего проекта, обещающего, по его мнению, «громадные выгоды для целого края» и «выгоды финансовые для казны». Толстой предлагал теперь же приступить на практике к осуществлению проекта, объявив торги на сдачу больших лесных пространств в пользование частным предпринимателям.
Ответ Толстого Зеленому, написанный очень горячо и местами язвительно, с полной убежденностью в целесообразности своего предложения, не был Толстым закончен и отправлен по адресу. Нет сомнения, что, в случае одобрения его проекта, Толстой со всем свойственным ему жаром увлечения отдался бы новому делу. Боткину он писал 1 ноября: «Я затеял большое предприятие с казной касательно лесов, которое очень занимает меня». О том же говорил Толстой Анненкову и А. А. Толстой. Но из сообщения лесного комитета с отказом принять его проект Толстой увидел всю безнадежность своего предприятия и совершенно оставил задуманное им начинание.
VIII
В бытность Толстого в Петербурге от него не ускользнуло некоторое охлаждение к нему литературных кругов, недовольных его последними произведениями. По возвращении из Петербурга в Москву, 31 октября он записал в своем дневнике: «Петербург сначала огорчил, а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрыпит. И я внутренно сильно огорчился; но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там что хочет говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь».
Наблюдения Толстого не были лишены основания. Панаев, бывший всегда точным отголоском господствующих литературных
246
мнений, писал Боткину 11 февраля 1858 г.: «Толстому надобно явиться теперь с чем-нибудь замечательным, ибо вера в него крайне поколебалась последними его произведениями («Люцерн» и повестями в «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения»)»20. Как видим, не только «Люцерн» с его резкой критикой европейской буржуазной цивилизации, но и «Утро помещика» с его замечательными крестьянскими типами и передовой идеей о невозможности улучшения жизни крестьян при существовании крепостного права не были оценены по достоинству не только большинством читателей, но даже и одним из редакторов «Современника» (оценка другого редактора «Современника», Чернышевского, как сказано выше, была иная).
Кроме недовольства его последними произведениями, была еще другая и очень существенная причина охлаждения к Толстому литературных кругов, близких к «Современнику», — резкое изменение направления и содержания передовой литературы во второй половине 50-х годов. Недовольство последними произведениями Толстого было связано, прежде всего, с этим изменением направления, поскольку новые произведения Толстого не удовлетворяли новому направлению.
Интерес к социально-общественным, актуальным вопросам современности стал в ту пору преобладающим в литературе. Вызван он был переменами в самой жизни, обстановкой общественного возбуждения, предшествовавшей революционной ситуации 1859—1861 годов.
На литературе новые требования времени отразились двояким образом. С одной стороны, в творчестве выдающихся писателей-реалистов (Островского, Некрасова и др.) усилились критические и социальные мотивы; с другой стороны, «обличительство» стало модой и породило бесчисленное множество произведений, ничтожных по содержанию и особенно по художественным достоинствам.
Толстой еще в предыдущем году замечал усилившееся тяготение массы читателей к обличительному направлению в литературе, о чем он писал Некрасову 2 июля 1856 года. Теперь это тяготение еще больше определилось.
Панаев, который сам был не чужд некоторых симпатий к чистому искусству, но в то же время внимательно следил за настроениями и требованиями читателей, 28 июня 1857 года с грустью писал за границу своему другу Боткину: «Вообще я должен тебе сказать, что по всем моим наблюдениям, которые подтверждаются миллионами фактов, русская публика требует теперь чтения более серьезного, а в беллетристике — рассказов
247
вроде Щедрина, Мельникова21 и Селиванова22. Щедрин весь разошелся. Будет печататься второе издание... Да, милый Василий Петрович, пришли такие времена, что самое благоуханное и поэтическое произведение, не соприкасающееся с современною действительностью, с живыми, насущными интересами минуты, пройдет теперь незамеченным... Это грустно, а факт»23.
О том же писал и Некрасов Тургеневу 30 июня 1857 года: «Вся литература и публика за нею... круто повернула в сторону затрагивания общественных вопросов и т. п. На Панаеве это можно видеть очень ясно — в каждом его суждении так и видишь, под каким ветром эта голова стояла целый год»24
Толстой, вернувшись в Москву, так писал Боткину о своих впечатлениях от встреч с петербургскими и отчасти московскими литераторами (письмо от 1 ноября):
«Вообще надо вам сказать, новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных. Некрасов..., Панаев... сами уж и не думают писать, сыплят золото Мельникову и Салтыкову, и все тщетно. Анненков проводит вечера у Салтыкова и т. д. Островский говорит, что его поймут через 700 лет, Писемский тоже, Гончаров в уголке потихоньку приглашает избранных послушать его роман25, а Майков ужасно презирает толпу... Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гете перечитывать не будут больше».
О своем отношении к «новому направлению литературы» Толстой далее говорит:
«Ведь все это смешно, а ошалеешь, как вдруг весь свет вас уверяет, что небо черное, когда вы его видите голубым, и невольно подумаешь, хорошо ли сам видишь». Но Толстой тут же прибавляет, что он «не изменил своего взгляда».
Вместе с тем Толстой оговаривается, что, по его мнению, «наша литература, то-есть поэзия [он подчеркивает слово «наша»], есть если не противузаконное, то ненормальное явление, и потому построить на нем всю жизнь противузаконно».
248
Под этими словами Толстой, очевидно, разумел то, что художественные произведения, не связанные непосредственно с текущей жизнью («наша литература»), доступны и интересны только незначительному меньшинству. В этих словах Толстого — зародыш того отрицательного отношения к искусству «образованных классов» (в противоположность народному творчеству), которое через пять лет Толстой выскажет в своих педагогических статьях. Толстой очень доволен тем, что не послушал Тургенева, который доказывал ему, что «литератор должен быть только литератор». «Это было не в моей натуре».
Теперь господство литературы текущего дня представляется Толстому настолько всеобщим, что ему приходят мысли о том, что отныне его литературная деятельность будет испытывать большие затруднения. Вспоминая мнение Вальтера Скотта, что «нельзя из литературы сделать костыль», Толстой задавал вопрос: «Каково бы было мое положение, когда бы, как теперь, подшибли этот костыль»26.
Боткин ответил Толстому пространным письмом от 22 ноября (4 декабря) 1857 года. В своем ответе Боткин признавал законность и пользу обличительного направления литературы. «Вас приводит в недоумение, — писал он Толстому, — новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика; но разве Вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшей ее неспособностью, безурядицей и всяческим воровством?... Рассказы Щедрина попали как раз в настоящую минуту. Оскорбленное национальное чувство, как всякое оскорбление, требовало возмездия — и бросилось с злым наслаждением читать рассказы о всяких общественных мошенничествах, то-есть плевать самому себе в рожу. Всякому они были близки и знакомы, явились читатели, которые прежде книги в руки не брали. Ведь душевные драмы, поэзия, художественный элемент в литературе — всегда были доступны только самому малейшему меньшинству; большинство читателей никогда в этом ничего не понимало. Теперь, когда явилась литература, понятная и близкая каждому из этого большинства, — ясно, что
249
оно должно было броситься на нее. Все это застало нашу литературу врасплох: подобного она не ожидала...».
Боткин вполне признает пользу той «журнальной беллетристики», которая пошла по «новому пути» обличения всякого рода злоупотреблений, воровства, «общественных мошенничеств», безурядицы и т. п., но совершенно не касается основ существующего общественно-политического строя. Для Толстого такая апология мелкообличительной литературы либерального направления не могла быть убедительной.
«Но неужели, — пишет далее Боткин Толстому, — из этого следует усумниться в поэзии — и разве возможно отбросить ее, когда уже душа хоть раз проникла в ее мир?... Мне досадно на Вас, что Вы приходите в недоумение от этого пошлого крика грубых невежд, которые отрицают возможность поэзии и творчества потому, что сами не чувствуют их в себе»27.
Как видим, Боткин высказывает некоторую неуверенность в твердости следования Толстого принципам «чистого искусства».
Еще более обеспокоился письмом Толстого Тургенев (в письме Толстого была приписка к Тургеневу). «Я не хочу верить, — писал он Толстому в ответном письме из Рима от 25 ноября (7 декабря), — чтобы нынешнее, юридическое направление литературы Вас сбило с толку; я на днях прочел Щедринского «Жениха»28 — и представить не могу, чтобы можно было придавать какое-либо значение таким грубым штукам; оно может быть полезно, но позволить этому хотя на волос возыметь влияния на собственную деятельность — непростительно; идите своей дорогой — и пишите...»29.
Тургенев явно обеспокоен тем, как бы вечно ищущий и мятущийся Толстой, у которого, по образному выражению Тургенева, всегда «гончие под черепом гоняли до изнеможения»30, не был бы захвачен новым («юридическим», как его называл Тургенев) направлением литературы, которому Тургенев не мог сочувствовать.
IX
Опасения Тургенева были, разумеется, совершенно напрасны. Толстой не только не поддался господствующему течению
250
либерально-обличительной беллетристики, но решил «дерзать» — вступить с ним в борьбу. Средством борьбы Толстому представилось издание нового, совершенно чуждого общественно-политическим вопросам журнала.
Слух о намерении Толстого издавать подобный журнал уже в декабре 1857 года достиг до Петербурга. 21 декабря Е. Я. Колбасин писал Тургеневу: «От него же [Некрасова] я услышал и другую курьезную новость: Толстой и Фет хотят издавать в Москве новый журнал — чисто эстетический, искусство для искусства! Не знаю, до какой степени это справедливо»31. С полным сочувствием к задуманному Толстым журналу отнесся Панаев. «Фет с Толстым предпринимают журнал, — писал он М. Н. Лонгинову 2 мая 1858 года. — Я уверен, что это будет превосходный журнал»32.
Подробный проект задуманного им журнала изложил Толстой в письме к Боткину от 4 января 1858 года. Упомянув в начале письма о том, что «изящной литературе положительно нет места теперь для публики», Толстой тут же оговаривается, что это не мешает ему «любить ее теперь больше, чем когда-нибудь». Далее Толстой предлагает Боткину «в теперешнее время, когда политический грязный поток хочет решительно собрать в себя все и ежели не уничтожить, то загадить искусство», организовать «чисто художественный журнал». Этот журнал должен объединить тех людей, которые «верят в самостоятельность и вечность искусства». Задача этих людей в том, чтобы «и делом (то есть самим искусством в слове) и словом (критикой)» спасать «вечное, независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния».
Цель журнала одна: «плакать и смеяться». Назначение журнала — «сделаться учителем публики» в деле художественного вкуса. «Все, что является и явится чисто художественного, должно быть притянуто в этот журнал»; все новые художественные произведения, появляющиеся как в России, так и за границей, должны получить в журнале свою оценку. Журнал не хочет знать никаких литературных направлений; не хочет он знать также и «потребностей публики» (то есть требований современности). В числе будущих сотрудников предполагаемого журнала Толстой называет Тургенева, Фета, себя самого и, как он надеется, других авторов, которые будут разделять убеждения редакции; редактором, по его мнению, должен быть Боткин. Средства для издания журнала дадут те же лица. Толстой просит Боткина дать определенный ответ на его предложение.
Практичный Боткин ясно видел, что чисто художественный журнал, который проектировал Толстой, в то время не мог рассчитывать
251
на успех. Ответ его Толстому неизвестен, но Фету, который сочувствовал проекту Толстого, Боткин писал 6 февраля 1858 года: «Да неужели вы с Толстым не шутя затеваете журнал? Я не советую. Во-первых, в настоящее время русской публике не до изящной литературы, а во-вторых, журнал есть великая обуза, и ни он, ни ты не в состоянии тащить ее»33.
Тургенев, которому Боткин показал письмо Толстого, сначала отнесся к проекту Толстого вполне сочувственно. В письме из Рима от 17 (29) января 1858 года он писал Толстому: «Боткин сообщил мне о Вашем намерении затеять с Фетом журнал, посвященный исключительно художеству... Подождите затевать это дело до нашего возвращения; потолковавши хорошенько, может быть, мы и смастерим что-нибудь — ибо я понимаю, какие побуждения лежат в основании такого прожекта»34. Но уже в следующем письме от 27 марта (8 апреля) Тургенев отнесся к «прожекту» Толстого отрицательно. Здесь он писал: «Боткин показал мне Ваше письмо, где Вы с таким жаром говорите о намерении основать чисто художественный журнал в Москве. — Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; — да ведь и на улицах грязь и пыль, а без городов нельзя же»35.
Но несмотря на несочувствие друзей, Толстой нисколько не охладел к своему плану.
Будучи в марте 1858 года в Петербурге, он рассказал о своем проекте Дружинину. Дружинин обещал поговорить с другими писателями и потом письменно изложить свои соображения по этому вопросу, что он и исполнил в письме к Толстому от 15 апреля. В этом письме Дружинин писал, что идею «чисто литературного журнала с критикой, энергически противодействующей всем теперешним неистовствам и безобразиям», встретили «с высшим одобрением» такие писатели, как Гончаров, Писемский, Анненков, Майков, поэт Михайлов, Авдеев и многие другие. «Если к этому сборищу, — писал далее Дружинин, — присоединитесь вы, Островский, Тургенев и пожалуй наш юродивый Григорович..., то можно решительно сказать, что вся изящная словесность наконец соединится в одном журнале». Но Дружинин больше склонялся к тому, чтобы не основывать нового журнала, а взять в аренду журнал уже существующий — его «Библиотеку для чтения»36.
Толстой ответил Дружинину 1 мая 1858 года, что он против того, чтобы брать в аренду «Библиотеку для чтения». По его
252
мнению, «журнал с новым исключительным направлением должен быть новый, без прошедшего, без составившегося о нем мнения». Дружинин на это ответил 15 мая, что такой новый журнал, какой проектирует Толстой, мог бы иметь успех только при двух условиях: при очень большом основном капитале, который позволил бы терпеливо ожидать успеха новому журналу, и «при неутомимой ярости участников по части работы», «а вы знаете, — откровенно сознавался Дружинин, — что наш круг не трудолюбив»37.
На этом переписка Толстого с его литературными друзьями об издании чисто художественного журнала прекратилась. Вопрос больше не поднимался.
X
Причина того, почему Толстой, несмотря на отказ Боткина и Тургенева, упорно думал об издании чисто художественного журнала, лежит в его общем отношении к обличительной литературе того времени.
Основная причина отрицательного отношения Толстого к преобладанию обличительного направления в литературе заключалась в том, что он видел назначение литературы во всестороннем отражении внутренней жизни человека и жизни народа и опасался, что господство обличительного направления наложит на литературу печать односторонности.
Другая причина состояла в том, что большинство произведений либерально-обличительной литературы того времени было очень слабо в художественном отношении.
Еще Белинский в своем знаменитом письме к Гоголю писал: «...у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта». Множество примеров из истории русской литературы 1850—1860-х годов подтверждают справедливость этого наблюдения Белинского.
В том самом 1857 году, к которому относится замысел Толстого об издании чисто литературного журнала, руководители «Современника», как это видно по их переписке, ясно сознавали слабость в художественном отношении тех обличительных произведений, которые печатались как в самом «Современнике», так и в других журналах и имели большой успех среди читателей.
Панаев в письме от 28 июня 1857 года уведомлял Боткина, что «бог посылал» ему «хотя посредственные, но исполненные
253
современного интереса рассказы». «Входит в моду» Селиванов, рассказы которого «приводят в восторг публику»38. Между тем всего за три месяца до этого, 31 марта того же года, Панаев писал тому же Боткину, что Селиванов — «безграмотный, бесталанный и аляповатый автор»39. Подобного же мнения о Селиванове держался и Чернышевский, который по поводу «Провинциальных воспоминаний» этого автора, напечатанных в № 3 «Современника» за 1857 год, писал Некрасову: «Плохо, разумеется, со стороны таланта и ума, но эффектно и выгодно по своей резкости»40.
Еще пример. В письме к А. С. Зеленому от апреля 1857 года Чернышевский называет «слабой» только что напечатанную комедию Н. М. Львова «Свет не без добрых людей»41. А между тем вот что писал об этой комедии Тургеневу Е. Я. Колбасин в письме от ноября 1857 года: «С большим успехом дают на сцене комедию Львова «Свет не без добрых людей». Вещь необыкновенно честная, задирающая, и публика, к чести ее, аплодирует неистово»42.
Критическая литература 1860-х годов также содержит обширный материал по интересующему нас вопросу.
Писарев в статье «Цветы невинного юмора», написанной в 1864 году, утверждал, что «беллетристика и искусство вообще» теперь оттеснены «на задний план». «В последнее пятилетие, — писал Писарев, — не было решительно ни одного чисто литературного успеха; чтобы не упасть, беллетристика принуждена была прислониться к текущим интересам дня, часа и минуты; все беллетристические произведения, обращавшие на себя внимание общества, возбуждали говор единственно потому, что касались каких-нибудь интересных вопросов действительной жизни. Вот вам пример: «Подводный камень»43, роман, стоящий по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имеет громкий успех, а «Детство, отрочество и юность» графа
254
Л. Толстого, — вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа, читается холодно и проходит почти незамеченной»44.
Чуткий к поэзии Некрасов не радовался, как радовался Писарев, оттеснению поэзии на задний план. В воспоминаниях сотрудника «Современника» П. Ковалевского записаны следующие слова Некрасова: «Нынче разве ленивый пишет без направления, а вот чтобы с дарованием — так не слыхать что-то»45. Правильность передачи Ковалевским этих слов редактора «Современника» подтверждается собственными стихами Некрасова. В «Современнике» им было помещено следующее сатирическое четверостишие:
«Эти не блещут особенным гением,
Но ведь не бог обжигает горшки:
Скорбность главы возместив направлением,
Пишут изрядно стишки»46.
В письме к Тургеневу от 27 июля 1857 года Некрасов высказал свое глубокое недовольство беллетристикой всех тогдашних журналов, не исключая и «Современника». «В литературе, — писал он — движение самое слабое. Все новооткрытые таланты, о которых доходили до тебя слухи, — сущий пуф... Противно раскрывать журналы — все доносы на квартальных да на исправников, — однообразно и бездарно!... Я до сей поры еще не решил, что делать с «Современником». Не могу поверить, чтобы, набивая журнал круглый год повестями о взятках, можно было не огадить его для публики, а других повестей нет»47.
В общем содержание обличительных повестей и рассказов того времени было довольно однообразно. Это были обличения помещичьего деспотизма в прошлом и настоящем, мошеннических проделок на дворянских выборах, взяточничества судейских чиновников и полицейских властей, пустоты армейского офицерства48.
Н. А. Добролюбов в своих критических статьях неоднократно указывал и на слабость в художественном отношении и
255
на мелочность содержания большинства произведений обличительной литературы того времени. В одной из рецензий 1859 года Добролюбов писал: «Какие художественные достоинства представляет, например, повесть г. Колошина? Но, боже мой! кому же придет в голову искать художественности в повести, которая называется «Светские язвы»? Вы уже по заглавию можете догадаться, что она имеет характер обличительный, и ваша догадка будет справедлива»49.
В том же 1859 году Добролюбов коснулся обличительной литературы в нашумевшей в свое время статье «Литературные мелочи прошлого года». В этой статье «русские обличители» характеризуются такими словами: «Кричат, кричат против каких-то злоупотреблений, каких-то дурных порядков... подумаешь, у них на уме и бог знает какие обширные соображения. И вдруг, смотришь, у них самые кроткие и милые требования: мало этого, — оказывается, что они и кричат-то вовсе не из-за того, что составляет действительный, существенный недостаток, а из-за каких-нибудь частностей и мелочей... Напишет кто-нибудь, что дурно делали наши мелкие чиновники, когда взятки брали: мгновенно поднимается оглушительный вопль, что у нас общественное сознание пробудилось. Явится статейка, доказывающая, что не следует заставлять людей совершенно даром на нас работать, а нужно только стараться нанять их как можно дешевле: все в восхищении и кричат, что общечеловеческие начала у нас превосходно выработались... Смотреть на подобных господ серьезно — значит оскорблять собственный здравый смысл... Один из видов гласности составляла обличительная литература. В этой отрасли, кроме безыменности, обращает на себя внимание еще мелкота страшная... И в прошлом году, как в предыдущих, она громила преимущественно уездные власти, о которых, если правду сказать, после Гоголя и говорить-то бы не стоило... Недаром поборники чистого искусства обвиняли наших обличителей в малом знании своего предмета! Или, может быть, они и знали, да не хотели или не могли представить дело как следует? Так и за это собственно хвалить их не следует, и тут заслуга не велика!»...50.
Обращаясь к тому направлению литературы, которое он
256
назвал «серьезным», Добролюбов и здесь немного находил произведений, отличающихся художественными достоинствами. «До сих пор серьезное направление беллетристики не может похвалиться обилием и силою талантов, вызванных им к деятельности», — писал он в том же 1859 году51.
Для Толстого, который в своем «Люцерне», по справедливому замечанию историка «Современника» В. Евгеньева-Максимова, «шел уже к осуждению самих основ современного ему социального порядка»52, обличительная литература того времени по ограниченности содержания и по слабости в художественном отношении не представляла никакого интереса.
Толстой был очень строг к художественной литературе и не прощал авторам даже самых мелких погрешностей против требований художественности. Так, в письме к Боткину от 9 (21) июля 1857 года он называет «прелестным» стихотворение Фета «Еще майская ночь», но тут же упоминает о двух «неловких» стихах в этом стихотворении, прибавляя, что это ему «досадно».
В вариантах трактата «Что такое искусство?» находим такое воспоминание Толстого: «У меня есть близкий друг — только читатель, и потому тем более тонкий и чуткий критик. Когда у нас после 60 года поднялась обличительная литература и за нее взялись самые бездарные писатели, мой друг говорил, что он любит читать обличителей, потому что они очень хорошо обличают самих себя: читая их, я узнаю не то, что они описывают, а их самих, совершенно новые и очень забавные типы»53.
Слабость тогдашней либерально-обличительной беллетристики в художественном отношении наводит Толстого на мысль, что вообще произведения общественно-политического содержания не могут быть художественными. 21 марта 1858 года он записывает в дневнике: «Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне»54.
Когда Толстой вписывал в дневник эту мысль, он забыл свой отзыв о комедии Островского «Доходное место», которую оценил так высоко именно вследствие значительности общественного содержания этой комедии. Он не предвидел также и того, что сам впоследствии явится автором таких художественных произведений, как «Анна Каренина» и «Воскресение», где глубокое и разностороннее общественно-политическое содержание облечено в самую совершенную художественную форму.
257
XI
Правительство Александра II все яснее и яснее сознавало необходимость отмены крепостного права.
3 января 1857 года был учрежден «Особый комитет» «для рассмотрения постановлений и предположений о крепостном состоянии», составленный из высших правительственных лиц. Этот комитет состоял наполовину из заядлых крепостников, противников отмены крепостного права. Только 18 августа 1857 года комитет представил выработанный им проект крестьянской реформы. По этому проекту крестьянам передавалась в собственность за выкуп только усадебная земля, а полевые, луговые и другие угодья предоставлялись им помещиками лишь во временное пользование за известные повинности в пользу помещика. Осуществление реформы было рассчитано на 10—12 лет.
Между тем в народе все усиливалось ожидание манифеста об отмене крепостного права. Народ жадно ловил всякий слух, дававший ему какую-нибудь надежду на освобождение, и перетолковывал его в желательном для себя смысле. В последних числах декабря 1856 года был опубликован сенатский указ о новых правилах перехода помещичьих крестьян в государственные. В народе разнесся слух, что уже подписан указ об освобождении крестьян. Толпы народа бросились в сенатскую лавку покупать указ, и в течение трех дней по утрам массы народа толпились на Сенатской площади. Многие отправляли указ своим родным и землякам в ближайшие и дальние деревни55. Слух об отмене крепостного права дошел и до Толстого, и 6 января 1857 года он записывает в дневнике: «Известие о освобождении крестьян». Но уже на другой день он удостоверился, что «толки об указе вздор», но толки эти породили в народе «волнение», и Толстой, еще в предшествующем году видевший возбужденное настроение яснополянских крестьян, 8 января 1857 года записывает в дневнике: «Помянут мое слово, что через два года крестьяне поднимутся, ежели умно не освободят их до этого времени».
В министерство внутренних дел из многих губерний стали поступать просьбы помещиков, а также губернаторов о том, чтобы правительство определенно высказалось по крестьянскому вопросу, так как в народе повсюду наблюдается брожение и беспокойство.
В октябре 1857 года в Петербург приехал виленский генерал-губернатор Назимов, который привез с собой ходатайство дворянства подведомственных ему губерний — Виленской, Ковенской
258
и Гродненской — о замене в этих губерниях крепостных отношений добровольными соглашениями помещиков с крестьянами, как это существовало в прибалтийских губерниях. Правительство Александра II ухватилось за это ходатайство литовских дворян, как за повод высказать свое отношение к крестьянскому вопросу и вместе с тем приписать инициативу в возбуждении этого вопроса дворянству. 20 ноября 1857 года на имя виленского генерал-губернатора был дан рескрипт, в котором было сказано, что царь, одобряя намерения дворянства трех губерний относительно помещичьих крестьян, разрешает дворянству этих губерний образовать губернские комитеты для составления проектов, «на основании коих предположения комитетов могут быть приведены в действительное исполнение».
24 ноября рескрипт на имя Назимова вместе с сообщением министра внутренних дел был разослан в копиях губернаторам и губернским предводителям дворянства при циркуляре министра внутренних дел, в котором было сказано, что копии посылаются «для сведения и соображения» на случай, если бы местное дворянство «изъявило подобное дворянам Ковенской, Виленской и Гродненской губерний желание».
В конце ноября 1857 года петербургское дворянство, собравшись на выборы, по предложению наиболее передовой части дворянства, при полном молчании крепостников и реакционеров, составило адрес, аналогичный адресу литовских дворян. Ответом на этот адрес явился рескрипт на имя петербургского генерал-губернатора от 5 декабря, которым разрешалось образовать в Петербурге из дворян «губернский комитет для составления проекта положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Копия этого рескрипта вместе с копией сопровождавшего его сообщения министра внутренних дел также была разослана губернаторам и губернским предводителям дворянства, причем в сопроводительном циркуляре министр внутренних дел Ланской сообщал, что «правительство не скрывает своих видов и даже желает, чтобы были известны начала, коими оно руководствуется в тех случаях, когда дворянство само вызывается содействовать устройству быта поселян».
Вскоре и нижегородское дворянство обратилось с адресом, в котором просило о разрешении открыть в Нижнем-Новгороде губернский комитет по крестьянскому делу. Рескриптом от 17 декабря на имя нижегородского губернатора, которым был в то время декабрист А. Н. Муравьев, такое разрешение было дано.
Все эти рескрипты были опубликованы в печати и были поняты как непременное решение правительства приступить к отмене крепостного права.
Среди помещиков началось волнение и беспокойство. Сенатор К. Н. Лебедев, в то время директор канцелярии министра
259
государственных имуществ, писал в своем дневнике в апреле 1858 года: «Крестьянский вопрос поднял все на ноги, все заглушил, затмил и поглотил собою. Многие с ума сошли, многие умерли. Нет ни палат, ни дома, ни хижины, где бы днем и ночью не думал, не беспокоился, не робел большой и малый владелец. Никто не знает, чем это разыграется; всякий готов, как при наполнении и пожаре, понести убытки»56.
В Москве, по наблюдениям Толстого, 90% дворян-помещиков были противниками освобождения. «Дворянство, — писал Толстой Боткину 4 января 1858 года, — почуяло, что у него не было других прерогатив, как крепостное право, и озлобленно ухватилось за него». То же писал Тургеневу Анненков 8 января 1858 года: «Множество голов исполнено тупейшего, животного ужаса перед новой мерой, что доказывается отчасти самой Москвой, колеблющейся стать за нее откровенно»57.
Что касается либерально настроенной части дворянства и интеллигенции, то она отнеслась восторженно к первым признакам будущей крестьянской реформы. Е. Я. Колбасин писал Тургеневу 21 декабря 1857 года: «Со всех сторон за это освобождение слышатся похвалы правительству. От души поздравляю вас, Иван Сергеевич, с этим великим событием. Если бы вы только видели, как оно всех оживило»58. То же, в тот же день, писал Тургеневу и другой его корреспондент, П. В. Анненков: «Приближается день, когда мы будем в состоянии сказать про себя хоть умирая: «Кажется, я теперь вполне честный человек»59. Сам Тургенев писал Толстому из Рима 17 (29) января 1858 года: «Давно ожиданное сбывается — и я счастлив, что дожил до этого времени»60.
XII
В Москве либерально настроенные литераторы и ученые решили по случаю опубликования рескрипта устроить общественный обед. Инициаторами этого обеда были редактор в то время либерального «Русского вестника» М. Н. Катков и профессор Петербургского университета К. Д. Кавелин. Обед был назначен на 28 декабря 1857 года в залах Купеческого собрания. На обед явилось около 180 человек.
Толстой также получил от Кавелина письменное приглашение принять участие в обеде «по случаю эманципации».
260
За обедом М. Н. Катков, А. В. Станкевич, писатель Н. Ф. Павлов, профессор истории Московского университета славянофил М. П. Погодин, профессор политической экономии того же университета И. К. Бабст, К. Д. Кавелин и откупщик В. А. Кокорев произнесли восторженные речи по случаю ожидаемой отмены крепостного права.
Толстой опоздал к началу обеда и не слыхал речей Каткова и Станкевича. О тех речах, которые он слышал, Толстой записал в дневнике: «Речи пошлые все, исключая Павловской». Содержание тех речей, которые слышал Толстой, сводится к следующему.
Погодин в своей речи поздравлял «православного русского мужичка» «с наступающим для него новым годом» и вместе с тем воздавал «искреннюю дань хвалы и благодарности достойному русскому дворянству», которое «всегда в великие решительные минуты отечественной истории являлось впереди, жертвуя всеми своими силами, трудами, кровию, жизнью», которое и теперь «внезапно, как слышно, изъявляет через своих достойных представителей совершенную готовность исполнить царское решение». Утверждая, что «всякое право священно», Погодин выражал уверенность, что дело совершится «к общему удовольствию, спокойно, мирно, согласно, благополучно».
Бабст говорил исключительно о непроизводительности крепостного труда как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства. (Толстой вскоре переменил свое мнение о речи Бабста, и в письме к Боткину от 4 января 1858 года он назвал ее так же, как и речь Павлова, «замечательной».)
Кавелин говорил о том, что «для правильности устройства экономического быта» следует «приискать средние меры для ограждения разрозненных и разноречивых интересов», исходя из того, что будто бы «правда, нравственность и выгода соединены нерасторжимыми узами».
Кокорев произнес только несколько заключительных слов о том, что «говорить больше нечего, а надо теперь думать думу крепкую, оглядываясь на все обстоятельства до самой их сердцевины».
Павлов, речь которого Толстой тогда же выделил из всех других речей, начал с утверждения о том, что «новым духом веет, новое время настало», «легче становится совести христианина, как-то благороднее бьются сердца и смелее смотрится на божий мир». Говоря о происхождении крепостного права, Павлов указывал, что крепостное право было введено государством в своих интересах, так как оно облегчало сосредоточение в руках правительства больших средств. «Но что временно выиграло государство, терял человек». «Учреждение, о котором идет речь, отжило
261
уже свой исторический век», в основе его «лежит неправда и ложь». «Россия призвана на подвиг правды и добра»61.
Слушая разнообразные толки об «эмансипации», Толстой огорчался тем, что вопрос о крепостном праве никем не рассматривался с нравственной точки зрения. В письме к Боткину от 4 января 1858 года Толстой сообщал, что в московском обществе есть противники освобождения крестьян, есть и сторонники, «есть еще аристократы на манер аглицких, есть западники, есть славянофилы, а людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету». Речь Павлова понравилась Толстому именно как попытка подойти к разрешению вопроса о крепостном праве с нравственной точки зрения.
3 января Толстой прочел в журнале вторую речь Кокорева, которая была им заготовлена, но не произнесена на обеде, так как касалась преимущественно купечества, а не дворянства62. Миллионер Кокорев, состояние которого, нажитое откупами, достигло к тому времени семи миллионов, знался со славянофилами и усвоил себе их фразеологию, которой и была обильно пересыпана его речь. Начавши с восхваления Александра II за его желание «вывести наших братьев крестьян» из того положения, которое «томило их и вместе с ними нас уже три века», Кокорев далее заявлял, что «резкая разница» между Европой и Россией состоит в том, что в России «царь уповает на народ, народ уповает на царя», чего нет в Европе, и затем перешел к рассмотрению практической стороны вопроса об отмене крепостного права. Купечеству, — говорил Кокорев, — «новый порядок»принесет «огромную выгоду», так как будет способствовать развитию торговли. Указав на то, что и богатства откупщиков «составились уже чисто из трудовых крестьянских денег», и биржевики получают свои барыши «от перепродажи потового труда крестьян», и золотопромышленники наживают себе богатства «мозолистыми руками тружеников», Кокорев, чтобы купцам «не было стыдно смотреть и на дворян и на крестьян», предлагал открыть между всеми русскими купцами подписку на добровольные пожертвования и выкупить крестьянские избы и огороды у мелкопоместных дворян. «Так произойдет спайка всех сословий истинною любовью, выражаемою жертвами». Чтобы это произошло, нужно «сделать выгоду от устройства крестьян очевидною для всех»; это — дело литературы; «тогда возбудится во всех желание участвовать в пожертвованиях». «Новый порядок»
262
принесет купечеству «удивительную пользу» также и тем, что купцы будут покупать землю у мелкопоместных дворян, чтобы отдавать ее в аренду крестьянам. «При таком только общем действительном сочувствии рост наш будет совершаться правильно в общем росте человечества, и тогда все кривые, дряблые побеги опять срастутся с своим корнем — с народом. От этого срастания мы почерпнем из чистой натуры народа ясность и простоту воззрений». Так заканчивалась речь Кокорева.
Эта речь, как записал Толстой в дневнике 5 января 1858 года, произвела на него «необъяснимое [т. е. не передаваемое словами] впечатление омерзения». В Толстом отчасти заговорило неизжитое еще тогда аристократическое чувство: откупщик, наживший себе огромное состояние спаиванием народа, выступает в роли руководителя общества; но главное, что вызвало его отвращение, это — то возмутительное лицемерие, с которым этот темный делец приглашал всех преклониться перед «чистой натурой» того самого народа, который он безжалостно обирал несколько десятков лет.
Под впечатлением речи Кокорева Толстой в том же письме к Боткину от 4 января 1858 года писал: «Я убеждаюсь, что у нас нет не только ни одного таланта, но ни одного ума. Люди, стоящие теперь впереди и на виду, это идиоты и нечестные люди». На другой день Толстой говорил о речи Кокорева со стариком Аксаковым, который несомненно брал Кокорева под свою защиту. Возражения, которые делал Толстой Аксакову по поводу речи Кокорева, в его дневнике сформулированы в таких словах: «Аристократическое чувство много значит. Но главное. Я чувствую себя гражданином, и ежели у нас есть уж власть, то я хочу власть в уважаемых руках».
XIII
В том же письме к Боткину от 4 января 1858 года Толстой объясняет причину своего равнодушия к общественно-политической деятельности. Он говорит, что все общественные деятели «рабы самих себя и событий». Государственные деятели хотят для себя добиться «звезды или славы», «а выходит государственная польза»; но эта государственная польза «выходит зло для всего человечества». Несомненно, что здесь под именем «государственной пользы», приносящей зло всему человечеству, Толстой разумел политику завоеваний, общую всем европейским правительствам как самодержавным, так и конституционным и республиканским. Есть еще другая категория общественных деятелей, о которой Толстой говорит далее: «а хотят государственной пользы — выходит кому-нибудь звезда», и все дело на этом останавливается. «Вот что обидно в этой деятельности», —
263
замечает Толстой. «Glaubst zu schieben, und wirst geschoben» [думаешь подвинуть, а тебя самого толкают вперед] — приводит Толстой любимый им афоризм Гёте, желая этим сказать, что результаты общественной деятельности часто бывают совершенно противоположными тем, которых ожидают сами общественные деятели.
Толстой уверен даже, что это — «закон», и тот, кто понял его, не может уже отдаваться общественной деятельности с ее неверными, сомнительными результатами. Такой деятельности Толстой противопоставляет определенную производительную деятельность с ясно поставленными задачами: «срубить лес, построить дом» и т. д.
Шаткость приводимых Толстым аргументов в пользу отказа от общественно-политической деятельности заставляет думать, что основной причиной этого отказа были для Толстого в то время не принципиальные соображения, а то отрицательное впечатление, которое производили на него те, кто занимался открыто общественно-политической деятельностью. С одной стороны, это были помещики-крепостники, смертельно боявшиеся отмены крепостного права и желавшие только одного: удержаться в своем теперешнем положении. Эти были Толстому «гадки», как писал он в том же письме Боткину. Кроме них, были еще либералы, делавшие карьеру на своем либерализме, говоруны, краснобаи или просто нечестные люди, каким представлялся Толстому Кокорев63. И эти были Толстому противны.
Через три года Толстой принял самое деятельное участие в такой общественной деятельности (посредничество), которая не находилась в противоречии с его моральными требованиями и приносила действительную пользу народу. Но в 1857—1858 годах он считал себя настолько чуждым всякой общественно-политической деятельности, что счел возможным выразить свое отношение к ней в аллегорическом стихотворении в прозе, озаглавленном «Сон».
Первая редакция «Сна» была написана в последних числах декабря 1857 года. Повидимому, написанное имело какую-то связь со сном, виденным братом Толстого Николаем Николаевичем, так как в дневнике Толстого от 31 декабря 1857 года (запись за три дня) значится: «Писал Николенькин сон». Толстой читал написанное кому-то из близких ему людей и остался
264
доволен написанным. «Никто не согласен, а я знаю, что хорошо», — писал он дальше в записи того же числа. Новую, вторую редакцию «Сна» Толстой написал в письме к Боткину от 4 января 1858 года, прибавляя при этом, что считает эту «штуку» «отдельным и конченным произведением», и прося Боткина и Тургенева высказать о ней свое мнение.
Существует еще третья редакция «Сна», относящаяся к тому же времени64.
Рассказ о виденном сне ведется от первого лица.
«Я во сне стоял на колеблющемся возвышении и говорил людям все то, что было в моей душе и чего я не знал прежде». Далее изумительно схвачена психология оратора, говорящего перед большой толпой:
«Я ничего не видел, но чувствовал, что вокруг меня толпились незнакомые мне братья. Вблизи я различал их тяжелые вздохи, вдали, как море, бурлила бесконечная толпа. Когда я говорил, по толпе, как ветер по листьям, пробегал трепет восторга; когда я замолкал, толпа, как один человек, переводила дыханье... Они двигали мною так же, как и я двигал ими. Болезненный восторг, горевший во мне, давал мне власть, и власть моя не имела пределов».
Вдруг он почувствовал сзади себя чей-то взгляд, который неотступно преследовал его, так что он должен был оглянуться. Он увидел женщину, которая свободно двигалась посредине толпы, не соединяясь с нею. Ему стало стыдно, и он остановился. В этой женщине «было все, что любят», и к ней «сладко и больно тянула непреодолимая сила». Она смотрела на него с кроткой насмешкой и любовным сожалением. «Дрожащий мрак безжалостно закрыл от меня ее образ, и я заплакал во сне о невозможности быть ею».
«Сон» — единственное у Толстого стихотворение в прозе, с которым позднейшие «Стихотворения в прозе» Тургенева имеют по стилю так много общего. Вместе с тем «Сон» — единственное у раннего Толстого произведение аллегорического характера. Смысл этой аллегории может быть только один: шумной общественно-политической деятельности, вызывающей восторг толпы, противопоставляется поэзия, мораль, любовь, олицетворением которых является таинственная женщина, в которой «было все, что любят» и к которой «сладко и больно тянула непреодолимая сила».
265
XIV
Всю зиму 1857—1858 года и первое время весны 1858 года Толстой провел в Москве, лишь несколько дней пробыв в Петербурге в марте 1858 года. В Москве он остановился в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой улице.
Кроме работы над своими произведениями и переписки с друзьями, Толстой в эти месяцы занимался чтением, гимнастикой, музыкой, много времени отдавал детям сестры, оставшимся без отца, посещал литературных и светских знакомых, изредка бывал в театрах.
Гимнастика всегда составляла одно из любимых занятий Толстого. В Москве в то время существовало специальное гимнастическое заведение на Большой Дмитровке. Толстой часто посещал это заведение. «Бывало, — рассказывает Фет, также проводивший эту зиму в Москве, — если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через [деревянного] коня, не задевши кожаного, набитого шерстью, конуса, поставленного на спине этого коня»65.
Музыка не меньше, чем прежде, продолжала интересовать Толстого. Вместе с поэтом Алексеем Константиновичем Толстым и А. Д. Столыпиным он был устроителем концертов в зале А. В. Киреевой на Большой Никитской. Концерты устраивались еженедельно по субботам, вечер обходился около ста рублей66.
Толстой в то время особенно восхищался Бетховеном. Героиня повести «Семейное счастье», написанной Толстым в 1859 году, рассказывает, что ее жених Сергей Михайлович, в образе которого Толстой воплотил много автобиографических черт, был очень доволен, когда она говорила ему, что Бетховен поднимает ее «на светлую высоту», «летаешь с ним, как во сне на крыльях»67.
Толстой хлопотал об открытии в Москве музыкального кружка под названием «Квартетное общество», под руководством пианиста Мортье. Он набросал даже проект устава этого общества, в котором обращает на себя внимание пункт, где сказано, что общество устраивает вечера, на которых исполнителями могут быть только артисты, а не любители, и любительские произведения исполняться не могут. Толстой, следовательно, заботился о том, чтобы не понижался уровень музыкального исполнения
266
в московском обществе. Для того чтобы общество имело средства оплачивать артистов, в проекте предполагался членский взнос в размере от 30 до 50 рублей в год68. Но проект Толстого почему-то не осуществился — музыкальный кружок не был организован.
В театре Толстой за данный период времени бывал довольно редко. В Большом театре он слушал оперу Глинки «Иван Сусанин», называвшуюся тогда «Жизнь за царя». Особенно понравился Толстому финал оперы. «Хор прекрасен», — записал он в дневнике 19 января. В Малом театре Толстой видел популярную в то время комедию А. Красовского «Жених из ножевой линии», в которой играл Пров Садовский. Толстой нашел пьесу Красовского «ловкой», а об игре Садовского записал: «Садовский прекрасен, ежели бы не самоуверенная небрежность» (дневник 8 ноября 1857 года). В другой раз Толстой видел в Малом театре «Ревизора», в котором знаменитый Щепкин исполнял роль городничего. «Щепкин — строгий актер», — записал Толстой в дневнике 26 января 1858 года после этого спектакля.
Зима 1857—1858 года была последней в жизни Толстого, когда он принимал участие в светских развлечениях. В эту зиму он побывал на нескольких вечерах, маскарадах и балах, в том числе однажды на бале в так называемом Московском благородном собрании69.
Одной из причин, побуждавших Толстого бывать на балах, маскарадах и вечерах, была потребность в женском обществе и не оставлявшая его надежда устроить свою семейную жизнь.
Его отношения с В. В. Арсеньевой были давно прерваны с его стороны, хотя она и продолжала еще надеяться на возобновление прежних отношений. В декабре 1857 года Толстой и Арсеньева обменялись последними письмами. Поводом к этому послужило следующее. У В. В. Арсеньевой появился жених — А. А. Талызин (впоследствии орловский мировой судья). Барышня готова была за него выйти, но предпочла бы Толстого. Чтобы окончательно выяснить отношение к ней Толстого (хотя это и без того было совершенно ясно), она написала ему письмо, в котором жаловалась на свое грустное настроение и как бы мимоходом спрашивала, свободно ли его сердце. Толстой отвечал ей сдержанным учтивым письмом, в котором советовал приободриться и пойти на какой-нибудь решительный шаг в жизни, —
267
быть может, выйти замуж. «Вы... даже роскошь имеете — Талызина, который страстно влюблен в вас и только об том просит, чтобы ему позволено было сделаться вашим рабом», — писал Толстой. О себе он писал тоже как бы мимоходом, что сердце его совершенно свободно.
Барышня поняла, что надеяться ей не на что, и поспешила дать согласие жениху. Через месяц была свадьба. Накануне свадьбы Толстой сделал визит В. В. Арсеньевой, был также и на вечере, устроенном ею через месяц после выхода замуж, причем нашел, что она была «недурна».
Затем, уже живя в Ясной Поляне, Толстой 29 апреля заехал в Судаково, где Валерии Владимировны уже не было, а жила ее младшая сестра, также вышедшая замуж. На другой день Толстой записал в дневнике: «Грустны судаковские перемены, но я не жалею». «Грустны» в том смысле, что наводили Толстого на грустные размышления о своем одиночестве; но о том, что не устроилась его женитьба на В. В. Арсеньевой, он не сожалел. И, наконец, в последний раз Толстой видел В. В. Талызину в Москве 30 октября 1858 г., после чего записал в дневнике: «Видел Валерию — даже не жалко своего чувства».
Так рассыпались прахом отношения Толстого с молодой девушкой, с которыми вначале у него связывалось так много несбывшихся надежд и которые впоследствии причинили ему так много огорчений и закончились полным разочарованием70.
XV
Существуют относящиеся к 1858—1859 годам воспоминания о Толстом одной из его знакомых — Е. И. Чихачевой, впоследствии по мужу Сытиной71. Е. И. Сытина рассказывает, что Толстой в то время «очень был интересен, даже его дурнота имела что-то привлекательное в себе. В глазах было много жизни, энергии... Он всегда говорил громко, ясно, с увлечением даже о пустяковых вещах, и с его появлением вдруг все озарялось. Всякая скука мигом исчезала, лишь только он покажется». За Толстым,
268
рассказывает Е. И. Сытина, «вся Москва страшно ухаживала». В числе ухаживавших за Толстым девиц, к которым и сама она принадлежала, Е. И. Сытина называет О. А. Кирееву и А. Н. Чичерину72. И Киреева, и Чичерина, и Чихачева упоминаются в дневнике Толстого 1858 года, но ни к одной из них Толстой не чувствовал большого влечения. Он продолжал испытывать то же поэтическое чувство к сестре своего друга Дьякова — Александре Алексеевне Оболенской, о чем не раз записывал на страницах дневника. «А. — прелесть, — пишет Толстой. 6 ноября 1857 года. — Положительно женщина, более всех других прельщающая меня». «По вечерам я страстно влюблен в нее, — записывает Толстой 1 декабря, — и возвращаюсь домой полон чем-то, — счастьем или грустью — не знаю».
Но А. А. Оболенская была замужем, а Толстой в то время томился жаждой семейной жизни.
Больше всех других барышень его внимание привлекала дочь поэта — Екатерина Федоровна Тютчева, которой было тогда 22 года. Он начинает всматриваться в духовный облик этой девушки, подобно тому как раньше всматривался в духовный облик В. В. Арсеньевой.
«Тютчева мила и хочет быть такою со мной», — записывает Толстой 4 декабря 1857 года. Накануне нового 1858 года Толстой записывает: «Тютчева начинает спокойно нравиться мне». В день нового 1858 года: «К. очень мила». Затем 5 января: «К. слабее, но тихой ненависти нет». 7 января: «Тютчева вздор!». «Нет, не вздор, — возражает Толстой сам себе на следующий день. — Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего». 19 января: «Т. занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести».
Толстому хочется отделаться от своего чувства, но он не в состоянии этого сделать. «М. Сухотину с язвительностью говорил про К. Т., — пишет он 20 января. — И не перестаю думаю о ней. Что за дрянь! Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет».
Иногда девушка казалась ему холодной, живущей только рассудком, а не чувством. 21 января он записывает: «К. Т. любит людей только потому, что ей бог приказал. Вообще она плоха. Но мне это не все равно, а досадно». В таком же духе и еще сильнее запись от 26 января: «Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор!» — настойчиво внушает он сам себе, подчеркивая слово «вздор». Характерно,
269
что аристократичность признается здесь Толстым таким же недостатком, как холодность и мелочность.
27 января Толстой «равнодушен». Явилось новое кратковременное увлечение 30 января Толстой записывает: «С скукой и сонливостью поехал к Рюминым73, и вдруг обкатило меня. П. Щ. прелесть. Свежее этого не было давно». Но уже на другой день записано: «К. Щерб. швах». В этих записях речь идет о княжне Прасковье Сергеевне Щербатовой, с которой Толстой познакомился еще в предыдущем году 6 декабря, когда записал в дневнике: «Щербатова недурна очень».
С 1 февраля 1858 года в дневнике опять начинаются записи о Е. Ф. Тютчевой. В этот день Толстой, видевший Тютчеву на бале, записывает: «С Т. уж есть невольность привычки.. Львова мила изысканно, и Т. даже лучше, у нее grandeur [величавость] есть». Затем на другой день: «Пикник. Щ. — прелесть. Весело целый день. С Т. невольность и холодность». 15 февраля в Ясной Поляне: «Любви нет». 10 марта опять в Москве: «Был у Тютчевой. Ни то, ни сё. Она дичится. В концерте видел Щерб. и говорил с ней. Она мила, но меньше».
Последние записи Толстого о Е. Ф. Тютчевой перед отъездом из Москвы: «Увы, холоден к Т. Все другое даже вовсе противно» (28 марта). «Т. положительно не нравится» (31 марта).
Окружающие, конечно, замечали увлечение Толстого Е. Ф. Тютчевой. Около 15 ноября 1857 года сестра Е. Ф. Тютчевой Дарья Федоровна писала ей из Петербурга (перевод с французского): «А. Блудова говорила о тебе с Анной [старшая дочь Ф. И. Тютчева Анна Федоровна] и сказала ей, что она прочла твой портрет, присланный из Москвы каким-то мужчиной, — портрет восхитительный. Кто это так мило описал мою Катеньку? Не граф ли Толстой (Лев)?» В следующем письме от 20 ноября Д. Ф. Тютчева писала: «Я видела князя Вяземского, который говорил мне о вашем рауте, где, как ему говорили, была целая толпа. С своей стороны он мне поручил сказать тебе, что он уверен, что граф Толстой был у вас в этот день как свой человек. Он сказал это немного двусмысленно, что заставляет меня подозревать, что автор того портрета, о котором я тебе говорила, и граф Толстой имеют нечто общее»74.
Слух о том, что Толстой неравнодушен к Тютчевой, дошел и до Тургенева. 26 февраля (10 марта) 1858 года он писал Фету
270
из Рима: «Правда ли, что Толстой женится на дочери Тютчева? Если это правда, я душевно за него радуюсь. Только я сомневаюсь в истине этого слуха»75.
Последнее упоминание о встрече с княжной Щербатовой отмечено в дневнике Толстого 5 апреля 1858 года без всякого отзыва.
Несмотря на кратковременность своего увлечения П. С. Щербатовой, Толстой впоследствии в письме к жене от 7 декабря 1864 года назвал Щербатову (в то время уже графиню Уварову) своим «предметом прежним»76. И в письме к П. И. Бирюкову от 27 ноября 1903 года, рассказывая биографу о своих «любвях», Толстой упомянул и про «светское увлечение Щербатовой-Уваровой»77 (о Тютчевой упомянуто не было). В 1880-х годах художник Н. Н. Ге говорил П. И. Бирюкову, что Щербатова когда-то считалась невестой Толстого78.
Толстой уехал в деревню, не сделав предложения ни Тютчевой, ни Щербатовой. А между тем жажда семейной жизни все более и более томила его. Еще 30 октября 1857 года, узнав о женитьбе своего знакомого, князя Орлова, на княжне Е. Н. Трубецкой, дочери декабриста князя Н. И. Трубецкого, которую Толстой знал в Париже и которая ему нравилась, он записывает в дневнике: «Известие о свадьбе Орлова с Трубецкой возбудило во мне грусть и зависть». Незадолго до отъезда из Москвы Толстой встретился с одним из родственников княжны Трубецкой, и встреча эта напомнила ему «Париж и дочь». И, сожалея о том, что он в свое время не сделал ей предложения, Толстой в дневнике 7 апреля укоризненно обращается к самому себе со словами: «Дурак, дурак».
Суррогатом семейной жизни служили для Толстого игры с детьми сестры и заботы о них. Детей Толстой всегда любил и еще на Кавказе часто подолгу играл с детьми казаков. У М. Н. Толстой в то время было трое детей: Варенька восьми лет, Николенька семи лет и Лизанька шести лет. Толстой играл с ними в разные игры, читал им вслух (между прочим, сказки Андерсена, которые он в дневнике 7 января называет «прелестью»), водил их в зверинец, в балаганы, в театры. В театре дети один раз заснули, и этот случай подал Толстому повод написать детскую сказочку под заглавием: «Сказка о том, как
271
другая девочка Варенька скоро выросла большая. (Посвящается Вареньке)»79.
Сказочка эта, написанная для Вареньки Толстой, является первым опытом Толстого в работе над рассказами для детей.
XVI
Живя зиму 1857—1858 года в Москве, Толстой виделся с представителями различных литературных течений и был в курсе всех литературных новинок. В то время в Москве в большом ходу были споры между западниками и славянофилами (в Москве в то время жили выдающиеся представители обеих этих групп), и Толстому нередко приходилось быть свидетелем и участником этих споров.
Попрежнему Толстой нередко виделся со славянофилами — с Ю. Ф. Самариным, А. С. Хомяковым и особенно с Аксаковыми; его записи о впечатлениях от посещения Аксаковых очень противоречивы. То он пишет (17 ноября 1857 года), что в Аксаковых он увидал «гордость страшную»; то записывает (26 ноября), что «очень милы они были». Позднее (5 декабря) записано, что Аксаковы его «милостиво поучают». О Константине Аксакове сказано (28 декабря), что он «мил и добр очень».
Встреча с Хомяковым произвела на Толстого на этот раз неприятное впечатление. В каком-то споре Хомяков, как записал Толстой в дневнике 23 января 1858 года, «вилял весьма слабо». Толстой в тот же день зашел к Хомякову и впечатление, оставшееся у него от Хомякова, выразил в дневнике словами: «Старая кокетка!»
К зиме 1857—1858 года относится, очевидно, последнее близкое и довольно продолжительное общение Толстого с основателями славянофильства. Впоследствии от общения со славянофилами у Толстого осталось приятное воспоминание. В 1907 г. он рассказывал:
«У славянофилов была любовь к русскому народу, к духовному его складу... Всегда я у них желал чему-нибудь поучиться. Со всеми я был в хороших отношениях, это все были высоконравственные люди, не позволявшие себе неправду сказать. Никогда ни к кому не подделывались; правда, все они были богатые...»80.
Из всех славянофилов Толстой особенно выделял Хомякова.
«Хомякова Алексея Степановича, — рассказывал Толстой в старости, — я всегда вспоминаю с большим удовольствием. Очень самобытный человек. Монгольское лицо... Он был умен и
272
оригинален. В нем было и остроумие и едкость... Был художник...»81
Со славянофилами сближало Толстого их отрицание современной европейской цивилизации, ставящей своей целью исключительно материальное благополучие, признание вечных нравственных истин, вытекающих из христианского учения, и оценка явлений жизни с точки зрения этих истин (хотя в этом вопросе у Толстого в то время были некоторые колебания). Отталкивало Толстого от славянофилов их признание православия и самодержавия основными началами жизни русского народа (при всем их отрицательном отношении к общему направлению политики русского правительства, начиная с Петра) и их узкий национализм под именем «народности».
Толстой познакомился с некоторыми из оставшихся в Москве членов кружка Герцена: писателем и переводчиком Н. М. Сатиным, врачом П. Л. Пикулиным. Толстой заметил, что Пикулин и Сатин, как западники, «дичатся» его за его знакомство со славянофилами, а может быть, и за очерк «Люцерн». Познакомился Толстой также с одним из членов кружка Грановского — критиком и переводчиком Е. Ф. Коршем, который показался ему «спокойно и высоко умен» (дневник 24 января 1858 года).
Несомненно, Толстой в зиму 1857—1858 года неоднократно виделся с Ф. И. Тютчевым. В архиве Толстого сохранился автограф стихотворения Тютчева «Над этой темною толпой», написанного 15 августа 1857 года. Можно предполагать, что поэт сам прочел это стихотворение Толстому, и Толстой, восхищенный и мыслью, и формой стихотворения, обратился к нему с просьбой подарить ему автограф82. Но какие-то стихотворения Тютчева, которые Толстой 28 ноября слышал на вечере у Сушковых, он нашел «плохими», как тогда же было им записано в дневнике.
Несколько раз Толстой был у Островского и Островский был у него, но особенной близости между ними не было. После одного посещения Островского Толстой отмечает в дневнике (11 ноября 1857 года), что Островский был к нему «холоден». В другой раз (27 марта 1858 года) записано даже, что Островский «несносен».
Неоднократно виделся Толстой с Фетом и иногда проводил у него вечера «очень приятно», «славно», а иногда ему казалось, что в его отношениях с Фетом «все что-то не то».
273
Сближала Толстого с Фетом любовь и чуткость Фета к искусству. Однажды, после того как Фет прочел Толстому свой перевод трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», между Толстым и Фетом завязался разговор, в котором Фет «разжег» его «к искусству» (дневник 11 ноября 1857 года) — продолжению повести «Казаки».
XVII
В рассматриваемый период своей московской жизни (с 18 октября 1857 года по 8 апреля 1858 года) Толстой работал как над продолжением и окончанием ранее начатых произведений, так и над созданием новых.
В двадцатых числах ноября 1857 года Толстой приступил к просмотру третьей редакции «Погибшего», законченной им в Ясной Поляне в первых числах октября того же года. Он очень недоволен окончанием повести — описанием сна Альберта — и пишет его заново. «Дописал сон недурно» — записывает он 24 ноября.
Описание фантастических видений засыпающего Альберта заканчивается здесь тем, что он слышит какой-то звук, и этот звук «однообразно, но все шире и шире расплывается где-то в вышине, во всей вышине и наполняет собой всё: все небо, весь мир и всю алчущую счастья душу. «Так вот оно, вот оно, то, чего я желал так долго и так страстно. Все в этом звуке: конец, начало и успокоенье. О, ежели бы только никогда не пробуждаться и потонуть в этом блаженстве», думал он и последний раз напрягши все силы, взмахивает волшебными крылами. Один миг — крылья выносят его туда, за пределы сознания, и страдальческая, тревожная душа художника удовлетворяется только там, в бессветном, беззвучном и безличном всемирном движении».
25 ноября новая редакция повести была закончена, Толстой ставит дату, но не дату этого числа, а место и время окончания первой редакции: «Дижон 28 февраля 1857 г.». Обозначение под новой редакцией даты первой редакции указывало на то, что Толстой считал время работы над первой редакцией моментом наибольшего творческого напряжения в работе над повестью.
Толстой остался недоволен новой редакцией «Погибшего», находя, что «вся вторая половина слаба» (запись дневника 25 ноября). Тем не менее на другой день Толстой отправил повесть в редакцию «Современника», чтобы она могла попасть к декабрьской книжке журнала. Но недовольство Толстого своей повестью было так сильно, что 30 ноября он посылает Некрасову телеграмму с запросом, когда предполагается напечатание его повести. После того как Некрасов телеграммой же уведомил Толстого, что «Погибший» пойдет в январе будущего года, Толстой пишет ему письмо с просьбой вернуть ему рукопись для
274
исправления. Но Некрасову повесть Толстого не понравилась, и 16 декабря он шлет ему следующее письмо:
«Милый, душевно любимый мною Лев Николаевич, повесть Вашу набрали, я ее прочел и по долгу совести прямо скажу Вам, что она нехороша и что печатать ее не должно. Главная вина Вашей неудачи в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагодарен. В то время, как грязная сторона Вашего героя так и лезет в глаза, каким образом осязательно до убедительности выказать гениальную сторону? — а коль скоро этого нет, то и повести нет. Все, что на втором плане, очень впрочем хорошо, то есть Делесов, важный старик и пр., но все главное вышло как-то дико и не нужно. Как Вы там себе ни смотрите на Вашего героя, а читателю поминутно кажется, что Вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром — нужен доктор, а искусству с ним делать нечего. Вот впечатление, которое произведет повесть на публику; ограниченные резонеры пойдут далее, они будут говорить, что Вы пьяницу, лентяя и негодяя тянете в идеал человека и найдут себе много сочувствователей... да, это такая вещь, которая дает много оружия на автора умным и еще более глупым.
Если Вы со мной не согласны и вздумаете отдать дело на суд публики, то я повесть напечатаю. Эх! Пишите повести попроще. Я вспомнил начало Вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров — и подивился, чего Вы еще ищете — у Вас под рукою и в Вашей власти Ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения; к знанию жизни у Вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте — чего же еще надо, чтоб писать хорошие — простые, спокойные и ясные повести?
Покуда в ожидании Вашего ответа я Вашу повесть спрятал и объявил, что Вы раздумали ее печатать. Будьте здоровы и напишите мне поскорее»83.
Доводы Некрасова не убедили Толстого. «Вы серьезного против ничего не говорите, — писал он Некрасову сейчас же по получении его письма 18 декабря. — Что это не повесть описательная, а исключительная, которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения; но в какой степени исполнена задача, — это другой вопрос. Я знаю, что исполнил ее сколько мог».
Толстой мог согласиться с Некрасовым в том, что сюжет его повести был очень распространен («избит») в той ее части, где
275
говорится о непонимании выдающегося человека окружающей его толпой. Произведений такого содержания действительно было несколько и в русской, и в иностранной литературах. Но Толстой никак не мог согласиться с Некрасовым в той части его письма, где он говорит, что в повести Толстого не показана «осязательно» «гениальная сторона» его героя. У Толстого было сознание того, что эту сторону своего героя он раскрыл с достаточной яркостью. Эта сторона была раскрыта в двух главах повести: в той, где описывается действие игры Альберта на слушателей (в окончательной редакции глава III), и в той, где приводится его разговор с Делесовым об искусстве (в окончательной редакции глава V). Эти две главы дают в полном смысле слова апофеоз музыкального вдохновения, и Толстой, так необыкновенно чутко воспринимавший музыку, не мог не сознавать, что этими двумя главами оправдывается вся повесть.
В своем письме Толстой просил Некрасова прислать ему рукопись или корректуру его повести, «чтобы пока свежо еще исправить, что нужно, и спрятать все подальше».
Получив от Некрасова корректуру повести, Толстой в 20-х числах декабря 1857 года начинает ее исправлять и приходит к выводу, что повесть не заслуживает такого отрицательного отзыва, какой дал о ней редактор «Современника». «Напечатаю», — твердо решает он (дневник 25 декабря).
При этом новом просмотре повести Толстой совершенно удаляет из нее художника Бирюзовского, произносящего панегирик Альберту перед слушателями его игры. Теперь эта речь вкладывается в уста хозяина дома — Делесова. Вновь переделывается окончание повести — бредовое состояние Альберта. Альберту представляется, что он находится в какой-то темной и пустой церкви:
«В середине церкви стояло возвышенье. Альберт вошел на него. Какой-то незнакомый человек подал ему инструмент, и вдруг все темное пустое пространство наполнилось народом, светом и звуками. Альберт играл что-то, сам не помня того, что он делал. Он говорил им всё, они трепетали, и по мере того, как говорил, все уяснилось в церкви. Восторг горел в нем. Вдруг кто-то посмотрел, это была она. Как прелестно. Все исчезло, он вышел с ней. Швейцария, озера. В лодке плывут, ему прохладно, тот берег — крест. Она плачет. Это его могила. Он не верит и чего-то жалеет, хочет растолковать, вдруг колокол, и все ясно»84.
Окончание повести начато было Толстым словами: «На другой день на Гороховой полицейские подняли». Но это начало фразы тут же зачеркивается, и вместо него пишется следующий
276
финал повести: «И больше уже ничего не чувствовал и не помнил Альберт». Этот вариант окончания повести, набросанный на свободной полосе присланной Некрасовым корректуры, тут же был зачеркнут автором.
В январе и особенно в феврале и начале марта 1858 года Толстой еще раз перерабатывает «Погибшего» и заканчивает эту работу лишь 10 марта. Особенно много, как и раньше, работает Толстой над второй половиной повести. Исключается целиком вся глава, описывающая вечер у Делесова, на котором играет Альберт. Исчезает нарисованный в этой главе так нравившийся Некрасову образ «важного старика» Аленина, ученого теоретика музыки, с презрением относящегося к Альберту. Апология Альберта, которую в споре с Алениным произносил сначала Бирюзовский, а потом хозяин дома Делесов, теперь вкладывается в уста друга Альберта, художника Петрова, которого ушедший от Делесова Альберт, лежа на улице в морозную ночь, видит перед собой и слышит в своем бредовом состоянии. В окончательной редакции изменяется также финал повести: Альберт после того, как в его больном мозгу проносятся «толпы видений», которые «приняли его в свои волны», не умирает, а остается жив; полузамерзшего его приносят к Анне Ивановне, и этим заканчивается повесть.
Повесть Толстого, в окончательной редакции названная просто «Альберт», должна была появиться в апрельской книжке «Современника» за 1858 год, но цензура почему-то задержала ее, и Толстой в апреле только получил корректуры. Много ли работал Толстой над последними корректурами «Альберта» — неизвестно, так как они не сохранились. Повесть появилась в августовской книжке «Современника» с датой 28 февраля 1858 года вместо прежней — 28 февраля 1857 года. Некрасов поместил «Альберта» в одном из «летних» номеров журнала, не считая ее, очевидно, большой приманкой для читателей «Современника»; в противном случае он приберег бы ее к одной из «осенних» или «зимних» книжек, от которых зависел успех подписки на журнал.
Некрасов несомненно не очень охотно помещал «Альберта» в своем журнале. Если бы «Альберт» был прислан в редакцию «Современника» тремя-четырьмя годами раньше, то Некрасов, вероятно, не стал бы возражать против напечатания; но с направлением «Современника» 1857—1858 годов некоторые из основных идей «Альберта» находились в полном противоречии. В своей апологии Альберта художник Петров решительно заявляет, что «красота — единственное несомненное благо в мире», понимая под красотой искусство вообще и особенно музыку. Мысль эта в таком крайнем выражении противоречила не только направлению «Современника», но, кроме того, даже противоречила
277
и миросозерцанию самого автора «Альберта», который уже в то время считал «добро» и «любовь» благом во всяком случае не меньшим, чем красота в поэзии и в музыке. Но Толстой в то время даже евангельское учение склонен был как-то сводить к художественной красоте. 17 февраля 1858 года он пишет в записной книжке: «Есть правда личная и общая. Общая только 2?2=4. Личная — художество! Христианство. Оно все художество».
Это провозглашение красоты единственным несомненным благом было со стороны Толстого временным увлечением, которое еще больше усиливалось его оппозицией к обличительной литературе того времени.
Опасения Некрасова относительно того, что повесть Толстого не понравится читателям, полностью оправдались. Сотрудник «Современника» М. Н. Лонгинов 25 августа 1858 года писал Некрасову: «Альберта» Л. Н. Толстого я прочел и, признаюсь, сожалею, что напечатано такое произведение, нимало не соответствующее славе его превосходного таланта. Впечатление это почти общее в Москве, где у него столько и личных друзей и почитателей его дарования. Впрочем, все убеждены, что он скоро заставит забыть эту повесть каким-нибудь произведением, достойным автора «Детства»85.
В печати повесть «Альберт» вызвала три отклика.
Бывший член «Молодой редакции» «Москвитянина», Б. А. Алмазов, который в 1852 году восторженно приветствовал появление «Детства», теперь писал: «Что касается собственно до повести «Альберт», то ее вместе с «Записками маркера» следует отнести к неудавшимся произведениям автора. Герой повести «Альберт» человек полусумасшедший, а психологические наблюдения над такими объектами не должны и не могут составлять материал для художественного произведения»86, — писал Алмазов, забывая и про «Записки сумасшедшего» Гоголя и про «Двойник» Достоевского.
Второй отзыв появился в малоизвестном и недолговечном журнале «Северный цветок». Здесь было сказано совершенно безапелляционно, что «Альберт» — незаконченный психологический этюд, от которого не остается никакого впечатления87.
Более или менее сочувственно отнесся к «Альберту» анонимный критик журнала «Сын отечества». Его отзыв носил двойственный характер. Называя Толстого «недавним дебютантом и вслед за тем триумфатором», критик далее говорит: «Прославившись в области реализма, в изображении положительной жизни
278
с ее разнообразной обстановкой и бесчисленными отношениями действователей, автор захотел заглянуть в поэтический мир фантазии, в мир призраков восторженной артистической души». Признавая, что автору «почти удалось» представить своего героя «чистым, наивным, возбуждающим участие в читателях», и считая лучшими местами повести те главы, в которых рассказывается о встрече Альберта с Делесовым и его жизни у Делесова, критик не соглашается с теми, кто «приходит в восторг от оправдания Альберта» в последней главе повести88.
Так прошло почти незамеченным произведение Толстого, над которым он работал с перерывами больше года и на которое потратил так много творческих усилий.
XVIII
Кроме «Альберта», Толстой в зиму 1857—1858 года работал над «кавказским романом», который он теперь называет «Казак» или «Казаки».
Одним из толчков к возобновлению работы над «Казаками» послужило в ноябре 1857 года чтение Фетом его перевода трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра». Под впечатлением этого чтения у Толстого явился новый план повести — начать ее «драмой» (дневник 11 ноября 1857 года). Здесь под словом «драма» Толстой разумел не драматическую форму изложения, а драму по существу, то есть драматическое развитие действия. Затем у Толстого явилась мысль усилить драматический элемент развязки повести. 14 ноября он записывает: «Эврика! для «Казаков»: обоих убил». Это значит, что финал повести представился теперь Толстому в виде убийства двух главных героев повести: казака Кирки, бежавшего к чеченцам и затем возвратившегося в родную станицу, и офицера, полюбившего его жену. Замысел этот, однако, осуществления не получил.
Боткину, которому Толстой в июле 1857 года читал одно из начал будущих «Казаков», он писал 4 января 1858 года: «Кавказский роман, который вам понравился, я не продолжал. Все мне казалось не то, я и еще после вас два раза начинал снова». Затем Некрасову, которому начало «Кавказского романа» очень понравилось и который советовал Толстому продолжать его, Толстой пишет 21 января 1858 года: «Кавказский роман все переделываю в плане и не подвигаюсь».
Немногочисленные глухие записи дневника Толстого за ноябрь и декабрь 1857 года, выражающиеся по большей части одним словом: «писал», повидимому, относятся к работе над «Казаками».
279
Раньше сюжет «Казаков» и рассказы Епишки о старом житье казаков рисовались Толстому в виде двух отдельных произведений; теперь у него является мысль о слиянии этих двух замыслов. 2 февраля 1858 года он заносит в свою записную книжку: «Для «Казаков» следующая форма: соединение рассказа Епишки с действием».
Конец февраля и особенно март 1858 года были посвящены усиленной работе над «Казаками».
Приехав в середине февраля на короткое время в Ясную Поляну, Толстой нашел здесь один из вариантов начала повести, написанный им за границей в апреле 1857 года. Это был тот вариант, где описан приход в станицу двух рот пехотного кавказского полка и первое знакомство офицера с Марьяной и дядей Ерошкой.
Перечитав этот вариант, Толстой нашел, что «старое начало «Казаков» хорошо» (дневник 24 февраля). Он стал заново переписывать весь вариант с самого начала, как всегда, внося большие исправления и дополнения к написанному тексту, и затем начал писать продолжение повести. Приехавший в станицу офицер, который в предыдущем варианте не имел фамилии, называется теперь Ржавским. Пишутся новые главы, передающие разговоры дяди Ерошки с Ржавским о прошлой жизни казаков, об охоте, о женщинах, о жизни и смерти. Заново пишется сцена свидания Кирки с Марьяной; рисуется картина наступления летней ночи в станице, когда все жители «погружены в здоровый трудовой сон»; дается подробное описание самой станицы, ее положения, характера жителей, повседневного труда казаков и казачек. Все эти главы с небольшими изменениями вошли в окончательный текст повести. В частности, колоритная фигура дяди Ерошки со всеми особенностями его своеобразного оптимистического миросозерцания уже целиком отлита в этой первоначальной редакции «Казаков» 1858 года. Кроме того, было написано продолжение повести и присоединена ранее написанная сцена убийства абрека молодым казаком Киркой во время его ночного дежурства на кордоне.
Имея в виду поместить в свою повесть несколько казачьих песен, Толстой обратился с письмом (к сожалению, до нас не дошедшим) к своему бывшему батарейному командиру Н. П. Алексееву, продолжавшему стоять со своей батареей в Старогладковской, с просьбой прислать ему тексты нескольких старинных казачьих песен. Алексеев 23 марта отправил Толстому тексты десяти песен, из которых одна была записана со слов дяди Епишки. Одну из присланных песен («Из села было Измайлова...») Толстой ввел в текст повести.
Работа над повестью на этот раз очень захватила Толстого. «Я весь увлекся «Казаками», — писал он в дневнике 21 марта.
280
От современности, от стоящих на очереди и требующих разрешения общественно-политических вопросов Толстой уходил в хорошо ему знакомый и милый мир Кавказа с его поэтической природой и простой, естественной жизнью казачества. (Приведенное выше замечание Толстого о том, что в литературе «политическое исключает художественное», в его дневнике следует непосредственно после записи об его увлечении «Казаками».) Но и современность наложила свою печать на новую редакцию повести Толстого. Рассказывая о причинах, побудивших Ржавского приехать на Кавказ, автор говорит: «С ним случилось то, что случалось с весьма многими честными и пылкими натурами в наше время. Безобразие русской общественной жизни и несоответственность ее с требованиями разума и сердца он принял за вечный недостаток образования и возненавидел цивилизацию и выше всего возлюбил естественность, простоту, первобытность. Это была главная причина, заставившая его бросить службу в Петербурге и поступить на Кавказ»89.
Здесь Толстой, следовательно, не является противником всякой цивилизации, как это можно было бы подумать по некоторым выражениям «Люцерна»; ненависть своего героя к цивилизации он объясняет не пороками самой цивилизации, а «безобразием русской общественной жизни» того времени.
Далее рассказывается, что быт казаков сильно подействовал на Ржавского «своей воинственностью и свободой»; олицетворением этого «нового мира» явился для Ржавского дядя Ерошка. Тут же автор сообщает читателю, что лучше всего он узнает Ржавского из его писем к приятелю. Но письма эти были написаны Толстым уже в Ясной Поляне после отъезда из Москвы.
XIX
В январе 1858 года Толстой в несколько дней написал новый рассказ «Три смерти». Происхождение этого рассказа, по-видимому, таково.
11 декабря 1857 года Толстой записал в записной книжке: «Симеон за сапоги обещал камень брату». Здесь идет речь, вероятно, о каком-нибудь знакомом Толстому, быть может, яснополянском крестьянине. Можно думать, что, как пример совершенно спокойного отношения к приближающейся смерти, случай этот так поразил Толстого, что у него тогда же или вскоре явилась мысль написать рассказ на эту тему.
Рассказ «Три смерти» писался Толстым в гостях у двоюродной сестры его матери, княжны Варвары Александровны Волконской, жившей в своем небольшом имении Соголево под Клином.
281
Толстой очень хорошо провел у В. А. Волконской четыре дня, слушая ее рассказы про его мать и бабку, которыми он впоследствии воспользовался как в своих «Воспоминаниях», так и в работе над «Войной и миром» при создании образа дочери старого князя Болконского.
Рассказ был начат 15 января 1858 года. Сначала были изображены только две смерти: богатой барыни и ямщика-бобыля; но затем у Толстого явилась мысль присоединить еще третью смерть — смерть дерева, которое молодой ямщик Серега срубает на крест умершему ямщику Федору. Толстой сомневался, включать ли ему в свой рассказ эту третью смерть; об этом он советовался с братом Николаем Николаевичем. Тот посоветовал ему «дерево оставить», и Толстой, всегда очень высоко ценивший мнение своего старшего брата, последовал его совету. Эту последнюю часть рассказа Толстой написал уже по возвращении в Москву 20 января.
21 января была начата вторая редакция рассказа, законченная 24 января.
О работе над новым рассказом Толстой 21 января сообщал Некрасову, уговаривавшему его писать повести «попроще», в следующих выражениях: «Я пишу маленькую по количеству листов вещь весьма странного содержания».
«Странность», то есть необычность содержания новой вещи Толстого заключалась, прежде всего, в самом построении рассказа, в том, что из изображенных в нем трех смертей две смерти — человеческие, а третья смерть — дерева. Дерево, таким образом, ставилось в один ряд с человеком. За таким построением рассказа крылась его основная идея: единство жизни во всей природе. Эта идея единства жизни сказывается и в самом языке рассказа, если сравнить его с другими произведениями Толстого того же времени. «Дерево вздрогнуло всем телом», — говорит Толстой, описывая смерть дерева. «Я вздрогнул всем телом», — писал про себя офицер Ржавский в одном из вариантов повести «Казаки», относящемся также к 1858 году.
В заключительных строках повести выражена еще другая идея из того же цикла — идея о неуничтожаемости жизни в природе. Эта идея выражена с необыкновенной художественной яркостью. Под ударами топора дерево «рухнулось макушей на сырую землю», но эта смерть нисколько не нарушила спокойное течение окружающей жизни. «Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями. Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах; роса блестя заиграла на зелени; прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое;
282
сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым поникшим деревом».
Идея неуничтожаемости жизни человечества выражена в тех стихах из псалмов («песни Давида»), которые читаются над гробом умершей барыни и которые автор от своего лица называет «великими словами».
Далее, одной из основных идей рассказа является признание превосходства людей из народа над людьми господствующих классов в их отношении к смерти. Богатую барыню мысль о смерти приводит в состояние непередаваемого ужаса. В животном страхе перед неизбежным концом она, умирающая, едет лечиться за границу, хотя по состоянию здоровья не может доехать даже до Москвы, и в то же время с жадной мольбой смотрит на икону, умоляя о своем выздоровлении, а потом, вдруг решив, что «эти доктора ничего не знают», просит мужа послать в Москву за каким-то мещанином, который лечит травами. Окружающие (муж и доктор) хотя и видят совершенно ясно безнадежное состояние больной, считают необходимым притворяться, что верят в возможность ее выздоровления, и ни словом не намекают ей о ее близкой смерти.
Одинокий старик-ямщик умирает от той же болезни, что и барыня, но в совершенно иной обстановке — без всякого ухода и без всяких удобств, нужных больному. Он лежит на печи в общей ямщицкой избе. Он вполне сознает свое положение, да и окружающие нисколько не считают нужным скрывать от него, что дни его сочтены. Кухарке он мешает тем, что занял весь угол; она вопит без всякого стеснения, что ему «давно пора» умереть. Молодой ямщик Серега просит умирающего отдать ему новые сапоги, так как ему «чай, сапог новых не надо теперь». Умирающий соглашается, с тем, чтобы после его смерти Серега купил камень на его могилу. Серега обещает исполнить его просьбу и тут же скидывает свои стоптанные сапоги и надевает новые.
Толстой сам понимал, что его рассказ рисует моральное превосходство людей из народа над людьми господствующих классов. Его друг, А. А. Толстая, в письме к нему от 18 апреля высказала недовольство тем, что в рассказе не раскрыт «источник стоического спокойствия бедного ямщика», на что, по ее мнению, следовало бы хотя кратко указать. «Иначе, — писала А. А. Толстая, — его конец подобен концу существования животного (une brute), вышедшего из небытия и в небытие же погружающегося. Между тем трогательная простота, с которой бедные люди относятся к смерти, без сомнения, не вытекает из тупого равнодушия. В этом спокойствии проявляется чистая вера, упование, хотя, быть может, и безотчетное, но все же упование; тут есть и усталость от тяжелого труда в продолжение всей жизни и много
283
еще прекрасного, что можно предположить и чего, к сожалению, вы не коснулись»89а.
В ответ на это Толстой 1 мая писал своему другу:
«Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоенья (кроме ложно-христианского) нету, а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. «Une brute» — вы говорите. Да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни».
Далее Толстой смерть дерева в его рассказе характеризует следующими словами: «Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво — потому, что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет». В этих словах Толстой выразил свое представление о том, каково должно быть естественное отношение к смерти. Вопрос этот тем более занимал Толстого, что сам он в то время еще не выработал в себе такого спокойного отношения к смерти. Много лет спустя он говорил: «Когда я был молод, мне страшно было лишиться всего окружающего, страшно, как перед темнотою: светло, светло, и вдруг темнота! Страшно казалось лишиться света, чувства жизни, дыхания»90. Следы некоторого недоумения перед смертью находим в следующем замечании в черновой редакции рассказа: «И никто не знает, что сделалось с Ширкинской госпожей и с дядей Федором»91. Некоторая обида за условия человеческого бытия сквозит в последней главе рассказа, где автор говорит, что на могиле ямщика Федора первое время возвышался только «бугорок, служивший единственным признаком прошедшего существования человека».
Самому Толстому рассказ нравился. Он прочел его тетушке Татьяне Александровне «со слезами» (дневник 23 января); потом читал Б. Н. Чичерину и Е. Ф. Коршу. Они сделали замечания, которые Толстой формулировал в дневнике словами: «Хотят
284
погрубее», но он нашел, что это их пожелание «вздор» (дневник 30 января).
Рассказ «Три смерти» был напечатан в № 1 «Библиотеки для чтения» за 1859 год.
Тургенев и близкие к нему литераторы отнеслись к рассказу Толстого с недоумением. «Три смерти», — писал Тургенев Толстому из Петербурга 11 февраля 1859 года, — здесь вообще понравились — но конец находят странным и даже не совсем понимают связь его с двумя предыдущими смертями, а те, которые понимают, недовольны»92.
В печати рассказ Толстого прошел почти незамеченным. Ни толстые журналы, как «Современник», «Отечественные записки», славянофильская «Русская беседа», ни большие распространенные газеты, как «Петербургские ведомости», «Московские ведомости», не откликнулись на рассказ ни одним словом. Краткие отзывы появились только в малораспространенных и вскоре прекративших свое существование еженедельных журналах «Русский мир» и «Северный цветок». Критик «Русского мира» ограничился тем, что назвал рассказ Толстого «замечательным по мысли и по художественному выполнению» и закончил свою миниатюрную рецензию словами: «Читатели призадумаются над этим маленьким и грациозным рассказом и, может быть, позавидуют, отчего не будут в состоянии умереть подобно дереву»93. «Рассказ графа Л. Н. Толстого «Три смерти», — писал рецензент журнала «Северный цветок»94, — решительно поставил нас втупик. Видно, что талантливый автор «Детства и Отрочества» хотел высказать глубокую мысль, но она осталась недосказанной, невыясненной, тем не менее рассказ мастерски написан, и сцена смерти ямщика поразительно верна, она невольно вырывает из груди глубокий вздох».
Юный Писарев, тогда еще студент Петербургского университета, напечатал критическую статью о рассказе Толстого в «журнале наук, искусств и литературы для взрослых девиц», носившем название «Рассвет».
Писарев начинает свою статью с характеристики «замечательного писателя графа Толстого». Как и Чернышевский, главную особенность таланта Толстого Писарев видит в том, что Толстой — «глубокий психолог». «Никто далее его, — говорит Писарев, — не простирает анализа, никто так глубоко не заглядывает в душу человека, никто с таким упорным вниманием, с такой неумолимой последовательностью не разбирает самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, повидимому, случайных движений души. Как развивается и постепенно
285
формируется в уме человека мысль, через какие видоизменения она проходит, как накипает в груди чувство, как играет воображение, увлекающее человека из мира действительности в мир фантазии, как в самом разгаре мечтаний грубо и материально напоминает о себе действительность, и какое первое впечатление производит на человека это грубое столкновение между двумя разнородными мирами, — вот мотивы, которые с особенной любовью и с блестящим успехом разрабатывает Толстой».
Указав далее на некоторые примеры из произведений Толстого, в которых проявились отмеченные им особенности его таланта, критик далее пишет:
«Какую бы сцену мы ни припомнили, везде мы встретим или тонкий анализ взаимных отношений между действующими лицами, или отвлеченный психологический трактат, сохраняющий в своей отвлеченности свежую, полную жизненность, или, наконец, прослеживание самых таинственных, неясных движений души, не достигших сознания, не вполне понятных даже для того человека, который сам их испытывает, и между тем получающих свое выражение в слове и не лишающихся при этом своей таинственности».
Далее Писарев подробно рассматривает все три эпизода рассказа Толстого; останавливается на отдельных сценах, выясняя их художественные достоинства; обращает внимание читательниц журнала на картины русской жизни и русской природы, «набросанные Толстым» и отличающиеся «удивительной яркостью целого»; говорит о силе психологического анализа, «который ни на минуту не оставляет Толстого, как бы ни были таинственны и, повидимому, недоступны для наблюдения выбранные им моменты внутренней жизни человека»; наконец, отмечает заканчивающую весь рассказ «картину природы, замечательную по свежести красок, по осязательности линий и контуров»95.
К числу незаконченных произведений Толстого данного периода относится начало рассказа, названного в дневнике «Светлое Христово воскресение». Рассказ этот возник следующим образом.
Вечером 22 марта 1858 года перед пасхальной заутреней Толстой зашел к Е. Ф. Коршу, а от него направился на Красную площадь, потом в Кремль, где видел «глазеющий народ» и зашел в церковь. Это вызвало в его дневнике следующую запись: «Хорошо. Христос воскресе!» Тогда же у Толстого явилась мысль описать душевное состояние человека, ранее твердо верившего по традиции, а затем утратившего веру. В его душе пустота; место, занятое раньше верой, теперь ничем не заполнено.
286
Содержание задуманного произведения Толстой на другой день, изложил в записной книжке 23 марта в виде следующего краткого конспекта: «Заутреня. Я не одет, иду домой. Толпы народа по мокрым тротуарам. Я не чувствую ничего, что дала жизнь взамен. Истину? Да она не радует, истина. А было время. Белое платье, запах вянувшей ели. Счастье».
Вполне возможно, что последний пункт конспекта — воспоминание о пасхальной заутрене и каком-то далеком прошлом, когда у заутрени была «она» в белом платье и юноша чувствовал «счастье», имеет автобиографический характер. Это воспоминание могло относиться к периоду яснополянской жизни Толстого 1848, 1850 или 1851 годов.
Рассказ ведется от первого лица. Неверующий интеллигент, как это и было с Толстым, проводит вечер перед пасхальной заутреней у приятеля, повидимому, ученого; жена уговаривает его пойти с ней к заутрене в университетскую церковь. Рассказчик, не имевший намерения идти в церковь, уходит домой, чтобы лечь спать, но дорогой встречает «толпы народа», от которых веет «готовящейся народной радостью», и в нем воскресает «старое забытое чувство праздника». Он идет на Кремлевскую площадь.
На этом начатый рассказ обрывается.
Впоследствии, как известно, пасхальная заутреня и с нею вместе молодая зарождающаяся любовь между Нехлюдовым и Катюшей составили содержание одной из глав романа «Воскресение».
Если к числу рассмотренных законченных и незаконченных повестей и рассказов Толстого прибавить еще заметку «о наказаниях», которой Толстой был занят 18 февраля 1858 года95а, то этим будет исчерпан весь список произведений, над которыми Толстой работал с октября 1857 года по март 1858 года.
XX
11 марта 1858 года Толстой выехал из Москвы в Петербург, где пробыл неделю.
В Петербурге Толстой увиделся с Некрасовым и передал ему для печати свою повесть «Альберт».
Заключенное в 1856 году «обязательное соглашение» между редакцией «Современника» и четырьмя его сотрудниками, в том числе и Толстым, по которому эти сотрудники все свои новые произведения обязывались печатать только в «Современнике», в феврале 1858 года, по обоюдному соглашению редакции и сотрудников, было ликвидировано. 10 февраля редакция «Современника»
287
обратилась к сотрудникам, подписавшим «обязательное соглашение», с просьбой о расторжении договора96. 22 февраля Некрасов отослал Толстому обращение редакции, оговорившись в письме, что упрек, содержащийся в обращении, к нему не относится (в обращении было сказано, что участники «обязательного соглашения» «легко отступали» от подписанного ими условия), так как он — «единственный, не нарушивший условия»97.
Толстой еще раньше, 17 февраля, писал Некрасову о своем решении «разорвать союз». Получив письмо Некрасова, он поспешил уведомить его о своем согласии расторгнуть договор.
До ликвидации «обязательного соглашения» Толстой продолжал принимать близко к сердцу направление «Современника» и литературное достоинство помещаемых в нем художественных произведений и статей. Так, в письме к Некрасову от 21 января он высказал свое мнение о первом номере «Современника» за 1858 год. Он считал, что номер этот «очень плох». Политическая статья «Кавеньяк» (Н. Г. Чернышевского), хотя и «хорошая» сама по себе, помещена первой в книжке, чем нарушаются «традиции» «Современника». «Ася» Тургенева, по мнению Толстого, «самая слабая вещь из всего, что он написал». «Политический перец», рассыпанный повсюду, а также в романе Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», данном в приложении, «не идет» «Современнику», как думает Толстой. Из этого письма видно, что расхождение Толстого с направлением «Современника» углублялось все больше и больше.
С ликвидацией «обязательного соглашения» Толстой получил возможность печататься в других журналах. Кончилось почти исключительное в течение семи лет сотрудничество Толстого в «Современнике»; с ним вместе закончилась и его дружеская переписка с Некрасовым, так поощрявшая его к литературной работе. С этого времени его переписка с Некрасовым — очень редкая — принимает исключительно деловой характер. Но у Толстого навсегда остались приятные воспоминания о времени своего сотрудничества в «Современнике» и близких отношений с редакцией этого журнала. 30 августа 1874 года, посылая Некрасову в «Отечественные записки» свою статью «О народном образовании», Толстой, отождествляя «Отечественные записки» с «Современником», писал ему: «Несмотря на то, что я так давно разошелся с «Современником», мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с вами очень
288
много хороших молодых воспоминаний»98. Такое же отождествление «Отечественных записок» с «Современником» находим и в письме Толстого к Н. Н. Страхову от 20 июня 1874 года. В этом письме Толстой, советуясь со Страховым о том журнале, в котором ему лучше напечатать свою статью «О народном образовании», писал ему: «Современнику» я почти обещал»99.
В этот свой приезд в Петербург Толстой виделся также с Дружининым, который был с ним «мил». Дружинину он говорил о своем проекте издания чисто художественного журнала, о чем Дружинин и сам думал независимо от Толстого; обедал у К. Д. Кавелина, причем увидал ясно, что идейно они друг другу чужды («мне с ним делать нечего», — записывает Толстой в своем дневнике о Кавелине); виделся с писателем Мельниковым-Печерским, который не произвел на него приятного впечатления; несколько раз бывал у своих теток Толстых. Виделся также с одним из прототипов своего «Детства» — А. М. Исленьевым, которому теперь в дневнике дал такую характеристику: «Сила страсти. Всё в нем гадко, ложно, но всё сильно».
Особо отмечает Толстой свое посещение Салтыкова-Щедрина, который прочел ему только что написанный им тогда очерк «Два отрывка из книги об умирающих», вызвавший в дневнике Толстого замечание: «Идеалист хорош». (Под словом «идеалист» Толстой разумел второго из описанных Щедриным «умирающих»). Тут же Толстой дал и общую оценку Салтыкова как писателя: «Он здоровый талант» (дневник 17 марта).
Салтыков дал Толстому поручение — передать этот очерк в Москве в редакцию «Русского вестника», что Толстой и исполнил. Дружественные отношения между Толстым и Салтыковым продолжались и по возвращении Толстого в Москву. Повидимому, Салтыков в этот свой приезд бывал у Толстого. Фет рассказывает, что он познакомился с Салтыковым у Толстого зимою 1858 года100. 4 апреля в дневнике Толстого записано, что в этот день он ужинал у Салтыкова, после чего следует характерная приписка: «Он упрекал меня в генияльности».
Кроме встреч с друзьями и знакомыми, Толстой в этот свой
289
приезд в Петербург осматривал Эрмитаж, где его внимание привлекли картины Руйсдаля, затем «Блудный сын» Рембрандта и «Снятие с креста» Рубенса, а также картины Стэна, в которых Толстой отметил «прелесть композиции». Менее понравились Толстому картины Мурильо.
17 марта Толстой выехал обратно из Петербурга в Москву101.
XXI
К первым месяцам 1858 года относится своеобразное сближение Толстого с молодым профессором Борисом Николаевичем Чичериным.
Ровесник Толстого, Чичерин в 1856 году защитил в Петербурге магистерскую диссертацию на тему «Областные учреждения в России в XVII веке». Тогда же познакомился с ним и Толстой. Знакомство продолжалось и в Москве, и 29 января 1857 года Толстой писал Боткину: «Познакомился я здесь получше с Чичериным, и этот человек мне очень, очень понравился». В феврале, марте и апреле 1858 года в дневнике Толстого отмечаются частые встречи с Чичериным, а в марте Толстой с ним вместе ездил в Петербург.
Как человек, Чичерин получает в дневнике Толстого противоположные оценки: то он представляется Толстому «несимпатичным», то, напротив, производит на него впечатление «хорошего человека». Иногда Чичерин казался Толстому «слишком умным», то есть человеком с преобладанием рассудка над чувством; такие люди Толстому всегда были антипатичны. Дважды Толстой отмечает в дневнике узость жизненных интересов Чичерина: «Чичерин не очень симпатичен и узок»; Чичерин «страшно узок, зато силен».
Чичерин чувствовал к Толстому большое расположение. В письме к Толстому от 18 апреля 1858 года Чичерин писал, что он «упорно желал сблизиться» с Толстым, что к нему он «почувствовал такое горячее влечение, какое некогда чувствовал к наставнику или к любимой женщине, но никогда еще в такой
290
степени к сверстнику», что он благословляет минувшую зиму за то, что она «прибавила новый элемент» в его жизни102. В своих «Воспоминаниях», написанных позднее (в 1891—1894 гг.), Чичерин так рассказывает о своих отношениях к Толстому в период их молодости: «Мы скоро с ним сблизились. Меня привлекала эта чуткая, восприимчивая, даровитая, нежная, а вместе с тем крепкая натура, это своеобразное сочетание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то особенную прелесть и оригинальность. Мы виделись почти каждый день, иногда ездили ужинать вдвоем и вели долгие беседы... Наклонность его преследовать всякую позу в себе и других, которая привела к столкновению его с Тургеневым, никогда не вносила ни малейшей тени в наши взаимные отношения. Мы жили душа в душу»103. Они перешли на «ты».
В своем дневнике 12 февраля Толстой записывает, что Чичерин в ресторане за стаканом вина говорил ему, что любит его. «Я благодарен ему и горд этим, — пишет Толстой далее. — Он мне очень полезен. Но сильного влеченья еще нет к нему», — оговаривается Толстой.
«Польза», которую Толстой извлекал из общения с Чичериным, состояла в том, что из бесед с ним Толстой близко узнавал метод научного исследования, в частности, метод исторического подхода к событиям жизни человечества. «С Чичериным много видимся. Уважаю и люблю науку», — записывает Толстой 13 марта. Прочитав статью Чичерина «Промышленность и государство в Англии», которую он нашел «страшно интересной». Толстой пишет: «С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры. Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном — в истории» (дневник 20 марта).
Характерно, что Толстой называет здесь «вечным» не религиозно-нравственные истины и не совершенные произведения искусства, которые обычно он называл «вечными», а ход всемирной истории. Но то, что Толстой начинал становиться на историческую точку зрения, не означало того, что Толстой отказывался от религиозного воззрения на жизнь; религия и тогда играла некоторую роль в его жизни и творчестве. В неизменных законах природы ему видится «Он» (письмо к А. А. Толстой 1 мая 1858 года). Но Толстой отрицает церковную религию. Он находит бессмысленным учить ребенка «Верую» (записная книжка 1858 года).
291
Толстой сознавал, что его религиозность находится в противоречии с другим свойством его натуры — его жизнерадостностью, любовью к жизни во всех ее проявлениях. В письме к А. А. Толстой от 1 мая 1858 г., говоря о свойственном ему непосредственном инстинктивном единении с природой, Толстой далее пишет: «Во мне есть, и в сильной степени, християнское чувство; но и это есть, и это мне дорого очень. Это — чувство правды и красоты; а то чувство личное — любви, спокойствия. Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать; но сидят кошка с собакой в одном чулане — это положительно». Под словом «правда» Толстой разумел здесь, очевидно, приятие (а не отрицание) всей «мирской» жизни в целом.
Из всех знакомых Толстому литераторов и ученых его религиозность могла находить сочувствие только у славянофилов. Представители всех других общественно-политических и литературных течений — революционеры-демократы, либералы-западники, критики эстетической школы относились к этой стороне миросозерцания Толстого с недоумением или даже с враждебностью. Тургенев в своем письме к Толстому от 25 ноября (7 декабря) 1857 года по поводу замечания Толстого, что он не хочет быть только литератором, задавал ему вопрос, кто же он такой, если не литератор, и в числе возможных ответов на этот вопрос полушутя спрашивал его, не основатель ли он «нового религиозного учения»104.
Боткин в ответ на замечание Тургенева о том, что в очерке Толстого «Люцерн» есть нечто напоминающее «краткий православный катехизис», писал ему 7 августа 1857 года: «Православный катехизис Толстого меня тоже очень сильно озадачивает, и я не могу себе объяснить, как он так глубоко уселся в нем. Сжатость и ограниченность воззрения смущает меня, между тем как, с другой стороны, пытливость его и анализ идут до нелепых даже крайностей. В одном из писем я ему рекомендовал было прочитать «Stoff und Kraft» [«Вещество и сила»] Бюхнера — весьма отрезвляющую книгу в его несколько опьяненном состоянии»105. Позднее Боткин в одном из писем к Толстому намекал, повидимому, на их разногласие в религиозном вопросе, когда писал ему: «Спасение России не в житье по народному (Вы следуете отчасти народным суевериям), а в разуме и цивилизации»106.
Так же отрицательно относился к религиозным взглядам Толстого и Чичерин.
292
Толстой в дневнике называет Чичерина «эллином» и несколько раз отмечает свои споры с ним о Христе и о христианстве. Чичерин, повидимому, развивал перед Толстым ту точку зрения, что нельзя принимать на веру нравственные правила только потому, что кто-то так приказал. Свой ответ Чичерину по этому вопросу Толстой записал в дневнике 1 апреля: «Христос не приказал, а открыл нравственный закон, который навсегда останется мерилом хорошего и дурного».
Религиозный вопрос был причиной расхождения между Толстым и Чичериным, но разногласие это еще не отдалило их друг от друга.
Чичерин в апреле 1858 года, получив командировку от Министерства народного просвещения, уехал за границу, «чтобы ближе узнать Европу и вместе приготовиться к ученой деятельности». Между ним и Толстым завязалась переписка, правда — не особенно оживленная.
293
Глава шестая
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1858—1859 ГОДАХ
(Ясная Поляна, Москва)
I
9 апреля 1858 года, рано утром, Толстой вместе с Фетом и его женой выехал из Москвы в Ясную Поляну. «Новые радости, как выедешь из города», — записал он в дневнике.
В Ясную Поляну приехали в ночь того же дня. Фет с женой на другой день уехал в свое имение Новосёлки в восьми верстах от Мценска.
Наступление весны, как всегда, подействовало на Толстого возбуждающим и бодрящим образом. Об этом он в восторженных выражениях писал 14 апреля своему другу А. А. Толстой:
«Весна!... В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность, и прелестная будущность... По этому случаю к этому времени идет такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытавший этого чувства, не может себе представить. Все старое прочь, все условия света, всю лень, весь эгоизм, все запутанные, неясные привязанности, все сожаленья, даже раскаянье — всё прочь!...»
1 мая Толстой опять пишет тому же адресату о том, как действует на него весна: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве... Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья. «И ринься бодрый, самовластный в сей животворный океан» — Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки».
Толстой с воодушевлением заносит в дневник свои наблюдения над воскресающей природой.
«Прелестный день, прёт зелень, и тает последнее. Грустил и наслаждался» (20 апреля).
«Чудный день» (21 апреля).
«Ветер, холодный, почки надуваются, третьего дня были подснежники. Соловей поет второй день» (23 апреля).
«Уже и желтые цветы показались. Был дождичек теплый утром. На березах желтый, зеленый нежный покров» (24 апреля).
294
«Играл часа три сикстами три аккорда под соловьев и наслаждался» (26 апреля).
Последняя запись, говорящая об очень интересном опыте Льва Николаевича, поясняется его письмом к А. А. Толстой от 1 мая. Здесь Толстой рассказывает: «На днях я, по своему обычаю, тапотировал1 сонаты Гайдна, и там сиксты. Вдруг слышу на дворе и в тетенькиной комнате (у нее канарейка) свист, писк, трели под мои сиксты. Я перестал, и они перестали. Я начал — и они начали (два соловья и канарейка). Я часа три провел за этим занятием, а балкон открыт, ночь теплая, лягушки свое дело делают, караульщик свое, — отлично!»
Наслаждение красотами природы продолжалось и в летние месяцы. 14 июня Толстой записывает: «Ночь удивительная. Росистый белый туман, на нем деревья. Луна за березами и коростель».
Через два дня: «Нельзя уйти с балкона до 12. Ночь с луной перевернутой — черная, коростели везде».
Чувство радости жизни и единения с природой принимало, как это часто бывало у Толстого, религиозный характер. «Я молился богу в комнате перед греческой иконой Богоматери, — записывает он 20 апреля. — Лампадка горела. Я вышел на балкон, ночь темная, звездная. Звезды туманные, звезды яркие, кучи звезд, блеск, мрак, абрисы мертвых деревьев. Вот он. Ниц перед ним и молчи! Все будет вздор».
Толстой находил поэзию и в патриархальном деревенском быту, неразрывно связанном с церковной обрядовой религией. 13 мая, на третий день после церковного праздника, Толстой записывает в дневнике: «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках». А накануне он в восторженных выражениях писал Фету о красоте этого праздника: «Какой Троицын день был вчера! Какая обедня, с вянущей черемухой, седыми волосами и ярко красным кумачом, и горячее солнце».
II
Еще находясь под впечатлением своих московских занятий, Толстой сейчас же по приезде в деревню принимается за продолжение «Казаков».
Уже 11 апреля он «писал с увлечением письмо офицера о тревоге». Здесь говорится о поэтическом рассказе героя «Казаков», который в то время носил фамилию Ржавский, в письме к приятелю о том, как, отправившись на прогулку, он увлекся, зашел далеко, заблудился, и ему стало жутко. Но вскоре он попал на кордон, где встретился с молодым казаком Киркой. Ржавский любуется Киркой и старается в письме к приятелю
295
передать все то обаяние, какое имел в его глазах этот казак. Он говорит, что хотя ни в чертах лица, ни в сложении Кирки не было «ничего необыкновенного», но в целом «столько гармонии и природной грации и, главное, силы, причем во всех частностях столько нежного, изящного», что, как кажется Ржавскому, «всякий должен непременно так же подчиненно полюбить этого казака», как он полюбил его.
Ржавский поговорил с Киркой, послушал его пение, и ему стало «удивительно хорошо на душе». «Все, что я видел, — пишет Ржавский приятелю, — казалось прекрасно, ново: и мрак, сгущавшийся на лес, и ветер, шумно и высоко говорящий в вершинах, и дикие крики шакалов близко по обеим сторонам дороги. На душе легко, ясно, в теле сильная здоровая усталость и голод; природа везде, со всех сторон, и в тебе самом». (Выражение «природа в тебе самом» характерно для Толстого, который, как сказано было выше, оставался холоден к знаменитым швейцарским видам именно потому, что природа являлась в них для него чем-то чуждым, далеким.)
В другом варианте того же письма к приятелю Ржавский признается, что он «влюблен» в этого казака, в котором «все хорошо, все свежо, здорово, не испорчено». «Невольно, — пишет далее Ржавский, — глядя на эту первобытную богатую натуру, думается: что, ежели бы с этой силой человек этот знал, что хорошо, что дурно? Говоря с Киркой, я был поражен этим отсутствием всякого внутреннего мерила хорошего и дурного»2.
Толстого волнует здесь тот же вопрос, который он ставил перед собой за год до этого во время чтения «Илиады». Как тогда он недоумевал, «как мог Гомер не знать, что добро — любовь», так и теперь он устами своего героя недоумевает, почему этот, столь пленивший его своим нравственным здоровьем и неиспорченностью молодой казак совершенно лишен сознания добра и зла, понимаемого Толстым в христианском смысле.
За первым письмом Ржавского к приятелю Толстой пишет второе его письмо. Он опять погрузился в милые для него воспоминания о поэтическом Кавказе.
Второе письмо Ржавский начинает с упоминания о том, как его герой Кирка «отличился», убив чеченца, и с тех пор стал держать себя «аристократом». «Странное дело, — размышляет по этому поводу Ржавский, а с ним вместе и Толстой, — убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой-нибудь прекрасный поступок. А еще говорят: человек — разумное и
296
доброе существо. Да и не в одном этом быту это так; разве у нас не то же самое? Войны, казни».
Толстой, еще раньше в «Севастополе в мае» выступивший противником войны, теперь, после того как ему пришлось в Париже увидеть смертную казнь, выступает также противником и смертной казни. «Напротив, — размышляет далее Ржавский, — здесь это еще менее уродливо, потому что проще».
Описывая, как брат убитого приехал выкупать его тело, Ржавский отмечает радость, которую Кирка выказывал при этом. «И чего радуется? — думал я. — А радуется искренно, всем существом своим радуется. Невольно мне представлялась мать, жена убитого, которая теперь где-нибудь в ауле плачет и бьет себя по лицу». И Ржавский приходит к пессимистическому выводу: «Глупая штука жизнь, — везде и всегда».
Далее Ржавский объявляет себя (совсем как Толстой) имеющим «природное отвращение ко всем битым дорожкам»; поэтому он не хочет жить так, как живут другие офицеры в станицах. И вот в чем проявилась его оригинальность: «Я открыл, — пишет он приятелю, — необитаемого Ерошку, я открыл Кирку, я открыл Марьяну с своей точки зрения. Я открыл здешнюю природу, здешний лес, удовольствие тратить свои силы».
Кончается письмо портретом Марьяны, причем Ржавский говорит, что никакой близости между ним и Марьяной нет. Он просто любуется ее красотой так же, как любуется красотой гор и неба3.
Это второе письмо Ржавского имеет несколько редакций. В следующей редакции уже дано то изображение отношений между Марьяной и офицером, какое находим в окончательном тексте повести. Ржавский пишет, что Марьяна не понимает его и никогда не поймет, но не потому, что она ниже его, а потому, что выше. «Она счастлива, она, как природа, спокойна, ровна сама в себе, а я, исковерканное, слабое существо, хотел, чтобы она поняла мои мученья. Нет, я хочу быть хоть на миг причастным ее силе и ровной радостной жизни, но не могу и думать подняться на ее высоту. А избави бог, чтобы она снизошла до меня — тогда ее не будет... Вот когда я думаю самому быть казаком Киркой, ходить босым по росе, красть табуны, заливаться песней, но мне не дано это».
Идеальная платоническая любовь кажется Ржавскому чем-то ничтожным по сравнению с тем чувством, которое он испытывает к Марьяне. «Возвышенная, идеальная любовь! — иронически восклицает он. — ...Испытывал я это натянутое, тоненькое одностороннее, личное уродливое чувство, я тоже думал, что любил так
297
Анну Дмитриевну. Тогда я прикидывался, что люблю, любовался на свое чувство, и всё делал я. Нет, теперь не я, не она, а через меня любит ее всё, вся природа, весь мир божий, любовь эту вдавливает весь мир в мою душу, я чувствую себя частью всего целого, любя ее, и люблю всем, всем существом своим».
Далее, после описания своих встреч с Марьяной, Ржавский пишет о стычке казаков с чеченцами, во время которой Кирка был тяжело ранен; рассказывает, что на лице Марьяны, которая любила Кирку, видна была «красивая глубокая печаль»; описывает, как Марьяна прогнала его от себя и назвала «постылым». Далее на том же листе бумаги набросано содержание следующих глав: Кирка выздоравливает и женится на Марьяне, но офицер продолжает любить ее. В следующем письме к приятелю он пишет: «Я думал, что нашел правду, нет, — красота пришла и сломала всё»4.
К лету 1858 года были написаны или во всяком случае намечены черновые редакции почти всех основных глав окончательного текста «Казаков», — того, что Толстой называл тогда первой частью своего «кавказского романа». Толстой пробовал писать и вторую часть «Казаков» — ту, в которой говорится о столкновении Кирки с офицером на почве ревности, о его бегстве в горы к чеченцам, жизни в горах, возвращении в станицу и гибели. Но это оказалось гораздо труднее. «Бегство в горы не выходит»; «заколодило на бегстве в горы», — записывает Толстой в дневнике. Между тем ему казалось необходимым для соблюдения единства произведения («а то не сойдется») написать несколько глав из второй части.
9 мая Толстой пишет главу о возвращении Кирки. В этой главе рассказывается, как Кирка, пытавшийся из ревности убить офицера, после двух лет жизни в горах, соскучившись по родине и по Марьяне, темной дождливой осенней ночью вместе с приятелем чеченцем тайно приходит к дяде Ерошке. Марьяна, которая живет одна с маленьким сыном, не забыла его. Она видится с ним у дяди Ерошки. На третий день был праздник; Кирка пришел в часовню, его узнали, схватили и повесили. Офицер в отчаянии. Он пишет приятелю, что он видел «страшную вещь» — казнь казака, обвиняет себя и в то же время чувствует, что не виноват.
Это письмо Ржавского к приятелю едва намечено в рукописи. Толстой остался недоволен написанным, находя, что писал «немного невнимательно»; тем не менее вся эта глава, оставшаяся
298
в черновом виде и ни разу не перечитанная автором, производит сильное впечатление5.
На этом закончился данный период работы Толстого над повестью «Казаки». Все лето 1858 года Толстой был погружен в хозяйственные дела и не брал пера в руки.
III
Когда Толстой писал своей тетушке Александре Андреевне, по приезде в деревню, о той «внутренней переборке», которая началась в нем с наступлением весны, и о том, что он отбрасывает все «запутанные, неясные привязанности», он, несомненно, имел в виду, прежде всего, свои отношения с Б. Н. Чичериным. Накануне он написал Чичерину письмо, в котором высказал откровенно мнение о своем друге, сказав, что он, Чичерин, обладает широким взглядом «в мире действительном», но «в душевном он ужасно узок». Под широтой взгляда «в мире действительном» Толстой разумел, конечно, обширные познания Чичерина в экономической и юридической областях. Но Толстой, как мы видели, и раньше нередко обвинял Чичерина в узости его взглядов.
21 апреля Толстой получил от Чичерина письмо перед отъездом его из Москвы за границу. В письме этом Толстой увидал «что-то не то». В уединении он старается отдать себе отчет, что же именно «не то» в его отношениях с его новым другом, и приходит к заключению, что он, Толстой, «лил в него все накипевшие чувства, — через него скорее». Это означало, что сущность их отношений состояла в том, что Толстому нужен был близкий друг, которому он мог бы свободно изливать все свои самые сокровенные мысли и чувства, и он вообразил себе такого друга в лице Чичерина.
Теперь Толстой сомневается в том, что Чичерин действительно близок ему по уму и сердцу. Он не спешит с ответом Чичерину и отвечает ему лишь через четыре месяца.
Не то было с другим, испытанным другом Толстого — его теткой Александрой Андреевной, хотя уединение и на эти отношения набросило легкую тень скептицизма. 25 апреля, получив какое-то, не сохранившееся в его архиве, письмо от «Александрин», Толстой заносит в свой дневник: «Начинает мне надоедать ее сладость придворно-христианская». Но замечание это, в котором сквозит легкое раздражение, тут же зачеркивается.
Что касается самой А. А. Толстой, то она была неизменно верна в своих дружеских отношениях к племяннику; в ее дружбе не бывало никаких, даже кратковременных колебаний. 9 мая она
299
писала Толстому: «Временами на меня нападает настоящая Heimweh [тоска по родине] по отношению к вам... В вас есть какая-то благотворная жизненность, которая всегда действует на меня вполне определенно»6. Получение писем от Льва было для нее большой радостью. 30 марта она писала: «Как приятно и неожиданно было для меня явление вашего письма. Я радовалась и улыбалась ему целый день, чувствуя, как оно шевелилось в моем кармане...»7.
С мая 1858 года у Толстого начинается оживленная переписка с А. А. Фетом, продолжавшаяся более двадцати лет. Кроме того, что Толстой считал Фета истинным поэтом, Фет нравился ему как человек. Фет для Толстого «милашка» (дневник 4-го сентября 1859 года), «драгоценный дяденька» (письмо к Фету 15 февраля 1860 года). Сначала переписка Толстого с Фетом носила просто дружеский характер, но затем Толстой начал сообщать Фету свои мнения о последних появлявшихся в печати литературных произведениях и о стихах самого Фета. Позднее, в 1870-х годах, в эпоху своего духовного кризиса, Толстой делился с Фетом самыми задушевными своими мыслями по самым важным вопросам.
Фет был горячим поклонником художественного гения Толстого. С большим удовольствием поспешил он 12 июля 1858 года послать Толстому полученную им от Боткина вырезку из английского журнала «Continental Review», где была напечатана статья о «Детстве» Толстого с большими цитатами из этой повести и с хвалебными отзывами о ней8. «Как я за вас радовался от души, — писал Фет. — Дай бог, чтобы за меня так радовались. Некому»9. В этих словах Толстой увидал даже некоторую зависть Фета к его таланту, как записал он в дневнике 19 июля.
Но ни Чичерин с его академической ученостью, ни А. А. Толстая с ее ортодоксальной религиозностью, ни Фет и Боткин с их узким миросозерцанием и эстетизмом не могли быть для Толстого теми друзьями, каких ему недоставало. О том, какого друга хотел бы иметь Толстой, мы узнаем из его отзыва о «Переписке» Н. В. Станкевича, которая тогда только что вышла
300
в свет. «Никогда никакая книга не производила на меня такого впечатления, — писал Лев Николаевич об этой книге 23 августа А. А. Толстой. — Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видал. Что за чистота, что за нежность! Что за любовь, которыми он весь проникнут...»
«Читал ли ты переписку Станкевича? — писал Толстой в тот же день Чичерину. — Боже мой! Что это за прелесть. Вот человек, которого я любил бы, как себя».
Но судьба не послала Толстому такого друга.
IV
Приехав в деревню, Толстой, пока еще его не захватили хозяйственные заботы и физический труд, стал продолжать начатые им в Москве занятия гимнастикой. Он устроил себе в Ясной Поляне различные гимнастические приспособления, какие видел в Москве, и проделывал на них самые разнообразные упражнения. Об этом с присущим ему юмором рассказывал Фету брат Толстого Николай Николаевич: «Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе. «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось, не то приказания слушать, не то на него дивиться»10.
Повидимому, к этому же времени относится и воспоминание сестры Толстого Марии Николаевны, записанное в 1911 году Д. П. Маковицким, как ее горничная Агафья Михайловна, которую она послала ко Льву Николаевичу за какими-то приказаниями, ответила ей: «Я не пойду, идите сами, он там голый кувыркается»11.
Сам Толстой впоследствии вспоминал, с каким увлечением он в то время по целым часам занимался гимнастическими упражнениями. Особенно он любил прыгать через кобылу12. Но по мере развития хозяйственной деятельности занятия гимнастикой, естественно, отошли на второй план.
Лето 1858 года было для Толстого временем горячего увлечения хозяйством. Его записная книжка того времени полна самыми
301
разнообразными записями, касающимися работ в поле, в лесу, на огороде, в парке, на усадьбе. Он заводит усовершенствованные сельскохозяйственные орудия: плуги, скоропашки (сельскохозяйственное орудие, представлявшее собою нечто среднее между плугом и сохой), железные бороны; покупает и продает лошадей; разводит и продает оранжерейные деревья13; подсаживает деревья в парке; читает руководства по сельскому хозяйству; всюду отыскивает удобрение для полей, лугов; заботится об упорядочении эксплуатации леса, о починке мостов и делает множество других дел в разных отраслях хозяйства. 19 июля Толстой записывает: «Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве».
Участие в сельскохозяйственном труде имело для Толстого и поэтическую сторону: для него это было одной из форм единения с природой. Так, в апреле он записывает о своей «радости при виде первого сева».
Толстой был не только распорядителем работ, но и сам принимал в них непосредственное участие. «Целое лето я с утра до вечера пахал, сеял, косил и т. д.», — писал он А. А. Толстой 23 августа. С обычным своим юмором Н. Н. Толстой рассказывал Фету об увлечении брата сельскохозяйственным трудом: «Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует»14.
В разгаре увлечения сельскохозяйственным трудом застал Толстого Тургенев, видевшийся с ним в это лето дважды: 11—12 июня в Ясной Поляне и в августе у себя в Спасском. Об этих встречах с Толстым Тургенев 25 августа писал Дружинину: «Толстого я видел мельком, раз у него, раз у себя. — Он весь теперь погрузился в агрономию, таскает сам снопы на спине, влюбился в крестьянку — и слышать не хочет о литературе»15.
Толстой в то время действительно был «влюблен в крестьянку», что он не пожелал скрыть от Тургенева. Крестьянка эта — замужняя женщина из принадлежавшей Толстому деревни Грецовки в десяти верстах от Ясной Поляны, Аксинья Александровна Базыкина, которой в то время было 23 года. Толстой находился с ней в близких отношениях. Некоторые записи
302
дневника Толстого того времени говорят о его сильном увлечении этой женщиной. Так, 8 мая он записывает: «Я был влюблен целый день». Затем 13 мая: «Видел мельком А. Очень хороша... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли». Но такое чувство к этой женщине не было у Толстого постоянным. «Она мне постыла», — записывает он 16 июля. Близкие отношения Толстого с А. А. Базыкиной продолжались все лето до самого отъезда его в Москву.
V
К лету 1858 года относится попытка Толстого вести свое хозяйство на новых началах. Попытка эта изображена в истории отношений Левина к крестьянам16. Левин приходит к выводу, что для того, чтобы хозяйство шло успешно, нужно заинтересовать работников в его успехе. Чтобы достигнуть этой цели, Левин предлагает крестьянам вести различные отрасли хозяйства на артельных началах, причем он и сам вступает в артель в качестве одного из пайщиков. Все свое хозяйство Левин поделил на отдельные статьи: скотный двор, огород, покосы, поле, разделенное на несколько отделов.
Краткие и немногочисленные записи дневника Толстого за летние месяцы 1858 года содержат неясные указания на какие-то новые отношения с крестьянами. Несколько раз отмечаются устраиваемые Толстым крестьянские сходки. Так, 9 мая была какая-то сходка «о лесах», которая «не уладилась». 22 июля отмечена сходка относительно покоса («записываются косить; о мальчиках крик». Вероятно, речь идет о горячих спорах относительно того, отводить ли покосы не только на взрослых, но и на мальчиков). Далее в дневнике записано: «На другой день косьба». Очевидно, разумеется косьба всей артелью, в которой, повидимому, и Толстой принимал участие. Надо думать, что именно такую свою косьбу с крестьянами описал Толстой в тех главах «Анны Карениной», где рассказывается о косьбе Левина17.
Были два препятствия, которые мешали Толстому (как и Левину) успешно проводить задуманное им дело. Первое препятствие состояло в недоверии крестьян к нему, как к помещику, — то самое недоверие, которое он видел еще в годы своих первых попыток благотворительной деятельности среди крестьян. Левин, как и Нехлюдов в «Утре помещика», видел, что у крестьян существовало «непобедимое недоверие к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, кроме желания обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены
303
в том, что настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им».
Второе препятствие, которое испытывал Левин, состояло в том, что крестьяне с полным недоверием относились к новым приемам хозяйства, которые он хотел ввести, и к употреблению новых сельскохозяйственных орудий.
Толстому были очень тяжелы недоразумения с крестьянами. 19 июля он записывает в дневнике: «Сражение в полном разгаре. Мужики пробуют, упираются. Грумантские пасмурны, но молчат. Я боюсь самого себя. Прежде незнакомое мне чувство мести начинает говорить во мне; и месть к миру. Боюсь несправедливости».
Толстому, однако, удалось преодолеть все эти трудности, и к концу лета он был доволен достигнутыми результатами. Чичерину он писал 23 августа: «Построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи стоит чего-нибудь и, главное, успеть — дает гордую радость. Быть искушаемым на каждом шагу употребить власть против обмана, лжи, варварства, и не употребляя ее, обойти обман — штука! И я сделал ее. Зато и труда было много; зато и труд вознагражден».
Еще в другом отношении Толстой был доволен своим опытом, как писал он в том же письме: благодаря этому опыту он приобрел «огромное новое содержание». Близкие отношения с крестьянами и непосредственное общение с ними в труде значительно обогатили жизненный опыт Толстого, еще больше усовершенствовали его знание жизни и психологии русского крестьянина.
Была одна причина личного характера, которая особенно поощряла Толстого в начатом им деле. Причина эта состояла а том мрачном настроении, которое нередко испытывал Толстой в этот год, вследствие тяготившего его одиночества и начавшегося отхода от любимого дела — литературы. Это мрачное настроение доходило даже до боязни смерти, хотя Толстой чувствовал себя в то время совершенно здоровым.
Относительно Левина, в период его увлечения сельскохозяйственными артелями, в «Анне Карениной» рассказывается: «Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственною руководительною нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него».
Левин при встрече с Щербацким говорил, что ему «умирать пора»18. Так же точно и Толстой то самое письмо к Чичерину,
304
в котором он с увлечением рассказывал о своей деятельности в Ясной Поляне и о достигнутых им результатах, заканчивал словами: «Пора умирать нашему брату, когда не только не новы впечатленья бытия, но нет мысли, нет чувства, которое невольно не привело бы быть на краю бездны».
Временами это мрачное настроение ослаблялось и теряло свою напряженность и остроту; но чувство глубокой неудовлетворенности своей жизнью не покидало в то время Толстого.
VI
Хотя Толстой и считал себя «неполитическим человеком», но окружающая жизнь не давала ему возможности уйти от решения общественно-политических вопросов и заставляла невольно задумываться над ними. В первую очередь таким вопросом был, конечно, вопрос об отмене крепостного права.
В январе 1858 года Толстой, как сказано выше, провел четыре дня у двоюродной сестры своей матери, княжны В. А. Волконской, в ее имении Соголево Московской губернии. Здесь он 18 января делает в записной книжке следующую запись: «Жизнь помещика с рабством, насилием и т. п. все-таки хороша. Как представить себе человека, это преимущественно любящее создание, без любви и без всего прелестного».
Толстой, как вспоминал он впоследствии, приехал к В. А. Волконской, «устав от рассеянной светской жизни» в Москве19. Ему особенно приятно было после московской суеты оказаться в тихой деревенской глуши со «всем прелестным», что он видел в этой глуши. Кроме того, он сравнивал свою одинокую, без сильных привязанностей, городскую жизнь и жизнь этой старой женщины (которой было в то время уже 73 года) с ее заботами о дворовых и крестьянах, и не мог в этом отношении не отдать преимущества ее жизни перед своей. По рассказам современников20, В. А. Волконская относилась к своим крестьянам всегда гуманно, и местные крестьяне сохранили к ней хорошее отношение вплоть до того времени, когда она после отмены крепостного права в глубокой старости (она умерла 93 лет) доживала свой век в том же небольшом доме в селе Соголево, в котором посетил ее Толстой.
Этим объясняется такая на первый взгляд странная, непонятная запись дневника Толстого.
Толстой знал, конечно, что не все помещики были такие, как В. А. Волконская, что среди помещиков были и такие, как
305
отец его знакомого И. П. Борисова, о котором Толстой писал, что это был «злодей, повешенный своими мужиками»21.
25—26 марта Толстой читал в «Русском вестнике» «славную», как он называет ее в дневнике, статью Кокорева «Взгляд русского на европейскую торговлю». Статья эта возбудила в нем целый ряд мыслей.
Кокорев в своей статье отстаивал необходимость отмены крепостного права на том основании, что «вольный труд» «спорее и толковее» подневольного; доказывал необходимость введения усовершенствованных способов обработки земли и применения новейших сельскохозяйственных орудий; указывал на нецелесообразность, принимая во внимание природные условия, современного размещения фабрик как в Европе, так и в России; высказывал пожелание, чтобы фабрики устраивались в деревнях, а не в столичных городах, чтобы крестьяне могли работать на фабриках, проживая у себя дома; перечислял многочисленные виды кустарной промышленности, существующие в различных местностях России и требующие внимания и поощрения. Вместе с тем, развивая славянофильские воззрения, Кокорев в этой статье восставал против роскоши высших сословий, оторвавшихся от народа. «Передовые сословия, развивая себя в роскоши, — писал Кокорев, стараясь выражаться «по-образованному» и коверкая язык, — мало вникали в своем жалком и несчастном заблуждении в то, что они действуют не только во вред свой, но даже и во вред собственных детей... Как роскошь шла вперед, не оглядываясь на народ, не справляясь со средствами земли и не улучшая ее растительности, то и оказалось, что земля уже не в силах наконец оплачивать роскошь передовых сословий».
Толстой не соглашается с Кокоревым в его отрицательном отношении к роскоши. Он возражает Кокореву: «Роскошь не зло. Калач лучше муки». Но тут же Толстой излагает свои соображения о том, когда роскошь становится злом. Он говорит: «Но роскошь должна вытекать из потребностей всего народа; а беда, когда народ против воли продолжает свободно роскошь, начатую при неволе. Наша несовместимость освобождения и железных дорог» (записная книжка 25 марта).
Мысль Толстого, выраженная в этих словах, состоит, очевидно, в том, что, по его мнению, такие сооружения, как железные дороги, требующие колоссальных трат человеческих сил и жизней, обусловливаются «неволей» принудительного труда. «Неволя» эта — крепостное право. Ему казалось невозможным («несовместимым»), чтобы освобожденный от крепостной неволи народ добровольно стал тратить свои жизни на такой губительной
306
работе, как постройка железных дорог. Он не представлял еще себе вполне ясно того, что освобожденные от крепостной неволи крестьяне, вследствие малоземелья и других причин, попадут в еще худшую кабалу к капиталистам, чем та, в которой они находились у помещиков.
В течение всего 1858 года в Петербург продолжали поступать адреса от дворянства разных губерний с просьбой о разрешении открывать губернские комитеты для обсуждения вопросов об улучшении быта помещичьих крестьян. Тульское дворянство принадлежало к числу самых отсталых. Оно выразило желание об организации Комитета по крестьянскому делу лишь в двадцать третью очередь. По предложению тульского губернского предводителя, уездные предводители дворянства обратились к проживавшим в их уездах дворянам с вопросом: «не угодно ли им приступить к открытию комитетов для устройства быта крестьян». Толстой и двое других помещиков Крапивенского уезда на это предложение письменно ответили согласием22. Только 15 апреля 1858 года состоялся съезд тульских дворян для обсуждения вопроса о том, открывать или нет в Туле комитет «для составления проекта положения об устройстве быта крестьян». Большинство (1000 голосов) высказалось за немедленное открытие комитета, 335 голосов, признавая нужным открытие комитета, предлагали его отложить, а четверо дворян Каширского уезда высказались в том смысле, что они «не находят нужным приступить к улучшению быта крестьян по хорошему состоянию их»23.
Губернское дворянское собрание для выбора членов комитета было назначено на 1 сентября 1858 года.
На собрание прибыло всего 415 дворян. Среди собравшихся сразу наметились две партии — консервативная и либеральная. Во главе либеральной партии стояли князь В. А. Черкасский и князь П. Д. Долгоруков.
Князь Владимир Александрович Черкасский, публицист славянофильского направления, впоследствии был одним из главных деятелей крестьянской реформы. Состоя членом Редакционной
307
комиссии, он выработал основной план Положения 19 февраля 1861 года. Первоначальный проект Положения весь был написан его рукой.
Толстой слышал о Черкасском еще до своего личного знакомства с ним (Черкасский был богатым помещиком Веневского уезда Тульской губернии). Он имел репутацию либерала и «эмансипатора»; между тем вот что пишет о нем Толстой в своей записной книжке в сентябре 1856 г.: «Князь Черкасский, эманципатор, за то, что его охотники к охоте его величества опоздали, одного — в солдаты, другого порол». Лично Толстой познакомился с Черкасским в Москве, в январе 1856 года. В одной записи дневника Толстого того времени Черкасский характеризуется как «сухой диалектик», в другой — как «хороший человек — полезный».
Другой предводитель либеральной группы тульских дворян того времени, князь Петр Дмитриевич Долгоруков, в молодости был, по выражению друга Пушкина, князя П. А. Вяземского, одним из тех «молодых людей наглого разврата и охотников до любовных сплетен и всяческих интриг», которыми окружал себя враг Пушкина, приемный отец Дантеса, барон Геккерен. В настоящее время считается установленным, что именно Долгоруков был автором того отвратительного пасквиля на Пушкина, рассылавшегося разным лицам, который был одним из главных толчков к дуэли.
В 1841 году Долгоруков издал за границей на французском языке книгу «Заметки о главнейших родах России», после чего был вызван в Россию и сослан в Вятку, где пробыл до 1844 года. В 1859 году Долгоруков тайно выехал за границу, где в следующем году издал резкий памфлет под заглавием «La vérité sur la Russie» [«Правда о России»]. Не явившись на вызов правительства, Долгоруков был лишен титула и всех прав состояния и объявлен изгнанным из России. Живя за границей, Долгоруков поддерживал сношения с Герценом.
В письме к Н. В. Путяте от 19 сентября 1858 года Долгоруков сообщал интересные подробности о тульском съезде дворянства. Он писал, что среди тульских дворян оказалось много крепостников, или, как он их называет, «стародуров»; сообщал, что дворяне Чернского уезда на своем собрании вынесли постановление, принятое большинством 26 голосов против семи, о том, чтобы выбранные дворянством в губернский комитет депутаты ни в каком случае не соглашались ни на выкуп крестьянских земель, ни даже на выкуп их усадеб. Чернские дворяне просили поставить их постановление на баллотировку всего собрания, но председатель, губернский предводитель дворянства Арсеньев, в этом им отказал, так как вынесенное ими постановление противоречило рескриптам Александра II.
308
«Тут поднялся, — писал Долгоруков, — ужасный шум: губернский стол был осажден уездами Чернским и Крапивенским, ведомыми их предводителями, тремя болванами; раздались крики, вопли; хотели принудить Арсеньева пустить чернское постановление на баллотировку всей губернии; шум был ужасный, но Арсеньев устоял твердо, и стародуры должны были положить свою бумагу в карман».
«Видя, что стародуры соединяются между собой, — писал далее Долгоруков, — и просвещенное меньшинство захотело подать признак жизни. И. С. Тургенев, граф А. П. Бобринский24 и я — мы написали мнение, у которого подписались 102 дворян, и таким образом мнение это с 105 подписями было вручено нами губернскому предводителю для передачи в губернский комитет, где теперь находится»25.
Текст этого особого мнения 105 тульских дворян, под которым в числе других подписались также Толстой и Хомяков, следующий:
«Мы нижеподписавшиеся, в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других, полагаем необходимым отпустить крестьян на волю не иначе, как с наделом некоторого количества земли в потомственное владение, и чтобы помещики за уступаемую ими землю получили бы полное добросовестное денежное вознаграждение посредством какой-либо финансовой меры, которая не влекла бы за собою никаких обязательных отношений между крестьянами и помещиками, — отношений, которые дворянство предполагает необходимым прекратить»26.
Таким образом, из всех собравшихся тульских дворян за освобождение крестьян с землею высказалась только четвертая часть. Из помещиков Крапивенского уезда под особым мнением, кроме Толстого, подписались еще только трое помещиков.
Толстой вынес самое тяжелое впечатление от тульского дворянства и особенно от дворянства Крапивенского уезда. В самый день окончания съезда 4 сентября он записал в своем дневнике: «Были выборы. Я сделался врагом нашего уезда». Из дальнейших записей видно, что не одни дворяне-крепостники Крапивенского уезда произвели на Толстого тяжелое впечатление; такое же впечатление произвела на него и либеральная часть дворянства разных уездов. «Компания Черкасского, — пишет он далее, — дрянь такая же, как и их оппозиторы, но дрянь с французским языком».
309
Картины дворянских выборов в «Анне Карениной», где а одинаково непривлекательном свете нарисованы как консервативная, так и либеральная группы дворянства, несомненно были внушены Толстому воспоминаниями о происходивших на его глазах дворянских выборах 1858 года.
VII
Толстой пробыл в Ясной Поляне все лето и осень 1858 года. Время проходило в занятиях хозяйством и охотой, в чтении, а с осени также и в литературных занятиях.
15 сентября Толстой выехал на несколько дней из Ясной Поляны в Москву по делам своего имения. В Москве Толстой воспользовался случаем вновь повидаться с Е. Ф. Тютчевой.
Страдая от одиночества и вместе с тем потеряв надежду на то, что ему удастся встретить женщину, которую он мог бы полюбить и которая его бы полюбила, Толстой думает даже о том, чтобы, не испытывая чувства любви, сделать предложение девушке, из всех ему знакомых наиболее отвечающей его требованиям. Такой девушкой в то время представлялась Толстому Е. Ф. Тютчева, в которой он ценил ум и образованность. «Я почти был готов без любви, спокойно жениться на ней, — пишет Толстой в дневнике, — но она старательно холодно приняла меня». И Толстой дает волю не покидавшему его отвращению к своей наружности: «Правду сказала племянница Тургенева, — пишет он, — трудно встретить безобразнейшее существо»27.
18 сентября Толстой опять виделся с Тютчевой, после чего записал в дневнике: «Только на философском terrain [почве] мы понимаем друг друга с Катериной Федоровной. Жалко, жалко». Разговор, очевидно, был вполне дружелюбный, но не дававший никакой надежды на возможность личной близости.
Е. Ф. Тютчева не была расположена к Толстому. Этим очень огорчалась ее старшая сестра Анна Федоровна (впоследствии жена И. С. Аксакова). 24 марта 1859 года А. Ф. Тютчева писала своей сестре: «Недавно у меня был Лев Толстой. Я нахожу его очень привлекательным с его фигурой, которая вся олицетворенная доброта и кротость. Я не понимаю, как можно сопротивляться этому мужчине, если он вас любит. Я очень желала бы
310
иметь его своим зятем... Я прошу тебя, постарайся полюбить его. Мне кажется, что женщина была бы с ним счастлива. Он выглядит таким действительно правдивым, есть что-то простое и чистое во всем его существе»28. Но, несмотря на уговоры сестры, Е. Ф. Тютчева осталась холодна к Толстому.
Между тем Толстой скоро разочаровался в Е. Ф. Тютчевой и уже перестал думать о ней как о возможной жене. Вскоре после того как было написано приведенное выше письмо А. Ф. Тютчевой к сестре, Толстой писал своему другу Александре Андреевне в Петербург: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве...29. Иногда я езжу к ним и примериваю свое 30-летнее спокойствие к тому самому, что тревожило меня прежде, и радуюсь своим успехам»30.
Мысль о возможности женитьбы на Е. Ф. Тютчевой была таким образом оставлена.
В Москве Толстой навестил Аксаковых, был у Берсов, где его попрежнему встретили «милые девочки» — дочери хозяйки — Лиза, Соня и Таня, виделся с Е. Ф. Коршем, издававшим тогда журнал «Атеней», которому обещал описать впечатления минувшего лета в Ясной Поляне; побывал в гимнастическом заведении, где убедился, что «сильно посвежел» благодаря занятиям физическим трудом, и 19 сентября выехал обратно в Ясную Поляну.
Доро́гой Толстой по своему обыкновению «наслаждался» картинами природы.
В первый же день по приезде 20 сентября Толстой начал обещанный им Коршу очерк, озаглавленный «Лето в деревне».
Очерк этот должен был носить определенный автобиографический характер. В начале очерка Толстой не только рассказывает о своем приезде из Москвы в деревню, но и раскрывает свое отношение к своей Ясной Поляне. Причисляя себя к «маленьким помещикам», «родившимся в деревне и любящим свой уголок, как свою маленькую родину», Толстой говорит: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию
311

Е. Ф. Тютчева.
С фотографии
и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его».
Далее Толстой говорит, что он уже два года тому назад начал в Ясной Поляне освобождение своих крестьян. Под освобождением Толстой понимает ликвидацию личной зависимости крестьян от помещика и перевод их с барщины на оброк. Тут же Толстой сообщает сведения о положении крестьян в его имениях31.
312
Темой очерка, повидимому, должен был служить рассказ Толстого о его попытках вести хозяйство на новых началах. Рассказ об отношениях с крестьянами в минувшее лето Толстой начал с передачи своего разговора с бурмистром Василием; но не докончив этого разговора, Толстой прервал начатый очерк и больше к нему не возвращался. Он, еще только обдумывая этот очерк, опасался, как написал он в дневнике, что «описание лета не пойдет»; ему «претила» «узость задачи».
Мы, таким образом, лишились возможности от самого Толстого услыхать подробности его новых отношений с крестьянами в памятное для него лето 1858 года32.
В октябре Толстой вновь принимается за «Казаков» и заново переписывает ранее написанное.
По записям дневника можно предположить, что в декабре было написано новое начало повести, где особенное внимание уделялось раскрытию общественных условий, под влиянием которых складывалась жизнь главного героя, носящего фамилию уже не Ржавский, а Оленин.
Первая молодость Оленина прошла в царствование Николая I. Касаясь этого периода жизни своего героя, Толстой говорит: «Странно подделывалась русская молодежь к жизни в последнее царствование». Так как все пути «жизненной внешней деятельности» были для нее закрыты, то «весь порыв сил» эта молодежь переносила в область внутренней работы, где этот порыв «развивался с тем большей свободой и силой». На всех «хороших натурах русской молодежи сороковых годов», — говорит Толстой, — замечался отпечаток этой «несоразмерности внутреннего развития с способностью деятельности» и в силу этого «праздного умствования, ничем не сдержанной свободы мысли, космополитизма». (Космополитизм, т. е. недостаток любви к отечеству, у молодежи сороковых годов Толстой выводил из невозможности для этой молодежи, при режиме Николая I, какой бы то ни было общественной деятельности на своей родине.)
В этой сделанной Толстым характеристике людей сороковых годов заметны следы бесед с московскими знакомыми и чтения переписки Станкевича. Повидимому, эту характеристику людей сороковых годов Толстой до известной степени прилагал и к себе самому, каким он был в годы своей первой молодости.
Далее Толстой в образе Дмитрия Оленина рисует самого себя, каким он был в годы своего пребывания в университете и первое время по выходе из университета: рассказывает, как постепенно
313
в его сознании разрушался старый мир внушенных ему с детства сословных предрассудков и других суеверий, и как, будучи уже разрушены в его сознании, предрассудки эти все-таки имели над ним некоторую власть; рассказывает о своих увлечениях и о неудачной попытке устроить семейную жизнь и о причинах, вызвавших его отъезд на Кавказ.
Подъезжая к Кавказу, Оленин мечтает о мирном покорении горцев.
Этот вариант33, очень важный в автобиографическом отношении, не получил дальнейшего развития, и работа над начатой повестью, как это бывало уже много раз раньше, опять была прервана.
VIII
Около 12 декабря Толстой приехал в Москву. Он поселился на Большой Дмитровке (ныне Пушкинская улица) в доме Смолина № 10, поныне существующем под тем же номером.
Всю зиму 1858/59 года Толстой вел тихий, уединенный образ жизни, не посещая никаких балов и вечеров.
13 декабря, как отмечено в дневнике, он написал «Записку о дворянском вопросе». Происхождение этой записки таково.
Московское дворянство, в составе которого преобладали крепостники, не сразу отозвалось на рескрипты Александра II о созыве губернских комитетов для обсуждения вопроса об устройстве быта помещичьих крестьян. 31 августа 1858 года Александр II, будучи в Москве, обратился к московскому дворянству с речью, в которой высказал свое недовольство проявленной дворянством в этом деле медлительностью. Царь напомнил, как за два года до этого в той же комнате он говорил московскому дворянству «о том, что рано или поздно надо приступить к изменению крепостного права и что надобно, чтобы оно началось лучше сверху, нежели снизу». Он ожидал, что московское дворянство первым отзовется на его призыв; но оказалось, что «Московская губерния не первая, не вторая, даже не третья». «Я люблю дворянство, — сказал царь далее, — считаю его первой опорой престола, я желаю общего блага, но не желаю, чтобы оно было в ущерб вам, всегда готов стоять за вас, но вы для своей пользы должны стараться, чтобы вышло благо для крестьян. Помните, что на Московскую губернию смотрит вся Россия. Я всегда готов делать для вас, что могу, дайте мне возможность стоять за вас. Понимаете ли, господа?»
Толстой почему-то очень поздно, только в Москве, через три с половиной месяца познакомился с речью царя и был
314
очень возмущен ею. Выражением этого крайнего возмущения и явилась написанная им записка.
Возмутило Толстого то, что правительство себе приписывало инициативу освобождения крестьян, в то время как рескрипт Александра II, по мнению Толстого, только отвечал «на давнишнее, так красноречиво выражавшееся в нашей новой истории желание одного образованного сословия России — дворянства». «Только одно дворянство, — говорит Толстой, — со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом, и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах и во все царствование Николая за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря на все противодействие правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее».
В этих словах Толстой впервые выразил вполне определенно свое сочувствие и декабристам и петрашевцам (в последнем случае ошибаясь в хронологии на один год) в их борьбе с правительством Николая I за уничтожение крепостного права. Они-то, эти мученики, — говорит Толстой, — а не правительство, и поддерживали в обществе идею освобождения крестьян. Правительство Александра II не имело уже возможности, как это делал Николай I, подавлять идею освобождения, так укоренившуюся в обществе благодаря его лучшим представителям.
Толстой не говорит, что все дворянство сочувствует освобождению крестьян: ему сочувствует только меньшинство; но это меньшинство является в то же время «большинством по образованию и влиянию»34.
Толстой не признает за Александром II славы великого реформатора подобно Петру I, которую хотели приписать ему публицисты. «Ежели некоторые, — пишет Толстой, — в порыве излишнего восторга, а другие — избрав великое дело поприщем подлой лести, умели убедить государя императора в том, что он
315
второй Петр I и великий преобразователь России и что он обновляет Россию и т. д., то это совершенно напрасно, и ему надо поспешить разувериться, ибо он только ответил на требование дворянства, и не он, а дворянство подняло, развило и выработало мысль освобождения».
По мнению Толстого, правительство Александра II — правительство слабое, «прячущееся за дворянство». Здесь Толстой разумел то, что правительство Александра II усиленно склоняло дворян всех губерний России к открытию комитетов по крестьянскому делу, чтобы на основании этого впоследствии при освобождении крестьян правительство могло сказать, что оно только исполняет требования дворянства.
Речь Александра II Толстой называет «оскорбительной комедией», свидетельствующей о «непонимании дела в такую важную минуту». Признавая справедливым выкуп за отходящую к крестьянам помещичью землю, Толстой тот самый упрек в медлительности, который Александр II направил московскому дворянству, обращает против правительства. Он попрежнему считает, что не следует медлить с освобождением крестьян, что правительство «своим упорством и неспособностью» готовит «беды» России.
Статья заканчивается такими знаменательными словами: «Ежели бы, к несчастью, правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному выражению государя императора, то меньшее из зол было бы уничтожение правительства».
Толстой писал в дневнике, что свою «Записку о дворянском вопросе» он сжег, никому не показывая (очевидно, из предосторожности). Но сожжена была, повидимому, лишь вторая редакция записки, так как черновая редакция, из которой выше приведены выдержки, сохранилась в бумагах Толстого35.
Оставшаяся незаконченной и необработанной «Записка о дворянском вопросе» замечательна той резкостью, с которой Толстой критикует и речь царя, и самый образ действий правительства в крестьянском вопросе, и главное, тем сочувствием к «мученикам» за дело освобождения крестьян, гонимым Екатериной — Радищеву и Новикову (хотя они здесь и не названы), — декабристам и петрашевцам, которое впервые с полной определенностью высказано Толстым в этой записке.
IX
Вскоре по приезде Толстого в Москву Фет сообщал ему, что он получил от их общего знакомого, писателя и страстного
316
охотника С. С. Громеки письмо с извещением о том, что в ближайшие дни близ Вышнего Волочка, где жил Громека, состоится охота на медведей. Громека просил уведомить об этом Толстого и пригласить его принять участие в этой охоте. И Толстой, и его брат Николай Николаевич охотно приняли предложение Громеки.
Охота продолжалась два дня. Первый день охоты, 21 декабря, был для Толстого удачным: он убил медведя; но второй день, 22 декабря, едва не стоил ему жизни. Дело было так.
В охоте, кроме Толстых и Громеки, принимал участие крестьянин-медвежатник Архип Осташков36. Каждый из охотников встал на определенное место в ожидании, пока медведица, которую должен был поднять Архип, выйдет из берлоги. Первым выстрелил в медведицу брат Толстого, но промахнулся. Медведица в страхе бросилась бежать куда попало, и побежала прямо на Толстого, не видя его. Толстой выстрелил, но также промахнулся. Он выстрелил вторично, когда медведица была от него на расстоянии всего одного аршина; пуля попала медведице в рот. Медведица остервенела и бросилась на своего врага и повалила его в глубокий снег, но перескочила через него, затем вернулась, положила ему обе лапы на плечи, придавила грудью и начала грызть. Верхнею челюстью она грызла ему лоб, а нижнею — щеку. Толстой уже чувствовал дыхание медведицы и запах крови из ее рта... Не будучи в силах освободиться от навалившегося на него огромного зверя, он старался только спасти глаз, пригибая голову к груди и подставляя зверю свою большую лохматую шапку. Медведица разодрала Толстому лоб и давила кость так сильно, что ему казалось, что вот-вот треснет голова.
Николай Толстой и Громека, увидевши, что медведица свалила Льва Николаевича, бросились к нему на помощь, но, желая сократить путь, побежали це́ликом по снегу и оба упали. Их опередил Архип Осташков, который прибежал с одной хворостиной в руке и закричал на медведицу: «Ах ты баламутный! Что делает! Брось, брось!» И медведица убежала.
Когда Толстой поднялся, он увидал, что снег кругом был весь красный от крови. На лбу и под глазом у него мясо висело
317
клочьями. Но здоровый организм быстро оправился после потери крови. Как вспоминал он впоследствии, он даже «щеголял» черной повязкой, которую носил на лице37.
Вся история этой опаснейшей охоты была Толстым впоследствии описана в рассказе для детей «Охота пуще неволи», в первой редакции носившем название «Медвежья охота»38.
Фет со слов участников так описал этот случай в письме к И. П. Борисову 4 января 1859 года: «Медведь! медведь! Я, кажется, тебе не писал еще о медведе. Вообрази себе узкую дорожку в частом ельнике, дорожка извивается... Медведь огромный и раненый бежит на Николая Толстого. Тот стреляет и, быть может, еще ранит зверя. Лёв, слыша направо выстрел, ждет медведя справа и, следовательно, обернулся на своем узко отоптанном кружке левым боком к дорожке. Но вместо ожидаемого появления медведя в лицо, т. е., от Николая, он вдруг видит шагах в восьми как птица несущегося на него испуганного и раненого медведя, которому нет другой дороги, как через пункт, на котором стоит Лёв. Лёв оборачивается налево и стреляет выше медведя. Дым рассеивается, и медведь у его ног, он стреляет в упор и всаживает пулю в морду медведя; медведь толкает его с разбега лапами в грудь и сбивает в снег, а сам с разбегу перескакивает. Лёв думает: «ну, все тем кончилось», но медведь разозленный делает пируэт и наваливается на Льва, теребит его лапами и кусает его в лицо раз и два. Это видит медвежатник и с криком бросается на медведя. Медведь убегает, а Лёв встает облитый кровью, как из ведра, и кричит: «Неужели он ушел? Что скажет Фет, узнав, что мне разворотили лицо?» Он скажет, что это можно было и в Москве сделать. Теперь раны заживают, хотя Лёв еще носит повязку на лбу... И как близко от глазу прошел зуб Михаила Ивановича»39.
Должно быть, желая еще раз испытать сильные ощущения, Толстой 4 января 1859 года опять вместе с братом поехал на медвежью охоту. На этот раз результаты охоты получились иные: охотники убили четырех медведей, в том числе и ту медведицу, которая грызла Толстого.
От укусов медведицы у Толстого на всю жизнь остались на лице два шрама — один на лбу и один под глазом40.
318
X
13 декабря 1858 г. в дневнике Толстого появляется такала запись: «Литература, которую я вчера понюхал у Фета, мне противна. То есть, я думаю, что начав литературное поприще при самых лестных условиях общей, два года сдержанной похвалы и почти первого места, без этих условий я не хочу знать литературы, т. е. внешней, и слава богу. Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать».
Толстой, следовательно, после неуспеха двух его последних вещей — «Люцерна» и «Альберта» — отказывается выступать в печати со своими произведениями, но не отказывается писать. Писательство было для него прежде всего удовлетворением внутренней потребности, главным делом его жизни.
Уже в конце того же декабря, по возвращении с медвежьей охоты, Толстой начинает новую повесть, получившую впоследствии название «Семейное счастье».
Между тем Некрасов, который, несмотря на неуспех «Альберта», не изменил своего высокого мнения о таланте Толстого, обратился к нему в конце года с коротким письмом (оно не сохранилось), в котором спрашивал, даст ли Толстой что-нибудь для «Современника» в будущем 1859 году. Толстой ничего не ответил на это письмо Некрасова.
В конце января 1859 года какой-то москвич сообщил Тургеневу, что Толстой закончил новый роман. Тургенев передал это Некрасову, и Некрасов вторично обратился к Толстому с письмом, которое переслал через Тургенева. Тургенев в своем письме от 2 февраля 1859 года писал Толстому. «Прилагаю записку от Некрасова, из которой Вы увидите, что он намерен засыпать Вас золотом»41.
Эта записка Некрасова, датированная 29 января, сохранилась в архиве Толстого. Вот ее текст:
«Добрейший Лев Николаевич. Видно, я Вас чем-нибудь больно прогневил — Вы даже не ответили на мою записочку, которая заключала в себе вопрос: дадите ли Вы что-нибудь «Современнику»? Тургенев мне сегодня сказал, что Вы окончили Ваш роман. Я прошу его у Вас для «Современника» и предлагаю Вам назначить, какие Вам угодно денежные условия. Полагаю, что в этом отношении мы сойдемся выгоднейшим для Вас образом. Отвечайте мне хотя в двух словах. Весь Ваш Н. Некрасов»42.
Неизвестно, ответил ли Толстой что-нибудь на это второе письмо Некрасова; во всяком случае никаких переговоров
319
с «Современником» относительно печатания в нем «Семейного счастья» Толстой не вел. Несомненно, здесь играла роль та неохота, с какой Некрасов напечатал в своем журнале «Альберта», что отдалило от него Толстого, не считавшего эту свою повесть неудачной.
Что касается отношений между Толстым и Тургеневым, то эти отношения в течение 1858—1859 годов резко изменились к худшему.
После своего посещения Тургенева в Спасском в августе 1858 года Толстой 4 сентября записал в дневнике: «Ездил к Тургеневу... Тяжел невыносимо».
Тургенев в письмах к знакомым также сообщал об ухудшении своих отношений с Толстым. Гончарову он писал 7 апреля 1859 года: «...думает же Толстой, что я и чихаю, и пью, и сплю — ради фразы»43. Через пять дней, 12 апреля, Тургенев сообщал Боткину: «Я с Толстым покончил все свои счеты: как человек он для меня более не существует. Дай бог ему и его таланту всего хорошего — но мне, сказавши ему: здравствуйте — неотразимо хочется сказать: прощайте — и без свиданья. Мы созданы противуположными полюсами. Если я ем суп и он мне нравится, я уже по одному этому наверное знаю, что Толстому он противен — et vice versa [наоборот]»44.
16 июля 1859 г., отвечая Фету на какое-то его нам не известное письмо с припиской Толстого, также нам не известной, Тургенев писал в стихотворном послании:
«...Толстого Николая поцелуйте
И Льву Толстому поклонитесь, — также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне не за что к нему писать. Я знаю,
Меня он любит мало, и его
Люблю я мало. Слишком в нас различны
Стихии; но доро́г на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим»45.
На ухудшение отношений между Толстым и Тургеневым оказали влияние отношения Тургенева к его сестре Марии Николаевне.
Познакомившись с Марией Николаевной в 1854 году, Тургенев в письмах к своим приятелям неоднократно отзывался о ней с восхищением. «Жена графа [В. П.] Толстого, — писал он Некрасову 29 октября 1854 года, — премилая женщина — умна,
320
добра и очень привлекательна... Она мне очень нравится»46. Анненкову Тургенев писал 1 ноября 1854 года: «Я здесь познакомился с семейством Толстого, автора «Отрочества»... Сестра его (тоже замужем за графом Толстым) — одно из привлекательнейших существ, какие только мне удавалось встречать. Мила, умна, проста — глаз не отвел бы. На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) — я едва ли не влюбился. Не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния»47. По словам Дружинина, Тургенев «облекал» Марию Николаевну «в поэтический ореол», чему Дружинин не сочувствовал48.
Тургенев изобразил Марию Николаевну в образе Веры Ельцовой в повести «Фауст», написанной в 1856 году49.
Пока Мария Николаевна жила с мужем, Толстого не беспокоили ее отношения с Тургеневым. Беспокойство возникло только тогда, когда Мария Николаевна, привлекательная, увлекающаяся двадцатисемилетняя женщина, осталась одинокой. Впервые увидевшись с сестрой после своего возвращения из-за границы, через месяц после того, как она рассталась с мужем, Толстой 11 августа 1857 года записывает в дневнике: «Маша рассказала про Тургенева. Я боюсь их обоих». Зная влюбчивость Тургенева и вместе с тем его связанность отношениями с Виардо, Толстой не предвидел ничего хорошего в замеченном им увлечении его сестры Тургеневым.
Вскоре это увлечение стало для него еще более очевидным.
Когда Мария Николаевна, приехав в начале мая 1858 года в свое Пирогово, узнала, что Тургенев не вернулся из-за границы и не приехал в Спасское, она была этим очень огорчена. Видя ее огорчение, Толстой 8 мая записывает в дневнике: «Машеньку известие об отсутствии Тургенева ударило. Вот те и шуточки. Поделом ему, скверно».
Толстому, который впоследствии в «Анне Карениной» строго осудил «заманивание барышен без намерения жениться»50, очень не нравились отношения Тургенева к его сестре. Он был
321
оскорблен тем, что отношения эти не заключали в себе ничего серьезного и только напрасно тревожили одинокую и несчастную женщину. 4 сентября 1858 года Толстой записывает: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь».
Очень непостоянный в своих увлечениях женщинами, Тургенев постепенно охладевал к М. Н. Толстой. 29 марта 1859 года он уже писал Боткину: «Я видел... в Ясной Поляне графиню Толстую; очень она переменилась на мои глаза, да сверх того je n'ai rien à lui dire [мне нечего ей сказать]»51. Последние слова явно намекают на то, что Тургенев видел глубокое чувство к нему женщины, но уже не разделял его.
Не может быть никакого сомнения в том, что резкое осуждение Толстым отношений Тургенева к его сестре должно было непременно наложить свой отпечаток на его отношения к Тургеневу. В феврале 1859 года переписка Толстого с Тургеневым, если не считать его короткой приписки к письму Фета, прервалась почти на два года.
Толстой так и остался при убеждении, что Тургенев был виноват перед его сестрой. Ему казалось, что Тургенев избегал его сестры. 25 июля 1865 года И. П. Борисов писал Тургеневу, что Толстой расспрашивал о нем «с самым дружеским участием», но далее сообщал: «Ваш отъезд [из Спасского] он не шутя толкует, что не хотели его видеть. Вот и сестра Мария Николаевна там близко»52.
Что касается самой М. Н. Толстой, то у нее не осталось тяжелого воспоминания о встречах с Тургеневым, о которых она впоследствии рассказывала очень охотно. С. А. Толстая в 1865 году пишет Льву Николаевичу, что Машенька рассказывала ей «свой роман с Тургеневым»53. Некоторые из рассказов М. Н. Толстой о Тургеневе в записи М. С. (М. А. Стаховича) были напечатаны в № 224 «Орловского вестника» за 1903 год под названием: «В 1903 году о 1853»54.
XI
28 января 1859 года Толстой одновременно с Тургеневым, по предложению К. С. Аксакова, был избран членом состоявшего
322
при Московском университете Общества любителей российской словесности.
Общество любителей российской словесности было основано еще в 1811 году, но в 1836 году прекратило свою деятельность и возобновило свои заседания только в 1858 году. Первым председателем возобновленного общества был Хомяков.
Хомяков пытался ввести в практику Общества установленный в некоторых заграничных литературных обществах обычай, согласно которому вновь избранные члены должны были произносить речь с изложением своих взглядов на значение литературы, после чего председатель произносил ответное слово. В заседании 4 февраля 1859 года Толстой произнес заранее заготовленную речь.
Перед Толстым в том же заседании выступал с речью сотрудник «Современника» И. В. Селиванов, говоривший о значении обличительной литературы. Хомяков в своем ответном слове на речь Селиванова полностью признал важное значение обличительной литературы в жизни общества. Он сказал: «Обличительная литература есть законное явление словесной жизни народа; я скажу более — она не только законное явление, но явление необходимое и отрадное. Она не есть произведение прихоти или раздражения каких-нибудь отдельных лиц — она есть в одно время выражение скорбящего и негодующего самопознания общественного... Есть минуты (я думаю, что такова минута, в которую мы живем)... когда, отряхнув многолетний и тяжелый сон мнимого и обманчивого самодовольства, общественная жизнь рвется и волнуется всеми силами, а иногда и всею желчью, накипевшими в продолжение долгого молчания или в слушании хвалебных гимнов официального самохвальства. В эти минуты обличение есть священный долг для литературы»55.
Речь Толстого по своему содержанию очень отличалась от речи Селиванова.
Толстой всю литературу делит на две категории: литература «изобличительная», или «политическая», и литература «изящная». Толстой вполне признает значение обличительной литературы. Он считает, что увлечение политической литературой было «благородно, необходимо и даже временно справедливо». Необходимо оно было потому, что «для того, чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним... И действительно, можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность
323
избавиться от него. Как думать о прекрасном, — говорит Толстой, — когда становилось больно! Не нам, пользующимся плодами этого увлечения, укорять за него».
Результатами увлечения обличительной литературой были «уважение к литературе, возникшее общественное мнение», «даже самоуправление, которое заменила нам наша политическая литература». Под самоуправлением, явившимся следствием преобладания политической литературы, Толстой разумел, очевидно, влияние обличительной литературы на русскую жизнь в смысле раскрытия и преследования общественных зол и пороков.
Но увлечение обличительной литературой имело, по мнению Толстого, и свою отрицательную сторону. Эта отрицательная сторона выражалась в том, что «большинство публики» начало думать, что вся задача литературы состоит только «в обличении зла, в обсуждении и в исправлении его, одним словом в развитии гражданского чувства в обществе». Дошло даже до того, что в печати и в обществе стали писать и говорить, что «Пушкин забудется и не будет более перечитываться», и что «чистое искусство невозможно».
Литература, по мнению Толстого, не может ограничиться одним обличением общественных зол. Она должна «отвечать на разносторонние потребности своего общества». «Литература народа, — говорит Толстой, — есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».
Таким образом, необходимо одновременное существование «двух отдельных родов литературы». Один род литературы, «необходимый для народного развития», отражает «временные интересы общества»; другой род литературы отражает в себе «вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа». Эта литература «доступна человеку всякого народа и всякого времени»; без этой литературы «не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность».
Свою речь Толстой закончил утверждением о том, что русская литература не есть, как думают многие, «перенесенная с чужой почвы детская забава», но что она «стоит на своих прочных основах». Она — «серьезное сознание серьезного народа»56.
В своем ответном слове на речь Толстого Хомяков, приветствуя его как «деятеля чисто художественной литературы», в то же время горячо отстаивал права обличительной литературы. Признавая, что «первое место» должно занимать «то, что всегда
324
справедливо, то, что всегда прекрасно, то, что неизменно, как самые коренные законы души», Хомяков вместе с тем настаивал на том, что «в природе человека и в природе общества» существует «постоянное требование самообличения», и бывают минуты, «и минуты важные в истории, когда это самообличение получает особенные, неопровержимые права и выступает в общественном слове с большею определенностью и большею резкостью». И тогда «случайное и временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего, всечеловеческого уже и потому, что все поколения, все народы могут понимать и понимают болезненные стоны и болезненную исповедь одного какого-нибудь поколения или народа».
Хомяков не признает того деления литературы на две категории, о котором говорил Толстой; он утверждает, что художник уже по самой впечатлительности своей организации, «без которой он не мог бы быть художником», принимает в себя «больше других людей все болезненные, так же как и радостные ощущения общества». Таким образом писатель, «служитель чистого искусства», «делается иногда обличителем даже без сознания, без собственной воли и иногда против воли».
Хомяков находит, что и сам Толстой в своих произведениях не чужд обличительства. Он ссылается на его последний рассказ «Три смерти», где, по его мнению, также есть обличительный элемент хотя бы в картине смерти чахоточного ямщика, «умирающего на печке в толпе товарищей, повидимому равнодушных к его страданиям».
«Да, — сказал Хомяков в заключение своей речи, обращаясь к Толстому, — и вы были и вы будете невольно обличителем. Идите с богом по тому прекрасному пути, который вы избрали. Идите с тем же успехом, которым вы увенчались до сих пор, или с еще большим, ибо ваш дар не есть дар преходящий и скороисчерпываемый; но верьте, что в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее, превращая и облагороживая его, и что все разнообразные отрасли человеческого слова беспрестанно сливаются в одно гармоническое целое»57.
Как отнесся Толстой к ответному слову Хомякова — неизвестно.
На следующем заседании Общества любителей российской словесности, по предложению Толстого, членом Общества был выбран Фет.
325
Речь Толстого в Обществе любителей российской словесности была его первым публичным выступлением. Вместе с тем речь эта явилась первым открытым выражением его эстетических взглядов, хотя и недостаточно полным и не вполне точным.
Теперь Толстой уже иначе, чем прежде, смотрит на обличительную литературу. Он уже не называет «долго сдержанный политический поток» «грязным потоком», как за год до этого в письме к Боткину. Толстой не только не отрицает обличительной литературы, но считает ее выражением «народной любви к добру и правде».
Но признавая все значение обличительной литературы в жизни народа, Толстой в то же время объявляет себя чуждым этого рода литературе и «чистосердечно» признает себя «односторонним любителем изящной литературы», выражая сочувствие формуле «чистое искусство».
Толстой не дает определения того, что он понимает под термином «изящная литература». Судя по тому, что назначение литературы он видит в том, чтобы «отвечать на разносторонние потребности общества», можно думать, что под «изящной литературой» он разумел все художественные произведения, не имеющие своим непосредственным содержанием обличение общественного зла и в то же время удовлетворяющие требованиям художественности («красоты»). Только для этого и потребовалась Толстому формула «чистое искусство». Во всех написанных им к тому времени повестях и рассказах Толстой «хотел сказать» своим читателям нечто для него важное и дорогое, что само по себе уже противоречило принципам «искусства для искусства» или «чистого искусства».
Но некоторые мнения, выраженные Толстым в его речи, были определенно направлены против Чернышевского и вообще против «Современника». Не соглашаясь с мнением о невозможности «чистого искусства», Толстой, конечно, имел в виду Суждение Чернышевского по этому вопросу, которое, повидимому, не было им вполне правильно понято. Упоминание о Пушкине без упоминания о Гоголе также могло быть принято за полемику с «Современником», так как пушкинское направление (односторонне понятое) было программой критиков эстетической школы, в то время как «Современник» придавал особенное значение гоголевскому направлению.
Таким образом, речь Толстого в Обществе любителей российской словесности была не только первым публичным изложением его эстетических взглядов, но и первым его открытым выступлением против некоторых сторон направления «Современника».
Впоследствии, когда Толстой окончательно отвергнул теорию «искусства для искусства» и начал обличать искусство правящих
326
классов как праздное и бесцельное, он сурово осудил и свою речь об искусстве. В 1882 году в незаконченной статье об искусстве Толстой писал: «Искусство понимается у нас (во всем европейском образованном мире) как какое-то очень важное дело; но в чем оно состоит — никто не понимает. Говорится, что это есть высшее проявление человеческого духа, что предмет его есть красота (а красота есть одно из лиц троицы — добро, истина и красота), что оно есть творчество и всякий туманный вздор, который и я говорил когда-то (и даже речь произнес лет 20 тому назад в Обществе любителей российской словесности в этом духе), но который я теперь не могу даже повторить — так мне все это кажется смешно»58.
Столь же резко отозвался Толстой о своей речи в письме к своему другу Г. А. Русанову, написанном 28 февраля 1888 года. На вопрос Русанова, какую речь произнес он в Обществе любителей российской словесности (текст речи Толстого в то время опубликован не был), Толстой ответил: «Сказана была глупая речь об искусстве для искусства»59.
XII
18 февраля А. А. Толстая написала Льву Николаевичу письмо, в котором усиленно приглашала его приехать в Петербург, чтобы повидаться. «У меня по вас настоящая mal du pays [тоска по родине]», — писала она. Толстой, страдавший от одиночества и жаждавший теплого и ласкового участия, очень обрадовался этому приглашению. В первых числах марта он отправился на охоту (вероятно, опять под Вышний Волочек), а оттуда поехал в Петербург, куда прибыл 10 марта.
Тотчас же по приезде он послал А. А. Толстой короткую записку, в которой писал: «Я сейчас приехал... и, разумеется, главная цель моего приезда — вы. Я пробуду три дня. Приказывайте, как и когда можно вас видеть?»
В первый же день по приезде Толстой присутствовал на торжественном обеде в честь его любимого актера Мартынова.
На этот раз Толстой провел в Петербурге, как записал он в дневнике, «десять дней счастливейших». «Счастливейшими» эти дни делало для него почти ежедневное общение с А. А. Толстой.
После первого свидания 11 марта А. А. Толстая записала в своем дневнике: «Свиделась с дорогим Львом. Он попрежнему чудак, но так же замечателен умом и сердцем». После новой встречи с Толстым 13 марта она записывает: «Его разговоры
327
мягки, приятны, завлекательны» (перевод с французского)60. Он прочел своим теткам захваченную с собой рукопись «Семейного счастья». «Читал он плохо, застенчиво, — вспоминала А. А. Толстая, — и благодушно выслушивал всякое замечание»61.
А. А. Толстая нашла повесть, как записала она в дневнике 18 марта, «прелестной, исполненной самого высокого комизма».
Из литераторов Толстой виделся с Тургеневым, у которого и остановился, что, однако, не привело к улучшению их отношений; затем с Дружининым, с которым беседовал о последних литературных новинках, в том числе о напечатанной в «Библиотеке для чтения» повести начинающего писателя Петрова «Саргина могила»62, которая привела в восхищение и Толстого, и его брата, и Дружинина, и Боткина. Узнав, что этот Петров — военный писарь, Толстой просил влиятельного графа Б. А. Перовского, с которым он познакомился у своих теток, содействовать облегчению его служебного положения, чтоб он мог продолжать писать.
У Боткина Толстой прочитал свое «Семейное счастье», но слушатели нашли повесть «довольно неудачною», как писал Боткин Дружинину 5 апреля63.
Побывал Толстой также на вечере у А. Ф. Тютчевой и на другой день — 20 марта — уехал из Петербурга. Узнав о его неожиданном отъезде, А. А. Толстая, как она записала в своем дневнике, «почувствовала почти страдание».
Вернувшись в Москву, Толстой еще некоторое время чувствовал в себе следы радостного общения с «милой покровительницей» его души, как назвал он А. А. Толстую в одном из писем. Под влиянием этого настроения он начинает говеть (А. А. Толстая была очень религиозна) и принимается за это дело со всей серьезностью, уведомляя об этом и А. А. Толстую и Т. А. Ергольскую. Но здесь его постигла неудача — он не мог довести до конца свое говение и прервал его, о чем опять поспешил уведомить А. А. Толстую. Вот как объяснил он ей причину своего поступка:
«Я могу есть постное хоть всю жизнь, могу молиться у себя в комнате хоть целый день, могу читать Евангелие и на время думать, что все это очень важно; но в церковь ходить и стоять, слушать непонятые и непонятные молитвы и смотреть на попа и на весь этот разнообразный народ кругом, это мне решительно
328
невозможно. И от этого вот второй год уж осекается мое говенье».
Но Толстой не предвидел того, как его письмо подействует на его тетушку. Оно привело ее в ужас. Она поспешила ответить Льву письмом, в котором упрекала его в гордости, непонимании, грубом материализме, ослеплении, добровольном невежестве, пренебрежении к законам совести и пр. Уже и дружба Льва ей стала не мила, уже и все письмо его показалось ей «натянуто, тяжело, ненатурально».
Толстого очень взволновало резкое письмо его друга. Он пишет ответ, в котором хочет оправдаться во взводимых на него обвинениях. Прежде всего ему хочется отстоять свою внутреннюю самостоятельность. Он говорит: «Убеждения человека..., которые из всей жизни выжиты им, трудно понять другому, и вы не знаете моих». Однако далее он все-таки пытается изложить свои религиозные воззрения.
Рассказав о том, что еще в отроческие годы он утратил веру, Толстой с восторгом вспоминает происходившую в нем внутреннюю работу в годы его жизни на Кавказе. «Я стал думать так, — рассказывает он, — как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением».
«Убеждение», которое вынес Толстой из этой своей напряженной внутренней работы, состояло в том, что «есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно». И эту истину, говорит Толстой, «я знаю так, как никто не знает». Обратившись в своих исканиях к Евангелию, Толстой, по его словам, не нашел в нем «ни бога, ни искупителя, ни таинств». Он подчеркивает последнее слово, как имеющее прямое отношение к содержанию всего письма.
«Ради бога, — заканчивает Толстой эту часть своего письма, — не думайте, чтобы вы могли чуть-чуть понять из моих слов всю силу и сосредоточенность тогдашнего моего исканья. Это одна из тех тайн души, которые есть у каждого из нас; но могу сказать, что редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне. Так и остался с своей религией, и мне хорошо было жить с ней».
На этом Толстой прервал свое письмо, не будучи в состоянии продолжать его в духе той откровенной исповеди, в каком это письмо было начато. Только через неделю, 3 мая, он докончил
329
начатое письмо. Уже не продолжая больше свою исповедь, он рассказывает кратко о своем отношении к религии. Он говорит: «Дело в том, что я люблю, уважаю религию, считаю, что без нее человек не может быть ни хорош, ни счастлив, что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я надеюсь еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю».
Толстой, таким образом, признает, что его отношение к религии колеблющееся, — это подтверждается также его произведениями, письмами и дневниками того времени. Кроме того, религиозное настроение, которое временами испытывал Толстой в тот период своей жизни, было очень своеобразно. Оно было неразрывно связано с созерцанием природы, что не входило в требования ни одной распространенной религии. Об этом Толстой пишет далее в том же письме: «Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня проводник религии»64.
И Толстой заключает эту часть своего письма словами: «У каждой души свой путь, и путь неизвестный и только чувствуемый в глубине ее».
На это письмо А. А. Толстая ответила не сразу. Только после двух, следовавших одно за другим, коротких писем Толстого ее фанатизм уступил место прежнему искреннему, дружескому чувству, и их дружеская переписка снова возобновилась.
Для Толстого же эта его попытка говенья была последней вплоть до того времени, когда почти через двадцать лет, в конце семидесятых годов, возобновившиеся с новой силой религиозные искания вновь на короткое время привели его к церковной вере.
XIII
Конец марта и первые числа апреля 1859 года Толстой провел в усиленной работе над последней редакцией «Семейного счастья». Около 20 марта он писал А. А. Толстой, что работает часов по восемь в сутки над переделкой «Анны». (Толстой почему-то в дневнике и в письмах к А. А. Толстой называл героиню своей повести Анной, хотя имя это не встречается ни в черновой, ни в окончательной редакции повести. Не назвала ли так его героиню А. А. Толстая?)
О настроении и внутреннем состоянии Толстого того времени сообщает Боткин в письмах к своим друзьям Дружинину
330
и Тургеневу. Дружинину Боткин писал 5 апреля: «С Толстым виделся нередко... Он постоянно в каком-то нервическом раздражении — может быть, от того, что переделывает свою повесть»65. На другой день, 6 апреля, Боткин писал Тургеневу: «Толстой еще здесь и работает над своим рассказом... Я довольно часто вижусь с ним, но так же мало понимаю его, как и прежде. Страстная, причудливая и капризная натура. И притом самая неудобная для жизни с другими людьми. И весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися. Большая внутренняя работа, но работа, похожая на иксионовскую»66. (Иксион по греческой мифологии — царь дикого горного племени лапифов, который на пиру богов влюбился в жену Зевса Геру, за что был Зевсом в преисподней прикован цепями к огненному колесу, вечно вертящемуся с неимоверной быстротой.)
Боткину, больше всего дорожившему своим спокойствием, представлялась «самой неудобной для жизни с другими людьми» та вечная работа мысли, которая никогда не прекращалась в Толстом.
Следует, однако, сказать, что, несмотря ни на что, дружеское расположение Боткина к Толстому никогда не ослабевало. В то время как Тургенев 22 февраля 1860 года писал Фету, имея в виду педагогические занятия Толстого: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и станет на ноги?»67, — Боткин почти в то же самое время (6 марта) писал о Толстом тому же Фету: «Как бы он ни дурил, а я все скажу, что этот человек с великим талантом, и для меня всякая дурь его имеет больше достоинств, чем благоразумнейшие поступки других»68. В следующем письме Фету от 20 марта Боткин писал: «Пожалуйста передайте Толстому, что я ношу его в сердце»69.
Боткин посоветовал Толстому отдать свою новую повесть в «Русский вестник», выходивший под редакцией Каткова при близком участии самого Боткина. «Русский вестник» в то время придерживался либерального направления на «английской подкладке» (выражение Аполлона Григорьева); в нем сотрудничали М. И. Михайлов, А. К. Толстой, Марко Вовчок, В. В. Стасов, П. В. Анненков, С. М. Соловьев, А. М. Унковский и др. Толстому было совершенно безразлично, в каком журнале печатать свою повесть, и он согласился на предложение Боткина.
331
Он уведомил Каткова, что согласен предоставить ему свою повесть с платой по 250 рублей за лист. Катков, прежде чем принять это условие, пожелал познакомиться с повестью, но Толстой не согласился на это, находя, как писал он Е. Ф. Тютчевой 9 апреля, что ему «решительно невозможно и неприлично» отдавать свою повесть «на суд» Каткову69а.
«Семейное счастье» было немедленно напечатано Катковым в двух апрельских книжках его журнала («Русский вестник» в то время выходил два раза в месяц). Полученный от Каткова гонорар в сумме 1500 рублей Толстой тогда же проиграл на китайском биллиарде какому-то пехотному капитану, о чем без всякого сожаления записал в своем дневнике.
Судя по написанному им 16 апреля письму Дружинину, Толстой в то время живо интересовался всеми последними литературными новинками. В этом письме Толстой высказывает свои суждения о последних художественных произведениях, появившихся в разных журналах, особенно останавливаясь на только что напечатанном тогда романе Гончарова «Обломов», о котором говорит с восхищением. «Обломов», — пишет Толстой, — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это что «Обломов» имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный, в настоящей публике». Толстой оговаривается, что он нашел в романе Гончарова и некоторые недостатки, о которых он не будет писать в письме, но хочет поговорить при личной встрече с Дружининым.
Дружинин передал Гончарову похвалу Толстого, которой Гончаров был очень обрадован. Вскоре (13 мая) он написал Толстому благодарственное письмо, в котором говорил: «Слову вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно-взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже пугающее своей смелостию; если не во всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в вас доброжелателя новому моему труду»70.
XIV
Еще 16 августа 1857 г. Толстой записал в своем дневнике: «Любовь. Думаю о таком романе». 29 августа того же года
332
«любовь» опять повторяется в перечне задуманных Толстым сюжетов художественных произведений.
Осуществлением этого замысла, повидимому, и явилась повесть «Семейное счастье», хотя несомненно, что в процессе обдумывания и затем творчества сюжет произведения претерпел большие изменения.
Первое упоминание о «Семейном счастье» находим в записной книжке Толстого под 1 января 1859 года. Здесь записано предполагаемое заглавие уже начатого в то время, но еще не озаглавленного произведения: «Повести Лизаветы Белкиной». Хотел ли дать Толстой такое название своему произведению случайно, или он имел в виду и некоторое соотношение начатой им повести с «Повестями Белкина» Пушкина, — неизвестно. Толстой решил испробовать совершенно новую для него форму художественного произведения — форму записок замужней женщины о ее прошлой и настоящей жизни.
Как всегда, Толстой много и усердно работал над начатым произведением. Уже в начале февраля 1859 года Фет писал Тургеневу, что Толстой «опять все ломает в своем романе». 16 февраля Толстой записывает в дневнике, что он «все переменил» в своем романе, из которого получится «поэма». «Я очень доволен тем, что в голове, — пишет Толстой далее. — Фабула вся неизменно готова».
В начале марта первая редакция повести была закончена, что видно из того, что, будучи в Петербурге, Толстой уже счел возможным прочесть ее своим теткам. Но вернувшись в Москву, он вновь засел за переработку своей повести. В 20-х числах марта он писал А. А. Толстой, что «Анна переделывает свои записки», которые раньше были «в безобразном виде».
5 апреля была закончена последняя редакция повести, хотя над отдельными главами ее Толстой продолжал работать и позднее.
О содержании своей повести Толстой говорил Боткину, что «намерение его было представить процесс любви в браке, начинающийся романтическими стремлениями и оканчивающийся любовью к детям»71.
Боткин, вероятно, не вполне точно передает слова Толстого, но смысл этих слов он сообщает несомненно правильно, так как именно таково содержание повести Толстого.
Другое очень ценное сообщение относительно содержания «Семейного счастья» сделал Толстой уже в старости. 27 ноября 1903 года, отвечая П. И. Бирюкову на вопрос о его «любвях» и о том, как они отразились в его произведениях, Толстой далее писал: «Потом главное, наиболее серьезное — это была Арсеньева
333
Валерия... Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целая пачка писем моих к ней»72.
Таким образом, автобиографическая основа повести «Семейное счастье» удостоверена самим Толстым.
Но отношения Толстого с В. В. Арсеньевой, вопреки развитию действия повести, не закончились браком. Надо думать, что, рисуя женатую жизнь своих героев, Толстой пытался изобразить те отношения, которые могли бы образоваться между ним и В. В. Арсеньевой после их женитьбы.
В облике героя повести — Сергея Михайловича — много автобиографических черт. Так же, как Толстой, он много старше своей невесты; Толстой даже увеличил разницу лет, существовавшую между ним и В. В. Арсеньевой: Сергею Михайловичу 36 лет, а его невесте Маше — 17. Он опекун девушки-сироты, своей невесты, так же, как и Толстой был опекуном Валерии Владимировны. Имения их находятся по соседству. Названия имений главных действующих лиц — Никольское и Покровское — повторяют названия имений брата и сестры Толстого. Обстановка дома и окрестностей Покровского напоминают обстановку яснополянского дома и его окрестности. Герой повести даже по своей внешности имеет много общего с автором. Его невеста рассказывает, что он жал руку «крепко, честно, только что не больно»73. У Сергея Михайловича «простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка» и «ему одному принадлежащий взгляд, сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный». На лице его «все быстро и живо отражалось»; говорил он «увлекательно, просто и горячо». Сергей Михайлович так же, как и Толстой, испытывал иногда настроение беспричинной веселости, которое девушка называла «диким восторгом». Так же, как Толстой, он любит детей и любит веселиться с ними.
Еще больше сходства между автором и его героем в их общем отношении к жизни и в их миросозерцании. Как и Толстой, Сергей Михайлович твердо убежден в том, что «в жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого». Он старается внушить любимой девушке это убеждение, так же как Толстой старался внушить его Валерии Владимировне Арсеньевой. «Я не могу сердиться, — говорит Сергей Михайлович, — для меня теперь нет дурного, есть только жалкое и забавное».
334
Такое же отношение к людям старался воспитывать в себе Толстой, записавший в своем дневнике 15 сентября 1858 года: «Людей нельзя не любить, они все, мы все, так жалки. Ужасно жалки». (Такое же отношение к людям приписывается Альберту его другом Петровым: «Он всех одинаково любит или презирает, что все равно».)
Как и Толстому, герою его повести представляется счастьем «уединенная жизнь» в деревенской глуши, «с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли», затем полезный труд, отдых, природа, книги, музыка, «любовь к близкому человеку». Совершенно так же, как и Толстой, Сергей Михайлович очень любит русских крестьян. «Этот народ везде отличный, — говорит он. — Чем больше его знаешь, тем больше любишь». И любимую девушку он хвалит за то, что ей «совестно бывает отчего-то гуляя проходить мимо крестьянок, когда они работают, и хотелось бы подойти к их люлькам».
Предваряя изумительные картины сенокоса в «Анне Карениной», Толстой и в «Семейном счастье» не мог не выразить своего восхищения дружным народным трудом в рабочую пору, — тем трудом, в котором и сам он минувшим летом принимал деятельное участие. «Со всех сторон, — читаем в «Семейном счастье», — в этой пыли и зное, на горячем солнце, говорил, шумел и двигался трудовой народ». И далее: «Бабы с граблями на плечах и с вяслами на кушаках, с громкою песнью прошли домой».
Что касается героини повести, то во всей первой части рассказывается только о зарождении и развитии в ней чувства любви и о ее выходе замуж. С удивительной тонкостью и верностью изображает Толстой действие любви на женщину того типа, к которому принадлежит его героиня. Она рассказывает в своих записках о том неотразимом духовном влиянии, которое оказывал на нее любимый человек.
«Все мои тогдашние мысли, — рассказывает она, — все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее; совершенно незаметно для себя я на все стала смотреть другими глазами». «Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать... как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде». Она угадывала то, что ему будет приятно, и старалась поступать так, чтобы сделать ему приятное: отказалась от кокетства, старалась быть простой, полюбила чтение и занятия с маленькой сестрой, потому что ему это нравилось. После венчания она чувствует «новую и еще нежнейшую и сильнейшую любовь, чем
335
прежде». «Я почувствовала, что я вся его и что я счастлива его властью надо мною».
Вторая часть повести содержит записки героини о ее замужней жизни в течение нескольких лет.
Первые месяцы она живет в имении мужа, и Толстой пользуется случаем нарисовать картину жизни помещиков в эпоху крепостного права. В описание помещичьего быта Толстой вносит некоторые черты жизни своего отца и бабушки.
Но вот ей становится скучно в деревне, и они приезжают в Петербург. В Петербурге она вращается в светском обществе и посещает балы. Светская жизнь захватывает ее и занимает все ее время. Она встречается с кузиной мужа, княгиней Д., развращенной светской женщиной типа Бетси Тверской в «Анне Карениной». Цель жизни княгини Д. — «кружить головы» мужчинам.
Между мужем и женой обнаруживается глубокое различие в их взглядах на жизнь, ранее существовавшее в скрытом виде и потому бывшее для них незаметным. Муж с отвращением смотрит на ту «грязь праздности, роскоши, глупого общества», в которую погрузилась его жена. Особенно возмущен был Сергей Михайлович тем, что его жена, по уговорам княгини, отложила свой отъезд из Петербурга в деревню, чтобы показаться на бале какому-то принцу, который интересовался ею. Сергей Михайлович увидал в этом поругание достоинства женщины.
Начался глубокий семейный разлад.
Рождение сына не изменяет образа ее жизни. Она признавалась и себе, и другим в своей холодности к ребенку. Холодность к детям — это черта характера В. В. Арсеньевой, в свое время подмеченная в ней Толстым. Героиня «Семейного счастья», вспоминая свои девические мечты о замужестве, говорит: «О детях я не думала, и, по правде сказать, мысль эта портила созданный мною мирок, и я отгоняла ее»74.
Постоянное пребывание в развращенном светском обществе не прошло даром для Марии Александровны. Когда она с мужем была за границей, она чуть было не поддалась наглым домогательствам красивого и развращенного итальянского маркиза. Ее потянуло «броситься, очертя голову, в открывшуюся вдруг притягивающую бездну запрещенных наслаждений». Только случай спас ее. Опомнившись, она решает сейчас же вернуться на родину и уехать к себе в деревню.
Едва не обрушившаяся на ее голову катастрофа раскрывает перед ней всю пустоту и безнравственность того образа жизни,
336
который она вела в течение долгого времени. Она тоскует по моральной власти мужа, от которой она добровольно отказалась, и даже обвиняет его в том, почему он не употребил над нею «власть любви», когда она пошла по ложному пути. «Зачем он не связал, не убил меня?» — думает она. Происходит объяснение. Муж говорит, что ей нужно было собственным опытом изведать всю горечь того образа жизни, который так привлекал ее; его словам, сколько бы он ни говорил ей о пустоте и безнравственности такой жизни, она не поверила бы.
Повесть заканчивается тем, что героиня считает прежний свой роман с мужем оконченным. Для нее началась новая, «совершенно иначе счастливая жизнь», в которой место любви к мужу заняла любовь к детям и к отцу своих детей. В ней происходит некоторый нравственный переворот, который, однако, недостаточно раскрыт автором, так что приходится до известной степени согласиться с Боткиным, назвавшим конец повести «проглоченным».
XV
Во время работы над «Семейным счастьем» мнение Толстого о своем произведении менялось, однако большей частью он бывал доволен написанным.
Боткину, мнением которого Толстой дорожил, повесть не понравилась. Он находил, что произведение Толстого «и холодно и скучно», «всё исполнено какого-то холодного блеска». Но Толстой не соглашался с Боткиным и говорил ему, что если его рассказ не оценят теперь, то лет через пять он «получит свою оценку»75.
В письме к Толстому от 6 мая 1859 года Боткин объяснил, что именно не нравилось ему в «Семейном счастье»: не нравился «противный пуританизм», который он усмотрел во взглядах и в поведении героини.
Приехав в Ясную Поляну, Толстой 3 мая получил корректуры второй части своей повести. Он находился в то время в очень подавленном настроении. Причин такого настроения было несколько. Попрежнему мучило его одиночество; страдал он и оттого, что, будучи твердо убежден в том, что «истинное счастье — жить для другого», он тем не менее не находил для себя полезного труда, который давал бы ему внутреннее удовлетворение; и оттого, что, при всей его страстной любви к искусству, в его сознании подготовлялся совершенный отход от художественной литературы.
337
В таком душевном состоянии застали Толстого корректуры второй части «Семейного счастья», и повесть представилась ему «постыдной мерзостью». Он пишет отчаянное письмо своему неумолимому критику Боткину, жесточайшим образом бранит свое создание и за «безобразие мысли» и даже за «невообразимое безобразие языка», разумея под «языком», как всегда, всю вообще художественную сторону произведения.
В неописуемом озлоблении на свою работу Толстой просит Боткина уговорить Каткова не печатать вторую часть повести, взять из редакции рукопись и сжечь ее.
Боткин ответил Толстому немедленно. Осуждая «Семейное счастье» за его «противный пуританизм», Боткин оговаривался, что, несмотря на это, во всем рассказе «постоянно чувствуется присутствие большого таланта», и не соглашался с мнением Толстого относительно языка его повести. «Напротив, язык везде отличный», — писал Боткин.
Ровно через неделю Боткин посылает Толстому второе письмо, написанное по прочтении второй части «Семейного счастья». Боткин предупреждает Толстого, что письмо покажется ему странным. «Странность» письма состояла в том, что, прочтя «с самым озлобленным вниманием» корректуры второй части повести, Боткин нашел, что эта вторая часть «прекрасна почти во всех отношениях». Он перечисляет достоинства этой части повести: «большой внутренний драматический интерес», превосходное раскрытие психологии действующих лиц, «глубоко схваченные изображения природы». Получилась вещь «отличная по мысли, отличная по большей части исполнения», «исполненная серьезного и глубокомысленного таланта»76.
В том же письме Боткин сообщал, что о первой части «Семейного счастья» он слышал от читателей одни только одобрительные отзывы.
В печати «Семейное счастье» вызвало также только сочувственную критику. Журнал «Северный цветок» назвал первую часть «Семейного счастья» «милой поэтической идиллией»77. Критик «Петербургских ведомостей», признав повесть Толстого «прекрасною», далее писал: «Сколько грации, поэзии, увлекательности в сближении Маши с Сергеем Михайловичем. Тут все поэзия и жизнь. Чрезвычайно хороша эта повесть; она напомнила нам лучшее произведение графа Толстого — его «Детство». Маша в то время, когда любила Сергея Михайловича, была как бы иною женщиной и всё видела в ином свете, сквозь призму
338
какой-то неуловимой поэтической прелести, причем ей казалось, что все люди так добры и все ее так любят; подобное же обаятельное впечатление произвела на нас и сама повесть»78.
Критик журнала «Сын отечества» так оценивал повесть Толстого: «Мысль рассказа не новая, тем не менее интересная и живая, и раскрыть ее, очевидно, была задача нелегкая, но она прекрасно выполнена автором. Это пробуждение в сердце Маши молодых сил, увлечение ее жизнью, борьба чувств и потом возвращение к сознанию своего заблуждения — переданы автором с удивительной верностью и с таким глубоким анализом чувств, который обличает в авторе знатока сердца человеческого. Вместе с тем всё это изображено так живо и увлекательно, так поэтично, что вы с удовольствием читаете рассказ графа Толстого»79.
Позднее Аполлон Григорьев назвал «Семейное счастье» «лучшим произведением» Толстого80.
Повесть Толстого была тогда же целиком переведена на французский язык и появилась в газете «Journal de Saint-Petersbourg».
Недовольство Толстого своей повестью объясняется прежде всего тем смутным, тревожным настроением, в котором он тогда находился. Кроме того, он мог быть недоволен и содержанием повести. Ему хотелось как бы подвести итог своим прошлым отношениям с В. В. Арсеньевой; но итог оказался скудным, и Толстой мог счесть содержание повести узким и бледным по сравнению с его предшествовавшими произведениями.
Идея повести, о которой Толстой говорил Боткину, — переход отношений влюбленных супругов в любовь к детям — была несомненно сочувственна Толстому (выше было сказано, что у него являлась даже мысль жениться без любви, лишь бы устроить себе семейную жизнь). Однако идея эта в то время воспринималась Толстым только рассудком и не переходила в область чувства; от этого и в воплощении этой идеи в художественном произведении чувствовалась рассудочность. Отсюда некоторая холодность повести, справедливо подмеченная Боткиным.
Причиной недовольства Толстого своей повестью могло служить также и то, что повесть эта написана не в стиле Толстого, а скорее в чуждом для него стиле Тургенева. Но это было неизбежно. Если бы светская женщина того времени стала писать записки о своей любви в манере Толстого и его языком, получилась бы нестерпимая фальшь, которую прежде всех, конечно, осудил бы сам автор.
339
Но, несмотря на суровый приговор автора, повесть «Семейное счастье» остается замечательным произведением, в котором во всей силе проявилось изумительное мастерство Толстого в раскрытии «диалектики души» обоих главных героев. И Толстой неизменно включал эту повесть во все собрания сочинений, издававшиеся при его участии (в 1866, 1873 и 1880 годах).
XVI
Всю весну и лето 1859 года Толстой провел в Ясной Поляне, занимаясь главным образом хозяйством, которое он, по его собственным словам в письме к А. А. Толстой от 12 июня, не мог вести выгодно, так как был для этого «не довольно сух» в своих отношениях с рабочими.
В дневнике Толстого за этот период времени упоминается однажды намерение писать «Казаков», но было ли осуществлено это намерение — неизвестно. Близкие отношения его с А. А. Базыкиной продолжались. Настроение продолжало оставаться подавленным. Даже весна, которая всегда действовала на Толстого возбуждающим образом, теперь не поднимала его настроения.
В августе Толстой ездил в Москву. Относительно этой поездки в дневнике Толстого 9 октября сделана неясная запись: «6 августа я ездил в Москву и стал мечтать о ботанике. Разумеется, мечта, ребячество». Поводимому, дело шло о каком-то изучении ботаники, как это можно заключить на основании упоминания в письме к Чичерину, написанном в ноябре, о том, что Толстой одно время «начал заниматься естественными науками». Никаких подробностей об этих занятиях нам неизвестно.
В Москве Толстой виделся с княжной Александрой Владимировной Львовой, племянницей его приятеля князя Г. В. Львова. Толстой еще за границей одно время думал жениться на А. В. Львовой; теперь эта мысль появилась у него снова. Но Толстой проявил какую-то неловкость у Львовых, чем был очень недоволен. «Как вспомню этот визит, вою», — записал он в дневнике 9 октября. И далее: «Я решил было, что это последняя попытка женитьбы; но и то ребячество».
Так кончилась ничем и эта попытка Толстого устроить себе семейную жизнь.
Во второй половине августа Толстой отправился на охоту в Каширский и Веневский уезды Тульской губернии вместе с другими охотниками. Он затравил двух волков и трех лисиц, а вся охота затравила пять волков и шесть лисиц. В начале сентября Толстой вновь отправился на охоту в Мценский уезд Орловской губернии и в Чернский и Новосильский уезды Тульской губернии. До 1 октября Толстой затравил двух волков и
340
одиннадцать лисиц81. Но и охота не доставляла Толстому прежнего удовольствия и служила ему скорее средством забыться. 17 сентября Фет, в имении которого Новоселки гостил в то время Толстой, писал его братьям: «Лев Николаевич у нас и все ругает сочинителей. Травит он здесь как-то грустно».
Из Новоселок охотники предполагали пройти к Тургеневу в его Спасское. Фет, видимо, разгласил всем о том, что Тургенев писал ему, что «мало любит» Толстого. Возник вопрос, удобно ли будет Толстому после этого являться к Тургеневу. Зять Фета И. П. Борисов решил, что удобно. 27 сентября он писал жене: «Завтра идем в Никольское, а оттуда зайдем и в Спасское к милейшему. Это ничего не значит, что «люблю его мало»82.
Толстому, повидимому, несмотря на его полное разочарование в Тургеневе, было все-таки неприятно это откровенное признание Тургенева. В свою приписку к письму Борисова, адресованную Фету и написанную в шутливой форме, Толстой включил и серьезную фразу: «А он меня мало любит».
3 октября охотники, в том числе и Толстой, прибыли в Спасское; но это свидание не принесло радости ни Толстому, ни Тургеневу.
9 октября Тургенев писал Фету: «С Толстым мы беседовали мирно и расстались дружелюбно. Кажется, недоразумений меж нами быть не может, потому что мы друг друга понимаем ясно, и понимаем, что тесно сойтись нам невозможно. Мы из разной глины слеплены»83. В тот же день 9 октября и Толстой, вернувшись в Ясную Поляну, писал Дружинину о Тургеневе: «В нынешний его приезд я окончательно убедился, что он и [Толстой написал было: «добрый», но тут же зачеркнул это слово] умный, и даровитый человек, но один из самых несноснейших в мире. А с тех пор, как я получил эту новую точку зренья на него, мне с ним легко стало». В этот день, перечисляя в дневнике свои встречи с знакомыми за последние месяцы, Толстой назвал и Тургенева, сопроводив это упоминание крайне резкой характеристикой.
Обилие впечатлений, продолжительные переезды и переходы, и опасности волчьей охоты не способствовали подъему душевного состояния Толстого. Хозяйство, за которое он опять принялся,
341
тяготило его. Хотя он очень любил сельскохозяйственные работы и находил, как писал он Чичерину в ноябре, что есть «некоторые следы» его двухлетней работы «и на земле и на людях», все же ему очень тяжело было его положение помещика. «Хозяйство, — писал он в дневнике 16 октября, — опять всей своей давящей, вонючей тяжестью взвалилось мне на шею».
Вполне определился отход Толстого от литературы, о котором он писал своим приятелям — Фету, Дружинину и Чичерину. Отход этот имел несколько причин.
Занятие литературой представлялось Толстому в то время своего рода суррогатом жизни, некоторым самообманом, самоутешением. В полушутливом тоне он около 9 октября писал Фету: «....А повести писать все-таки не стану. Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать «как она его полюбила». Глупо, стыдно».
Искусство как «созерцание красоты», «чистое искусство», в защиту которого еще так недавно выступал Толстой в своей речи в Обществе любителей российской словесности, вызывает в нем теперь сильнейший протест. Недовольный и своими последними повестями, Толстой 9 октября пишет Дружинину: «Жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал, совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в тридцать один год, ей-богу, руки не поднимаются. Даже смешно, как подумал, что — не сочинить ли мне повесть?»
Жрецы «чистого искусства», авторы «грациозных» повестей, рассказов и стихов возбуждают теперь в Толстом чувство сильнейшей антипатии. «Самообольщение так называемых художников..., — писал Толстой Чичерину 30 января 1860 года, — обольщение это для того, кто ему поддается, есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их скверно, ничтожно, может быть, — есть уродство и пакость, которой я слишком много видел вокруг себя мерзких примеров, чтобы не ужаснуться».
Дружинин известил Толстого, что 7 августа 1859 года был утвержден устав Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым — так называемого Литературного фонда. В ноябре в газетах был помещен список членов-учредителей этого Общества84. В этом списке, в числе других литераторов, значились Анненков, Григорович, Дружинин, Майков, Некрасов, Панаев, Писемский, Полонский, Салтыков, А. К. Толстой,
342
Л. Н. Толстой, Тютчев, Тургенев, Чернышевский, Шевченко; из москвичей — Боткин, Островский, Фет.
В ответ на извещение Дружинина Толстой категорически заявил ему в письме от 20 декабря: «Заносить меня в список литераторов незачем»85.
Но как ни крепился Толстой, как ни бесспорны казались ему основания его отказа от литературной деятельности и отдаления от литераторов, отказ этот не мог не быть для него чрезвычайно тяжелым. Литературная деятельность не только доставляла ему внутреннее удовлетворение, но и составляла смысл его жизни, служила для него связью с людьми, ставила перед ним высокие задачи, исполнение которых оправдывало его жизнь в его собственных глазах. Еще на Кавказе он записал в дневнике, что благодаря литературной деятельности он выполняет свои обязанности «перед соотечественниками»; в рассказе «Севастополь в мае» писал, что служение «правде» составляет цель его писательской работы; Панаеву из Севастополя писал, что очень хотел бы «иметь влияние» в литературе; в период создания «Люцерна» записал в дневнике, что ему многое нужно сказать «нового и дельного». С отказом от литературной деятельности прекращалось его служение «правде» и исполнение обязанностей «перед соотечественниками» на том поприще, к которому он чувствовал призвание и на котором уже выступал с таким успехом. Твердая почва, на которой он стоял в течение нескольких лет, уходила из-под его ног, и им все чаще и чаще овладевало мрачное настроение.
Пессимизм Толстого принимает теперь форму ропота на мировой порядок, на неизбежные условия человеческой жизни — смерть и болезни. Получив от А. А. Толстой письмо с извещением о смерти ее любимой шестилетней племянницы, Толстой в свою очередь в письме от 12 октября сообщает ей о другом неутешном горе, о котором он незадолго до того узнал, — о внезапном сумасшествии жены Борисова (сестры Фета), и по этому поводу говорит: «Да, мой друг, ваше горе и это горе — и с таким злым, изысканным горем велит бог жить людям».
Неизвестно, к чему бы привело Толстого его мрачное настроение, если бы перед ним не открылась неожиданно новая, всецело захватившая его, плодотворная деятельность, в которой потонули его скептицизм и пессимизм.
343
Глава седьмая
ПЕРВЫЙ ГОД ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
(1859—1860)
I
1 октября 1859 года Толстой писал брату Николаю Николаевичу, что зимой он «почти наверное» поедет за границу. Случилось, однако, так, что Толстой не только не уехал этой зимой за границу, но даже во всю зиму ни разу не съездил в Москву — так он был занят.
20 декабря Толстой писал И. П. Борисову, заинтриговывая его: «Занят дома с утра до ночи, а ничего не пишу, вот вам задача, и на сердце хорошо».
В тот же день он писал Дружинину: «Я не пишу и надеюсь, что не буду, и, несмотря на то, так занят, что давно хотел и не было времени писать вам. Чем я занят — расскажу тогда, когда занятия эти принесут плоды».
Чичерину Толстой писал 30 января 1860 года1: «Делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздухом, и вместе такое, с высоты которого, признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на vous autres [вас остальных]».
Дело, которым был занят Толстой и которое целиком захватило его, были школьные занятия с крестьянскими детьми. Делу этому Толстой отдался с полным сознанием того, что оно имеет чрезвычайно важное значение, что работа для просвещения народа есть главная обязанность интеллигентных людей.
В письме к Фету от 23 февраля 1860 года Толстой говорит: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем».
II
Осенью 1859 года по деревне Ясной Поляне пронесся слух, что «грах» открывает у себя в доме бесплатную школу для крестьянских ребят и приглашает всех отцов посылать к нему своих мальчиков и девочек.
344
Некоторых из мужиков взяло сомнение: не для того ли «грах» устраивает школу, чтобы, когда они выучатся, отдать этих ребят в солдаты, чтобы тем заслужить себе милость от царя? А ребята как раз попадут под турку. «С какой стати будет он учить бесплатно?» Но более благоразумные рассеяли эти страхи, и в назначенный день к флигелю яснополянского дома собралось много ребят с родителями или со старшими.
Толстой вышел к ним, ласково поговорил с ними, провел в комнату второго этажа, где будет школа, показал и ту комнату, где жил он сам, переписал всех учеников — их оказалось 22 человека — и велел приходить на другой день. На другой день ребята пришли опять, и учение началось. На классной доске Толстой написал своим ученикам буквы русской азбуки.
Так вспоминает о начале толстовской школы один из лучших ее учеников Василий Степанович (в то время просто Васька) Морозов2.
Первое время крестьяне относились к яснополянской школе с недоверием. Их смущали новые приемы обучения, применявшиеся Толстым, и отсутствие телесного наказания. «Страх и потому побои, — писал Толстой в одной из педагогических статей3, — он [крестьянин] считает главным средством для успеха и потому требует от учителя, чтобы не жалели его сына». Поэтому относительно яснополянской школы первое время слышались упреки в баловстве, и некоторые родители брали своих детей из школы. Но это продолжалось недолго. «Отвыкнуть, особенно матерям, от того, что не бьют их детей, очень легко и приятно», — писал Толстой в той же статье4. Предубеждение крестьян против новых приемов обучения было также преодолено благодаря терпеливому объяснению Толстым преимуществ этих приемов перед старыми приемами и благодаря видимым для крестьян успехам их детей. Родители, ранее бравшие своих детей из яснополянской школы, опять приводили их; некоторые привозили своих детей за тридцать и за пятьдесят верст. От отставных солдат, обучавших грамоте, стали брать детей из-за того, что те их били. Репутация яснополянской школы, как образцовой, вполне утвердилась в народе.
К марту 1860 года у Толстого обучалось уже около 50 учеников — мальчиков, девочек и взрослых.
345
«Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны», — писал Толстой о своей школе Е. П. Ковалевскому 12 марта 1860 года.
III
В то время для крестьян, еще не освобожденных от крепостной зависимости, не было никаких правительственных школ. В городах и среди государственных и удельных крестьян существовали начальные, так называемые приходские училища; что же касается помещичьих крестьян, то забота о распространении среди них грамотности предоставлялась усмотрению их помещиков. Некоторые, весьма немногие, прогрессивно настроенные помещики устраивали в своих имениях школы для крестьян, о чем имеются сведения, начиная с 20-х годов прошлого века (устраивают школы для своих крестьян и герои «Войны и мира» — Пьер Безухов и Андрей Болконский), но это были единичные случаи. «Огромное большинство помещиков смотрело на народное просвещение и даже на деятельность правительства в этой области, как на пустую и вредную затею»5.
Но в народе все-таки проявлялась тяга к образованию. «Народ любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания», — писал Толстой6. Возможности удовлетворения потребности в образовании были у народа в то время очень скудны. Он обращался к духовным лицам и к отставным солдатам, которые и обучали за известную плату двух-трех и не более шести мальчиков. У этих старинных учителей, как рассказывает Толстой в одной из своих педагогических статей7, курс учения продолжался три года. Как только выучивали буквы и склады, так сейчас же приступали к выучиванию наизусть всей книжки азбуки, содержавшей молитвы, басни, краткую священную историю, таблицу умножения и пр.; на это употреблялся год; потом год — на выучивание наизусть Псалтыря и год — на «искусство срисовывать прописи».
Учение производилось так. Каждому ученику задавался «стишок», который он должен был выучить наизусть («стишок» — это значит строка или две); заданный вчера «стишок» он должен был повторить. «Заучивание стишка, — рассказывает Толстой, — продолжается целый день. Единственную перемену, диверсию, составляют спрашивание учителя, соединенное обыкновенно с побоями, и промежутки, когда учитель выходит, и ребята начинают
346
баловаться, вслед за чем обыкновенно бывают доносы и наказания... Такими учителями очень часто бывают люди, почти целый день занятые посторонним делом: причетники, писаря... Учитель поручает старшему смотреть «за порядком», сам же большею частью уходит. «Порядок» состоит в том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои 5 или 6 слов... Все такие учителя непременно завербовывают к себе в школу хоть одного грамотного, под предлогом доучивать его, а в сущности, этот полуграмотный и есть учитель. Настоящий же учитель занимает только полицейскую должность: прикрикнуть, приударить, собрать деньги и изредка только указать и спросить урок».
«Я не видал еще, — писал Толстой, — старинного учителя — кроткого человека и не пьяницу». Толстой объясняет это тем, что люди эти «по обязанности своей должны быть тупы и жестоки, как палачи, как живодеры, — должны пить, чтобы заглушать в себе раскаяние в совершаемом ежедневно преступлении над самыми лучшими, честными и безобидными существами в мире».
Результатом обучения в таких школах было, по наблюдениям Толстого, притупление понятий, потеря свободы мышления, «умственный разврат» и отвращение к образованию8.
Толстой основал свою школу на совершенно противоположных началах.
Начиная свою школу, Толстой не считал себя обязанным руководствоваться никакими установленными программами или принятыми методами обучения. Во вступлении к не написанной им педагогической статье, в которой он намеревался изложить основы своих педагогических взглядов, Толстой, рассказывая о своих школьных занятиях, писал:
«На мне не лежало ни исторических школьных уз Европы, ни религиозных и философских авторитетов своего отечества. Без всякого искания новых путей, без противодействия или подчинения известным направлениям, без всякой зависимости от общества и правительства, я бессознательно и свободно должен был итти и пошел своим особенным путем, руководствуясь одним — изучением потребности тех учеников, с которыми я имел дело»9.
Опытом Толстой пришел к несомненному для него выводу, что «говор, движение, веселость детей» составляют для них «необходимое условие учения»10. В школе ученики рассаживались, где кто хотел: на лавках, на столах, на подоконнике, на полу; иногда дети даже лежали на лавках. Каждый ученик мог спрашивать учителя обо всем том, что ему было непонятно, глядеть в
347
тетрадь своего соседа или советоваться с ним. Одиночное спрашивание учеников не применялось — только коллективное. Уроков на дом не задавали.
В одной из своих педагогических статей Толстой так рассказывает о том, как ученики собирались в школу, после того как раздавался звонок колокольчика, висевшего на крыльце школы.
«Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки, по две, по три и по одиночке... Дорогой почти никогда я не видал, чтобы ученики играли — нешто кто из самых маленьких или из вновь поступивших, начатых в других школах. С собой никто ничего не несет — ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут — им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какою-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу»11.
Толстой положил в основу своих школьных занятий принцип полной свободы как для учащихся, так и для учителей. Учащийся мог ходить и не ходить в школу, мог слушать или не слушать учителя и уходить из школы по своему желанию. Учитель имел право не пускать в школу того или другого ученика и действовать на весь школьный коллектив всей силой своего морального авторитета12.
Толстой всегда считался с тем, как воспринимались учениками применяемые им методы преподавания. Впоследствии он так вспоминал о своих школьных занятиях: «Так как принуждение при обучении и по убеждению моему и по характеру мне противно,
348
я не принуждал и как скоро замечал, что что-нибудь неохотно принимается, я не насиловал и отыскивал другое»13.
Относительно программы обучения Толстой держался того мнения, что «народная школа должна отвечать на потребности народа»14. В яснополянской школе преподавались: умение читать и писать, каллиграфия, грамматика, так называемая священная история, математика, рисование, черчение, пение; затем прибавились еще рассказы из русской истории и беседы по естественным наукам.
В дело школьного обучения, как и во все, что он делал, Толстой вносил свои собственные, им самим придуманные приемы. Так, обучение письму он начинал с обучения писать печатными буквами и не спешил переходить к скорописным буквам, находя, что они «портят руку и не четки»; умножение одних чисел на другие учил начинать не с единиц, а с высших разрядов, чтобы ученики сознательно относились к действиям15, и т. д.
Вне класса между учителем и учениками установились совершенно свободные дружеские отношения равных к равному. Толстой шутил, играл, боролся с учениками, гулял с ними по саду и по лесу, устраивал для них катание с гор, вечерами по окончании занятий разводил их по домам. Он предоставил желающим из своих учеников в пользование десятину принадлежавшей ему земли с тем, чтобы они засевали и засаживали каждый свою делянку семенами разных растений и урожай брали себе. Желающих оказалось восемь мальчиков. Толстой разделил десятину на восемь равных частей, и мальчики засадили каждый свою часть семенами льна, гороха, гречихи, моркови, репы и полученный урожай взяли себе. Однажды Толстой устроил лотерею и разыграл между учениками одну из своих лошадей. Обо всем этом рассказывает в своих воспоминаниях В. С. Морозов.
IV
То, что рассказывает Толстой о своей школе в своих педагогических статьях и что рассказывает о ней его ученик Василий Морозов, вполне подтверждается корреспонденцией о яснополянской школе, датированной 1 мая 1860 года и напечатанной в газете «Наше время»16. Автор корреспонденции — А. Ф. Головачев, с 1863 года сделавшийся сотрудником «Современника».
349
Вот что читаем в этой корреспонденции:
«Впечатление, которое произвела на меня эта школа, было так хорошо, что когда я просидел там несколько времени, мне не хотелось выйти оттуда, не хотелось оторваться от беседы со школьниками. Все было для меня ново и необыкновенно: и развитость и знания детей, учащихся всего 7—8 месяцев, и их светлые, умные лица, и то соревнование и удовольствие, с которыми они учатся, и, наконец, их в высшей степени интересные отношения к учителю. В основание занятий положено отсутствие всякого стеснения, всякой формальности, и это немало способствует той охоте учиться, которую я видел в учениках, а в классе — заведению совершенного порядка, так что все весело занимаются, ничем не мешая друг другу, ни разговорами, ни шалостями; и я ни разу не видал в классе ничего такого, что бы могло вызвать замечание самого отчаянного формалиста. Пока учитель занят с теми детьми, которые ушли вперед, менее знающие читают или пишут, и всегда более знающий считает как бы своей обязанностью помогать менее знающему своему товарищу. Учитель очень скоро овладевает вниманием своих учеников и уж тогда не выпускает их, так сказать, из своих рук; и надо видеть, как серьезно занимаются дети всяким предметом, какие внимательные, хорошие лица у них, когда они решают какую-нибудь арифметическую задачу или рассказывают что-либо прочитанное ими самими или слышанное от учителя. Я видел в школе детей от 12 до 7-летнего возраста, мальчиков и девочек, и все они то, что знают, рассказывают хорошо и понятно своим крестьянским наречием, своим языком, чрезвычайно простым, без ломанья, точно таким же, каким говорят у себя дома на деревне. Учитель отлично знает каждого из них, степень развития и знания его, и как-то особенно хорошо умеет к каждому примениться... Как только внимание слушателей начинает утомляться (а учитель, внимательно следящий за учениками, тотчас видит это из ответов их), так учение прекращается, и дети выходят в сад, бегают, играют там, но и тут всего больше держатся около своего учителя, который или расспрашивает их о том, что они делают дома в семье, или рассказывает сам о разных вещах, интересующих детей, объясняет им что-либо, или ходит с ними на участок земли, отведенный детям для занятий земледелием, в котором они, под руководством его, видят прямую пользу, ибо не видят барщины, которая уже давно уничтожена графом и заменена вольнонаемным трудом. Наконец, если время гулевое, являются уроки гимнастики.
Утренние классы, так сказать, обязательны, хотя собственно никто не принуждает детей ходить туда, но каждый ребенок очень хорошо чувствует, что порядок в занятиях необходим, поэтому знает, что если он будет пропускать уроки, то тотчас
350
отстанет от товарищей, а этого никому не хочется. Отсюда видно, что обязательность явилась сама собой и очень просто.
После обеда большие являются, если дома их не задерживает никакое занятие; маленькие же, которым дома нет дела, являются непременно, но вообще как те, так и другие идут в школу, как на праздник. С маленькими, разумеется, занятий немного, но по-моему они гораздо деликатнее и труднее для учителя... И как нравится детям общество их учителя! Они бессознательно ощущают в нем потребность, чувствуют с ним себя довольнее и веселее, — до такой степени в этих маленьких созданиях учитель умеет возбудить любопытство и поддерживать его приятным для них и в высшей степени полезными образом. Дети, учащиеся 7—8 месяцев, то-есть с начала учреждения школы, сделали успехи, которым я, может быть, не поверил бы, если бы не убедился сам, если бы не говорил с учениками, не экзаменовал их, так сказать... Они умеют читать и писать очень порядочно, прекрасно понимают и рассказывают прочитанное и делают грамматический разбор, разумеется, легкий, по частям речи. Из того, что они прочли или слышали от учителя, они пишут маленькие сочинения, которые иногда отличаются чрезвычайной оригинальностью и как-то свежо привлекательны. Здесь на первом плане стоит священная история и некоторые особенно интересные эпохи и личности из русской истории. Арифметические задачи по четырем правилам решают скоро и хорошо, то-есть делают не только сложение, вычитание, умножение и деление, но и задачи, в которые входят комбинации этих правил, — некоторые знают уже дроби и пропорции. К этому прибавьте кучу вещей, из которых детей экзаменовать нельзя, но которые они знают из бесед с учителем, — вещей необходимых при правильном воспитании и в знании которых я убедился из разговоров с этими замечательными школьниками».
Автор надеется, что пример Толстого вызовет подражания, хотя он и считает, что «это дело нелегкое и что школа в том виде, как она существует у графа Толстого, требует от педагога особенной подготовки и способностей» и, кроме того, глубокой любви к народу. От внимания автора не ускользнула особенность отношения Толстого к народу. «Учитель школы, о которой мы говорим, — сообщает корреспондент, — обладает знанием быта простого народа, и это знание проникнуто у него особенным привлекательным поэтическим элементом, внушающим детям какое-то особенное доверие к учителю, заставляющее их яснее понимать его любовь к ним и искреннее отвечать на нее».
Корреспонденция о яснополянской школе вызвала несколько газетных откликов. Газета «Киевский телеграф», уведомив своих читателей о том, что «известный талантливый писатель наш» граф Л. Н. Толстой в своем имении «завел народную школу для
351
крестьянских детей», в которой «он один — наставник и воспитатель», высказывала свое убеждение в том, что подобные факты «укрепляют общую уверенность в будущности России»17. В другой статье та же газета видела факт прогресса в том, что граф Толстой забыл «титулы, чванства, надменность» и сам взялся за «важное дело воспитания»18.
V
Считая, что народное образование является в данное время самой первой, «насущнейшей потребностью русского народа», Толстой не удовлетворяется одним тем, что заводит школу у себя в Ясной Поляне. Как за пять лет до этого он вместе с группой прогрессивно настроенных офицеров в Дунайской армии думал об основании общества для просвещения солдат, так и теперь он, но не в союзе с кем-либо, а единолично начинает хлопотать об основании Общества народного образования.
12 марта 1860 года Толстой пишет письмо своему еще севастопольскому знакомому, писателю Егору Петровичу Ковалевскому, с просьбой справиться у его брата Евграфа Петровича Ковалевского, бывшего в то время министром народного просвещения, разрешит ли правительство открыть Общество народного образования.
Это письмо Толстой начинает с изложения своих общих взглядов на значение народного образования. Он говорит, что как ни полезны «в деле прогресса России» «телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература...», но «все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится одна сотая доля всего народонаселения». Толстой убежден, что все общественное зло в виде насилия и деспотизма «не может быть сделано одним человеком над многими». Зло есть результат «преобладающего невежества» большинства народа. Не имея возможности в письме к брату министра сослаться на пример своего отечества, Толстой ссылается на Францию. Он говорит, что «только кажется», что император Франции Наполеон III устраивает войны, запрещает неугодные ему журналы и строит планы захвата чужих земель: в действительности это делает не Наполеон III, а делают это «Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты».
Перейдя далее к практической стороне вопроса о постановке дела народного образования в России, Толстой смело утверждает, что «образования этого нет. Оно еще не начиналось, и —
352
прибавляет Толстой, давно уже разуверившийся в русском самодержавном правительстве, — никогда не начнется, ежели правительство будет заведывать им». Нужно, — говорит Толстой, — чтобы дело народного образования было передано в руки общества. Для этого и необходимо Общество народного образования.
Деятельность такого Общества, как представлял Толстой, должна состоять в издании педагогического журнала, в открытии школ, «в составлении курса преподавания», в назначении учителей, в надзоре за преподаванием и за управлением школ. Средства Общества составлялись бы из членских взносов, из платы за обучение там, где это возможно, из доходов от продажи изданий Общества и пожертвований.
Толстой потому так желает основания такого Общества, что Общество это соберет «силы многих к одной цели». Но Толстой знает, что он «на дурном счету у правительства» (знал он это, вероятно, от своих двоюродных теток, живших во дворце), и потому проект устройства Общества не должен исходить от него, но он надеется найти такое лицо, от имени которого можно будет подать проект в министерство.
Ковалевский, несомненно, письменно или устно через кого-нибудь из их общих знакомых ответил Толстому. Если ответ был в форме письма, то письмо это в архиве Толстого не сохранилось. Но во всяком случае ответ был неблагоприятный. А. Ф. Головачев, автор приведенной выше корреспонденции о яснополянской школе, в конце своей заметки говорит, что найдены были какие-то «неудобства» в осуществлении проекта Толстого19.
VI
Е. П. Ковалевскому Толстой писал, что он готовит «большую статью о педагогии, которая не будет годиться в проект для правительства». Эта большая статья была только начата Толстым; был написан план всей работы и начало первой главы. Вся работа должна была состоять из семи глав. Был намечен следующий план всей статьи по главам:
«Гл. 1. Влияние образования на политическое и социяльное
353
положение общества. Новое значение педагогии. Россия даст теперь это направление. Государство управляется народом, а не владыками. Всегда было, но теперь чувствительно, быстро с путями сообщения и паром.
Гл. 2. Никто не верит ни во что. Надо прямо отрицать все. Новое поколенье одна надежда.
Гл. 3. Свобода образования.
Гл. 4. Она невозможна, или с низших ступеней нужно сделать заманчивой.
Гл. 5. Педагогия наука опытная.
Гл. 6. Что теперь есть.
Гл. 7. Как достигнуть цели».
В главе первой проводится та же мысль о роли народа в истории общества и государства, что и в письме к Ковалевскому, выраженная с еще большей силой и определенностью. Направление педагогики, по мнению Толстого, должно соответствовать этой идее, и в этом-то и должно состоять «новое значение» педагогики. Это новое направление педагогики даст Россия.
Содержание второй главы неясно. Неясно, во что «никто не верит»: идет ли речь о религии или о существующем общественном устройстве. Неясно и то, как можно было надеяться написать в подцензурной статье о том, что следует «прямо отрицать всё». Но, быть может, оговорка Толстого в письме к Ковалевскому о том, что его работа «не будет годиться в проект для правительства» намекала именно на нецензурность работы. С положением о том, что «надо прямо отрицать всё», гармонирует и последний пункт плана второй главы — «Новое поколенье — одна надежда».
Главы третья и четвертая говорят о свободе образования. Осуществление этой свободы Толстой считает возможным только в том случае, если оно начнется «с низшей ступени», т. е. с элементарной школы. С элементарной школы следует сделать свободу образования «заманчивой»; тогда возможно осуществление ее и на следующих ступенях обучения.
Содержание последующих глав набросанного Толстым плана раскрывается в начале самой статьи. В первой главе начатой статьи (заглавие статье не было дано автором) Толстой проводит мысль о том, что существуют два вида педагогики. Один вид педагогики охватывает ту часть развития ребенка, которая происходит «под бессознательным влиянием людей и всего существующего». Другой вид педагогики говорит о развитии человека «под сознательным влиянием других людей».
До сих пор история педагогики посвящена была только этому «сознательному» развитию. История первого вида педагогики — «бессознательных влияний», под которыми складывалось развитие человечества, до сих пор не написана, хотя она была бы
354
более поучительна. Содержанием истории такой педагогики была бы история того, «как более и более непосредственно учился человек из жизни, которая более и более становилась поучительна». Такая «новая история педагогии», как ее называет Толстой, должна рассказать о том, «как учился говорить человек тысячу лет тому назад и как учится теперь, как он учился называть вещи, как он учился различным языкам, как он учился ремеслам, как он учился этике, как он учился различию сословий и обращению с ними, как он учился думать и выражать свои мысли».
Толстой хочет попытаться написать такую краткую «историю педагогии русского крестьянина», из которой и должны быть выведены «общие правила образования русского крестьянина».
Что же касается истории педагогики, как она обычно понимается, то, по мнению Толстого, это есть не что иное, как «история теорий воспитания». До сих пор педагогика остается наукой «отвлеченной, философской», в то время как она должна быть наукой «исторической и опытной». До сих пор педагогика ставила своей задачей «образование наилучшего человека» вообще, между тем как ее задачей должно быть образование человека в известных условиях. Это-то и хотел сказать Толстой, когда в плане своей статьи писал о том, что педагогика есть «наука опытная»20.
Впоследствии в статье «О народном образовании», развивая ту же мысль, Толстой писал, что образование деревенского мальчика должно быть очень отлично от образования мальчика городского. И в том, и в другом случае педагогика должна сообразоваться с условиями жизни ребенка. Школа не должна быть оторванной от тех условий, в которых живет учащийся.
Кроме статьи о задачах педагогики, Толстой в то же время писал и другие наброски по педагогическим вопросам. В его архиве сохранилась рукопись, озаглавленная «Педагогические заметки и материалы» и датированная 5 марта 1860 года. Эта рукопись содержит изложение педагогических мыслей, вызванных у Толстого опытом его преподавания в яснополянской школе и наблюдениями над процессом усвоения знаний его учениками. Рукопись является черновым наброском, не предназначавшимся для печати и совершенно не обработанным автором. Толстой, по-видимому, ставил своей задачей только вкратце записать некоторые свои мысли для того, чтобы впоследствии развить их в виде большой педагогической статьи.
Основные положения этого совершенно необработанного автором наброска сводятся к следующему:
355
1. Каждый отдельный человек в своем умственном развитии «должен пройти все фазы развития человечества».
2. Процесс усвоения знаний ребенком «обратный научному»: ребенок переходит не от общего к частному, а наоборот, от частного к общему.
3. Ребенок не требует понятного изложения, но требует изложения живого, сильно действующего на воображение.
4. «Усвоение памятью непроверенных обобщений», «навязывание обобщений» есть «одно из величайших зол, нарушающее навсегда самый процесс мышления»21. Религия есть такое «обобщение, принятое на веру».
5. Учитель должен руководить учениками в процессе обобщения сведений и фактов.
6. «Задача педагогии есть... наведение ума на обобщение, предложение уму в такое время и в такой форме таких частностей, из которых легко делаются обобщения».
7. «Обучение нравственным или религиозным законам есть следствие того же печального заблуждения» [т. е. принуждения к «усвоению памятью непроверенных обобщений»]. «Не говори «не убий», а покажи факты, которых общий смысл есть «не убий», и он не убьет»22.
VII
В письме к Ковалевскому Толстой писал, что будет или не будет разрешено Общество народного образования, он намерен издавать педагогический журнал, и просил своего адресата справиться, будет ли разрешен журнал с его, Толстого, именем как редактора, и к кому надо обращаться за разрешением на издание такого журнала.
Одновременно с письмом к Е. П. Ковалевскому Толстой набросал программу будущего педагогического журнала, который он намеревался издавать. Он предполагал дать своему журналу название «Сельский учитель». Назначение журнала, — писал Толстой в этом наброске программы своего будущего издания, — состоит «в том, чтобы отвечать на потребность деятельности, существующую в обществе, в том, чтобы группировать силы, направленные к одной цели». Предмет журнала — «первоначальное
356
народное образование». По мнению Толстого, в настоящее время особенно сильно чувствуется в народе потребность образовываться, а в более образованных классах — «потребность образовывать народ».
Обращаясь к истории народного образования в России, Толстой говорит, что у нас прежде всего была основана Академия наук, затем университеты, затем гимназии. Теперь же гимназиями занимаются больше, чем университетами, а придет время, — утверждает Толстой, — когда городскими начальными училищами и сельской школой будут заниматься больше, чем гимназиями.
«Наш журнал, — говорит Толстой, — должен быть первым шагом к народному образованию, которое еще не начиналось в России».
Далее Толстой дает замечательное по ясности и краткости изложение основ своих педагогических воззрений. Он пишет:
«Образование есть потребность всякого человека. Поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть насильственно и должно доставлять наслажденье учащимся».
На этом заметка была прервана; она осталась необработанной и незаконченной и дальнейшего движения не получила23.
Немного позднее, чем письмо к Ковалевскому и программа журнала «Сельский учитель», Толстым были начаты замечания на составленный Министерством народного просвещения «Проект устава низших и средних школ». Этот проект был напечатан в «Журнале Министерства народного просвещения» за февраль 1860 года, причем Министерство предлагало всем желающим представлять свои замечания на этот проект, а педагогическим советам средних и высших учебных заведений — поставить проект на обсуждение в заседаниях советов. Текст проекта был разослан ученым обществам, а также в переводах на французский и немецкий языки был послан известным педагогам, ученым и общественным деятелям Западной Европы.
Толстой, разумеется, не мог не заинтересоваться проектом. Он внимательно изучил его в той части, которая касалась низших школ, и начал писать на него свои замечания.
Не останавливаясь на отдельных частных замечаниях Толстого, нельзя не признать замечательным его общий взгляд на постановку дела народного образования, какой она должна быть по его убеждению. Считая, что первоначальное образование есть
357
дело «самое трудное, требующее наибольшего человеческого (гуманного) образования», Толстой полагает, что учитель в элементарной школе должен быть «из сословия людей самых образованных в России, то есть окончивший курс в университете», или, по крайней мере, выдержавший «педагогический экзамен при университетах».
В конце своей записки Толстой вновь говорит о необходимости основания Общества народного просвещения, которое он теперь называет «Обществом элементарных школ». Главную цель этого общества он видит в открытии «первоначальных» школ. Кроме того, в сферу деятельности общества Толстой вводит теперь и издание педагогического журнала, который раньше он предполагал издавать лично от себя. Одну из задач педагогического журнала Толстой видит в том, чтобы «вводить в сознание народа» мысль о необходимости образования.
Закончил ли Толстой свою записку и послал ли ее по назначению, или она осталась незаконченной и ее черновой текст сохранился только в его архиве, нам неизвестно24.
VIII
Отказ Толстого от художественного творчества, о котором он с осени 1859 года неоднократно писал своим приятелям, не мог быть полным. Толстой был художником по самой своей природе, по своему призванию; художественное творчество было для него не прихотью, не развлечением, не делом временного увлечения, а непреодолимым требованием его натуры.
24 октября 1859 года, вскоре после того, как он писал Фету, что «повести писать стыдно», он пишет тому же Фету, что, разбираясь в своих чувствах к нему, он приходит к следующему заключению: «А может быть, против моей воли и сознания, не я, а сидящая во мне... повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю». Через несколько строк Толстой писал в том же письме: «А иногда так вдруг захочется быть великим человеком и так досадно, что до сих пор еще это не сделалось. Даже поскорей торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать». Здесь Толстой выступает с своей обычной манерой — говорить о себе с юмором, под видом шутки излагать серьезную мысль. Смысл этой шуточной фразы может быть только один: у Толстого появлялись иногда значительные по своему содержанию художественные замыслы, и он чувствовал себя в силах их воплотить, хотя и не приступал к их осуществлению.
358
В феврале 1860 года Толстой вновь на короткое время возобновил работу над «Казаками». 16 февраля он записал в дневнике задание на этот день: «Писать казаков утром». Судя по записи следующего числа, задание это было выполнено.
Возможно, что Толстой еще раньше, в конце января, вновь начал работу над «Казаками». Фет в письме от 2 февраля выразил свою радость по поводу того, что он узнал от брата Толстого Сергея Николаевича о новом его приступе к работе над «Казаками».
Толстой ответил Фету 15 февраля. Это письмо, брызжущее переполнявшей его до краев бодростью и жизнерадостностью, характерно для того настроения, в котором находился Толстой в период увлечения школьными занятиями.
В начале письма Толстой пародирует известное стихотворение Баратынского, положенное на музыку Глинкой,
«Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...»
Он пишет:
«Дяденька!
Не искушай меня без нужды
Лягушкой выдумки твоей.
Мне как учителю уж чужды
Все сочиненья прежних дней.
Показания Сережи несправедливы, никаких казаков я не пишу и писать не намерен. Извините, что так, без приготовления, наношу вам этот удар. Впрочем, больше надейтесь на бога и вы утешитесь. А ожидать от меня великого я никому запретить не могу. Когда я увижу вас, драгоценный дядюшка — так мне брюхом иногда хочется подразнить вас, вызвать на закурдялены и посмотреть, как вы, отмочив пулю, открыв челюсти и подобрав язык под зубы, улыбаетесь и думаете: «Вот на-ка, выкуси!...» Хотел было описать прелестное нынче случившееся событие в моей школе, да не упишу хорошенько, лучше расскажу. Вот другое, маленькое. Мальчик богатый, сын дворника25, видал попугая и рассказывает другим, которые не верят: «Да ты толкуй, как человек говорит». — «Ну!» — «Да он тебя так обсрамит, что и умному человеку так не обрезонить». — Прощайте. Обнимаю вас».
Как видим, Толстой в этом письме отрицает то, что действительно было: то, что он возобновил работу над «Казаками». Объяснить это можно только тем, что, удовлетворяя своему непреодолимому влечению к художественному творчеству, Толстой
359
на этот раз писал только для себя и потому желал избежать всяких дальнейших расспросов и переписки относительно этого.
На другой день, 16 февраля, Толстой написал письмо Дружинину, в котором ожесточенно бранил литераторов. Письмо это не было отправлено по назначению и уничтожено самим автором, не желавшим огорчать Дружинина.
Через неделю, 23 февраля, Толстой пишет Фету другое письмо, в очень серьезном тоне, вызванное письмом Фета от 12 февраля, в котором он просил Толстого подыскать ему имение для покупки и спрашивал, как понравилась Толстому только что появившаяся повесть Тургенева «Накануне».
В своем ответе Толстой выражает радость по поводу того, что Фет так же, как и он сам, думает заняться хозяйством, и затем высказывает свое мнение о «Накануне». Повторивши свое уже ранее высказанное суждение о том, что «писать повести вообще напрасно», Толстой все же переходит к оценке повести Тургенева. Она ему не нравится. Он находит, что в повести хороши отрицательные типы — художника (Шубина) и отца героини; «другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое или уж они совсем пошлы». «Девица — из рук вон плоха», — говорит Толстой про героиню повести Елену.
Толстой осуждает Тургенева за то, что у него «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет». И это «больно жюрирует» [т. е. не сходится] «с тоном и смыслом либерализма всего остального». Такой прием в обрисовке действующих лиц Толстой называет банальным и считает, что прием этот напоминает Гоголя. Толстой, однако, тут же оговаривается, что возможно резко критическое отношение к изображаемым лицам, но тогда — «ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело». Но ни на то, ни на другое не способен, по мнению Толстого, Тургенев, «одержимый хандрою и диспепсией».
И все-таки, несмотря на все недостатки повести Тургенева, Толстой считает ее выдающимся литературным явлением. Он утверждает, что «никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она (Толстой было начал писать: «по тупости», но зачеркнул это слово) успеха иметь не будет».
Тут же Толстой высказывается и по поводу другой литературной новинки того времени — драмы Островского «Гроза». «Гроза» Островского, — пишет он, — есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех». И далее Толстой прибавляет: «Не Островский и не Тургенев виноваты, а время. Теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин».
Загадочная фраза о Булгарине требует пояснения.
360
Характерные особенности того «времени», к которому относится это письмо к Фету, т. е. начала 1860-х годов, Толстой определял тогда следующим образом: «Характер нашей эпохи (сделалось уже пошлостью) есть скептицизм вообще»26.
В письме Толстого чувствуется раздражение против направления 60-х годов. Неуспех «Накануне», который он предвидит, он объясняет только тупостью, то есть малой восприимчивостью к поэзии большинства читателей. Успеху «Грозы», который он также предвидит, он не сочувствует.
В своем месте было сказано, что уже вскоре по приезде Толстого из Севастополя в Петербург у него начались споры с кругом «Современника» относительно Жорж Санд и ее романов. В этих спорах Толстой резко восставал против проповеди свободной любви, исходившей от Жорж Санд и ее приверженцев. С того времени взгляды Толстого на данный вопрос не только не изменились, но еще более утвердились и окрепли. Этому немало способствовало усилившееся, вследствие школьных занятий, сближение его с крестьянским миром, где в то время поведение Катерины могло вызвать только резкое порицание. Именно поэтому и называет Толстой «Грозу» в своем письме «плачевным сочинением». Впоследствии Толстой говорил, что «хваленой «Грозы» он не понимает; и зачем было изменять жене, и почему нужно ей сочувствовать, тоже не понимает»27.
В письме к Фету Толстой выступает решительным противником господствующего направления (духа времени, как он его понимал) в этих двух важнейших пунктах: в «разрушении эстетики» (выражение Писарева) и в признании свободы любви.
Вместе с тем Толстой считает, что современное направление («время») непреодолимо, что нет теперь, и в ближайшем будущем не предвидится, таких писателей, которые бы вступили с ним в борьбу. Вступить в борьбу с господствующим направлением мог бы только новый Булгарин, который, по мнению Толстого, еще не родился и родится не скоро. То, что именно новому презренному Булгарину, а не кому-либо другому Толстой отводит роль борца с господствующим направлением, как будто указывает на то, что Толстой считал это направление прогрессивным, хотя сам и не сочувствовал ему.
Письмо заканчивалось приведенным выше утверждением Толстого о том, что нужно теперь не писание повестей, а нечто совсем «другое»: нужно учить Тараску и Марфутку всему тому, что знаем мы, образованные люди.
361
Любопытна реакция Фета на это письмо Толстого. В письме от 28 февраля Фет, ничего не отвечая на замечания Толстого о «Грозе» и о Булгарине, которые, быть может, были ему и не вполне понятны, писал: «Много хорошего, хотя причудливо-капризно-носовздернутого сказали Вы о «Накануне». Над чем посмеешься, тому поработаешь, и Вы будете убийственно работать, пиша повести. Это я вам предрекаю с радостию. Если вы, оставшись здоровым человеком, бросите писать, это будет значить, что истории нет, и Ромул Августул не был свергнут с престола. А он был свергнут и, следовательно, и вы должны писать, вопреки вашей надменности педагога. Марфутку нужно учить, но нельзя живому человеку не учиться ежедневно самому мозгами или боками — все равно»28.
IX
Видя, что дел по школе прибавляется все больше и больше, Толстой решил пригласить себе помощника. После нескольких неудачных опытов в июне 1860 года он, наконец, нашел такого учителя, который любил школьное дело и удовлетворял его требованиям. Это был бывший воспитанник Тульской духовной семинарии Петр Васильевич Морозов.
Морозов оставил интересные воспоминания о своих занятиях в яснополянской школе. Он начинает свой рассказ с описания первой встречи с Толстым.
«Мы встретили около барского дома мужчину в овчинном полушубке и валеных сапогах. — «Нам графа надо» — Я граф. — «Оно и видно, — насмешливо ответил мой брат, — у графа истопником служишь?... Я привез графу мучителя».
«Мужчина в полушубке оказался графом. Он пошел со мной в школу. Вошли. Я был поражен невообразимым гамом ребятишек. При входе ребята закричали:
— Лев Николаевич! Опять нанял нового учителя! Ведь и этот убежит, как И. И. и Н. О.! Ты уж лучше один с нами занимайся, — учителя нам не надо!
«Оглядевшись, я стал присматриваться к занятиям. Ничего похожего на школу, в которой я сам учился и какие видел, не было. Ребята сидели большей частью парами, редко тройками или большими группами, человек в пять. Одна пара читает, другая пишет буквы или слова, третья пишет цыфры, четвертая рисует и т. д. Одним словом, всякий делает, что ему сподручней. Только слышны возгласы:
362
— Лев Николаевич! Подойди к нам, посмотри, так ли мы читаем?
«Граф подходит.
«В этот день граф уехал к брату Сергею Николаевичу в Пирогово. Я остался один в школе... Я начал заниматься с ребятами, как умел. Скоро приехал Лев Николаевич. Как сейчас помню, ребята вбежали в школу с оживленными личиками и с криком:
— Лев Миколаич приехал! Лев Миколаич приехал! Сейчас к нам придет!
Граф вошел в школу, и ребята буквально облепили его, как рой пчел — куст. Мне минут десять не было возможности подойти к нему поздороваться.
Мы стали заниматься вместе с графом.
Встаешь утром часов в 6 или 7, никак не позднее, а ребята уже тут-как-тут. Некоторые на дворе играют в снежки или в коридоре упражняются в гимнастике, другие в школе занимаются. Приходилось итти в школу, иногда не напившись чаю. Часов в 8, а иногда и ранее, приходит сам граф. Занимается весь день. Вы спросите: когда же ребята обедают? Они свободно располагают своим временем, не стесняясь никакими часами для своих занятий. Одни уходят, другие приходят, и так с раннего утра до позднего вечера. Разве самому графу бывает не время заниматься вечером, — тогда, что называется, прогоняли ребят из школы. И то не мы с графом, а сторож. У нас же не хватало духа прогонять их, разве все уснут под столом. Тогда, разбудив уснувших, мы с графом идем провожать ребят на деревню. Частенько приходилось нам слышать ворчанье матерей. Стучим, например, к Матрене Козловой.
— Кто там? — спросит Матрена.
— Отопри, Матрена! Это мы. Возьми ребят своих.
— Эх, вы, шатуны полунощные! Видно, вам делать-то нечего! Ребят только балуете да добрых людей беспокоите.
Школа не утомляла меня, благодаря отсутствию казенщины. Никто здесь никого не обязывал быть на-вытяжку. Всякий чувствовал себя, как дома, попросту, и это вовсе не указывало на отсутствие порядка; напротив, таков был именно порядок школьных занятий. Кажущиеся беспорядки были здесь принципиальны, ибо граф вел занятия не по учебникам дидактики, а по тому плану, который выработала его гениальная голова, желавшая школу превратить в семью. Ребята приходят, уходят, не спрашиваясь ни у кого, сами берутся за дело, без всякого принуждения, по своей воле, и притом за дело, какое хочет каждый делать...
«Я свыкся с школой, работал в ней до последнего дня ее существования и с сожалением покинул Ясную Поляну»29.
363
X
С наступлением лета занятия в яснополянской школе сократились; мальчики должны были помогать старшим в их работе. Теперь хозяйство сделалось главным занятием Толстого. Личное его участие в сельскохозяйственных работах продолжалось, хотя и в меньшем размере, чем раньше. В записи дневника от 26 мая Толстой рассказывает, что, отправившись в поле и найдя какую-то неисправность в работе, он рассердился было на рабочих, но сейчас же сам начал работать «до семи потов», и настроение его сразу изменилось: «Все стало хорошо, и полюбил их всех». «Странно будет, — прибавлял Толстой, описав этот случай, — ежели даром пройдет это мое обожание труда».
Близкие отношения Толстого с А. А. Базыкиной не только продолжались, но начинали принимать иной характер. «Мне даже страшно становится, как она мне близка», — записывает Толстой 25 мая. Затем на другой день: «Уж не чувство оленя, а мужа к жене».
Николай Николаевич Толстой давно уже болел туберкулезом легких, и здоровье его с каждым днем становилось все хуже и хуже. Лев Николаевич с болью сердечной видел это непрекращающееся постепенное разрушение организма своего любимого брата. Больной не понимал своего положения; с трудом удалось уговорить его для лечения поехать за границу. Только в конце мая 1860 года Н. Н. Толстой вместе со своим братом Сергеем Николаевичем выехал в Петербург, чтобы оттуда морем направиться в Германию.
Желая быть ближе к брату, Лев Николаевич также решил поехать за границу, тем более, что и его сестре доктора предписали лечиться за границей. Зная беспомощность и непрактичность своей сестры, Толстой решил сопровождать ее в поездке. Кроме того, отправляясь за границу, Толстой имел в виду и другую цель: ему хотелось осмотреть заграничные народные школы, чтобы ознакомиться с постановкой в них дела народного образования.
Толстой уезжал из Ясной Поляны очень неохотно. Жалко ему было бросать школу, и деревенскую жизнь, и яснополянских мужиков, с которыми он сходился все ближе и ближе30. Но делать было нечего, поездка казалась неизбежной, и 24 июня Толстой вместе с сестрой и ее тремя детьми в двух экипажах выехал на лошадях из Ясной Поляны в Москву.
364
Дорогой пошел дождь, и Толстой, как писала его сестра своей приятельнице, пересел к ней в карету, собрал всех детей в кучу, накрылся с ними вместе большим платком и начал рассказывать им страшные сказки. На другой день, когда погода прояснилась, Толстой уселся на козлы, взял у ямщика вожжи, сам стал править и для комизма стал уверять ямщика, что он прислан от правительства проверить, хорошо ли ямщики возят проезжающих. «Одну станцию он так напугал ямщика, — писала М. Н. Толстая, — что тот из всей силы кричал на лошадей, а он еще громче его кричал. Максиму (слуге) велел кричать, и мы с диким криком (дети тоже орали) летели во весь дух, так что проезжающие останавливались и высовывались из экипажей на нас смотреть»31.
В Москве Толстой вместе с детьми сестры ездил к Берсам.
1 июля Толстые приехали в Петербург.
Лев Николаевич не застал никого из своих знакомых — все были на дачах или в своих имениях. Вместе с сестрой и ее детьми Толстой ходил осматривать незадолго до того построенный Исаакиевский собор, а также памятники царям — Петру («медный всадник») и Николаю I.
Петербург на этот раз нисколько не заинтересовал Толстого — он тосковал по своей Ясной Поляне. «Я совсем сделался домосед, — писал он тетушке Ергольской за несколько часов до отъезда из Петербурга, — большие города, новые лица, знакомые — мне скучны. Нет лучше жизни, как косить с шестипалым Тихоном». В конце письма Толстой даже выражал зависть к своей тетушке в том, что она остается дома, а ему приходится уезжать.
2 июля 1860 года Толстые выехали на пароходе «Прусский орел» из Петербурга в Штеттин.
365
Глава восьмая
ВТОРОЕ ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(1860—1861)
I
Насколько подробно известны нам все главные обстоятельства первого заграничного путешествия Толстого, настолько же скудны сведения относительно второго его заграничного путешествия.
В то время как дневник первого путешествия ведется Толстым почти ежедневно, дневник второго его путешествия за границу имеет пропуски в полтора и даже в пять месяцев. Некоторые материалы содержатся в письмах Толстого, но и они немногочисленны и не дают полного представления о его образе жизни, занятиях, внутренней жизни и знакомствах за границей, особенно в Англии, Италии и Бельгии. Некоторые сведения можно извлечь из мемуарных источников, главным образом из записанных разными мемуаристами позднейших воспоминаний Толстого о его пребывании за границей.
2 июля 1860 года Толстой вместе с сестрой и ее детьми выехал на пароходе из Петербурга в Штеттин. Не останавливаясь в Штеттине, Толстой направился в Берлин, куда прибыл 5 (17) июля1.
В Берлине Толстой пробыл десять дней. Он осмотрел берлинские музеи, два раза слушал в университете лекции профессора истории Иоганна Дройзена и профессора физиологии Дюбуа-Реймона. На лекцию Дюбуа-Реймона Толстого пригласил молодой врач Рудольф Френкель, с которым он познакомился случайно и который сделался его проводником по Берлину. Френкель очень подружился с Толстым. Он вписал в записную книжку Толстого свой адрес и, кроме того, в трех различных местах этой книжки написал свою просьбу (на немецком и на латинском языках): «Прошу дружески вспоминать»; «Не забывай»; «Вспоминай».
366
«Берлин того времени, — пишет немецкий биограф Толстого Р. Левенфельд, — не отличался тою жизнью мирового города, блеском и внешней красотой... Он тогда только намеревался сделаться столицею государства... Германия считалась всеми страной мыслителей, и в этой-то Германии Берлин был первым городом, раньше чем политические события сделали его резиденцией германских императоров»2.
Френкель ввел Толстого в берлинский клуб ремесленников, где Толстой присутствовал на одной лекции научного содержания. После лекции происходило вскрытие «вопросного ящика» — специалистами давались ответы на опущенные в ящик записки с вопросами слушателей. Эта форма народного образования, ранее не известная Толстому, очень его заинтересовала. Толстой дважды посетил клуб ремесленников и привез с собою в Ясную Поляну устав союза ремесленников, а также одну записку из вопросного ящика.
В последний день своего пребывания в Берлине Толстой осмотрел одиночную тюрьму, расположенную в районе Моабит. В то время одиночные тюрьмы, по примеру Америки, впервые появились в Европе.
Сестра Толстого, пробывши четыре дня в Берлине, уехала в рекомендованный ей врачами прусский курорт Соден, и Толстой дальнейший путь продолжал один. Пробывши в Берлине десять дней «очень приятно и полезно для себя», как писал он тетушке Ергольской, 26 июля Толстой выехал из Берлина в Лейпциг.
В Лейпциге Толстой пробыл только один день и, по совету врачей, выехал в баварский курорт Киссинген. Дорогой он любовался красивыми видами «Саксонской Швейцарии», как назвал он в дневнике ту часть Саксонии, через которую ему пришлось проезжать.
В Киссингене Толстой пробыл с 27 июля по 26 августа.
Уже на другой день по приезде в Киссинген Толстой начал осмотр местных школ. Прежде всего он посетил «школу малых детей» и нашел ее очень плохою. На следующий день, 29 июля, он побывал в другой школе. Впечатление, вынесенное им от этой школы, он выразил в дневнике словами: «Ужасно. Молитва за короля, побои, всё наизусть, испуганные, изуродованные дети». Характерно, что к числу главных пороков осмотренных им школ Толстой относит не только телесные наказания, механическое обучение («все наизусть»), изуродованную страхом наказаний детскую психику, но и введенную в программу школ молитву за короля.
367
Не ограничиваясь осмотром школ, Толстой хочет пополните свои теоретические познания по педагогике. Он принимается за изучение «Истории педагогики» Раумера. Попутно Толстой делает в своем дневнике заметки о некоторых мыслителях прошлого, со взглядами которых он познакомился из этой книги. Он отмечает Френсиса Бэкона, как «основателя материализма», Лютера, как «реформатора в религии». В другой записи он даже называет Лютера «великим», — поводимому, как за произведенную им церковную реформацию, так и за его педагогическую деятельность (Лютер считался одним из основателей немецкой народной школы)3. С чувством глубокого удовлетворения Толстой узнал, что та самая идея свободы в воспитании и обучении, которую он теоретически и практически положил в основу своей педагогики, была уже задолго до него провозглашена французским мыслителем шестнадцатого века Мишелем Монтенем. «Монтень первый ясно выразил мысль о свободе воспитания», — записал Толстой в дневнике 5 августа.
Вскоре после Толстого в Киссинген приехали знакомые ему тульские педагоги: начальница женской гимназии Ю. Ф. Ауэрбах и учитель русского языка в мужской гимназии В. П. Скопин. Толстой поспешил поделиться с ними своими новыми мыслями о педагогических вопросах, о чем вскоре пожалел. «Мысль о опытной педагогике, — записал он в дневнике 16 августа, — привела меня в волненье, но не удержался, сообщил и ослабил ее». Сейчас же вслед за этой записью в дневнике Толстого помечено: «Писал». Запись относится, вероятно, к тем наброскам конспективного и планового характера, которые сделаны на последней странице неоконченной статьи о задачах педагогики, начатой Толстым в марте 1860 года. В этих заметках речь идет именно об опытной педагогике4.
Поглощенный вопросами педагогики, Толстой пользовался случаями знакомства с немецкими педагогами. Он побывал в ближайшей деревне Гариц, где познакомился с молодым школьным учителем. Толстой был поражен наивностью этого педагога, для которого главный вопрос в деле обучения сводился к тому, учить ли детей писать по двум линейкам или по одной. Однако Толстой оценил то, что учитель этот не оторвался от земледелия и имел свое хозяйство.
Познакомился Толстой также с местным кружком политических деятелей, прежде всего с Юлиусом Фребелем, племянником
368
известного устроителя детских садов Фридриха Фребеля, автором нескольких книг политического и социального содержания. Юлиус Фребель в 1848 году был избран в Национальное собрание (Франкфуртский парламент), где примкнул к левому крылу радикальной партии. Принимал участие в венской революции и был присужден к смертной казни, замененной изгнанием из Австрии. В 1857 году вернулся из Америки в Европу и поселился в Германии.
Юлиус Фребель произвел на Толстого впечатление человека, всецело поглощенного политическими интересами. «Политика истощила его всего», — записал Толстой о Фребеле в своем дневнике. — «Аристократ-либерал», «либеральный болтун» — такими словами характеризует Толстой Юлиуса Фребеля.
Фребель познакомил Толстого со своим другом, революционером, писателем и публицистом Константином Франтцем. Франтц произвел на Толстого впечатление очень умного и дельного человека; но когда Толстой заговорил с ним о своем любимом немецком писателе Бертольде Ауэрбахе, авторе рассказов из народной немецкой жизни, Франтц презрительно произнес, что «Ауэрбах — жид» и больше ничего не сказал об этом писателе. Толстой был неприятно поражен отзывом Франтца. «Это юдофобство в революционере так меня оттолкнуло»5, — вспоминал он впоследствии.
Остались в памяти у Толстого его беседы с Фребелем и Франтцем. — «Я им обоим говорил о русских крестьянах, об общине... Они не соглашались со мной»6.
Фребель под конец жизни издал свои воспоминания, в которых рассказывает и о своей встрече с Толстым. Воспоминания Фребеля подтверждают рассказы Толстого об их беседах.
«Я обратил внимание, — рассказывает Фребель, — на одного серьезного молодого человека, внимательно наблюдавшего все окружающее. Я иногда видел, что он читает английские книги. Я узнал, что это русский граф Лев Толстой и что он хочет со мной познакомиться. Нас кто-то свел вместе, и это знакомство оказалось для меня не только приятным, но и интересным. Его суждения о положении дел в России и в Германии были настолько замечательны, что я не мог их не записать. Прогресс в России, — говорил он мне, — должен исходить из народного образования, которое у нас даст лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ еще не испорчен ложным воспитанием. Из ребенка, который с первого же года воспитывается правильно, может выйти нечто лучшее, чем из такого ребенка, который уже несколько лет подвергался ложному воспитанию. То же
369
самое и с народом. Русский народ, по его словам, еще не воспитан и не испорчен, а потому на него можно возлагать большие надежды. Он рассказывал мне, что устроил в своем имении под Тулой школу, в которой сам регулярно занимается и которой отдает все свое время. «Я теперь могу путешествовать, — сказал он, — потому что в моей школе перерыв». Школа эта не обязательная. «Если образование — благо, — говорил он, — то потребность в нем должна являться сама собою, как голод»... О «народе» граф Толстой имел совершенно такое же мистическое представление, какое поразило меня несколько лет назад у Бакунина. По этому воззрению, «народ» — таинственное, иррациональное существо, из недр которого явятся неожиданные вещи — новое устройство мира. Эти ожидания основывались на его горячей приверженности к общинному владению землей, которое, по его мнению, должно было сохраниться и после освобождения крестьян. В русской артели он также видел зачатки будущего социалистического устройства». Эти мнения Толстого не вызывали сочувствия у его собеседников.
Далее Фребель рассказывает, что Толстой выражал удивление тому, что ни в одном из крестьянских домов, которые он посетил, он не нашел ни рассказов Ауэрбаха, ни стихотворений Гебеля. «Русские крестьяне проливали бы слезы над этими книгами», — говорил Толстой. Фребель был поражен его знанием немецких писателей7.
Вероятно по совету Фребеля, Толстой начал читать сочинения пользовавшегося тогда в Германии большой известностью профессора Вильгельма Риля, автора книги «Естественная история народа, как основа немецкой социальной политики».
Основная мысль книги Риля состоит в том, что в немецком крестьянстве сохранились органические черты национального характера и в нем больше физических и моральных сил, чем у городских жителей. Риль считает, что жители городов представляют собою элементы общественного движения, прогресса, в то время как земледельческое население является консервативным, охранительным элементом, придающим устойчивость всей национальной жизни. Развитие путей сообщения, по мнению Риля, порождает усиление централизации и приводит к гегемонии больших городов. К большим городам Риль относится резко отрицательно; Париж он называет «вечно гноящимся нарывом Франции». Современную общественную жизнь Риль считает ложной и искусственной, приводящей всю нацию к разложению и вырождению. Необходимо пересоздать существующее общество на основе тех органических начал, которые еще сохранились в жизни и быте простого земледельческого народа.
370
Толстому, несомненно, была сочувственна мысль Риля о предпочтении деревенского образа жизни городскому и о физических и моральных преимуществах земледельцев перед горожанами. Но Риль был консерватором, он желал бы остановить движение жизни и восстановить тот быт и те порядки, какие были свойственны минувшим столетиям. В этом Толстой не мог сочувствовать Рилю. 24 августа после чтения одного из сочинений Риля Толстой записывает в дневнике: «Консерватизм невозможен». Толстой видел, что то самое совершенствование путей сообщения, против которого так горячо восставал Риль, имело большое воздействие на умственное развитие народов, о чем он писал в плане своей незаконченной статьи о задачах педагогики. Кроме того, Толстому не понравилась у Риля, как записано у него в дневнике, «мешанина искусства и науки» и слишком легкий, поверхностный способ изложения («каламбур ученый преобладает»), что заставило его в другом месте дневника даже назвать Риля «болтуном».
Несмотря на все эти недостатки сочинений Риля, Толстой читал их с интересом; некоторые места из книг Риля вызвали его на серьезные размышления. Так, он согласился с мнением Риля о важном значении, какое имеет народная литература, создаваемая самим народом. Но это навело его на вопрос: при таком взгляде на народную литературу какое же место займет такой писатель, как Ауэрбах, то есть писатель, не происходящий из народа, но любящий и знающий народную жизнь? И Толстой отвечает на этот вопрос следующим образом: место Ауэрбаха будет место посредника между народом и образованными классами.
Одновременно с чтением Риля Толстой читал и Герцена, — вероятно, незадолго до того вышедший сборник его публицистических статей под заглавием «За пять лет». 4 августа Толстой записал в дневнике: «Читал Герцена — разметавшийся ум — больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские».
Кроме осмотра школ и чтения, Толстой, хорошо зная условия сельского хозяйства в России, заинтересовался условиями сельского хозяйства в Германии. На прогулке в окрестностях Киссингена он подошел к поденным сельскохозяйственным рабочим и стал расспрашивать их об условиях их жизни и работы. К своему удивлению он узнал, что заработная плата их низка, а производительность труда за день вдвое меньше производительности труда женщин наемных работниц в России. Общее впечатление, которое Толстой вынес из разговоров с этими рабочими, было безотрадное: «Невежество, нищета, лень, слабость» (дневник 31 июля). В записи от 7 августа Толстым отмечено, что он «болтал с мужиками». 11 августа Толстой в пригородной деревне
371
попал на сенокос и сам принял участие в косьбе вместе с рабочими.
У Толстого осталось приятное воспоминание от общения с немецкими крестьянами. «Я снизу вверх смотрел на немецких крестьян, — рассказывал Толстой впоследствии. — Немецкий крестьянин — такой же самобытный, как и русский. У него есть чему поучиться»8. «У них [у немецких крестьян] очень похожие черты, как у русских крестьян»9. «С земледельческим народом везде чувствуешь себя близким»10.
За тысячи верст от Ясной Поляны Толстой не забывал о своей школе. 5 августа в письме к тетушке Ергольской он просит ее передать оставленному им вместо себя учителю П. В. Морозову, чтобы он написал, «сколько учеников ходят и хорошо ли учатся». Толстой прибавлял, что осенью он «непременно» вернется в Ясную и потому желает, чтобы в его отсутствие «не пропала репутация школы и чтоб побольше с разных сторон было школьников». В ответном письме Т. А. Ергольская писала 11 августа: «Школа идет своим порядком. Ученики и даже ученицы все собрались»11.
Толстой приобрел в Киссингене целый ряд книг по педагогике и, кроме того, через комиссионера выписал некоторые педагогические издания из Америки. Эти выписанные им книги он направил в адрес Министерства народного просвещения, написав министру письмо, в котором извинялся за то, что без разрешения дал адрес Министерства, и просил сохранить эти книги до его возвращения в Россию. Министр народного просвещения, которым был в то время Евграф Петрович Ковалевский, хорошо знавший Толстого и его деятельность в яснополянской школе, ответил Толстому следующим письмом, характерным для либерального направления политики правительства в первые годы царствования Александра II:
«Милостивый государь, граф Лев Николаевич. Спешу уверить Ваше сиятельство, что я не только не встречаю никакого препятствия, чтобы выписанные Вами из Северо-Американских Соединенных Штатов педагогические издания и другие материалы для предпринятого Вами педагогического труда были высланы в С.-Петербург на мое имя, но мне особенно приятно оказать Вам при этом случае содействие в нашем общем благом деле.
372
Посылка по получении будет храниться у меня в Министерстве до личного с Вами свидания, которого ожидаю с удовольствием»12.
II
Между тем здоровье Николая Николаевича Толстого не становилось лучше.
12 августа он приехал к Льву Николаевичу в Киссинген, и Лев Николаевич в тот же день записал в своем дневнике: «Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет».
В конце августа Толстой, повидимому, получил от брата уведомление, что доктора советуют ему переменить место лечения и посылают на юг Франции в курорт Гиер. Толстой решил сопровождать брата.
Он приехал в Соден 25 августа и два следующие дня провел в осмотре местных школ. 29 августа Толстой вместе с братом, сестрой и с ее детьми выехали из Содена в Гиер. Вследствие болезненного состояния Н. Н. Толстого делали продолжительные остановки во Франкфурте на Майне и в Женеве. В Женеве Толстой осматривал колледж и приют, где увидал, как записал он в дневнике, «изуродованных детей».
6 сентября Толстой вместе с братом и сестрой приехал в Гиер. Братья поселились в самом городе в четырех верстах от берега моря. Гиер считался тогда лучшим курортом для легочных больных. Роскошная южная растительность, лимонные, апельсиновые, кипарисовые, пальмовые деревья, всю зиму стоявшие с листвой, цветами и плодами, придавали особый характер этой местности.
Через три дня по приезде, Толстой в письме к тетушке Ергольской вновь задает ей вопрос о том, как идет его школа. «Пусть Петр Васильевич не зевает», — наставляет он оставленного вместо себя учителя П. В. Морозова. Он обещает вернуться к зиме «с новыми книгами и инструментами».
В Гиере Толстой вновь принимается за «Казаков». В его архиве сохранился автограф, озаглавленный «Беглец» и датированный 1 сентября (конечно, старого стиля) 1860 года.
Рукопись содержит одну главу, относящуюся к окончанию повести. Судя по небольшому количеству исправлений и четкому почерку, рукопись эта не является черновым наброском, а представляет новую редакцию не дошедшего до нас автографа.
Содержание рукописи — неожиданное возвращение бежавшего в горы казака Кирки, прожившего у чеченцев шесть лет, и
373
встреча его с дядей Ерошкой. У Ерошки на квартире стоит офицер, уже носящий теперь фамилию Оленин, а не Ржавский, как было в прежних редакциях. Он открыто живет с Марьяной, ранее бывшей женой Кирки. Глава начинается с описания ссоры между офицерами и Ерошкой из-за того, что Ерошка присвоил себе кабана, убитого на совместной охоте. Ерошка рассержен на Оленина и на всех русских. Это как бы предвещает какое-то участие Ерошки в кровавой расправе над Олениным Кирки и пришедшего вместе с ним чеченца, если в замысел автора в данном случае входила такая кровавая развязка, как это значится в одной из плановых заметок, записанных в дневнике Толстого еще в 1857 году.
Но рукопись осталась незаконченной, и замысел нового окончания повести — не раскрытым13.
III
Теплый приморский климат не помог быстро угасавшему Николаю Николаевичу Толстому.
20 сентября (2 октября) он скончался на руках у брата. Лев Николаевич уже две недели с часу на час ожидал его конца. На другой день после смерти брата Толстой заказал снять маску и сделать фотографию с лица умершего.
Похоронен был Н. Н. Толстой на общем кладбище в Гиере.
Во время похорон брата Толстому, как записал он 13 (25) октября в своем дневнике, пришла в голову мысль «написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа матерьялиста». Очевидно, Толстой думал, в противовес церковной догматике, дать такое описание жизни Христа, в котором он был бы изображен не богом, а человеком. Толстой как бы вспомнил появившуюся у него еще под Севастополем мысль об «основании новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности» (дневник 4 марта 1855 года). Но, как и под Севастополем, мысль эта дальнейшего развития в то время не получила.
В лице своего брата Толстой потерял самого близкого друга. Временные размолвки, которые иногда бывали между ними, проходили бесследно. Еще с Кавказа Толстой писал тетушке Татьяне Александровне (оригинал по-французски): «Видит бог, что большего несчастия я себе не представляю, как смерть ваша и Николенькина, тех двух людей, которых я люблю больше самого себя»14. На другой день после похорон Николая
374
Николаевича Толстой писал брату Сергею: «Это был положительно человек для тебя и для меня, которого мы любили и уважали больше всех на свете». 29 октября Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, — это был лучший мой друг».
Человек совершенно иного темперамента, чем Лев Николаевич, Н. Н. Толстой оказывал на своего брата сдерживающее и смягчающее влияние. Хорошо знавший обоих братьев И. П. Борисов, получив известие о смерти Н. Н. Толстого, писал Тургеневу 26 ноября 1860 года: «Я не могу вспомнить о нем без того, чтобы не воскресить перед собою его доброго, умного, мягкого взгляда, и слышу его голос, всегда спокойный в самых задорных спорах. Мне он представляется как тормоз и мать Льва Николаевича, которого он не любил, а обожал»15.
Но не только братья любили и уважали Н. Н. Толстого; его любили и уважали все те, кто его близко знал. Фет в своих воспоминаниях называет Н. Н. Толстого «замечательным человеком», «про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать: обожали»16. Тургенев в августе 1857 года писал сестре Толстого: «Милый Николай Николаевич мне так и видится с своей трубкой, шахматами, неизменным хладнокровием и ласковым взглядом»17.
«Золотой был человек, — писал Тургенев Фету 3 октября 1860 года, узнав о смерти Н. Н. Толстого: — и умен, и прост, и мил»18. «Бедный и прекрасный Николай Толстой умер», — писал тому же Фету Боткин 10 октября 1860 года19.
Тургенев впоследствии говорил писателю Е. М. Гаршину: «То смирение перед жизнью, которое Лев Толстой развивает теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию. Он жил всегда в самой невозможной квартире, чуть не в лачуге, где-нибудь в отдаленном квартале Москвы, и охотно делился всем с последним бедняком. Это был восхитительный собеседник и рассказчик»20.
Толстой на всю жизнь сохранил самое высокое представление о нравственных и умственных качествах своего брата.
В 1905 году Толстой вспомнил о своем брате по следующему поводу. В исторической работе вел. кн. Николая Михайловича
375
«Граф П. А. Строганов» его поразило описание самоубийства деятеля Французской революции Жильбера Ромма. Жильбер Ромм был членом Законодательного собрания, затем — Конвента и в числе других подписал смертный приговор королю Людовику XVI. В 1795 году Ромм и четверо его товарищей, как члены самой левой части Конвента, были отправлены в ссылку, а затем преданы суду военной комиссии. «Мало надеясь получить пощаду от суда, они дали друг другу клятву не отдаваться живыми в руки палачей и для этой цели достали себе через сторожей тюрьмы два кинжала». После объявления смертного приговора Ромм первый вонзил себе в сердце кинжал и пал мертвым. «Молодой Субрани выхватил кинжал из раны друга и проколол себе грудь». Так же поступили и все остальные21.
Прочитав историю жизни и смерти Ромма, Толстой 31 декабря 1905 года записал в своем дневнике: «Читая Строганова о Ромме, был поражен его геройством в соединении с его слабой, жалкой фигуркой. Напомнило Николеньку»22. (Н. Н. Толстой физически также был слаб и невзрачен.) Своим домашним Толстой тогда же пересказал историю гибели Ромма, прибавив: «Брат был способен на то, что сделал Ромм»23.
Н. Н. Толстой, несомненно, обладал художественным дарованием. Лев Николаевич в «Воспоминаниях» приводит слова Тургенева, что Николай Николаевич только потому не сделался большим писателем, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы сделаться большим писателем24.
При жизни Н. Н. Толстого в печати появился только один его очерк — «Охота на Кавказе»25. Это не что иное, как поэтически нарисованные картины кавказской природы и портреты кавказских офицеров и казаков, в числе которых фигурирует под своим именем и дядя Епишка. Весь очерк написан в спокойном, мягком, ровном тоне и проникнут веселым юмором. Удачно схвачен язык всех изображенных лиц, в том числе и Епишки. В описаниях зверей и птиц виден не только охотник, но и превосходный знаток животного мира.
«Охота на Кавказе» при своем появлении вызвала целый ряд восторженных отзывов знатоков и ценителей художественной литературы.
376
Тургенев первый познакомился с очерком Н. Н. Толстого и 3 (15) октября 1856 года писал Панаеву из-за границы, что он напоминал Льву Николаевичу о «записках его брата о Кавказе, которые прелестны»26. Перечитав «Охоту на Кавказе» в «Современнике», Тургенев 9 (21) марта 1857 года писал Анненкову, что эта вещь ему «очень понравилась»27. Самому Толстому Тургенев писал 25 ноября (7 декабря) 1857 года, что в очерке его брата есть «восхитительно поэтические страницы»28.
Боткин, слышавший очерк Н. Н. Толстого в чтении Льва Николаевича, 10 ноября 1856 года писал Тургеневу: «Был у меня Толстой проездом из деревни в Петербург... Читал он мне записки своего брата об охоте на Кавказе, — очень хорошо; у брата его положительный талант»29. Панаеву около того же времени Боткин писал: «Ты, вероятно, уже виделся с Толстым. Он читал мне кое-что из записок своего брата об охоте на Кавказе: прелесть!»30.
Сам Панаев 24 января 1857 года писал Тургеневу, что Толстой «доставил... драгоценную, капитальную вещь своего брата «Охота на Кавказе». Мы упивались, читая ее с Боткиным. Какая простота, грандиозность картин, какое величие природы — чудо! Это сокровище будет во втором номере»31.
Некрасов, находившийся в то время за границей, прочитав «Охоту на Кавказе» уже в печатном виде, писал Тургеневу 10 (22) апреля 1857 года:
«Задачу, которую он [автор] себе задал, он выполнил мастерски и, кроме того, обнаружил себя поэтом. Некогда писать, а то я бы указал в этой статье на несколько черт, до того поэтических и свежих, что ай-ай! Поэзия тут на месте и мимоходом выскакивает сама собою; неизвестно, есть ли у автора творческий талант, но талант наблюдения и описания, по-моему, огромный — фигура старого казака вначале чуть тронута, но, что важно, не обмельчена, любовь видна к самой природе и птице, а не к описанию той и другой. Это вещь хорошая. Не знаю, насколько Лев Николаевич поправил слог, но мне показалось, что эта рука тверже владеет языком, чем сам Лев Николаевич. Далекость от литературных кружков имеет также свои
377
достоинства. Я уверен, что автор не сознал, когда писал, многих черт, которыми я любовался, как читатель, — а это не часто встречаешь»32.
Что касается мнения Фета, будто бы «знаменитый охотник старовер дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. Л. Толстого — Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым»33, то это мнение, разумеется, несправедливо. В «Охоте на Кавказе» дан только превосходный внешний портрет дяди Ерошки, но совершенно не затронуто его оригинальное миросозерцание; а между тем особенный интерес представляет не столько внешность дяди Ерошки (хотя и она очень интересна), сколько именно его своеобразное, совершенно особенное жизнерадостное миросозерцание, до которого он дошел опытом жизни и собственным размышлением.
Толстой читал очерк своего брата еще на Кавказе, где он, несомненно, и был написан. 29 октября 1852 года Толстой заносит в свой дневник: «Николенька пришел ко мне и читал мне свои записки об охоте. У него много таланта. Но форма нехороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, а обратит больше внимания на описания природы и нравов; они разнообразнее и очень хороши у него». Толстой, очевидно, считал, что брат Николай при его таланте мог бы писать произведения более широкого содержания, чем записки об охоте.
В 1856 году Толстой вторично прочитал «записки» своего брата и на этот раз остался ими очень доволен. «Прелестно» — записал он в дневнике 12 июня 1856 года относительно «Охоты на Кавказе». На другой день Толстой читал не сохранившийся рассказ своего брата «Чеченка», который также нашел «прелестным». «Вот эпический талант громадный», — записал он в тот же день в дневнике о рассказе брата.
Много лет спустя Толстой, увидавши у знакомых книжку «Современника» с «Охотой на Кавказе», в глубокой задумчивости произнес:«— А как хороша эта статья брата...»34.
В советское время были напечатаны еще два произведения Н. Н. Толстого: «Пластун»35 и «Заметки об охоте»36. «Заметки об охоте» — это попытка дать нечто в роде руководства к охоте с собаками. «Пластун» — рассказ удальца-джигита о своей жизни и приключениях. А. Е. Грузинский отмечает
378
в «Пластуне» «благородную простоту и свободу рассказа, тонкое мастерство в обрисовке психики героя и непринужденность, с которой дан в повести весь характер края, его природа, быт и нравы; все изображено сочно, ярко и вместе с тем не навязчиво, не громоздко, а прозрачно и легко»37.
IV
По смерти брата Толстой переселился из города Гиер на самый берег моря, где жила его сестра.
Здесь в вилле, где поселился Толстой, проживало другое русское семейство — полкового командира Плаксина из Минска. У Плаксиных был девятилетний сын Сережа, который впоследствии, в 1903 году, напечатал свои воспоминания о совместной с Толстым жизни в Гиере. Свою первую встречу с Толстым Плаксин описывает следующим образом:
«В гостиную вошел очень высокий38, плотный и широкоплечий мужчина лет сорока, с добродушной улыбкой на лице, окаймленном темнорусой густой бородой. Из-под большого лба с глубоким шрамом (от лапы медведя, как мы потом узнали) в глубоких глазных впадинах искрились умные и добрые глаза... Лев Николаевич говорил громко, но не скоро, а более мягко и ровно; в тоне голоса чувствовалась прямота и простодушие, движения были естественны и не носили отпечатка светской выправки; одет он был в коричневый костюм. Он подошел к моей матери, пожал ей руку и сейчас же заговорил с ней, как давнишний знакомый»39.
Как рассказывает Плаксин, Толстой вставал очень рано и садился заниматься. Много времени уделял он детям, которых было четверо: трое детей его сестры и Сережа Плаксин. Он делал с ними гимнастику («ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук», — рассказывает Плаксин; «он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами к общему нашему удовольствию и веселию»), совершал длинные прогулки, во время которых рассказывал им разные сказки, причем, зная слабое здоровье Сережи Плаксина, часто сажал его к себе на плечи, продолжая рассказывать; учил их рисовать и писать сочинения на разные темы. Один рисунок, нарисованный самим Толстым и изображающий волжского разбойника, Плаксин воспроизвел в своей книге.
379
«Нечего говорить, — рассказывает Плаксин, — что душою нашего маленького общества был Лев Николаевич, которого я никогда не видел скучным; напротив, он любил нас смешить своими рассказами, подчас самого неправдоподобного содержания... Надо ли говорить, что мы души в нем не чаяли?..»40.
За обедом Толстой нередко забавлялся тем, что рассказывал своим хозяевам разные небылицы о России, и хозяева не знали, верить его рассказам или нет, пока его сестра или Плаксина не отделяли в его рассказах правды от выдумки.
Толстой нередко ездил из Гиера в Марсель. Целью этих поездок был осмотр местных школ.
В Марселе Толстой, по его словам, осмотрел «все учебные заведения для рабочего народа» — числом восемь. Из расспросов учащихся Толстой убедился, что они плохо знают арифметику и историю Франции и не умеют правильно писать. Тяжелое впечатление произвел на Толстого приют для маленьких детей, где «четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами поют хвалебные гимны богу и своим благодетелям»41.
Общий вывод, к которому пришел Толстой после осмотра марсельских школ, состоял в том, что школы эти «чрезвычайно плохи». И вместе с тем из разговоров с рабочими людьми Толстой убедился, что французский народ «почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общежительный, вольнодумный и действительно цивилизованный». Начавши после осмотра школ «бродить по улицам» Марселя, Толстой увидел в городе музеи, публичные библиотеки, театры, книжные лавки, кафе, издательства газет и журналов. «Вот она, бессознательная школа, — думал Толстой, — подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем»42.
«Школа не в школах, а в журналах и кафе», — записал Толстой в дневнике 25 октября.
V
Видя Толстого веселым и деятельным, никто не мог бы догадаться о том, что делалось в это время в его душе. Никому не могло бы придти в голову, что этот всех бодрящий и веселящий человек часто сам переживал состояние душевной апатии и безысходного мрака. А между тем это было так.
Смерть брата потрясла Толстого.
380
Мысль о смерти и раньше беспокоила Толстого. Мысль эта приводила его к вопросу «зачем?», на который он не находил ответа. Еще 21 августа 1858 года, читая переписку Станкевича, которая вызывала его восхищение, Толстой в письме к Б. Н. Чичерину задавал вопрос: «И зачем? за что? мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо... Ничем, кроме грустью и ужасом, нельзя ответить на этот зачем? Тот же зачем звучит и в моей душе на всё лучшее, что в ней есть».
После смерти брата мучительный и неразрешенный вопрос о смысле жизни и смерти встал перед Толстым со страшной силой.
25 октября, после полуторамесячного перерыва, Толстой вновь берется за оставленный дневник и записывает: «Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко до отправления туда. Куда? Никуда. Пытаюсь писать, принуждаю себя, и не идет только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпенье работать».
Таким же и даже еще более мрачным настроением проникнуты два письма, написанные Толстым вскоре после этой записи в один и тот же день 29 октября. А. А. Толстой он писал: «Не то что половина жизни оторвана, но вся энергия жизни с ним похоронена. Незачем жить, коли он умер, и умер мучительно; так что же тебе будет? — Еще хуже... Вот уж месяц, я стараюсь работать, опять писать, что я было бросил, но самому смешно».
«В Россию ехать незачем, — пишет Толстой далее. — Тут я живу, тут могу и жить. Кстати сестра здесь с детьми».
Как было сказано выше, в самый день смерти брата Толстой писал тетушке Ергольской, что «скоро» вернется домой. Теперь энергия жизни в нем настолько упала, что он не мог сняться с места и двинуться куда бы то ни было.
Еще более мрачным настроением проникнуто письмо к Фету, написанное в тот же день. Без всякого обращения Толстой начинает письмо словами: «Мне думается, что вы уже знаете то, что случилось. Нашего 20 сентября он умер, буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А коли хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н. Н. Толстой, для него ничего не осталось».
Далее Толстой описывает душевное состояние своего брата незадолго до смерти. «За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «Да что ж это такое?» — Это он ее увидал — это поглощение себя в ничто».
381
«А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше», — говорит далее Толстой, перенося вопрос на себя. — «Тысячу раз я говорю себе: «Оставим мертвым хоронить мертвых», надо же куда-нибудь девать силы, которые еще есть, но нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила, нельзя есть, когда не хочется. К чему всё, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманыванья, и кончатся ничтожеством, нулем для себя».
Мрачное настроение переходит в озлобление, в резкий, ядовитый сарказм против того «кого-то», которого люди называют богом и считают творцом жизни. — «Забавная штучка: «Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив», — говорят века друг другу люди, да мое и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде, а правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого бы мы не нашли слов (мы, либералы), ежели бы человек поставил бы другого человека в это положенье. Хвалите аллаха, бога, браму. Такой благодетель. «Берите жизнь, какая она есть». «Не бог, а вы сами поставили себя в это положенье». Как же! Я и беру жизнь, какова она есть, как самое пошлое, отвратительное и ложное состояние. А что поставил себя не я, в том доказательство, что мы столетия стараемся поверить, что это очень хорошо, но как только дойдет человек до высшей степени развития, перестанет быть глуп, так ему ясно, что всё дичь, обман, и что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что эта правда ужасна. Что как увидишь её хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат: «Да что ж это такое?»
Что же делать? Убить себя?
Выход, который хотя и не приносил полного удовлетворения, но все-таки давал возможность жизни, Толстой находил в старом, давно уже испытанном им средстве — в служении «правде», как он в разные периоды своей жизни понимал это служение.
«Ну, разумеется, — заканчивает он свое письмо, — покуда есть... бессознательное, глупое желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно из мира морального, что у меня осталось, выше чего я не мог стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь».
VI
Может показаться странным и даже невероятным, чтобы в те самые дни, когда Толстой находился в таком до крайности мрачном и возмущенном настроении, в эти самые дни было им
382
написано начало нового произведения, проникнутого искрящейся веселостью, тончайшим юмором и глубокой любовью к жизни. Но именно так было в действительности.
28 октября Толстой записывает в дневнике: «Гаданье карт, нерешительность, праздность, тоска, мысль о смерти. Надо выйти из этого. Одно средство — усилие над собой, чтоб работать». И он дает себе задание: «Дописать первую главу до обеда». Слово «дописать» говорит о том, что речь идет о каком-то уже начатом произведении.
Позднее, в тот же день, Толстой отмечает, что написал «не больше половины главы» — повидимому уже второй, так как тут же он дает себе задание на следующий день: «докончить главу и третью, ежели успею».
Произведение, о котором говорится в этих записях, не названо, но письмо Толстого к Герцену от 14 (26) марта 1861 года, позволяет с полной уверенностью определить, о каком произведении здесь идет речь. В этом письме Толстой писал: «Я затеял месяца четыре тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист». Об этом-то начатом и незаконченном романе о возвращающемся после тридцатилетней ссылки декабристе и идет речь в приведенных записях дневника Толстого.
Действие незаконченного романа Толстого «Декабристы» происходит в Москве зимой 1856 года.
Первая глава начинается с огромного в 698 слов периода, содержащего сложное предложение с большим количеством придаточных. Период этот понадобился Толстому для того, чтобы дать сразу полную и концентрированную картину той путаницы и неразберихи, того шума праздных разговоров и суетливости, которые были характерны для настроения либеральной петербургской и московской интеллигенции в 1856 году, чему Толстой, только что вернувшийся тогда из Севастополя, сам был свидетелем. Иронически звучат уже самые первые строки этого громадного периода: «Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время — время цивилизации, прогресса, «вопросов», возрождения России и т. д. и т. д.». После этого в таком же ироническом тоне вспоминаются различные факты общественно-политической жизни России, относящиеся к 1856 году: крушение мечтаний придворных фрейлин «девственниц» о завоевании Константинополя и о восстановлении в нем храма святой Софии, обращенного турками в мечеть; напыщенные приветствия приехавшим в Москву севастопольским морякам, которых после того видели «с оторванными руками и ногами» просящими милостыню на мостах и дорогах; прославление героем сына Карамзина, который в 1854 году, командуя гусарским полком, повел полк в безрассудную атаку, в которой
383
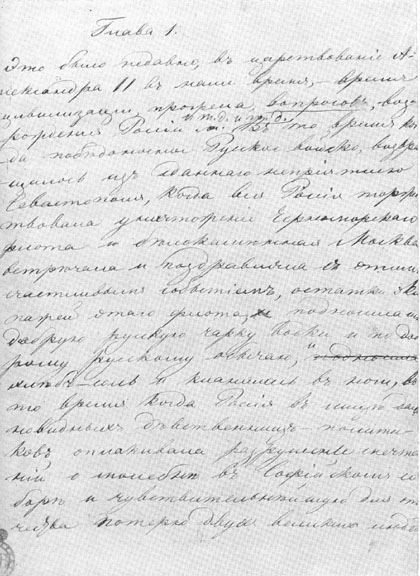
Первая страница первой редакции романа «Декабристы»
(1860 г.)
384
был убит он сам и были перебиты два эскадрона гусар; произнесение многочисленных речей «целовальником» Кокоревым; появление под самыми разнообразными названиями многочисленных журналов, наполненных пустозвонной либеральной болтовней («журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием, и журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским миросозерцанием») и т. д.
До того времени, как Толстым начат был роман о декабристе, ему не пришлось познакомиться ни с одним декабристом, вернувшимся из ссылки. Единственным декабристом, с которым Толстой познакомился и подружился в Швейцарии в 1857 году, был Михаил Иванович Пущин, не бывший в сибирской ссылке. Таким образом, Толстой мог только, как писал он Герцену 9 апреля 1861 года, «чутьем угадывать» психологию амнистированных декабристов.
Изображенный Толстым декабрист, названный им князем Петром Ивановичем Лабазовым, как писал Толстой Герцену 26 марта 1861 года, «энтузиаст», «примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России». Он, кроме того, «мистик, христианин»; на ночь он читает Евангелие. В романе декабрист характеризуется как «человек несказанной доброты и впечатлительности», «имевший слабость в каждом человеке видеть ближнего». У него загорелое лицо с «добрым и гордым взглядом и энергическими движениями», с «крупными прямыми рабочими морщинами»; волосы на голове и в бороде белы, как снег.
Общественно-политические воззрения декабриста в написанных главах романа раскрыты недостаточно; автор обещает подробно осветить их в следующих главах. Читатель узнает только убеждение декабриста в том, что «сила России не в нас, а в народе»; узнает также, что декабрист — патриот России и Москвы. Когда он после тридцатилетнего отсутствия вновь приехал в Москву, услыхал звон московских колоколов и увидал московские здания, он живо вспомнил не только ту Москву, которую он так давно оставил, но и «ту Москву с Кремлем, теремами, Иванами и т. д., которую он носил в своем сердце», и «почувствовал детскую радость того, что он русский и что он в Москве».
Жена декабриста по основным чертам своего характера напоминает maman в «Детстве», но без свойственной ей мечтательности и меланхоличности. Кроме того, в то время как мать Николеньки Иртеньева обрисована туманными и неясными чертами, какою она, рано умершая, осталась в памяти мальчика, Наталья Николаевна Лабазова — вполне реальный, осязаемый образ. Толстой применяет к своей героине стихи Шиллера, которые
385
он цитирует по памяти: «Sie flechten und weben unsichtbare [у Шиллера: «himmlische»] Rosen ins irdische Leben»43. [«Они вьют и вплетают невидимые (у Шиллера: «небесные») розы в земную жизнь»].
«Вся натура ее, — говорит Толстой, — была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным вплетанием невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась. Она поехала за мужем в Сибирь только потому, что она его любила; она не думала о том, что она может сделать для него, и невольно делала все... а главное, была всегда там, где он был, и больше счастия ни одна женщина не могла бы дать своему мужу».
Сын и дочь декабриста не наделены особенно яркими индивидуальными чертами; это веселая, жизнерадостная молодежь, которую всегда так любил Толстой. Про дочь сказано, что она была «девушка свежая, стройная, сильная, а не модная и не робкая». Для того, чтобы характеризовать ее жизнерадостность, автор говорит, что всякий, кто слышал ее смех, «непременно думал: «Вот славно смеется, завидно даже».
Все содержание написанных трех глав романа «Декабристы» исчерпывается описанием приезда Лабазовых в Москву и их встреч с родственниками и знакомыми и незнакомыми людьми, приезжавшими сделать им визит. Из этих лиц Толстой особенно останавливается на характеристике либерального болтуна и сплетника, своего рода Бобчинского высшего света, камер-юнкера Пахтина, который умел «самые разнородные предметы соединять в один бестолковый, но гладкий разговор», причем «невозможно было никогда уловить никакого его убеждения или вкуса».
В одном из зачеркнутых мест первой редакции романа44 дается язвительная общая характеристика русского либерализма того времени. Толстой говорит: «Либерализм тоже не так страшен, как показывает это слово. В 56 году все, решительно все были либералы. Не был либералом только тот, у кого недостало умственных способностей выразить что-нибудь либеральное. Консерваторов не было. Нельзя было себе представить человека, который бы решился защищать старый порядок
386
вещей. Его бы камнями закидали. Еще раз повторяю — это было великое время!» — иронически восклицает Толстой.
Цена этому либерализму определялась тем, что, по словам Толстого, те «значительные» москвичи, которые в то время «считали своей непременной обязанностью оказывать всевозможное внимание знаменитому изгнаннику» (т. е. возвратившемуся декабристу), эти же самые «значительные» люди «ни за что на свете» не хотели бы видеть его три года тому назад, в эпоху крайней реакции последних лет царствования Николая I.
Высшее московское общество изображено Толстым сатирически. Перед читателем раскрывается невежественность представителей этого общества (Шекспира считают автором «Энеиды»), его провинциализм, состоящий в чрезвычайной узости того круга, который составляет это общество. «Говорят о провинциализме маленьких городов, — пишет Толстой, разумея, очевидно, незадолго перед тем вышедшие в свет «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. — Нет хуже провинциализма высшего общества. Там нет новых лиц, но общество готово принять всякие новые лица, ежели бы они явились; здесь же редко, редко, как теперь Лабазовы, признаны принадлежащими к кругу и приняты, и сенсация, производимая этими новыми лицами, сильнее, чем в уездном городе».
Среди разговора один из присутствующих вспоминает, как брат вернувшегося декабриста князь Иван сделал подлость по отношению к брату. Князь Иван Лабазов был замешан в заговоре, но Петр Лабазов на допросах всячески старался выгородить брата; только поэтому Иван Лабазов не был привлечен к суду. Впоследствии он продвинулся по службе и был министром. После осуждения брата князь Иван поспешил присвоить себе его имение, а после его возвращения написал ему, что если бы он в то время не взял имения, то оно было бы конфисковано, теперь же он не может его вернуть, потому что у него дети и долги. На это декабрист ответил своему брату: «Ни я, ни наследники мои не имеем и не хотим иметь никаких прав на законом вам присвоенное именье». «И князь Иван проглотил, — передавал рассказчик, — и с восторгом запер этот документ с векселями в шкатулку и никому не показывал».
Повидимому, упоминание об этом подлом поступке князя Ивана Лабазова, бывшего ранее министром, навеяно было Толстому слышанным им рассказом о военном министре при Николае I, Александре Ивановиче Чернышеве, который, участвуя в процессе декабристов, всячески старался погубить своего родственника, Захара Григорьевича Чернышева, чтобы завладеть его состоянием45.
387
В комическом виде изображаются представительницы высшего московского общества — девицы, мечтающие найти себе жениха в сыне декабриста, и кокетливая дама, уверенная в том, что молодой человек непременно в нее влюбится.
В третьей главе появляется новое лицо — сестра декабриста, старая женщина, сорок лет прожившая в Москве. Это — первый набросок образа Марьи Дмитриевны Ахросимовой в будущей «Войне и мире». Марья Ивановна Лабазова не отличалась ни большим умом, ни большим богатством, и тем не менее «не было человека, который бы не уважал ее». Вся Москва была ей знакома; «она смотрела на Москву и обращалась с ней, как с своими домашними».
Во всех трех главах романа «Декабристы», написанных в 1860 году, нет ни малейшего отражения того мрачного настроения, в котором находился Толстой во время работы над этим романом. Преобладает юмористическое или сатирическое отношение к изображаемым лицам. В юмористическом свете представляется даже старый декабрист, с его детской наивностью, непрактичностью, оторванностью от жизни.
VII
Вдумываясь в текст романа «Декабристы» и сравнивая его с написанным одновременно письмом к Фету от 29 октября 1860 года, нельзя не задать себе двух вопросов:
Как согласовать: общий дух «Декабристов», в которых нет и намека на какой-либо пессимизм, с безысходным, казалось бы, отчаянием, которым проникнуто письмо к Фету?
И другой вопрос: как согласовать факт работы Толстого над романом с его категорическим заявлением в том же письме к Фету, что «искусство есть ложь», а он не может «любить прекрасную ложь»?
Ответ на первый вопрос следует искать в той могучей жизненной силе, в той неиссякаемой любви к жизни во всех ее проявлениях, которой всегда, в особенности в свои молодые годы, был преисполнен Толстой. Мрачное настроение, какими бы причинами оно ни вызывалось, никогда не могло всецело захватить его. В данном случае, рядом с отчаянием и даже озлоблением на «кого-то», вызванным уходом из жизни бесконечно дорогого ему друга-брата, и независимо от этого чувства в душе Толстого твердо держалось инстинктивное признание радостности, значительности и разумности жизни, несмотря на все временные бедствия и страдания. И как только Толстой в процессе художественного творчества, независимо от всяких рассуждений, отдавался этому сознанию, так оно могучим потоком выливалось наружу и вытесняло (по крайней мере на
388
время творческого процесса) принятое рассудком решение о зле и бессмысленности жизни.
Что касается второго противоречия — противоречия между категорическим заявлением о том, что «искусство есть ложь», которую он любить не может, и одновременной работой над художественным произведением, то, повидимому, противоречие это до известной степени разрешается тем, что Толстой в то время на первый план ставил свою педагогическую деятельность, а не литературную работу, и «говорить правду» старался не в форме художественных произведений, а в форме педагогических статей. Кроме того, решительно заявляя Фету, стороннику «чистого искусства», о том, что «искусство есть ложь», Толстой, надо думать, имел в виду не столько само искусство, сколько его жрецов, «самообольщение» которых было ему так противно, что он выразил еще в своем письме к Чичерину в январе того же 1860 года. Но потребность художественного творчества, бывшая всегда присущей Толстому, настойчиво предъявляла свои требования и, несмотря на его теоретическое отрицание искусства, привела к работе над новым художественным произведением.
Фет, который упорно повторял Толстому, что не верит в прочность и продолжительность его отхода от литературы, не должен был ничего знать об этом, как не должен был он знать в феврале того же года о том, что Толстой (хотя и не надолго) возобновил свою работу над «Казаками».
Работа над новым художественным произведением остановилась на третьей главе.
Тем не менее творческий подъем, вызванный возвращением к художественной деятельности, продолжался у Толстого и после прекращения работы над «Декабристами». 10 ноября он записывает в дневнике: «Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня. Не пишу от изобилия». (Термин «мысль» в применении к художественному творчеству Толстой в то время понимал очень широко. В его представлении в это понятие входили и композиция произведения, и развитие сюжета, и обрисовка характеров.)
Но этот исключительный подъем, повидимому, продолжался недолго и не привел к созданию какого-либо художественного произведения. Толстому, вероятно, все-таки не совсем был ясен душевный облик декабриста, проведшего в Сибири тридцать лет, и особенно его отношение к современному направлению; а руководствоваться в таком важном вопросе одной поэтической интуицией («чутьем») он не считал себя вправе. Роман был отложен, но не забыт.
Вскоре Толстой оставил художественные замыслы и перешел к работе над педагогической статьей «О народном образовании»,
389
которую закончил уже по возвращении в Россию. Педагогические вопросы и дела его школы занимали его все больше и больше. «Вы знаете, верно, мое занятие школами с прошлого года, — писал он А. А. Толстой 6 декабря, еще не оправившись после душевного потрясения, вызванного смертью брата. — Совершенно искренно могу сказать, что это теперь один интерес, который привязывает меня к жизни».
Толстой попрежнему беспокоится о ходе занятий в яснополянской школе, о чем пишет тетушке Ергольской; просит своего друга Дьякова, жившего в то время в Париже, заказать гуттаперчевые буквы большого размера для его школы; думает о поездке в Париж и Лондон для осмотра школ. Но прежде поездки в Англию и Францию Толстой предпринял поездку в Италию.
Незадолго до отъезда из Гиера, внимание Толстого остановил следующий случай из местной жизни, оставивший след в его переписке.
В тоскливом настроении Толстой вместе с детьми сестры прогуливался по городу. Был католический праздник в честь божьей матери. Навстречу им показалась церковная процессия: на носилках под шелковым балдахином несли статую мадонны. Это была большая кукла в рост человека, одетая в белое шелковое платье, с короной на голове и длинной белой вуалью на лице; в руке она держала кружевной носовой платок. Впереди шло духовенство в торжественном облачении и большой хор певчих; сзади двигалась большая толпа народа. Толпа остановилась, и священник стал произносить проповедь. Он говорил с пафосом, то повышая, то понижая голос, и сильно жестикулировал. Толстой, чтобы лучше слышать, взобрался на невысокий забор с краю дороги. «Слушая проповедника, — вспоминает его племянница, — он возмущался, все ахал, и в одном месте, когда тот громко выкрикнул какую-то фразу и взмахнул руками, Лев Николаевич тоже вскрикнул, схватился за голову и спрыгнул со стены. Не помню, как отнеслась к этому толпа, потому что дядя поспешил с нами уйти»46.
В последнее время пребывания в Гиере настроение Толстого из мрачного и возмущенного перешло в умиротворенное и мягкое. Гиер в то время был переполнен больными, страдающими легочными болезнями в очень тяжелой форме. «Куда ни пойдешь, — писала сестра Толстого своему другу Л. А. Дельвиг 9 ноября 1860 года, — везде встречаешься с больными — и какими! Здесь сборище умирающих самых чахоточных. Беспрестанно
390
вы только и видите: кого везут в тележке, кого ведут под руки, тот сам еле плетется с палочкой, бледные, истомленные, с унылыми лицами. Одним словом, это гошпиталь на воздухе. Вы никого почти не увидите, который так, слегка, болен; уж ежели больной, так безнадежный»47.
Переживши смерть брата, Толстой иначе стал относиться к этим безнадежным больным. «Видишь, — писал он 6 декабря А. А. Толстой, — ...умирающих, безнадежно приговоренных людей, мимо которых прежде проходил равнодушно, но которые все мне теперь близки, точно родные, имеющие права на меня».
Иногда в Толстом, в последнее время его пребывания в Гиере, пробуждалось свойственное ему с самого детства желание посмешить общество (особенно светское) какой-нибудь оригинальной выходкой. Об одной такой выходке сестра Толстого рассказывала П. И. Бирюкову:
«Мы жили в Гиере после смерти брата. Лев Николаевич уже тогда был известен, и русское общество в Гиере и окрестностях искало знакомства с ним. Раз мы были приглашены на вечер к княгине Дундуковой-Корсаковой. Там собралось все высшее общество, и главным clou [гвоздем] этого вечера должен был быть Лев Николаевич, и как нарочно он долго не приходил. Общество стало уже унывать, у хозяйки истощился весь запас занимания общества, и она с грустью думала о своем soirée manquée [неудавшемся вечере]. Но, наконец, уже очень поздно, доложили о приезде графа Толстого. Хозяйка и гости оживились, и каково же было их удивление, когда в гостиную вошел Лев Николаевич в дорожной одежде и в деревянных сабо. Он совершал какую-то длинную прогулку, с этой прогулки, не заходя домой, явился прямо на вечер и стал всех уверять, что деревянные сабо самая лучшая, самая удобная обувь, и что он всем советует ею обзавестись. Ему и тогда уже все прощалось, и вечер из-за этого стал еще более интересным. Лев Николаевич был очень оживлен. На вечере много пели и заставляли его аккомпанировать»48.
У Д. П. Маковицкого тот же рассказ М. Н. Толстой записан с прибавлением еще одной характерной подробности: лакей, «смущенный», пришел доложить о приходе гостя в странном костюме и «послышались тяжелые шаги». Марья Николаевна подумала: «Левочка выкинул какую-нибудь штуку»49.
391
VIII
В половине декабря 1860 года Толстой покинул Гиер.
К сожалению, дневник Толстого 13 ноября 1860 года прекращается до 28 марта 1861 года, и сведения о его пребывании за границей за этот период до крайности скудны.
Из Гиера Толстой выехал в Ниццу, отсюда проехал во Флоренцию для свидания с Александрой Андреевной Толстой, находившейся там вместе с великими княжнами. Здесь он пробыл около двух недель, как писал Боткин своему брату50.
Во Флоренции Толстой познакомился с знаменитым декабристом, троюродным братом его матери, князем Сергеем Григорьевичем Волконским, которому в то время было уже больше семидесяти лет, и его женой Марией Николаевной, рожденной Раевской, последовавшей за мужем в Сибирь.
«Его наружность, — вспоминал впоследствии Толстой о Волконском, — с длинными седыми волосами была совсем как у ветхозаветного пророка... Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы»51.
Там же, во Флоренции, Толстой познакомился с русским художником Никитиным. По словам Толстого, записанным А. Б. Гольденвейзером, Никитин был «очень даровитым» и «удивительно рисовал карандашом». В своем альбоме Никитин нарисовал портрет декабриста Волконского, а также и портрет Толстого. Альбом этот до сих пор не найден.
Флоренция понравилась Толстому своей «скромностью и приятностью», ему там было «всегда хорошо»52.
Из Флоренции Толстой проехал в Ливорно53. Ко времени пребывания в Ливорно относится, как записал Толстой в дневнике 13 апреля, «попытка писанья Акс.». Под «Акс.» следует разуметь, повидимому, Аксинью Базыкину; но о каком начатом произведении, в котором действует «Акс.», идет здесь речь,
392
сказать трудно. Быть может, запись относится к одному из начатых Толстым рассказов из крестьянской жизни.
В «Поликушке» в числе действующих лиц находим жену Дутлова Аксинью, но эта повесть была начата позднее54.
Из Ливорно Толстой поехал в Неаполь, который показался ему «слишком хорош, приторен»55.
Здесь, однако, Толстой, как записано у него в дневнике 13 апреля, испытал «первое живое впечатление природы и древности». Ему понравилось пение певцов на улицах Неаполя56; он восхищался красотой Неаполитанского залива57.
Из Неаполя Толстой направился в Рим. В Риме произошло «возвращенье к искусству» Толстого. Закончился период скептического, порою даже совершенно отрицательного отношения Толстого к искусству, продолжавшийся около полутора лет и не возобновлявшийся в течение двадцати ближайших лет, вплоть до начала 1880-х годов.
Толстой сошелся в Риме с русскими художниками, с которыми встречался в Café Greco, в том числе с М. П. Боткиным, а также со скульптором С. И. Ивановым. Художники устроили его на дешевой квартире; с ними вместе он обедал в дешевом ресторане; вечером опять встречался с художниками. Один из них водил его по Риму. Заинтересовавшись живописью, Толстой в Риме ходил по мастерским испанских, французских и других художников58.
В Риме Толстой познакомился также с Н. Н. Ге59, который впоследствии сделался одним из самых близких его друзей.
Вас. Петр. Боткин, видевшийся с Толстым в Париже после его отъезда из Рима, 12 марта писал своему брату Мих. Петр. Боткину, что Толстому Рим «понравился чрезвычайно»60. Сын М. П. Боткина, С. М. Боткин, со слов отца передает, что Рим «сначала не произвел благоприятного впечатления на Льва Николаевича. Встретившись с Михаилом Петровичем, Лев Николаевич сказал, что Рим давит его своими развалинами. «Боже мой! всё камни и камни!» — воскликнул он. Тогда Михаил Петрович предложил Льву Николаевичу совершить прогулку
393
в окрестности Рима. Лев Николаевич согласился и провел с Михаилом Петровичем целый день за городом. Лев Николаевич остался в восторге от итальянской природы. Эта прогулка примирила Льва Николаевича с городом Римом, который он оценил по достоинству. Лев Николаевич покинул Рим, очарованный древним городом. Через сорок лет, при личном свидании с Михаилом Петровичем61, Лев Николаевич с удовольствием вспоминал свое пребывание в Риме и поездку в его окрестности»62.
Сергей Львович Толстой вспоминает, как Лев Николаевич «с интересом рассказывал нам [детям] про раскопки в Помпее, где его заинтересовал быт того времени». Он же со слов отца передает, что в Риме Лев Николаевич «воспринял красоту античной скульптуры»63.
Впоследствии Толстой, вспоминая свое пребывание в Риме, писал Н. Н. Страхову, собиравшемуся ехать за границу: «Я любил Рим»64. Но в следующем году, когда встал вопрос о поездке самого Толстого за границу для лечения жены, он с ужасом думал о том, что, быть может, придется жить в Италии, которая ему «так противна», хотя и «менее, чем Германия». «Вы не поверите, — писал Толстой позднее, 17 марта 1876 года, П. Д. Голохвастову, — что я скорее бы стал жить в Мамадышах, чем в Венеции, Риме, Неаполе; на этих городах и на жизни в них для всех лежит такое условное, неизменно одинаковое величие и изящество, а для меня такая пошлость, что мне тошно думать о них»65.
В 1898 году на вопрос его немецкого биографа Р. Левенфельда о впечатлениях, полученных от посещения Рима, Толстой отвечал:
«Я очень хорошо знаю этот город и с одним русским художником, имени которого теперь не припомню, предпринимал оттуда продолжительные экскурсии в Неаполь, Помпею и Геркуланум... Должен сознаться, что античное искусство не произвело на меня того необычайного впечатления, которому, повидимому, подчинялись все вокруг меня. Я тогда много говорил поэтому поводу с Тургеневым, я был убежден в том, что классическое искусство слишком уж высоко ценят... Для меня вообще наибольший интерес представлял человек. В том, что вы писали обо мне, я прочел вчера замечание, которое мне показалось удачным. Вы говорите, что меня повсюду интересует только
394
человек; насколько это верно, свидетельствует мое пребывание в Риме. Когда я мысленно возвращаюсь к тому времени, в моей памяти пробуждается только одно маленькое происшествие. Я предпринял с своим товарищем небольшую прогулку в Монте Пинчио. Внизу у подошвы горы стоял восхитительный ребенок с большими черными глазами. Это был настоящий тип итальянского ребенка из народа. Теперь еще слышу его крик: «Date mi un balocco» [«Дайте мне игрушку»]. Все прочее почти исчезло из моей памяти. И произошло это потому, что народом я интересовался больше, чем прекрасной природой, которая меня окружала, и произведениями искусства»66.
Эти слова Толстого, сказанные много лет спустя после посещения Рима, не могут, конечно, отменить сделанную им в свое время запись дневника о том, что в Риме он впервые ощутил «живое впечатление природы и древности».
IX
Из Рима Толстой на некоторое время вернулся в Гиер и оттуда проехал в Париж, куда прибыл не позднее 18 февраля.
Главной целью путешествия было теперь для Толстого ознакомление с постановкой дела народного образования в заграничных школах. 1 марта он писал брату Сергею Николаевичу: «Моя главная цель в путешествии та, чтобы никто не смел мне в России указывать по педагогии на чужие края и чтобы быть au niveau [на уровне] всего, что сделано по этой части».
В архиве Толстого сохранились письма к нему служащих Министерства народного просвещения Rendu и Sayons, к которым Толстой обращался за рекомендациями для осмотра парижских школ. В одной из парижских школ, которую он посетил, Толстой с разрешения учителя дал ученикам тему для сочинения и тетради с их сочинениями увез с собой в Ясную Поляну67.
Очень заинтересовался Толстой обучением взрослых рабочих пению по цифирной системе нот, предложенной Э. Шеве. «Я видел в Париже, — рассказывал Толстой впоследствии в одной из своих педагогических статей68, — сотни работников с мозолистыми руками, сидящих на скамьях, под которыми положен инструмент, с которым работник шел из мастерской,
395
поющих по нотам, понимающих и интересующихся законами музыки». Толстой признал методу обучения пению, предложенную Шеве, вполне удовлетворяющей своему назначению.
В Париже Толстой приобрел большое количество книг по педагогике, которые по его просьбе, после его отъезда, Чичерин отправил в Петербург в адрес Министерства народного просвещения с тем, чтобы они были переданы Толстому по его возвращении в Россию. Он приобрел также для своих школьников ряд раскрашенных литографий работы Гренье.
В Париже, как записал Толстой в дневнике 13 апреля, произошло его «сближенье с Тургеневым». Тургенев 27 февраля писал Анненкову: «На днях приехал сюда из Италии Толстой, — не без чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата сильно на него подействовала. Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность»69.
Как писал Толстой Герцену 26 марта 1861 года, он читал Тургеневу написанное им незадолго до этого начало романа о декабристе, и Тургеневу «понравились первые главы». Чуткий к поэзии Тургенев, вопреки распространенным в то время в литературной среде толкам о падении таланта Л. Н. Толстого, вызванным его последними произведениями, по прослушанным им главам нового романа Толстого безошибочно определил, что Толстой как писатель далеко еще не сказал своего последнего слова и что ему предстоит великая будущность.
В Париже Толстой виделся также с Вас. Петр. Боткиным, который уже по отъезде Толстого из Парижа, 12 марта, писал своему брату Мих. Петр. Боткину: «Толстой был здесь... Не знаю, как тебе понравился Толстой — он несколько странен, но что касается до души, то она у него глубока, как море. Он изменчив в своих склонностях и в настоящее время страстно занимается всем, что касается до первоначального образования»70.
1 марта Толстой выехал из Парижа в Лондон.
Первую неделю по приезде Толстой сильно страдал от зубной боли и потому не мог провести это время так деятельно, как хотел бы.
Оправившись от зубной боли, Толстой в Лондоне, как раньше в Париже, главной своей задачей поставил осмотр школ. В его архиве сохранились три письма служащих Министерства народного просвещения, содержащие рекомендации, данные
396
ими Толстому для посещения лондонских школ. Профессор поэзии в Оксфордском университете Мэтью Арнольд71, в своем рекомендательном письме, датированном 11 марта, указавши адреса семи лондонских школ, поместил следующее обращение к учителям этих школ:
«Я был бы очень обязан преподавателям вышеперечисленных школ, если бы они предоставили возможность подателю сего, графу Льву Толстому, джентльмену из России, интересующемуся народным образованием, осмотреть их школы, а также дать ему те объяснения и сведения, какие он пожелает. Граф Лев Толстой в особенности желал бы ближе ознакомиться с методами преподавания естественных наук в тех школах, где они проходятся» (перевод с английского)72.
Характерен для Толстого-педагога этот его особенный интерес к методам преподавания естественных наук.
По просьбе Толстого, один из служащих Министерства народного просвещения, Линген, послал ему два последних доклада Комитета по делам образования, представленные парламенту. Другой служащий того же Министерства Уильям Рожер, уже по отъезде Толстого из Лондона, отправил ему подробный отчет этого Комитета. Отчет «объемистый, — писал Рожер Толстому, — но полностью входит в существо вопроса и даст вам возможность ознакомиться с современным состоянием народного образования в нашей стране» (перевод с английского)73.
При осмотре лондонских школ Толстой, подобно тому как он делал во Франции, не ограничивался ролью пассивного наблюдателя, а задавал ученикам вопросы с целью лучше узнать уровень их знаний и степень умственного развития74.
Одновременно с осмотром школ Толстой старался воспользоваться своим пребыванием в Лондоне для ознакомления с английской педагогической литературой. С этой целью он ежедневно посещал незадолго до того (в 1857 году) открытый в Лондоне специальный учебный музей прикладного искусства и промышленности, носивший название «Кензингтонский музей». Как рассказывает Толстой в одной из своих педагогических статей, этот музей обладал очень богатой педагогической библиотекой и собранием научных пособий: карт, инструментов,
397
картин наглядного обучения, моделей. «Тут все есть, — писал Толстой, — что произвела наука по этой части, все вместе, все классифицировано, и на все вам готов руководитель, который обязан объяснить то, чего вы не понимаете, и объяснит отлично»75.
Изучая английскую учебную литературу, Толстой делал для себя краткие характеристики прочитанных книг; листки с такими характеристиками английских учебников сохранились в его архиве. Составленный Толстым список содержит 49 названий хрестоматий и книг по различным отраслям знаний. Характеристики Толстого очень кратки, но выразительны и дают представление о его требованиях к учебной литературе76. Вот наиболее яркие и интересные из этих характеристик:
«Никуда не годится. Дидактизм во всей силе. Абстрактное правило ставится прежде конкретов жизни» (о «Книге для чтения» Аббота).
«Описание мануфактурных производств недурно, но сухо от краткости» (о книге «Домашние и обыденные предметы»).
«Тупоумная религиозность» (о книге «Уроки морали»).
«Образец бессмыслия: как произносить, охать, вздыхать и молчать» (о книге «Основы красноречия»).
«Нет связи, ни наука, ни забава» (о книге «Собрание выдержек из сведений»).
«Дрянь дамская» (о «Книгах для чтения» Куллок).
«Педантическая книга» (об «Основах арифметики» Моргана).
«Отличная книга, отвечающая на всякие вопросы детей» (о книге Декстера «Минеральные, животные и растительные вещества»).
Толстой приобрел и отправил в Россию (попрежнему в адрес Министерства народного просвещения) целый ящик нужных ему педагогических и учебных книг, из которых только некоторые сохранились до настоящего времени в Яснополянской библиотеке77.
Толстой воспользовался случаем повидать и послушать своего любимого писателя Чарльза Диккенса, который на литературном вечере выступал по вопросу о воспитании. «Он прекрасно читал и производил своей сухой, но сильной фигурой мощное впечатление», — вспоминал впоследствии Толстой78.
398
Он нашел время побывать и в Палате общин, где слышал, как представитель оппозиции громил министерство, после чего премьер-министр Пальмерстон, который во время речи оратора сидел, накрывшись шляпой, и не проронил ни одного слова, в своей речи, продолжавшейся три часа, ответил на все пункты своего противника79. Но Толстому было «скучно» слушать эти прения, а содержание их показалось ему «ничтожным»80.
Важнейшим событием для Толстого во время его пребывания в Англии было знакомство и частые встречи с Герценом.
X
Еще в первое свое заграничное путешествие Толстой хотел посетить Герцена. 16 (28) февраля 1857 года Тургенев писал Герцену из Парижа: «Толстой тоже будет в Англии; ты его полюбишь, я надеюсь, и он тебя»81. На это письмо Герцен отвечал Тургеневу 2 марта: «Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым. Поклонись ему от меня как от искреннего почитателя его таланта. Я читал его «Детство», не зная, кто писал, и читал с восхищением, но второго отдела не читал вовсе, нет ли у него? Если ему понравились мои «Записки», то я вам здесь прочту выпущенную главу о Вятке и главу о Грановском и Кетчере»82. Здесь под «вторым отделом» Герцен разумел повесть Толстого «Отрочество», а под «Записками» — свои «Былое и думы».
Тургенев отвечал Герцену 5 марта 1857 года. Он писал: «Толстому я передал твой привет; он очень ему обрадовался и велит тебе сказать, что давно желает с тобой познакомиться и заранее тебя любит лично, как любил твои сочинения (хотя он NB далеко не красный)»83. В письме от 11 августа 1857 года Герцен опять повторяет Тургеневу: «Жду Толстого и тебя»84. Но Толстой в первую свою заграничную поездку не поехал в Англию, и знакомство его с Герценом в то время не состоялось.
Теперь, попав в Лондон, Толстой поспешил осуществить свое давнишнее желание.
399
Впоследствии Толстой рассказывал, что сначала он явился к Герцену, не называя себя, как один из приезжих русских, но его не приняли; тогда он подал свою карточку. «Через некоторое время наверху послышались быстрые шаги, и по лестнице, как мяч, слетел Герцен. Он поразил Льва Николаевича своей внешностью небольшого толстенького человека и внутренним электричеством, исходившим из него».
«Живой, отзывчивый, умный и интересный, — рассказывал Толстой, — Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого уж потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей... Он сейчас же — это я хорошо помню — повел меня почему-то не к себе, а в какой-то соседний ресторан сомнительного достоинства. Помню, меня это даже несколько шокировало. Я был в то время большим франтом, носил цилиндр, пальмерстон85 и пр., а Герцен был даже не в шляпе, а в какой-то плоской фуражке. К нам тут же подошли польские деятели, с которыми Герцен возился тогда. Он познакомил меня с ними, но потом, вероятно, пожалел, потому что сказал мне, когда мы остались вдвоем: «Сейчас видна русская бестактность. Разве можно было так говорить при поляках?»86. Но все это вышло у Герцена просто, дружественно и даже обаятельно. Я не встречал более таких обаятельных людей, как он»87.
Уже 7 марта Герцен писал Тургеневу: «Толстой — короткий знакомый; мы уж и спорили; он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек; даже Лиза Огарева88 его полюбила и называет «Левстой». Что же больше? Только зачем он не думает, а всё, как под Севастополем, берет храбростью, натиском?»
В следующем письме от 12 марта Герцен опять писал Тургеневу: «Граф Толстой сильно завирается подчас; у него еще мозговарение не сделалось после того, как он покушал впечатлений»89.
Вспоминая в письме к П. И. Бирюкову от 15 апреля 1904 года о своих встречах с Герценом, Толстой писал: «С Герценом я видался в бытность в Лондоне полтора месяца
400
(кажется)90 почти каждый день, и были разговоры всякие и интересные»91.
Н. А. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях также сообщает, что Толстой бывал у них каждый день.
К сожалению, очень мало известно о содержании бесед Толстого с Герценом. Несомненно, что беседы эти прежде всего касались внутреннего положения России и ожидаемой отмены крепостного права. Это подтверждается и письмами Толстого к Герцену после его отъезда из Лондона (письма Герцена к Толстому до сих пор не обнаружены), в которых слышится продолжение прежних разговоров и споров. В письме от 26 марта Толстой писал: «Вы говорите, я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее с своей призмочки». И далее Толстой говорит, что у него есть «твердое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеева может быть в 25-м году. Нам, людям практическим, нельзя жить без этого».
Само собой разумеется, что при том глубоком уважении, которое Герцен питал к памяти декабристов, и при том интересе к ним, который в то время должен был испытывать Толстой, начавший несколько месяцев назад роман о декабристе, декабристы также должны были составлять предмет их бесед. Это подтверждается упоминанием о Рылееве в приведенной цитате из письма Толстого.
Н. А. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях передает, что Толстой много рассказывал о положении русской армии под Севастополем, что должно было особенно интересовать Герцена, и распевал составленную им песню на сражение 4 августа на Черной речке, аккомпанируя себе на рояли92.
Несомненно, что Толстой много рассказывал Герцену про свою яснополянскую школу и про свои оригинальные методы обучения. Близкий знакомый Герцена, впоследствии ренегат, В. И. Кельсиев в 1867 году показал даже следственной комиссии,
401

Л. Н. Толстой и А. И. Герцен в 1861 г.
С рисунка Э. О. Визеля.
402
будто бы Толстой с Герценом «говорил только о педагогии»93, что, конечно, совершенно неверно.
Разумеется, Герцен предлагал Толстому сотрудничать в «Колоколе». Об этом определенно говорят слова Герцена, приводимые в письме к нему Толстого от 26 марта: «Полемику давайте». Герцен, очевидно, ожидал от Толстого, как от провинциального жителя, статей, обличающих местную администрацию, чиновников и помещиков.
Сын Толстого Сергей Львович, со слов отца, передает следующий рассказ Герцена, характерный и для Герцена, и для нравов лондонской аристократии.
Один раз Герцен, проходя по улице, натолкнулся на ковер, который был разостлан по тротуару перед подъездом какого-то богатого дома. Два лакея стояли у краев ковра и никому не позволяли на него наступать; прохожим приходилось обходить это место. Очевидно, ожидали приезда какой-то важной особы. Но Герцен оттолкнул лакея и прямо пошел по ковру. Тогда этот лакей крикнул другому «Let him pass! He is gentleman!» [«Пропусти его. Это джентльмен!»]94.
Герцен, по просьбе Толстого, подарил ему полученную им в то время записку итальянского революционера Маццини95.
Физически Толстой нашел Герцена менее свежим, чем ожидал. Это видно из письма к нему Тургенева от 22 марта, где читаем такую фразу: «А Герцен, точно, очень стар, бедный»96. Этой фразой Тургенев, повидимому, выражал согласие с высказанным в письме к нему мнением Толстого о «старости» Герцена.
С Огаревым Толстой вел разговоры о музыке. В письме к Герцену от 8 (20) марта 1861 года Толстой сообщал Огареву «по его части» о впечатлении, которое произвела на него недавно прослушанная опера Гуно «Фауст» («музыка недурна»), В разговорах с Огаревым Толстой вспоминал их общего знакомого, талантливого опустившегося музыканта Рудольфа, которого он в 1849 году привез из Москвы к себе в Ясную Поляну. Эти воспоминания внушили Огареву мысль написать стихотворение «Рудольфов трапп», которое он посвятил Толстому97.
Но по сравнению с Герценом Огарев казался Толстому незначительным98. «Огарев мне не нравился, — говорил впоследствии
403
Толстой. — Он был какой-то расслабленный, он пил, кажется»99.
Перед отъездом Толстого из Лондона в Брюссель Герцен дал ему рекомендательное письмо к польскому революционеру Иоахиму Лелевелю и хотел дать такое же письмо к Прудону, но Толстой не успел зайти к нему за этим письмом.
Герцен просил Толстого прислать из Брюсселя свою карточку.
Впоследствии Толстой не раз вспоминал свое посещение Герцена и всегда говорил, что Герцен производил на него «самое приятное впечатление»100. В другой раз Толстой сказал, что Герцен «произвел на него сильное впечатление». Но «политика тогда не занимала его, он увлекался другим»101 и потому недостаточно воспользовался своими встречами с Герценом.
XII
У Толстого остался в памяти тот день, когда он покинул Лондон. Это был, как писал он Бирюкову 15 апреля 1904 года, «день объявления воли», то есть тот день, когда в газетах появилось сообщение о манифесте 19 февраля. Это было 5 (17) марта 1861 года.
Толстой выехал из Лондона, унося в своем сознании, как записал он в дневнике 13 апреля, «отвращение к цивилизации».
Из Лондона Толстой поехал в Брюссель, повидимому, главным образом с целью встретиться с двумя знаменитыми эмигрантами, о которых он много слышал от Герцена: теоретиком анархизма Пьером Прудоном и польским революционером Иоахимом Лелевелем.
Вскоре по приезде в Брюссель Толстой пишет письма Тургеневу и Чичерину, в которых делится своими впечатлениями от англичан. Ни то, ни другое письмо до нас не дошли, но из ответных писем этих корреспондентов Толстого видно содержание его писем к ним.
Тургенев в письме от 22 марта выражает радость по поводу того, что в письме Толстого он увидал «окончание тех, если не неприязненных, то по крайней мере холодных отношений», которые существовали между ними. «Наша последняя встреча в Париже уже указывала на это, — писал Тургенев, — ...прошедшим недоразумениям конец. Я уверен, что мы встретимся в России хорошими
404
приятелями и останемся таковыми, покуда бог продлит жизни».
Из письма Толстого Тургенев узнал, что англичане ему «не понравились». «Я это несколько ожидал», — писал Тургенев, но прибавлял, что Толстой, вероятно, не имел «времени или случая пробраться до той сердечной струи, которая бьет, например, во многих лицах диккенсовских романов»102.
Чичерин еще меньше, чем Тургенев, согласился с тем, что писал ему Толстой об англичанах. В ответном письме от 22 марта Чичерин выговаривал Толстому за то, что он наблюдает «на лету». Задетый за живое, Толстой сейчас же ответил Чичерину. Это письмо также не сохранилось; как видно из ответного письма Чичерина от 25 марта, Толстой писал ему, что в его наблюдениях есть строгая последовательность, что у каждого свой способ изучения, что он чутьем понял характер английской жизни. Конечно, и с этим мнением Толстого педантичный и рассудительный профессор Чичерин согласиться не мог103. Уже назревал разрыв Толстого с его случайным другом.
20 марта Толстой пишет первое письмо Герцену. Письмо это не преследовало никаких практических целей; Толстой просто почувствовал «потребность написать словечко» «знаменитому изгнаннику». Все письмо написано под обаянием сильной, даровитой, родственной Толстому личности Герцена. Толстой выражает свою радость по поводу того, что близко узнал Герцена; ему «весело думать», что есть на свете Герцен, «такой, какой есть». Толстой восхищается тем, что Герцен способен «сбегать за микстурой для Тимашева», — то есть написать то, что он написал. Здесь Толстой имеет в виду едкую статью Герцена, напечатанную в новогоднем номере «Колокола» за 1861 год под названием «Тимашев, сидите дома, как Бейст104, — не ездите, как Гайнау!». Статья Герцена была написана по поводу приезда в Лондон начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением, Тимашева. Герцен напоминал ему судьбу австрийского фельдмаршала Гайнау, который после подавления рабочего движения в Вене также приехал в Лондон; здесь он посетил одну фабрику, на которой рабочие его узнали и избили.
Далее Толстой пишет Герцену: «Дай-то бог, чтобы через шесть месяцев сбылись ваши надежды». Толстой не поясняет, о каких надеждах Герцена он говорит. Объяснение этой фразы нужно искать, повидимому, в том, что Герцен в то время еще не оставил надежд на либеральные реформы Александра II, придавая
405

Л. Н. Толстой в 1861 г. в Брюсселе.
С фотографии
406
особенное значение отмене крепостного права. В словах Толстого чувствуется скептическое отношение к этим надеждам Герцена; тем не менее он интересуется предположенной Герценом «иллюминацией», то есть банкетом по поводу манифеста 19 февраля.
Свое мнение о том, какое действие на помещиков произведет освобождение крестьян от крепостной зависимости, Толстой выразил в словах: «Все будут либералы теперь, когда интересы будут натыкаться только на стеснения, а не поддерживаться ими». Толстой разумел здесь помещиков-крепостников, которым новый порядок несет «стеснения» и которые поэтому сделаются «либералами», то есть недовольными правительством.
В конце письма, обращаясь к Огареву, Толстой рассказывает, что накануне он был в театре, где слушал оперу Гуно «Фауст». Музыка оперы кажется ему «недурной», а само произведение Гете он называет «величайшей в мире драмой».
Все письмо говорит о близких, дружественных отношениях, которые сложились у Толстого с Герценом. Толстой не боится высказывать свое скептическое мнение не только об англичанке-гувернантке, жившей у Герцена, но и о его друге Тесье, участнике французской революции.
Вскоре в письме к Тургеневу, до нас не дошедшем, Толстой повторил свою высокую оценку «Фауста», чему Тургенев, разумеется, очень обрадовался. «Вот Вы и «Фауста» полюбили, и Гомера; авось дойдет очередь до Шекспира», — писал Тургенев Толстому в своем ответном письме от 26 марта105.
Еще больше обрадовался Тургенев тому, что Толстой писал ему о своем возвращении к искусству. «Специальность, — писал Тургенев, — есть признак всякого живого организма, — а Ваша специальность все-таки искусство».
26 марта Толстой получил от Герцена ответ на свое письмо (ответ этот до сих пор не обнаружен) и в тот же день ответил ему.
Прежде всего ему хотелость высказать свое мнение о последней (шестой) книжке «Полярной звезды», которую он нашел «превосходной». Главное содержание этой книги «Полярной звезды» составляли материалы о декабристах и о Пушкине и несколько глав «Былого и дум». В числе этих глав была и статья о Роберте Оуэне. Толстой выражает полное согласие с основными утверждениями Герцена в этой статье. «Ваша статья об Овене, — пишет он, — увы! слишком, слишком близка моему сердцу».
Статья Герцена о Роберте Оуэне — одна из самых сильных его обличительных статей против западноевропейского — в особенности
407
английского — буржуазного общественно-политического строя.
Герцен в этой статье, как и Оуэн, отрицает все религии (основателя христианства он относит к числу «преобразователей и предтеч переворотов»), отрицает буржуазную идеологию, особенно яростно восставая против «мещанского болота английской жизни» и «нравственной несвободы англичан», отрицает, как и Оуэн, уголовный суд, находя, что в преступлениях виноваты не столько сами преступники, сколько общественные условия, порождающие преступления, и что поэтому «мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо», что «целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно».
Герцен не верит в близкое падение «старого порядка». «Неразвитость масс, не умеющих понимать, — говорит он, — с одной стороны, и корыстный страх — с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок». «Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести, — не новость», но «опыт не доказывает, чтобы их утопии были осуществляемы». «Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать, но они с ужасом отпрядывают, когда... дунет на них свежий ветер разума и критики». Появление людей, «протестующих во имя разума», «доказывает без малейшего сомнения возможность человека развиваться до разумного понимания». Но для Герцена остается неразрешенным вопрос, «может ли это исключительное развитие сделаться общим».
Герцен допускает возможность того, что «будущее войдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем, и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его». Но «то, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет», и, «принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность здравого смысла». Природе надолго хватит «исторического бреда».
В качестве примера, иллюстрирующего его мысли, Герцен упоминает о Наполеоне. В противоположность Оуэну, мечтавшему достигнуть всеобщего благополучия, Наполеон «добра желал себе одному, а под добром разумел власть». Он «пролил крови больше, чем все революции вместе». Видя, что французы «страстно любят кровавую славу», Наполеон «стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту». Популярность Наполеона объясняется «одинаковостью вкусов» его и толпы: «он сам принадлежал толпе и показал ей ее самое... возведенную в гения и покрытую лучами славы. Вот отгадка его
408
силы и влияния, вот отчего толпа плакала об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет».
Эта характеристика Наполеона как гения толпы должна была быть очень сочувственна Толстому, так как сам он точно так же смотрел на Наполеона.
Не существует, говорит далее Герцен, никакого вперед предназначенного пути истории. «Бесконечный прогресс впереди» — такая же сказка, как золотой век позади. «Ни природа, ни история никуда не идут и потому готовы итти всюду, куда им укажут, если это возможно, то есть, если ничего не мешает». Люди живут для настоящего, «для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для скорейшего достижения бесконечного развития совершенства».
«Мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется... И это не все: мы можем переменить узор ковра. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа да мы одни одинехоньки»106.
«Будущность людей, народов» зависит «от нас с вами»107.
Толстой пишет Герцену, что его статья об Оуэне — «правда — quand même [во что бы то ни стало], что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или русского человека». По мнению Толстого, в статье Герцена содержится такая правда, которую мог высказать разве только житель другой планеты, то есть существо, не опутанное с детства теми предрассудками, в которых воспитываются европейские народы, или же «русский человек», совершенно свободно относящийся к европейской культуре и цивилизации.
Только по двум пунктам Толстой расходится с Герценом.
Во-первых, ему кажется неубедительной та часть статьи Герцена, где он «на место разбитых кумиров» ставит «самую жизнь, произвол, узор жизни». Толстой полагает, что поставленный на место отвергаемых Герценом «огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов и т. п., этот узор — ничто, пуговка на месте колосса». По мнению Толстого, ничего не нужно ставить на место разрушенных «огромных надежд» — «ничего, исключая той силы, которая свалила колоссов». (Герцен этой силой считал разум.)
Во-вторых, Толстой протестует против того общего пессимистического взгляда на историю человечества, каким проникнута статья Герцена, несмотря на его неопределенные заявления о том, что «мы можем переменить узор ковра» и что будущее народов «зависит от нас с вами». Толстой говорит Герцену:
409
«Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это — тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим». Толстой указывает, откуда он ожидает появление этого нового «пузыря истории». «И этот пузырь, — говорит он, — есть для меня твердое и ясное знание моей России». «Моей Россией» Толстой называл Россию народную, то есть в его представлении — Россию крестьянскую. В основах народной, то есть крестьянской жизни думает Толстой найти разрешение всех неразрешенных историей вопросов.
Далее Толстой в своем письме к Герцену переходит к критике манифеста 19 февраля. Он недоволен ни содержанием, ни слогом манифеста.
«Как вам понравился манифест? — спрашивает Толстой Герцена. — Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Еще не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже ученому крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний».
Подобно тому, как в 1858 году в записке о дворянстве Толстой отказывал Александру II в славе великого преобразователя России, так и теперь он оскорблен за народ тем, что «тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу», в то время как в действительности манифест содержит одни только обещания.
Толстой был совершенно прав в своем предположении, что крестьяне ничего не поймут в манифесте 19 февраля, написанном митрополитом Филаретом кудрявым и запутанным слогом. Это подтверждается многими свидетельствами современников. Так, врач Н. А. Белоголовый писал родным из Москвы по поводу чтения в церквах 5 марта 1861 года манифеста 19 февраля: «Никто этого не ожидал; церкви за ранней обедней были совершенно пусты... Но зато к поздней обедне бросились все от мала до велика, выслушали манифест, осенили себя крестным знамением108 и вышли из церкви, словно в тумане: больно жирно написано. Словом, русский народ, по крайней мере в Москве, не высказал ни особенной радости, ни особенного неудовольствия, потому что ничего не понял и вот теперь только начинает мало-помалу раскусывать»109.
В тот же день 5 марта 1861 года знакомый Толстого, тульский помещик С. М. Сухотин записал в своем дневнике: «Народ, не понимая ни слова из манифеста, что-то плохо верит свободе»110.
410
Писемский в романе «Взбаламученное море» изображает разочарование французского и бельгийского посланников в Петербурге, ожидавших в день объявления манифеста увидать «agitation du peuple» (народное возбуждение) и вместо того увидавших людей, спокойно занятых каждый своим делом111.
Далее Толстой в письме делится с Герценом своим замыслом романа о декабристе и просит его высказать мнение о «приличии и своевременности такого сюжета». Толстой сомневался, будет ли «прилично и своевременно» вывести в романе еще здравствующих почтенных и уважаемых лиц, только что вернувшихся из долгого заточения.
В заключение письма Толстой посылал поклон «всему милому Орсетскому подворью» (дом Orsett House, в котором жил Герцен в Лондоне) и прилагал свою карточку, прося взамен карточки Герцена и Огарева.
Получив письмо Толстого, Герцен тут же отправил ему свою и Огарева карточку с надписью: «В память встреч в Orsett House 28 марта 1861»112.
Письмо Герцена к Толстому, в котором он посылал свою карточку, неизвестно; но, судя по его письму к Тургеневу, написанному в тот же день, что-то не понравилось ему в письме Толстого. «С Толстым мы в сильной переписке и портретами обослались, — писал он Тургеневу, — а только у него в голове не прибрано еще, не выметено, а что мебель-то, может, и того-с»113. Быть может, Герцену показались неубедительными возражения Толстого против его статьи об Оуэне; может быть, Герцен не одобрял того отрицательного отношения к манифесту 19 февраля, которое он увидел в письме Толстого. Но это, разумеется, не помешало Герцену с полным сочувствием отнестись к замыслу романа о декабристе, о котором писал ему Толстой, и выразить «лестное мнение» о его таланте, как сказано в ответном письме Толстого Герцену от 9 апреля.
XIII
Толстой неоднократно упоминал о том, что Прудона он посетил с рекомендательным письмом Герцена114. Это, повидимому, ошибка, так как в письме к Герцену от 20 марта Толстой писал, что он желал зайти к Герцену за рекомендательным письмом
411
к Прудону, но не успел. Кроме того, Прудон в своем письме к Герцену от 11 апреля 1861 года упоминает о двух русских, посетивших его с письмами Герцена, но о Толстом говорит, что он явился к нему «иным путем»115.
По позднейшим воспоминаниям Толстого, Прудон ему «очень понравился»116. Он увидал в нем человека, который имеет «le courage de son opinion» («смелость иметь свое мнение»)117.
В своей незаконченной статье «О значении народного образования», написанной в 1862 году, Толстой в следующих словах вспоминает свое свидание с Прудоном:
«В прошлом году мне случилось говорить с г. Прудоном о России. Он писал тогда свое сочинение «О праве войны». Я ему рассказывал про Россию, про освобождение крестьян и про то, что в высшем классе заметно такое сильное стремление к образованию народа, что стремление это выражается иногда комично и переходит в моду.
— Неужели это в самом деле правда? — сказал он мне.
Я отвечал, что насколько можно судить издали, в русском обществе проявилось теперь сознание того, что без образования народа никакое государственное устройство не может быть прочно.
Прудон вскочил и прошелся по комнате.
— Ежели это правда, — сказал он мне, как будто с завистью, — вам, русским, принадлежит будущность»118.
Упоминаемое Толстым сочинение Прудона «О праве войны» — это его книга «La Guerre et la Paix» («Война и мир»), вышедшая в свет в 1861 году. Очевидно, Прудон рассказывал Толстому об этой своей тогда уже подходившей к концу работе.
Кроме этих воспоминаний Толстого, известно еще письмо самого Прудона к Густаву Шодэ (G. Chaudey) о его встрече с Толстым. В этом письме, датированном 7 апреля 1861 года, Прудон писал: «Царь издал свой указ об освобождении, по соглашению с дворянами и посоветовавшись со всеми. Зато надо видеть гордость этих ex nobles [знатных людей]. Один очень образованный человек, г. Толстой, с которым я беседовал на днях, сказал мне: «Вот это настоящее освобождение. Мы не отпускаем своих рабов с пустыми руками, мы даем им вместе со свободой собственность!». Он сказал мне кроме того: «Вас много читают в России, но не понимают важности, которую вы приписываете вашему
412
католицизму. Только после того, как я побывал в Англии и Франции, я понял, как вы были правы. В России церковь — нуль»119.
Толстой, очевидно, говорил Прудону о том, что освобождение крестьян от крепостного права всегда являлось мечтою лучших представителей русского дворянства, что царь только исполнил это пожелание. Не желая высказывать Прудону как иностранцу своего скептического отношения к крестьянской реформе, Толстой указал ему только на то, что условия освобождения крестьян от крепостного права в России были более благоприятны, чем те, на которых крестьяне были освобождены во многих странах Западной Европы, например, в Англии.
В письме к Герцену Прудон называет Толстого «ученым»120. Прудон, очевидно, ничего не знал о литературной деятельности Толстого, а Толстой не счел нужным ставить его об этом в известность.
Этим исчерпываются все сведения о свидании Толстого с Прудоном.
Перед отъездом из Брюсселя Толстой выписал себе сочинения Прудона.
XIV
Иоахим Лелевель в 1830 году был членом Временного польского правительства; одним из первых он подписал акт отрешения Николая I от польского престола.
В заметке по поводу смерти Лелевеля Герцен называет его «одним из честнейших и благороднейших старцев польского изгнания»121.
Энгельс в своей речи по польскому вопросу, произнесенной 22 февраля 1848 года, следующими словами характеризовал Лелевеля. Указав на то, что польское восстание 1830 года было «консервативной революцией», Энгельс продолжал: «Но в недрах этой консервативной революции, в самом национальном правительстве нашелся человек, который резко нападал на узость взглядов господствующего класса. Он предложил действительно революционные меры, смелость которых устрашила аристократов сейма. Призывая к оружию всю старую Польшу, обращая таким образом войну за независимость Польши в европейскую войну, предоставляя гражданские права евреям и крестьянам, наделяя последних землею, восстановляя Польшу на основах демократии и равенства, он хотел превратить национальную борьбу
413
в борьбу за свободу, он хотел отожествления интересов всех народов с задачами польского народа. Нужно ли назвать того гениального человека, который задумал этот столь обширный и в то же время столь простой план? Это был Лелевель»122.
В России имя Лелевеля считалось запретным, что видно из следующего факта.
С января 1859 года в Петербурге начала выходить на польском языке газета «Слово». Мысль об издании в Петербурге газеты на польском языке возникла в либеральных кругах; особенно хлопотал об издании такой газеты К. Д. Кавелин. Газета «Слово» ставила своей задачей примирение поляков с русскими на основе отказа поляков от попыток вернуть независимость Польши, с одной стороны, и признания за нею со стороны русского правительства полной свободы в области родного языка, веры и национальной культуры, — с другой. Газета пользовалась сочувствием и поддержкой русских и польских либералов. Но просуществовала газета только около двух месяцев, она была закрыта правительством по следующему поводу.
Издатель «Слова» Иосафат Огрызко обратился к Лелевелю с просьбой принять участие в его газете. В ответном письме Лелевель выразил свое сочувствие изданию газеты, но указал на невозможность своего сотрудничества в ней. Редакция «Слова» поместила полностью письмо Лелевеля, считая, как было сказано в редакционной заметке, большой для себя честью получение письма «патриарха нашей истории», на сочинениях которого воспитывается уже третье поколение польской молодежи, согреваемое «жаром его чрезвычайных познаний и любовью к отечественной истории».
Наместник Царства польского князь М. Д. Горчаков, бывший главнокомандующий Крымской армией, донес Александру II о появлении в газете «Слово» письма Лелевеля с заметкой редактора. По докладу Горчакова, Александр II приказал газету «Слово» закрыть, а редактора посадить на месяц в Петропавловскую крепость. Всем цензорам было дано предписание не пропускать в печати никаких выдержек из письма Лелевеля и подобных ему лиц.
Дело Огрызко вызвало в Петербурге большой шум. Это был первый случай преследования печати в новое царствование. Даже умеренно либеральный профессор А. В. Никитенко в своем дневнике назвал дело Огрызко «весьма печальным событием»123.
Герцен откликнулся на дело Огрызко в «Колоколе» краткой заметкой, озаглавленной «И. Лелевель и казематы», которую закончил такими выразительными словами: «Когда же наше самодержавие
414
поймет, что талант тоже — помазание, и что гонение самого имени людей, чисто и свято трудившихся до преклонных лет, признанных всем светом, как И. Лелевель, бьет рикошетным ударом назад?»124.
Толстой, живший в феврале 1859 года в Москве, а в марте побывавший в Петербурге, несомненно знал о деле Огрызко. Оказавшись в Брюсселе, он счел своим долгом посетить Лелевеля, о котором так много слышал от Герцена.
Как вспоминал Толстой впоследствии, не зная точно, где живет Лелевель, он зашел в находившуюся по близости мелочную лавочку, чтобы узнать его адрес. Там «с восторгом и уважением» к польскому изгнаннику указали ему на ту мансарду, где он жил. Лелевель жил тогда одиноким дряхлым стариком в большой бедности. На двери вместо звонка было что-то вроде чернильницы. В маленькой комнатке, которую он занимал, Толстой увидел всюду «книги, пыль, сор».
Толстой привез Лелевелю поклон от Герцена. Лелевель сейчас же разговорился с ним, начал толковать о Польше и ее истории, доказывать, что Смоленск — «исконный польский город»125.
Встреча с Лелевелем произвела на Толстого сильное впечатление. Он приобрел портрет Лелевеля и по приезде в Ясную Поляну повесил его в своем кабинете. На обороте одного из листов первой редакции повести «Поликушка», написанной в Брюсселе, находим упоминание о «бойце за свободу» Лелевеле, «умирающем на чердаке у цырульника».
Это упоминание о Лелевеле, как об умирающем, не было преувеличением: через полтора месяца после посещения его Толстым, 29 мая 1861 года, он умер в одной из парижских городских больниц.
XV
В Брюсселе Толстой не переставал думать о своей школе и о педагогических вопросах.
Здесь он заказал для своей школы чугунные буквы для обучения детей грамоте; буквы эти были изготовлены уже после его отъезда из Брюсселя и пересланы ему в Ясную Поляну. Подобно тому, как он делал это в Германии, Франции и Англии, Толстой отправил приобретенные им книги по педагогике в Петербург в адрес Министерства народного просвещения.
415
Толстой окончательно решил по возвращении в Россию приступить к изданию педагогического журнала. Он составил программу своего будущего журнала, которую имел в виду представить в Петербурге на утверждение Министерства народного просвещения.
Надо думать, что именно в Брюсселе была начата Толстым статья о впечатлениях, полученных им от осмотра заграничных школ. Статья написана в форме письма к другу, но нет никаких оснований считать эту статью действительным письмом к кому-либо из друзей автора, хотя, быть может, по свойственному ему обыкновению, Толстой в работе над этой статьей и представлял себе какого-нибудь воображаемого читателя в лице одного из своих приятелей.
Толстой начинает свою статью следующими выразительными словами:
«Я теперь почти кончаю мое путешествие по школам Европы — часть Германии, Франция, Англия, Италия, Бельгия — уже осмотрены мною, — и мне страшно дать не только тебе и педагогическому миру, — но страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я приведен всем виденным».
Ужасает Толстого «механизация» обучения, которую он наблюдал на Западе.
«Только мы, русские варвары, — иронически замечает Толстой, — не знаем, колеблемся и ищем разрешения вопросов о будущности человека и лучших путях образования, в Европе же это вопросы решенные». В Европе «как сложное вещество, разложили душу человека на память, ум, чувства и т. д. и знают, сколько какого упражнения для какой части нужно». «Все у них предусмотрено, на развитие человеческой природы во все стороны поставлены готовые, неизменные формы». В качестве примера Толстой хочет описать школы хотя бы одного немецкого города — Франкфурта на Майне. В какую бы школу вы ни пришли, говорит он, будет ли это школа католическая, или протестантская, или еврейская, для детей или для взрослых, для мальчиков или для девочек, школа классическая или реальная, — везде вы видите одно и то же: полную механизацию обучения. Эта механизация проявляется в преподавании всех предметов, в обучении чтению и письму, катехизису, истории, географии, математике. Везде вы увидите «скучающие лица детей, насильно-вогнанных в училище, нетерпеливо ожидающих звонка».
Эта статья не была закончена126; мысли, в ней намеченные, Толстой позднее развил в других своих педагогических статьях.
Некоторые другие вопросы, затронутые Толстым в его педагогических
416
статьях, написанных в следующем 1862 году, уже были поставлены им в его заграничной переписке. Так, Чичерин в своих воспоминаниях приводит на память одно место из письма к нему Толстого, написанного из Брюсселя (самое письмо не сохранилось), в котором Толстой сравнивал раскрашенные литографии Гренье, купленные им в Париже, с картинами Рафаэля. По воспоминаниям Чичерина, Толстой писал ему: «Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я ни единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля»127.
Так уже тогда вставал перед Толстым вопрос о «заразительности» произведений искусства, как о критерии для определения их художественных достоинств.
Можно не сомневаться в точности передачи Чичериным общего смысла приводимой им на память цитаты из письма к нему Толстого. Много лет спустя, когда Толстому, со слов Чичерина, напомнили о том, что за границей он собирал раскрашенные картинки (возможно, что тут же, также со слов Чичерина, было приведено и мнение Толстого, что Гренье выше Рафаэля), то Толстой сказал почти то же, что он в 1861 году писал Чичерину: «Эти картинки премилые, жанровые. Это — искусство; а Мадонна Рафаэля не есть искусство»128. Увлеченный своими новыми идеями о назначении искусства как средства воспитания и образования народа, Толстой в тот период готов был отречься даже от Сикстинской Мадонны Рафаэля, которая в свое время, как отметил он в записи дневника от 5 августа 1857 года, «сразу сильно тронула» его.
XVI
В Брюсселе Толстой заказал бельгийскому скульптору Гифсу два бюста своего покойного брата Николая Николаевича — один в мраморе и другой в гипсе. Оба бюста были изготовлены уже по отъезде Толстого из Брюсселя и пересланы ему в Ясную Поляну. Оба бюста до настоящего времени находятся в яснополянском доме.
Живя в Брюсселе, Толстой, как записал он в дневнике 13 апреля, испытал «кроткое чувство семейности». Чувство это внушалось ему частыми посещениями семьи вице-президента Академии наук, князя М. А. Дондукова-Корсакова с его женой, тремя дочерьми и братом с женой. Толстой бывал у Дондуковых-Корсаковых почти каждый день, читал им свои новые произведения,
417
играл с барышнями в четыре руки. Все члены семейства Дондуковых-Корсаковых очень полюбили его.
Под влиянием частых посещений этой семьи, в которой крепко держалось семейное начало, у Толстого вновь пробуждается мечта о семейной жизни.
В Гиере Толстой часто встречал племянницу Дондуковых-Корсаковых, Екатерину Александровну, жившую у своей тетки, княгини Е. А. Голицыной. Теперь, через три с половиной месяца после отъезда из Гиера, у Толстого появляется мысль о женитьбе на этой девушке, о которой, несомненно, часто говорили в семье ее дяди.
В последних числах марта или в самом начале апреля Толстой пишет письмо сестре, остававшейся в Гиере, прося ее разузнать о чувствах к нему этой девушки и высказать свое мнение о ней, как о возможной жене (письмо не сохранилось). Мария Николаевна отвечает брату, что она не думает, чтобы девушка была влюблена в него, но все-таки эта девушка может быть для него хорошей женой и хорошей матерью детям. «Но я именно боюсь в тебе подколесинской закваски, — писала далее Мария Николаевна, хорошо знавшая неудачи прежних попыток Толстого устроить себе семейную жизнь. — Если это устроится, вдруг тебе покажется: «зачем я это все делаю»... И не придет ли тебе в одно прекрасное утро «тихая ненависть» к жене и мысль, что «вот, если бы я не был женат»... Вот что страшно!.. Если ты серьезно решишься сесть на тягло, то лучшей девушки и не надо. Она может тебя сделать счастливым, и ты тоже; но может ли тебя сделать счастливым положение женатого человека — вот главный вопрос», — весьма основательно сомневалась сестра Толстого.
Толстой пишет сестре второе письмо, также не сохранившееся. В ответ на это письмо Мария Николаевна уже горячо советует ему жениться на Екатерине Александровне. Она пишет: «Ради бога, не беги от своего счастья; лучшей девушки по себе не найдешь». Но Мария Николаевна знает свойство своего брата во всем сомневаться и все подвергать безбоязненному анализу; этого-то она и боится. «Если ты начнешь рассуждать, то все пропало», — пишет она и советует брату «не думать и приезжать в Гиер».
Еще не дождавшись ответа на свое второе письмо, Мария Николаевна пишет третье письмо, в котором еще более горячо советует Льву Николаевичу теперь же сделать предложение. «Чем больше я знаю Катерину Александровну, — пишет она, — тем больше вижу, как эта девушка достойна счастия, и как горько, если ты упускаешь свое собственное».
Но последовать совету сестры и не думать в таком важном деле, от которого зависело все течение его дальнейшей жизни,
418
Толстой, разумеется, никак не мог. Напротив, он начал усиленно думать и в результате этих размышлений послал сестре еще письмо (оно также не сохранилось), в котором сообщал об отказе от своих планов.
Мария Николаевна не могла удержаться — рассказала княгине Голицыной о письмах брата. Толстой одновременно с письмом к сестре написал письмо княгине Голицыной (и это письмо не сохранилось, но содержание его известно из ответного письма княгини) о том, что не может считать себя в чем-либо виноватым перед ее племянницей (очевидно, на основании того, что он никогда не подавал девушке ни малейшей надежды)129.
Так кончилась ничем и эта последняя перед женитьбой попытка Толстого устроить себе семейную жизнь.
XVII
В Брюсселе Толстой начал писать повесть «Поликушка»130.
В основу сюжета этой повести положен действительный случай, о котором рассказывала Толстому одна из дочерей Дондукова-Корсакова. Случай этот произошел в окрестностях имения Дондуковых-Корсаковых Глубокое Опочецкого уезда Псковской губернии. Об этом напомнила Толстому другая дочь Дондукова-Корсакова — С. М. Гейден в письме к нему от 13 апреля 1888 года131.
Повесть «Поликушка» была закончена лишь по возвращении Толстого в Россию, в 1862 году.
Вероятно, в Брюсселе, судя по некоторым признакам132, были начаты оставшиеся незаконченными четыре рассказа из крестьянской жизни. Все эти начала очень кратки и в одних случаях дают только общее представление о замысле оставшегося незаконченным художественного произведения, а в других случаях не дают даже и этого.
Небольшой отрывок, начинающийся словами: «Как скотина из улицы разбрелась по дворам»133, рассказывает о молодом плотнике Лизуне (Лизунове), пришедшем по делу к крестьянину Ермилу Антонычу. Не застав хозяина дома, Лизун на обратном пути встречает его сына Герасима, возвращающегося с пашни. По этому поводу Толстой высказывает свою любовь к крестьянскому труду, в частности к пахоте. «Кто сам не пахал,
419
— говорит он, — тот не знает, как тело легко и душа весела, когда от зари до зари, один, борозда за бороздой, подвигался на пашне, и работа спорилась, и дошел до другого края... и вовремя поехал к дому... и по дороге домой со всех сторон попадаются мужики и бабы, и со всеми весело шутится, как знаешь, что дело сделано, на пашню ворочаться уже незачем до Ильина дни».
На встрече Лизуна с Герасимом отрывок обрывается; по написанному началу нельзя составить себе никакого представления о замысле рассказа.
Тот же плотник Лизун выведен и в другом отрывке, начинающемся словами: «Прежде всех вернулись в деревню плотники»134. Здесь рассказывается о столкновении искусного плотника Федора Лизунова с хозяином подрядчиком. Попутно краткими, но яркими чертами характеризуется и подрядчик, эксплуатирующий своих рабочих. Написанное начало рассказа не дает представления о дальнейшем развитии замысла. Отрывок написан народным языком («хозяин... ребят Лизуну приказал», «работа не показалась ему», «дела своего такой мастер, что хозяину указывал», «Я гляну, так знаю, как работу начать», «сметил, что можно понатянуть хозяина», «шесть дён», «рядчик... хотел его словами закидать», «Не для заду, а для переду, придется еще поработаю у тебя», «Что топором, что языком, куды ловок малый» и др.).
В третьем отрывке, начинающемся словами: «Всё говорят: не делись, не делись»135, действующим лицом является также плотник, названный здесь Федором Резуновым. Содержанием рассказа должно было служить описание приведшего к разделу разлада между крестьянином Сергеем Трегубым и Федором Резуновым, его вотчимом. Написанное начало описывает детство Сергея, сватовство Федора Резунова к его матери и женитьбу Резунова. Рассказ ведется от лица старого крестьянина той же деревни, но под конец переходит в краткий конспект. В описании детства Сережки Трегубого чувствуется всегда свойственная Толстому (а в то время особенно) сильная любовь к детям.
Четвертый небольшой отрывок136 по содержанию не имеет ничего общего с тремя предыдущими. Описывается один день сенокоса в жаркую, ведреную погоду; крестьяне убирают и свои, и господские луга. Здесь Толстым впервые намечена тема, развитая в «Анне Карениной»: увлечение работающих самым процессом труда, без соображения о том, кому пойдут плоды этого труда. «Хоть не свое, а хозяйственное дело, как возьмешься за него, так не заснешь покойно, покуда не кончишь, — говорит
420
крестьянин, от лица которого ведется рассказ. — Не ты дело делаешь, а дело тебя за собой тянет».
Далее сказано, что господа приехали на лето в свое имение, и начато описание наступающего вечера в деревне после трудового дня. На этом работа над рассказом остановилась, и у нас нет никаких данных догадываться о содержании этого незавершенного художественного замысла Толстого137.
XVIII
Ко времени пребывания Толстого в Брюсселе относятся две его фотографии, снятые в фотографическом заведении И. Тергозе. На первой Толстой в длинном черном сюртуке стоит у круглого столика, заложив руки за спину; черные борода, волосы и усы, выражение лица спокойное и сосредоточенное. На другой фотографии он сидит в кресле у круглого столика, нога на ногу, облокотившись левой рукою на ручку кресла; костюм тот же; цилиндр лежит на столе138.
8 апреля 1861 года Толстой выехал из Брюсселя в Антверпен и затем в Германию.
На другой день, 9 апреля, Толстой уже из Франкфурта-на-Майне отправил Герцену ответ на его не дошедшее до нас письмо, полученное Толстым в Брюсселе 5—6 апреля. В этом письме Толстой благодарил Герцена за присылку «Колокола» и за «добрый совет» о начатом им романе о декабристе и сообщал, что он «с наслаждением» читал воспоминания Огарева о декабристах, напечатанные в «Полярной звезде». О манифесте 19 февраля и об отношении крестьян к этому манифесту Толстой писал:
«Читали ли вы подробные положения о освобождении? Я нахожу, что это совершенно напрасная болтовня. Из России же я получил с двух сторон письма, в которых говорят, что мужики положительно недовольны. Прежде у них была надежда, что завтра будет отлично, а теперь они верно знают, что два года будет еще скверно, и для них ясно, что потом еще отложат и что всё это «господа» делают».
Одно из двух писем, упоминаемых здесь Толстым, было письмо его брата Сергея Николаевича, который 12 марта 1861 года писал ему из Ясной Поляны: «У нас теперь время интересное. Манифест о воле прочитан, народ еще ничего хорошенько не расчухал, и нельзя ни о чем судить, скорей все недовольны, чем довольны. Но главное, народ еще ничего не понимает, что там написано,
421
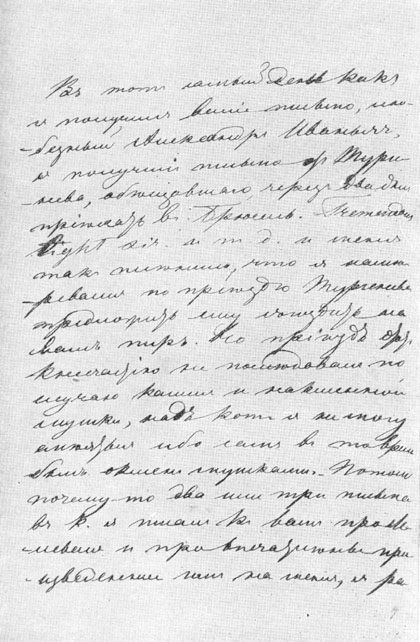
Письмо Л. Н. Толстого к А. И. Герцену от 9 апреля 1861 г.
422
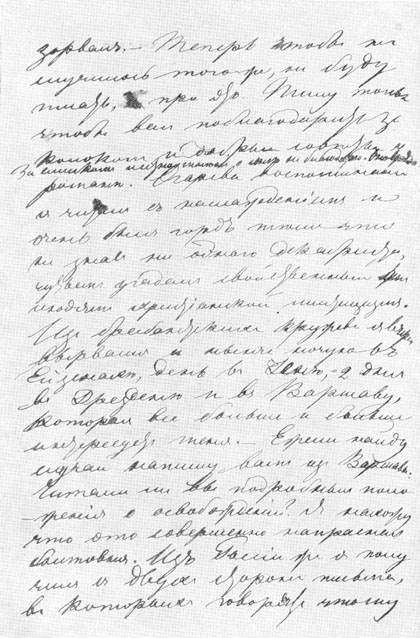
Продолжение письма
423
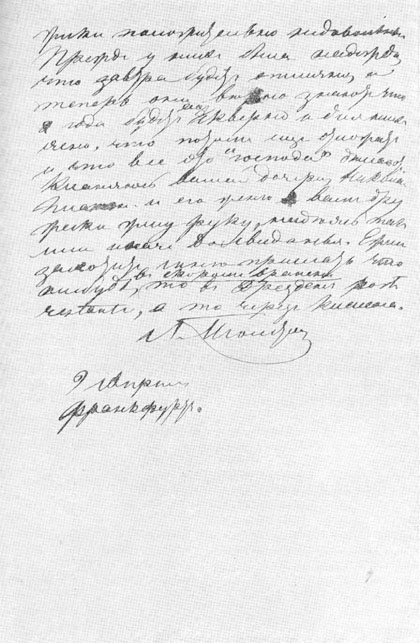
Окончание письма
424
да и кажется очень равнодушным к содержанию его. Я предлагал яснополянским крестьянам, покуда я здесь, объяснить им кое-что, но никто не пожелал этого»139.
Предположение Толстого о том, что крестьяне будут особенно недовольны тем, что по Положению 19 февраля они еще два года должны оставаться «временно обязанными», полностью оправдалось. А. В. Никитенко в день объявления манифеста (5 марта) записывает в дневнике: «В разных местах читали манифест. До слуха беспрестанно долетали слова: «указ о вольности», «свобода». Один, читая объявление и дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны еще оставаться в повиновении у господ, с негодованием воскликнул: «Чорт дери эту бумагу! Два года — как бы не так, стану я повиноваться!». Другие молчали»140.
Как известно, введение в действие положения 19 февраля во многих местах вызвало волнения, для подавления которых в некоторых случаях вызывались войска.
XIX
Из Франкфурта-на-Майне Толстой в тот же день выехал в Эйзенах. Дорогой он пережил давно не испытанное им религиозное настроение, о чем записал в дневнике 13 апреля: «Эйзенах — дорога — мысли о боге и бессмертии. Бог восстановлен — надежда в бессмертие». Здесь словами «бог восстановлен» Толстой обозначил полное прекращение того мрачного настроения, в которое повергла его смерть брата, возвращение к признанию разумности и радостности жизни141.
В Эйзенахе Толстой пробыл два дня и 12 апреля выехал в Веймар. Здесь он пробыл шесть дней, причем один из этих дней употребил на поездку в Иену.
В Веймаре Толстой особенно много времени посвящает осмотру школ и детских садов. В то время Готта и Веймар были главными рассадниками детских садов по системе Фребеля. Посетивши один из детских садов, Толстой записывает в дневнике: «Хорошо для города, но тот же коммунизм» (дневник 13 апреля). Под словом «коммунизм» Толстой разумел здесь общие для всех детей приемы обучения и воспитания, отсутствие индивидуального подхода к каждому ребенку, в чем Толстой видел главный недостаток методов образования и воспитания того времени.
425
Посещение другого детского сада вызвало в Толстом ряд мыслей о приемах обучения маленьких детей. Он записывает в дневнике 17 апреля: «Законы развития ребенка не уловишь. Они учат наизусть, где только не по-ихнему, а ихнее не поймешь». Толстой, следовательно, не отрицает существования законов развития ребенка, но указывает лишь на трудность постижения этих законов.
Далее по поводу искусственных приемов немецких педагогов, имевших целью преждевременное умственное развитие маленьких детей, Толстой замечает: «И приучить к последовательности нельзя тогда, когда всё ново. Последовательность есть сила отрицанья всего не того, чем хочешь быть занят». Позднее, в одной из педагогических статей, Толстой высказался отрицательно о фребелевских детских садах. «Доходят до того, — писал он, — что с четырех-пятилетнего возраста вместо игр устраивают поучительное занятие и беспрестанно заставляют детей наблюдать и соображать» («Kindergärten Fröbel»)142. Толстой, напротив, признавал за народными детскими играми образовательное значение.
В Веймаре Толстой встречался со многими местными педагогами, с которыми вел оживленные беседы по педагогическим вопросам. Судя по дневнику Толстого, главным предметом бесед и споров был вопрос об отношении воспитания к обучению. Толстой высказывал свою излюбленную мысль о том, что «примешивание воспитательного элемента сделало школу деспотичной» (дневник 14 апреля). Но что-то неясно было ему самому в разрешении этого вопроса, и беседы и споры с педагогами вызывали в нем усиленную работу мысли и приводили в тревожное состояние, лишавшее его сна. 14 апреля — «бессонница с вечера»; на другой день — «бессонница и беспокойство до часу»; вечером 16-го — «опять тревога мыслей о воспитаньи».
На этот раз в результате своих тревожных размышлений Толстой пришел к следующему выводу: «Практическое преподавание науки есть первая и последняя ступень — задача школы есть не die Wissenschaft beibringen, a die Achtung und die Idee der Wissenschaft beibringen» («не науку внушать, а внушать уважение и идею науки»)143. Придя к такому выводу, Толстой «заснул спокойно».
Усиленно размышляя над разрешением теоретических вопросов педагогики, Толстой вместе с тем много думает и о своей яснополянской школе. 17 апреля он записывает в дневнике: «Школа определилась: переход от практики жизни к теории.
426
Готовое из жизни привести в систему. Во всех науках и особенно в естественных».
Толстой познакомился в Веймаре с окончившим политехнический институт в Карлсруэ молодым немцем Густавом Келлером, который произвел на него столь благоприятное впечатление, что он пригласил его поехать с собой в Россию и поступить учителем в яснополянскую школу. По заключенному между ними письменному условию, Келлер обязался помогать Толстому «при проведении физических и химических опытов и вообще в его работе в школе», за что Толстой должен был, оплатив путевые расходы, предоставить Келлеру готовый стол и квартиру и выплачивать ежегодно гонорар в сумме 200 рублей.
Каким-то путем (быть может, по письму А. А. Толстой) Лев Николаевич был представлен герцогу Саксен-Веймарскому Карлу Иоганну, сыну великой княгини Марии Павловны. Прием при дворе герцога произвел на Толстого отталкивающее впечатление. «Глупые придворные дамы, — записал он в дневнике 13 апреля, — и красавица немка из народа, которая должна слыть за дуру, но умней их всех».
Герцог был меценат; им были основаны музей Гёте и художественная школа в Веймаре. При содействии герцога Толстой осмотрел дом Гёте, в то время еще не открытый для посетителей.
Как и в других городах, в Веймаре Толстой осматривал начальные школы. Записан рассказ старого учителя Юлия Штётцера, школу которого посетил Толстой144. Как рассказывает этот учитель, однажды к нему в школу во время занятий пришел незнакомый ему господин, который пожелал присутствовать на уроке. Когда учитель показал ему программу занятий, незнакомец сказал: «В этом столь обдуманном плане, как мне кажется, недостает одного: отечествоведения». В ответ на это учитель сказал, что отечествоведению был посвящен предшествующий урок. Незнакомец очень заинтересовался сочинениями учеников я просил разрешения взять их тетради с собой. Учитель возразил, что «родители его учеников люди бедные и будут недовольны тем, что им придется вновь покупать своим детям тетради». Незнакомец сказал: «Ну, этому легко помочь», после чего пошел в соседнюю мелочную лавочку, откуда принес целую кипу листов писчей бумаги, на которой дети переписали свои сочинения и отдали их Толстому. Учитель принял незнакомца за немецкого школьного учителя, так как он превосходно говорил по-немецки, и только позднее узнал, кто был этот оригинальный посетитель его школы145.
427
В Иене, где Толстой провел только один день (15 апреля), он вместе с Келлером отправился в магазин учебных пособий и накупил там физических и математических приборов для своей школы. Здесь Толстой успел все-таки осмотреть несколько школ. Он познакомился с директором частной школы Ценкером, автором книги «О сущности образования, с особыми соображениями о воспитании и обучении», но вынес очень тяжелое впечатление от беседы с этим педагогом. «Ценкер, — записал он в дневнике, — пьяная, грубая скотина, одобряющая палку».
Осмотрел Толстой сельскохозяйственную школу, расположенную в окрестностях Иены, и пришел к заключению, что это «глупейшая школа, доказывающая, до чего доводят учреждения сверху. Теория без практики» (дневник 16 апреля). Но учительская семинария произвела на Толстого «прекрасное впечатление». Благоприятное впечатление произвело на Толстого и частное учебное заведение профессора Карла Стоя, о котором он уже по возвращении в Россию, 7 августа 1862 года, писал С. А. Рачинскому, что это учебное заведение — «самое интересное и, главное, единственное почти живое заведение из всех немецких школ».
В классе или на лекции какого-то немца Толстой увидел написанное на стене изречение: «Дорога̀ не истина, а процесс ее открытия». Это изречение до такой степени пришлось ему по душе, что через сорок с лишним лет он вспомнил его в записи своего дневника от 1 июля 1902 года146.
Накануне отъезда из Веймара Толстой был в театре, где слушал оперу Моцарта «Волшебная флейта», которой дирижировал Лист147 и которая привела его в восхищение. «Восторг, особенно дуэт», — записал он в дневнике об этой опере.
У Толстого осталось очень приятное впечатление от посещения Веймара. 18 апреля он писал князю М. А. Дондукову-Корсакову, что Эйзанах, Веймар — «милейшие городки в мире», в которых «цивилизации нет никакой, хотя школ пропасть, и очень хороших»148. И впоследствии Толстой так рассказывал о своем впечатлении от посещения Веймара: «Хороший городок,
428
тихий. Тогда там не только не было извозчиков, но и публичных женщин и публичных домов»149.
XX
18 апреля Толстой выехал из Веймара в Дрезден.
Здесь он нашел два письма Чичерина, в которых Чичерин свысока читал ему наставления по тем вопросам, по которым Толстой в письмах к нему из Брюсселя высказывал свои задушевные мысли. Эти письма Чичерина возмутили Толстого. Он тут же набросал ему ответ, в котором объявлял о разрыве дружеских отношений.
«Мы играли в дружбу, — писал Толстой Чичерину. — Ее не может быть между двумя людьми, столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примирять презренье к убежденьям человека с привязанностью к нему; а я не могу этого делать. Мы же взаимно презираем склад ума и убежденья друг друга. Тебе кажутся увлечением самолюбия и бедностью мысли те убежденья, которые приобретены не следованием курсу и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды; мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, не удовлетворяющей моей любви к правде; поэтому лучше нам разойтись и каждому идти своей дорогой, уважая друг друга, но не пытаясь войти в те близкие отношения, которые даются только единством догматов веры, то есть тех оснований, которые уж не подлежат мысли. А эти основания у нас совершенно различны».
Поразмыслив, Толстой решил не отправлять этого письма, и оно осталось в его бумагах, но внутренний разрыв совершился. Толстой продолжал изредка встречаться с Чичериным и переписываться с ним, но уже совершенно отказался от того, чтобы «лить в него все накипевшие чувства», как это было раньше150.
Пробывши три дня в Дрездене, Толстой осмотрел несколько школ, которые показались ему «плохи», накупил себе книг по педагогике, встретился с некоторыми русскими знакомыми, из которых про какую-то Панкратьеву записал в дневнике, что женщина эта «достойная виселицы аристократка с французской болтовней» (дневник 19 апреля). Зато от разговора со старым
429
знакомым князем Г. В. Львовым на Толстого «пахнуло Россией-матушкой» (дневник 18 апреля). Он уже устал путешествовать и жаждал возвращения в Россию.
«Я здоров и сгораю от нетерпения вернуться в Россию, — писал он тетушке Ергольской 18 апреля. — Но, попав в Европу и не зная, когда снова попаду сюда, вы понимаете, что я хотел воспользоваться насколько возможно моим путешествием, и кажется, мне это удалось. Я везу с собой столько впечатлений и столько знаний, что мне придется долго работать, чтобы разместить все это в порядке в моей голове» (перевод с французского).
21 апреля Толстой выехал из Дрездена в Берлин.
XXI
В Берлине, где он пробыл два дня, Толстой познакомился с писателем Бертольдом Ауэрбахом и педагогом Адольфом Дистервегом.
Дистервег, директор учительской семинарии, считавшийся одним из лучших немецких педагогов, некоторые сочинения которого были уже в то время переведены на русский язык, произвел на Толстого не вполне благоприятное впечатление. «Умен, — записал Толстой про Дистервега в дневнике 22 апреля, — но холоден и не хочет верить и огорчен, что можно быть либеральнее и идти дальше его». Предметом беседы Толстого с Дистервегом служил между прочим вопрос об определении понятий: «воспитание», «образование», «преподавание». «Я надеялся, — рассказывал Толстой впоследствии Р. Левенфельду о Дистервеге, — встретить в нем человека с большим образованием, свободного от всяких предрассудков и чутко понимающего детскую душу, а вместо того нашел в нем сухого педанта, который учил и воспитывал детей по раз определенным и неизменным правилам... Я тем сильнее был поражен, что слишком много ожидал от него»151.
Рассказы Ауэрбаха из немецкой крестьянской жизни Толстой знал еще до личного знакомства с ним. Он полюбил Ауэрбаха за то, что он в своих рассказах «выставлял лучшие черты народа»152. Из его рассказов Толстой увидел, что «народ везде один и тот же»153.
430
Особенно сильное впечатление произвел на Толстого роман Ауэрбаха «Новая жизнь», вышедший в свет в 1852 году. Содержание этого романа состоит в следующем. Молодой граф Фалькенберг, участник революции 1848 года, сражается в Бадене на баррикадах; его арестовывают и приговаривают к смертной казни. Ему удается спастись бегством. В своих скитаниях по Германии Фалькенберг встречается в глухой деревушке с народным учителем Евгением Бауманом, который много претерпел в жизни и стремится уехать в Америку. Граф дает ему средства для этой поездки, и они обмениваются паспортами. Блестящий граф Фалькенберг под именем Евгения Баумана поселяется в деревушке, становится народным учителем и все силы отдает на служение народу. «В этом тихом уголке земли, — мечтает он, — врасту я корнями всего моего бытия»154. «Наши враги на родине постоянно кричат: «Всякий из так называемых героев свободы хочет непременно быть не меньше, чем президентом или генералом». Хорошо же. Пусть они увидят на моем примере, что мы из любви к родине готовы среди постоянных опасностей действовать в самом тесном кругу. И если они меня из сельской школы поведут на эшафот, это будет урок, который не пропадет даром, который они не отнимут от нас»155.
Евгений участвует в крестьянских работах, и во время работ ему «было так хорошо, он был так полон веселья и бодрости, что желал бы в душе быть работником у крестьян, а не учителем»156. Он старается спокойно переносить все унижения, связанные с должностью народного учителя. «Он чувствовал себя счастливым, что мог совершенно сжиться с жизнью общины»157.
Толстому-педагогу были сочувственны также рассказы о педагогических приемах, употреблявшихся Евгением и другими народными учителями в их школах. В школе у Евгения «веял свежий, живительный дух». Он «овладел сердцами детей», «он знал, что ему предстоит выдержать борьбу, которая поднимется против его естественного, развивающего преподавания, которое вместо того, чтобы навязывать детскому уму недоступные ему истины, ведет к тому, чтобы дети сами постоянно искали истину и открывали ее»158.
Изображенный Ауэрбахом другой народный учитель, Дагер, «с редким искусством успевал, не прибегая к наказаниям, поддерживать в школе дисциплину»159. Тот же учитель в следующих
431
словах наставляет Евгения перед началом его школьных занятий: «Все методы совершенно бесполезны. Ты сам — лучший учитель. Создай сам с помощью детей свою методу, и все пойдет отлично. Всякая абстрактная метода нелепа. Самое лучшее, что может сделать учитель в школе, зависит от него самого, от его собственных способностей»160.
Все эти мысли Ауэрбаха поразительно сходны со взглядами Толстого, которые он развивал в педагогических статьях 1861—1862 годов.
Весь роман Ауэрбаха проникнут чрезвычайной любовью к крестьянству и к его труду, знанием быта и психологии немецкого крестьянина.
Впоследствии (в 1868 году), рекомендуя одному из своих посетителей «Новую жизнь» Ауэрбаха, Толстой прибавил: «Этому писателю я был обязан тем, что открыл школу для моих крестьян»161. В этих словах Толстого нельзя не видеть обычного преувеличения, свойственного ему в тех случаях, когда он говорил о воздействии на него того или другого писателя. Как известно, Толстой в первый раз открыл школу для крестьянских детей в 1849 году, когда еще роман Ауэрбаха не появлялся в печати. Вполне возможно, однако, что мысль об открытии в Ясной Поляне школы «для всего околотка», о чем Толстой записал в дневнике 23 июля 1857 года, пришла ему в голову по прочтении романа Ауэрбаха, хотя осуществление этой мысли последовало больше чем через два года после приведенной дневниковой записи.
В Берлине Толстой явился к Ауэрбаху со словами: «Я Евгений Бауман». Заметив смущение на лице писателя, Толстой поспешил пояснить: «Не по имени, а по характеру».
Между Толстым и Ауэрбахом завязался разговор на самые разнообразные темы. Когда заговорили о музыке, Ауэрбах высказал мнение, что музыка есть «pflichtloser Genuss» («ни к чему не обязывающее наслаждение») и может иметь даже развращающее действие. Это оригинальное мнение Ауэрбаха Толстой записал в своем дневнике.
Общее впечатление, которое произвел на него Ауэрбах, Толстой выразил в дневнике словами: «Ауэрбах [следует 15 восклицательных знаков]. Прелестнейший человек... Ему 49 лет, он прям, молод, верущ. Не поэт отрицания».
В свою очередь и Толстой произвел на Ауэрбаха очень благоприятное впечатление. В письме к В. Вольфзону от 25 апреля 1861 года Ауэрбах писал: «Два дня здесь провел
432
граф Толстой. Я был душевно рад познакомиться с идейно возвышенной натурой этого человека»162.
Больше чем через 20 лет после встречи с Ауэрбахом Толстой вспомнил о нем в своей речи о необходимости создания народной литературы, произнесенной им перед деятелями народного просвещения в феврале 1884 года. «Ауэрбах, — говорил тогда Толстой, — помню, сказал очень хорошо: для народа — самое лучшее, что только есть, — только оно одно годится»163.
10 (22) апреля 1861 года Толстой выехал из Берлина в Россию.
433
Глава девятая
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1861—1862 ГОДАХ
I
12 (24) апреля 1861 года Толстой переехал границу. Он направился в Петербург, куда прибыл на другой день, 13 апреля.
В первый же вечер по приезде в Петербург Толстой навестил тяжело больного Дружинина. Он увидел, что Дружинин понимает свое положение (он умер от туберкулеза в 1864 году). Из разговоров с Дружининым Толстой вынес впечатление, что «смерть ему представляется, как возможность заснуть с скучного вечера» (дневник 13 апреля).
На другой день Толстой увиделся со своими тетками Толстыми. У них ему было «хорошо» и в то же время в общении с ними что-то казалось ему «немного фальшиво». Это ощущение некоторой фальши проистекало из коренного различия между миросозерцанием Толстого и миросозерцанием его теток, по-своему очень любивших его, но в то же время по своему положению придворных фрейлин чуждых самым основам его взглядов на жизнь и живших не только «в гадком Петербурге», но «в еще более гадком дворце» (письмо к А. А. Толстой от 14 мая 1861 года).
Виделся Толстой также с Некрасовым, которому предлагал напечатать в «Современнике» в переводе новые повести Ауэрбаха прежде появления их в немецком оригинале. Повидимому, свидание с Некрасовым носило вполне дружелюбный характер, что видно из того, что в своих двух письмах к Толстому от 30 мая и 3 июня, отказываясь от повестей Ауэрбаха, Некрасов в то же время вновь просил Толстого о сотрудничестве в его журнале.
16 апреля Толстой посетил петербургские воскресные школы, которыми остался недоволен, а 21 апреля подал министру народного просвещения просьбу о разрешении ему с 1 июля издавать педагогический журнал «Ясная Поляна». При прошении была приложена программа предполагаемого журнала1.
434
В программе «Ясной Поляны» было сказано, что журнал будет выходить ежемесячно двумя отдельными выпусками. Первый выпуск будет состоять из педагогических статей, а второй выпуск, под названием «Книжки», будет содержать материал для детского и народного чтения. Тут же Толстой излагал основы своих педагогических воззрений.
«Для того, чтобы сделаться наукой, — писал Толстой, — и плодотворной наукой, педагогике, по нашему убеждению, нужно перестать основываться на абстрактных теориях, а принять за основание путь опыта и выводить свои положения от частных к общим, а не наоборот. Поэтому-то журнал наш, чтобы не впасть в отрешенность от жизни и от потребностей народа и в неприложимые отвлеченные педагогические теории, должен постоянно руководиться живою действительностью, не терять из виду тех, с кем он имеет дело». Поэтому, как объявлял далее Толстой, он будет в своем журнале помещать педагогические статьи русские и переводные «только такие, которые будут вносить в науку новые факты, взятые из опыта, а не новые воззрения, взятые из отвлеченного мышления».
Что же касается книжек для народа, то книжки эти, как писал Толстой, будут содержать статьи «оригинальные, переделанные и переводные по всем частям литературы, ученой и изящной, начиная от пословицы и сказки, до популярной химии и механики». Но здесь Толстым предъявляются особые требования: он будет печатать только такие статьи, которые «без учителя и толкователя в состоянии будут понимать и читать с интересом человек или ребенок, стоящий на первой ступени образования».
В числе сотрудников будущего журнала Толстой называл нескольких учителей тульской гимназии, сочувствовавших его начинанию. При этом Толстой был так уверен в обилии материала для своего журнала, что объем журнала в обоих выпусках намечал от 15 до 20 листов ежемесячно.
После подачи прошения министру о разрешении журнала Толстому было нечего делать в Петербурге, и 22 апреля он выехал в Москву. Перед отъездом он еще раз увиделся с Толстыми и теперь уже определенно почувствовал «фальшь большую» в отношениях с ними.
23 апреля Толстой приехал в Москву. Здесь он пробыл, вероятно, дня четыре, виделся с редактором «Русского вестника» Катковым, чтобы уговориться о печатании объявлений о своем будущем журнале. Вероятно, отвечая на вопрос Каткова, Толстой сказал, что у него уже «подходит к концу» новая повесть (он имел в виду, вероятно, повесть «Поликушка»), которую он может предоставить «Русскому вестнику». Свое впечатление от этого свидания с Катковым Толстой в дневнике 25 апреля
435
выразил словами: «Катков настолько ограничен, что как раз годится для публики».
Виделся Толстой также с Е. Ф. Тютчевой, после чего записал в дневнике: «Катерина Федоровна мила, но горда и беспокойна». Вновь он спрашивал себя, может ли эта девушка быть для него подходящей женой. Теперь, когда он так близко подошел к народу, он яснее, чем прежде, увидел, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательный. Вспоминая уже по приезде в Ясную Поляну свое пребывание в Москве, Лев Николаевич 14 мая писал тетушке Толстой: «Прекрасная девушка К. — слишком оранжерейное растение, слишком воспитана на «безобязательном наслаждении», чтобы не только разделять, но и сочувствовать моим трудам. Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь с землей, с навозом. Ей это грубо и чуждо, как для меня чужды и ничтожны стали моральные конфетки».
Но там же, в Москве, у Толстого явилась новая смутная надежда. Он побывал у Берсов, и его внимание привлекла старшая, в то время семнадцатилетняя дочь Берсов — Лиза. По возвращении в Ясную Поляну, Толстой записал в дневнике: «Забыл [записать] день у Берсов приятный, но на Лизе не смею жениться».
II
По приезде в Ясную Поляну Толстой сразу был захвачен множеством дел, требовавших его личного участия. Кроме хозяйственных забот, ему нужно было заняться делами школы, которую «надо было с самого начала поставить на новую, лучшую ногу» (письмо к А. А. Толстой от 14 мая). Еще находясь под влиянием своих заграничных впечатлений, Толстой решил объяснить своим ученикам, «чем Россия отличается от других земель, ее границы, характеристику государственного устройства». Свою беседу с учениками на эту тему Толстой записал и впоследствии включил в одну из своих педагогических статей2.
Почему-то Толстой оказался вынужденным подать прошение о разрешении ему открыть у себя в имении школу (раньше он занимался без всякого разрешения), что он и сделал 12 мая, после чего записал в дневнике: «Я — приходский учитель».
Кроме того, Толстому пришлось заняться новым устройством быта своих крестьян. Он начал с того, что созвал сходку и прочел крестьянам Положение 19 февраля, объяснив им их права по этому положению. Толстой оставил во владении своих бывших крепостных всю ту землю, которой они владели раньше,
436
и дал им высший надел, который допускался в данной местности — 3 десятины (3,3 гектара) на душу, при минимальном наделе, допускавшемся в данной местности, в одну десятину. При этом Толстой не прибегал к переселению крестьян, как это делали другие помещики, переселяя крестьян на свои худшие земли и забирая себе их лучшие3.
Таким образом, вся земля яснополянских крестьян была выделена отдельным куском, без какой-либо чересполосицы с помещичьей землей. Толстой остался владельцем 628,6 десятин, или 685,2 гектаров, земли в Ясной Поляне и 48,15 десятин, или 52,5 гектаров, в деревне Грецовке.4
К занятиям школой, устройством быта крестьян, освобожденных от крепостной зависимости, и собственным хозяйством прибавилось теперь у Толстого еще новое дело, потребовавшее от него больших трудов и большого нравственного напряжения: служба в должности мирового посредника.
Должность мировых посредников была учреждена при отмене крепостного права для разбора спорных дел между помещиками и крестьянами. Мировые посредники назначались губернаторами по предложениям уездных и губернских предводителей дворянства. Назначение Толстого на должность мирового посредника 4-го участка Крапивенского уезда, уведомление о котором он получил еще за границей, произошло не совсем обычным путем.
Крапивенский уездный предводитель дворянства Щелин предложил на эту должность выбранного дворянами местного помещика-крепостника Михаловского, но либеральный тульский губернатор П. М. Дараган не утвердил Михаловского, а собственной властью назначил на эту должность Толстого.
На назначение Толстого мировым посредником тульский губернский предводитель дворянства Минин 18 мая подал жалобу министру внутренних дел, в которой, основываясь на заявлении уездного предводителя, уведомлял министра, что, «зная несочувствие к нему [Толстому] крапивенского дворянства за распоряжения его в своем собственном хозяйстве, господин предводитель опасается, чтобы при вступлении графа в эту должность не встретились какие-либо неприятные столкновения, могущие повредить мирному устройству столь важного дела».
«Распоряжения» Толстого в его собственном хозяйстве, вызвавшие неудовольствие местного дворянства, это, конечно, начатый им еще в 1856 году перевод крепостных с барщины на
437
оброк, замена крепостного труда вольнонаемным, выдача отпускных многим дворовым, наконец, в 1858 году попытка устроить хозяйство на артельных началах.
Получив жалобу тульского предводителя, министр внутренних дел Валуев послал запрос тульскому губернатору относительно назначения Толстого на должность мирового посредника. Тульский губернатор 6 июня ответил министру, что он действительно назначил мировым посредником «отставного поручика графа Льва Николаевича Толстого, вопреки мнению как губернского, так и уездного предводителей дворянства, которые отстраняли его под предлогом несочувствия к нему местных дворян». Это назначение губернатор оправдывал следующими соображениями: «Зная лично графа Толстого, как человека образованного и горячо сочувствующего настоящему делу, и приняв в соображение изъявленное мне некоторыми помещиками Крапивенского уезда желание иметь графа Толстого посредником, я не мог заменить его другим, мне неизвестным лицом. Тем более, что граф Толстой был указан мне и предместником вашего высокопревосходительства5 в числе некоторых других лиц, пользующихся лучшею известностью»6.
Толстой принял предложение занять должность мирового посредника. «Я не посмел отказаться перед своей совестью, — писал он А. А. Толстой 7 августа 1862 года, — и в виду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники». Еще раньше, 14 мая 1861 года, он писал ей же: «Так что теперь я, после годовой свободы, не без удовольствия чувствую на себе: 1) хозяйственный, 2) школьный, 3) журнальный и 4) посреднический хомуты, которые, не знаю, хорошо или дурно, но усердно и упорно я намерен тянуть, насколько хватит жизни и силы».
В самый разгар кипучей работы Толстого по школе и подготовке к посреднической деятельности случилось происшествие, на некоторое время лишившее его спокойствия и выбившее из трудовой колеи. Этим происшествием была крупная ссора с Тургеневым.
III
19 мая 1861 года Тургенев, вернувшись из-за границы, писал Толстому из Спасского (письмо это неизвестно), что он приглашает его приехать к нему, чтобы затем вместе отправиться к Фету в недавно приобретенное им имение Степановку, в котором
438
еще не были ни Толстой, ни Тургенев. Толстой согласился и 24 мая приехал в Спасское.
Об этом пребывании Толстого у Тургенева известно, со слов Толстого, только то, что Тургенев дал ему прочесть в рукописи свой только что законченный роман «Отцы и дети». Толстой взял рукопись и, улегшись на диване, начал ее читать, но новый роман Тургенева его не заинтересовал, и он вскоре заснул после долгой дороги.
«Проснулся я, — рассказывал впоследствии Толстой, — от какого-то странного ощущения и когда открыл глаза, то заметил удаляющуюся спину Тургенева»7.
Вполне вероятно, что это равнодушие Толстого к его новому роману уже настроило Тургенева недружелюбно по отношению к Толстому. (Толстой и впоследствии, прочитав роман Тургенева уже в печати, остался при том мнении, что роман «холоден», что в нем «нет ни одной страницы, которая бы была написана одним почерком с замираньем сердца, и потому нет ни одной страницы, которая бы брала за душу»8.)
24 мая Тургенев пишет Фету: «Любезный Афанасий Афанасьевич! Мы с Толстым едем к вам: ждите нас! Ваш Ив. Тургенев»9.
Ссора произошла 27 мая. Фет следующим образом передает подробности этого столкновения.
«Утром, в наше обыкновенное время, т. е. в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я, в ожидании кофея, поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую.
Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей.
— Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.
— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.
— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.
— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на
439
коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену10.
— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.
— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.
Не успел я крикнуть Тургеневу: «перестаньте!», как бледный от злобы, он сказал:
— Так я вас заставлю молчать оскорблением».
Так передает Фет. В действительности же, как это сказано в письме Толстого к Тургеневу от 8 октября 1861 года и в записи С. А. Толстой от 23 января 1877 года, Тургенев произнес по адресу Толстого другие слова. Он сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу».
«С этими словами, — рассказывает далее Фет, — он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей:
— Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь»11.
Тургенев извинился и перед Толстым (о чем Фет не упоминает).
После этого и Толстой и Тургенев сейчас же уехали — Тургенев к себе в Спасское (около 70 верст от Степановки), а Толстой в Новоселки к зятю Фета И. П. Борисову (около 55 верст от Степановки). Из Новоселок Толстой отправил Тургеневу следующее письмо:
«Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы неправы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели же вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Богуслове». (Богослово — почтовая станция в 8 верстах от Спасского и в 9 верстах от имения Толстого Никольское, доставшегося ему от его покойного брата Николая Николаевича).
Тургенев, отвечая Толстому сейчас же по получении его письма, писал:
«Милостивый Государь, Лев Николаевич!
В ответ на Ваше письмо я могу повторить только то, что я сам почел своей обязанностью объявить Вам у Фета: увлеченный
440
чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны и попросил у Вас извинения. — Это же самое я готов повторить теперь письменно — и вторично прошу у Вас извинения. — Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтоб оно Вас удовлетворило и заранее объявляю свое согласие на всякое употребление, которое Вам заблагорассудится сделать из него.
С совершенным уважением, имею честь остаться, Милостивый Государь! Ваш покорнейший слуга
Ив. Тургенев»12.
Но с этим письмом Тургенева произошло недоразумение: по ошибке оно было послано не на станцию Богослово, где Толстой дожидался ответа на свое письмо, а в Новоселки к Борисову, где Толстого уже не было. Борисов сейчас же привез письмо обратно Тургеневу, а Тургенев отправил его в Богослово.
Не зная этого и долго не получая ответа на свое письмо, Толстой через некоторое время отправил к Тургеневу нарочного за ответом. Тургенев ответил следующим письмом:
«Ваш человек говорит, что Вы желаете получить ответ на Ваше письмо, — но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал.
Разве то, что я признаю совершенно за Вами право потребовать от меня удовлетворение вооруженною рукой: Вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением — это было в Вашей воле. — Скажу без фразы, что охотно бы выдержал Ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. — Это не извинение, я хочу сказать — не оправдание, а объяснение. — И потому, расставаясь с Вами навсегда, — подобные происшествия неизгладимы и невозвратимы, — считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были Вы, а виноват я. Прибавлю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за Вами как права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня
441
извинить. Вы избрали, что Вам было угодно, и мне остается покориться Вашему решению.
Снова прошу Вас принять уверение в моем совершенном уважении.
Ив. Тургенев»13.
Все еще не получая от Тургенева ответа, Толстой послал ему второе письмо. Письмо это до нас не дошло и, вероятно, не сохранилось, но в своем письме к Фету от 28 мая 1861 года Толстой характеризует его, как «довольно жесткое». С. А. Толстая в своей записи от 23 января 1877 года говорит, что в этом письме Толстой писал Тургеневу, что «не желает стреляться пошлым образом, то-есть что два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослово к опушке леса с ружьями»14.
Отослав Тургеневу это письмо, Толстой послал за ружьями в Никольское, находившееся в девяти верстах от Богослова.
Всю ночь Толстой не спал и дожидался ответа Тургенева.
К утру пришел ответ Тургенева на первое письмо к нему Толстого; затем было получено и второе письмо Тургенева. Ответ Толстого на письма Тургенева до нас не дошел; вероятно, он был уничтожен Тургеневым. Как писал Толстой Фету 28 мая, он написал Тургеневу, что он его «презирает» и что причины, по которым он его извиняет, «не противоположности натур, а такие, которые он сам может понять». По записи С. А. Толстой, Лев Николаевич писал Тургеневу: «Вы меня боитесь, а я вас презираю и никакого дела с вами иметь не хочу»15.
Тургенев не ответил ни на это письмо Толстого, ни на предыдущие его письма с вызовом.
Этим письмом Толстой считал свои отношения с Тургеневым поконченными16.
442
Фету очень хотелось примирить противников, с каждым из которых он был близок. С этой целью он поехал сначала к Тургеневу в Спасское, но успеха не имел. Об этом посещении Тургенева Фет в последнем своем письме к нему перед разрывом отношений, написанном в ноябре 1874 года, вспоминает в следующих выражениях: «Вы не задумались над брошенной в лицо Толстого незаслуженной дерзостью и когда я в Спасском заикнулся просить Вас о человеческом окончании этого дела, Вы зажали мне рот детски-капризным криком, которого я все по той же симпатии17 наслушался от Вас вдоволь»18.
У Толстого Фет также потерпел неудачу, но из его лисьма к Толстому от 5 июня 1861 года, где он упоминает о своей миссии, неясен ответ Толстого на его попытку примирения.
Тургенев 5 июня 1861 года счел нужным написать Фету письмо с изложением своего отношения к событиям, последовавшим после его отъезда из Степановки. Тургенев писал, что Толстой был недоволен «формализмом» его извинений, но что он, «желая прежде всего быть искренним, не мог извиниться иначе»; что он мог бы вызвать Толстого на дуэль за то, что Толстой оскорбил его в своем письме, но что это было бы «и смешно и странно», «при том же, — прибавлял Тургенев, — я чувствую, что в его раздражении есть сторона законная». Поэтому Тургенев решает: «предать это дело забвению и предоставить графу Толстому судить обо мне, как ему угодно»19.
443

А. А. Фет.
С фотографии.
444
Это письмо Тургенева, в котором он признавал себя правым: в столкновении с Толстым и ни слова не упоминал о том, что Толстой послал ему вызов, Фет имел неосторожность послать Толстому. Само собой разумеется, что это письмо Тургенева не только не могло примирить с ним Толстого, но настроило его недружелюбно и против Фета, переписка с которым Толстого временно прекратилась.
25 июня, вновь, после месячного перерыва, продолжая писать дневник, Толстой начинает запись упоминанием о ссоре с Тургеневым. Он пишет: «Замечательная ссора с Тургеневым; окончательная — он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его».
Беспощадный приговор, произнесенный здесь Тургеневу, не нуждается в опровержении, а только в объяснении.
Толстой был раздражен и неожиданно грубым и злобным выкриком Тургенева в ответ на его спокойное замечание о не нравившихся ему методах воспитания Тургеневым своей дочери (наверное, ему никогда в жизни не приходилось слышать по своему адресу ничего подобного); и тем, что Тургенев в письмах к нему, формально принося извинения, все-таки хотел дать понять, что в действительности он не был виноват в происшедшем столкновении, а виноваты были только «противоположности натур его и Толстого»; и тем, что Тургенев ничего не ответил на его письмо с вызовом; и тем, что в письме к Фету Тургенев не только не сказал о сделанном ему Толстым вызове, но даже пытался объяснить, почему он не послал Толстому вызова.
Таковы были частные причины раздражения Толстого; но были также причины и общего характера.
Говоря о «противоположности натур» своей и Толстого, Тургенев, несомненно, был прав. В письме от 7 июня 1861 года он писал Анненкову:
«Я окончательно рассорился с Л. Н. Толстым (дело, entre nous, на волоске висело от дуэли... и теперь еще этот волосок не порвался). Виноват был я, но взрыв был, говоря ученым языком, обусловлен нашей давнишней неприязнью и антипатией наших обеих натур. Я чувствовал, что он меня ненавидел, и не понимал, почему он нет-нет и возвратится ко мне. Я должен был попрежнему держаться в отдалении, попробовал сойтись — и чуть было не сошелся с ним на барьере. И я его не любил никогда — к чему же было давным давно не понять всё это?»20.
Само письмо это служит ярким примером «противоположности натур» Тургенева и Толстого. Тургенев, вероятно, был до известной степени прав в своем заявлении, что он никогда
445
не любил Толстого21; но утверждение Тургенева, что Толстой его не только никогда не любил, но даже всегда ненавидел, безусловно, неверно. Прав был Боткин, державшийся на этот счет совершенно противоположного мнения. В своем письме к Фету от 9 июля 1861 года Боткин писал: «Сцена, бывшая у него [Тургенева] с Толстым, произвела на меня тяжелое впечатление. Но, знаешь ли, я думаю, что в сущности у Толстого страстно любящая душа, и он хотел бы любить Тургенева со всею горячностью, но к несчастию, его порывчатое чувство встречает одно кроткое, добродушное равнодушие. С этим он никак не может помириться»22.
Конкретный повод к ссоре между Толстым и Тургеневым — спор о методах воспитания дочери Тургенева и о благотворительной деятельности — кажется сначала слишком незначительным для того, чтобы привести к полному разрыву. Но горячность, проявленная Толстым в этом споре, имеет свое объяснение. В словах Тургенева он увидел ту склонность к либеральной «фразе», которую он и ранее замечал в нем. «Разряженная девушка», держащая на коленях «грязные лохмотья» бедняков, — вся фальшь и неискренность этой сцены были ему особенно очевидны и неприятны тогда, когда он находился в близком общении с народом, в жизни которого не было никакой фальши и неискренности.
IV
Уже 25 июня 1861 года, то есть меньше чем через месяц после своего назначения на должность мирового посредника, Толстой записывает в дневнике: «Посредничество дало мало матерьялов, а поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье, кажется, тоже окончательно».
Крапивенское «ужасное, грубое и жестокое» дворянство состояло в большинстве из ярых крепостников. Они жалели о прошлом, были недовольны отменой крепостного права и говорили: «Ограбил нас государь»23. Яркую характеристику одного из крапивенских помещиков, с которым Толстому приходилось иметь дело, находим в относящихся к 1862 году воспоминаниях управляющего имением генерала Костомарова Харино, расположенным
446
в 20 верстах от Ясной Поляны. Автор этих воспоминаний, скрывшийся под инициалами Л. Т., следующими словами характеризует своего патрона (перевод с немецкого): «Выросший в понятиях доброго старого времени, что крепостное право священно и божественно, он глубоко возмущался новыми порядками и вел против чиновников, которые должны были исполнять предписания правительства, открытую, хотя и вполне безвредную войну, которая при его мелочных придирках часто бывала просто смешна. Крайне скупой и недоверчивый по отношению к своим людям, он ввел строгий надзор по централизованной системе, что, конечно, не мешало его подчиненным основательно его обманывать. Для всего были заведены книги: не только для прихода и расхода, для поголовья скота, для инвентаря, для запасов хлеба и фуража, — нет: каждое дерево, каждый куст его огромного фруктового сада были занесены в «садовую книгу» и имели в ней свой номер и характерное описание. Когда приближалась осень, он не скучал подсчитывать и тщательно записывать число плодов с благородных деревьев. Горе садовнику, если недостанет одного яблока и не найдется оно под деревом, когда можно будет признать виноватым ветер. Крестьян считал он низшей породой людей, самой природой предназначенной к тому, чтобы работать на дворян. Кто говорил ему о необходимости образования для крестьян путем устройства школ, того он считал нигилистом, которого нужно как можно скорее обезвредить»24.
Крапивенские крепостники надеялись, что мировые посредники, пользуясь темнотой и бесправием крестьян, воспитанных в условиях крепостного права, во всех спорных случаях будут решать дела в пользу помещиков, хотя бы и с нарушением статей закона. Но Толстой не оправдал надежд крапивенских крепостников. Во всех спорных случаях Толстой в пределах своей власти защищал интересы крестьян против несправедливых притязаний помещиков. Он предписывал помещикам отпускать незаконно удерживаемых ими у себя в услужении бывших дворовых, требовал возмещения за побои, нанесенные крестьянам помещиками или управляющими, и т. д.25
447
Очень характерен для Толстого его образ действий в деле помещика Михаловского с его крестьянами. Михаловский послал несколько человек своих временно обязанных крестьян пахать его землю под пар. Крестьяне, отправившись на эту работу, пустили своих лошадей пастись на барские заливные луга, говоря, что «работа господская, так и корм господский». Так продолжалось несколько дней. Помещик подал Толстому на крестьян жалобу, в которой требовал с них за потраву четырех десятин лугов по 20 рублей серебром за десятину. Явившись на место происшествия, Толстой пытался уговорить управляющего имением простить крестьянам эту потраву. Управляющий не согласился, и Толстой уехал, не объявив по этому делу никакого решения. После новой жалобы Михаловского Толстой вторично выехал в его имение и, как это следовало по закону, пригласил трех «добросовестных» из соседнего села для определения размеров и стоимости потравы. «Добросовестные» нашли, что лугов потравлено три десятины на сумму по 10 рублей в каждой, всего на 30 рублей. Толстой и эту цифру нашел преувеличенной и предложил «добросовестным» ценить потраву по 5 рублей за десятину. Таким образом, помещик вместо 80 рублей, которые он требовал с крестьян, должен был получить только 15 рублей.
Образ действий Толстого до того восстановил против него крапивенских помещиков, что они не стеснялись и лично и письменно, обращаясь к нему по делам, проявлять враждебное отношение. Так тому же Михаловскому, обращавшемуся к нему по разным делам, Толстой вынужден был написать в официальной бумаге: «Все лица, имеющие дело с мировым посредником, обязаны ему уважением, а потому не должны ни говорить в его-присутствии неприличных вещей, ни, еще менее, по делам писать ему неприличные письма. В противном случае виновные подвергаются штрафу»26.
Многие помещики подавали на Толстого жалобы в мировой съезд Крапивенского уезда. В этих жалобах помещики писали, что Толстой своими действиями «поселяет в крестьянах уверенность в поощрении всяких отступлений с их стороны от требований закона», «мерами своими производит волнения» между крестьянами, «не признает никакой законности и ведет себя до того произвольно, что помещикам невозможно иметь никаких сношений по мировым учреждениям». Михаловский в своей жалобе сетовал на то, что Толстой «разрушил патриархальные отношения», существовавшие между ним и его крестьянами.
448
Почти все помещики, жаловавшиеся на Толстого мировому съезду, просили перевести их имения в другой мировой участок, где посредником был такой крепостник, который в спорных делах всегда принимал сторону помещиков.
Не только крапивенские дворяне, но и наиболее влиятельные из тульских дворян в эпоху крестьянской реформы принадлежали к числу заядлых крепостников. Тульским губернским предводителем дворянства в 1859—1861 годах был В. П. Минин, который при всех столкновениях крестьян с помещиками всегда повторял: «Помещик — владыка своей земли; что́ хочет, то и дает». На возражение о Положении 19 февраля с надписью «Быть по сему» он говорил: «Выть по сему нам, несчастным».
Минина в 1862 году сменил такой же крепостник граф В. А. Бобринский, который «с 1858 года всюду говорил, что нас ограбили. На одном обеде он хотел предложить тост за ограбленных, то-есть дворян, но ему в ответ хотели выпить за здоровье его крестьян, так что тост не состоялся»27.
Мировой съезд во всех без исключения случаях отменял постановления Толстого и выносил по всем спорным делам свои решения в пользу помещиков, хотя бы и с явным нарушением закона. При этом мировой съезд так же, как и помещики, не считал нужным в сношениях с Толстым скрывать свое враждебное к нему отношение. В ответ на одну бумагу, полученную им от мирового съезда и до нас не дошедшую, Толстой вынужден был 15 августа 1861 года написать в Крапивенский уездный мировой съезд следующее заявление:
«Отношение мирового съезда за № 52-м от 5-го августа писано столь непонятным и неприличным образом, что я на оное не нахожу нужным отвечать и покорно прошу господина крапивенского предводителя дворянства отнестись ко мне о деле г-жи Заслониной, ежели он найдет в том надобность, другим, более приличным образом.
Мировой посредник граф Л. Толстой».
Вышестоящая инстанция, Тульское губернское по крестьянским делам присутствие, председателем которого был тульский губернатор, по большей части принимала сторону Толстого и отменяла решения крапивенского уездного мирового съезда.
Несмотря на ненависть к нему крапивенского дворянства, Толстой не ослабевал в своей борьбе. «Посредничество, — писал он тетушке Александре Андреевне в августе 1861 года, — интересно и увлекательно, но нехорошо то, что всё дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне des bâtons dans les roues [палки в колеса] со всех сторон». Любопытно, что
449
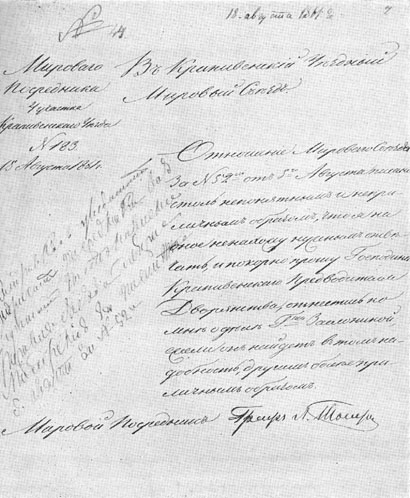
Отношение Л. Н. Толстого в Крапивенский уездный мировой съезд от 15 августа 1861 г.
450
А. А. Толстая, из личных бесед знавшая близость Толстого к народу, так ответила ему на это в письме от 22 августа: «Нет ли тут и вашей вины?.. Скажите, ошибаюсь ли я, обвиняя вас в том, что вы принимаете воинственную позу относительно равных вам, между тем как перед другими [А. А. Толстая имела в виду, несомненно, крестьян] вы готовы стоять чуть ли не на коленях?» А. А. Толстая советовала своему другу проявлять «любовь к ближнему без различия сословий»28.
В августе 1861 года восемнадцать дворян Крапивенского уезда подали крапивенскому уездному предводителю Щелину коллективную жалобу на Толстого, в которой писали:
«К крайнему нашему сожалению, мы должны объяснить вам стеснительное наше положение, в которое мы поставлены неправильными и самовольными действиями Мирового Посредника Крапивенского уезда 4-го мирового участка графа Льва Николаевича Толстого.
Возникшие между помещиками и крестьянами жалобы, недоразумения и споры граф Толстой позволил себе разрешать и оканчивать вопреки Положения о крестьянах, основываясь на показании одной стороны, не требуя от другой никаких объяснений, забыл главную обязанность Мирового Посредника действовать по возможности примирительно и ограждать права и пользы обеих сторон и вместе с тем постоянно избегать всего того, что могло бы возбудить споры и несогласия между помещиками и крестьянами. Граф Толстой, напротив того, изыскивает случай возбуждать недоразумения между помещиками и крестьянами, начинает дела и приступает к разбирательству их без всяких просьб истцов. Все действия и распоряжения графа Толстого по должности мирового посредника для нас невыносимы и оскорбительны, и Вам, милостивый государь, известно уже это из поданных некоторыми из нас жалоб Крапивенскому уездному мировому съезду.
В будущности мы предвидим одни споры и тяжбы с крестьянами и огромные потери нашего достояния. Судя же по возбужденному в крестьянах враждебному расположению против помещиков, которого, как Вам известно, нет в других мировых участках, можно ожидать самых прискорбных и печальных последствий. Составление и подачу уставных грамот мы совершенно не надеемся при посредничестве графа Толстого окончить мирным соглашением в срок по недоверию нашему к нему. Почему покорнейше просим Вас, Милостивый Государь, как представителя дворян Крапивенского уезда, ходатайствовать перед правительством поручить вместо графа Толстого наши дела с крестьянами другому мировому посреднику»29.
451
Щелин по каким-то соображениям пока воздержался от представления жалобы крапивенских дворян тульскому губернатору.
V
Толстой еще в июне получил уведомление о разрешении ему издавать педагогический журнал «Ясная Поляна». 25 июня он написал программу будущего журнала для объявления в газетах. В августе 1861 года в разных газетах и журналах появились объявления «Об издании нового журнала», где было сказано, что журнал начнет выходить с 1 октября 1861 года.
По делам издания журнала, а также с целью приискать учителей для открываемых им в окрестностях Ясной Поляны школ, Толстой в сентябре 1861 года на несколько дней приехал в Москву. Это кратковременное пребывание в Москве отмечено в дневнике Толстого двумя значительными записями.
Во-первых, он побывал у Берсов и опять подумывал о старшей дочери, как о возможной жене. Но, еще находясь в Москве, он отгоняет от себя эти мысли, записывая в дневнике: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет».
Во-вторых, 23 сентября Толстой, как он и предвидел раньше, написал примирительное письмо Тургеневу. Письмо это до нас не дошло, но содержание его известно из записи С. А. Толстой, сделанной 23 января 1877 года. В этой записи С. А. Толстая рассказывает: «Прошло несколько времени [после ссоры с Тургеневым]. Лев Николаевич, живя в Москве, как-то раз пришел в одно из тех прелестных расположений духа, которое в жизни его находит на него иногда, — смирения, любви, желания и стремления к добру и всему высокому. И в этом расположении ему стало невыносимо иметь врага. Он написал Тургеневу письмо, в котором жалел, что их отношения враждебны, писал, что если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага»30. Не зная парижского адреса Тургенева, Толстой отправил письмо в Петербург к книгопродавцу Давыдову, с которым Тургенев имел дела.
452
Между тем Тургенев еще до получения этого письма Толстого, проезжая через Петербург, услыхал от своего постоянного корреспондента Д. Я. Колбасина31, что Толстой будто бы распространяет копии своего последнего письма к Тургеневу и называет Тургенева трусом, не захотевшим с ним драться. Приехав в Париж, Тургенев в конце сентября 1861 года отправил Толстому следующее письмо:
«М. Г.
Перед самым моим отъездом из Петербурга, я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами и т. д. Вернуться в Тульскую губ. было мне невозможно, и я продолжал свое путешествие. Но, так как я считаю подобный ваш поступок после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово — и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания, и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения. Считаю нужным уведомить вас, что я известил о моем намерении моих друзей в Москве для того, чтобы они противодействовали распущенным вами слухам.
И. Т.»32
Копию с этого письма Тургенев в тот же день отправил своему другу Кетчеру, а позднее и Анненкову, чтобы они могли в случае надобности «противодействовать слухам», которые будто бы распускал Толстой, и «защитить» Тургенева «от обвинений в трусости».33
В ответ на письмо Тургенева Толстой послал ему одновременно два письма. Первое письмо, написанное лично для Тургенева, Тургенев уничтожил; содержание его известно из записи в дневнике Толстого от 9 октября 1861 года, из письма Тургенева к Фету от 8 ноября того же года и из записи С. А. Толстой от 23 января 1877 года. Толстой написал Тургеневу, что слух о распространении им копии своего письма совершенно вздорный; «что это так смешно и глупо вызывать драться через восемь месяцев, что я на это могу ответить вам тем же презрением, как и прежде, а если вам нужно себя оправдать перед публикой,
453
то посылаю вам другое письмо, которое можете показывать кому хотите» (запись С. А. Толстой).
Другое письмо, которое Толстой написал Тургеневу для того, чтобы Тургенев мог «себя оправдать перед публикой», датированное 8 октября 1861 г., сохранилось; вот его полный текст:
«Милостивый Государь.
Вы называете в письме своем мой поступок бесчестным, кроме того, вы лично сказали мне, что вы «дадите мне в рожу», а я прошу у вас извинения, признаю себя виноватым — и от вызова отказываюсь.
Гр. Л. Толстой»
Последнее письмо Тургенева сразу потушило возникшее в душе Толстого доброе чувство к нему. Мысль о дуэли с Тургеневым еще раньше совершенно исчезла у Толстого. На вопрос Чичерина, правда ли, что он будет «драться» с Тургеневым, Толстой в письме от 28 октября 1861 года ответил: «Драться же с кем-нибудь, и особенно с ним, через год, за 2000 верст, столько же для меня возможно, как нарядившись диким плясать на Тверской улице».
8 ноября 1861 года Тургенев писал Фету: «Кстати «еще одно последнее сказанье» о несчастной истории с Толстым». Рассказав о своем письме к Толстому по поводу слухов о том, что Толстой будто бы распространяет по Москве свое последнее письмо к нему, Тургенев далее писал: «Толстой отвечал мне, что это распространение списков — чистая выдумка, и тут же прислал мне письмо, в котором, повторив, что и как я его оскорбил, — просит у меня извинения и отказывается от вызова. Разумеется, на этом дело и должно покончиться, и я только прошу вас сообщить ему (так как он пишет мне, что всякое новое обращение к нему от моего лица он сочтет за оскорбление), что я сам отказываюсь ото всякого вызова и т. п., и надеюсь, что все это похоронено навек. Письмо его (извинительное) я уничтожил34, а другое письмо, которое по его словам было послано ко мне через книгопродавца Давыдова, я не получил вовсе. А теперь всему этому делу de profundis»35.
В том же месяце Фет написал Толстому какое-то письмо (оно не сохранилось) и в конце привел выписку из последней части письма Тургенева (эта выписка сохранилась). Результат получился неожиданный: Толстой до крайности возмутился тем освещением, которое Тургенев придал его письмам. Взявши первый попавшийся лист бумаги, он тут же написал Фету без всякого обращения следующую записку:
454
«Тургенев — подлец, которого надобно бить, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить.
Гр. Л. Толстой.
И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду».
В декабре Фет (несомненно в каком-то смягченном виде) сообщил Тургеневу содержание письма Толстого (это письмо Фета нам неизвестно)36. В ответ на письмо Фета Тургенев писал ему 14 января:
«Любезнейший Афанасий Афанасьевич, прежде всего я чувствую потребность извиниться перед вами в той совершенно неожиданной черепице (tuile, как говорят французы), которая свалилась вам на голову по милости моего письма. Одно, что меня утешает несколько, это то, что я никак не мог предвидеть подобную выходку Толстого и думал все устроить к лучшему; оказывается, что это такая рана, до которой уже лучше не прикасаться. Еще раз прошу у вас извинения в моем невольном грехе»37.
У Толстого осталось в памяти смутное воспоминание об ответе Тургенева на его письмо, как о последнем поводе к разрыву отношений. В марте 1878 года, за месяц до примирения с Тургеневым, Толстой в Петербурге рассказывал тетушке Александре Андреевне про свою ссору с ним. По воспоминаниям А. А. Толстой, он «покрасневши до ушей» сказал ей: «Могу вас уверить, что моя роль в этой глупой истории была недурная. Я был решительно ни в чем не виноват и, несмотря на то, что сознавал себя совершенно невиновным, написал Тургеневу самое дружеское, примирительное письмо; но он отвечал на него так грубо, что невольно пришлось прекратить с ним всякие сношения»38.
VI
Отдыхом от трудов и делом, за которым он забывал все огорчения и неприятности, служили для Толстого его занятия с детьми. В августе 1861 года он писал А. А. Толстой:
«Есть и у меня поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться — это школа. Вырвавшись из канцелярии и от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду
455
в школу, но так как она переделывается, то классы рядом в саду под яблонями, куда можно пройти только нагнувшись, так всё заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа три-четыре, и никому не скучно».
Толстой делится со своим другом общими впечатлениями от своих школьников. «Нельзя рассказать, — пишет он, — что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал. Подумайте только, что в [продолжение] двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не была наказана. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова». (Нельзя не заметить, что эта восторженная характеристика яснополянских школьников, сделанная в период самого сильного увлечения Толстого занятиями с детьми, не свободна от некоторой идеализации, что доказывается и воспоминаниями самих школьников и педагогическими статьями Толстого.)
Далее Толстой в своем письме сообщает некоторые подробности занятий в яснополянской школе. Он рассказывает, что в школьной комнате «по полкам кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и т. д. По воскресениям музей открывается для всех, и немец из Иены (который вышел славный юноша) делает эксперименты. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пения четыре класса в неделю. Рисования шесть (опять немец), и очень хорошо. Землемерство идет так хорошо, что мальчиков уже приглашают мужики».
Летом многие ученики, помогавшие старшим в полевых работах, не посещали школы, но с наступлением осени занятия в школе возобновились в прежних размерах.
Преподавание велось на тех же основаниях, как и прежде. В школе продолжался тот же внешний беспорядок или «свободный порядок», как называл его Толстой. Но по мере дальнейшего хода занятий ученики сами доходили до понимания того, что для успешности учения необходима известная дисциплина, и добровольно подчинялись ее требованиям. «Школьники, — писал Толстой, — все хотят учиться..., и потому им весьма легко будет дойти до заключения, что нужно подчиняться известным условиям для того, чтобы учиться»39.
Так без всякой предвзятой теории «школа развивалась свободно из начал, вносимых в нее учителем и учениками»40.
456
По возвращении Толстого из-за границы к числу предметов прибавилось пение, которое Толстой преподавал по цифирной нотной системе Шеве. Занятия по этой системе на уроках с взрослыми рабочими Толстой лично наблюдал в Париже. Метод Шеве, впоследствии получивший довольно широкое распространение в наших городских училищах, был в России впервые применен Толстым в его яснополянской школе. Со своими учениками Толстой распевал, между прочим, старинный романс «Ключ», который упоминается в «Войне и мире» и музыка которого приписывается Моцарту. Напев этого романса записан С. Л. Толстым41. Учил Толстой своих учеников и церковному пению и даже несколько раз певал с ними на клиросе в приходской церкви в Кочаках. Это пение в церкви нравилось и родителям, и самим ученикам, но Толстой вскоре прекратил его, заметив, что такие публичные выступления развивают в детях тщеславие и нарушают правильный ход обучения пению.
Представляют интерес наблюдения посторонних лиц над яснополянской школой и ее школьниками.
Председатель Петербургского комитета грамотности С. С. Лошкарев, побывавший в Ясной Поляне осенью 1861 года, в своем докладе на заседании комитета 12 октября 1861 года высказал мнение, что яснополянская школа «может служить образцом школ вольно учащихся, потому что в ней начать учиться и продолжать учение, ходить или не ходить в классы нисколько не обязательно; учится кто хочет и когда хочет, а потому учатся так усердно, как нигде. Школа эта достойна нарочного посещения, потому что представляет до сего времени еще очень редкое явление как по любви детей к учению, так по практичности метода преподавания».
Лошкарев, кроме того, сообщил, что Толстой обещал заказать для комитета несколько штук чугунных азбук и устроить изготовление таких азбук в большом количестве для рассылки по требованиям и выразил согласие быть агентом комитета по Тульской губернии и сотрудником-экспертом, к которому комитет мог бы обращаться за советом42.
Близкий знакомый Толстого, учитель тульской гимназии, Е. Л. Марков, неоднократно бывавший в Ясной Поляне, посвятил яснополянской школе особую статью, в которой писал: «Стоит только раз читателю побывать в яснополянской школе, чтоб убедиться в самом успешном ходе ее... Наблюдательных посетителей поражал особенно самый дух школьников, их упорные
457
добровольные занятия в течение 7—8 часов ежедневно, свежий и довольный вид их, постоянная работа мысли, заметная на каждой детской рожице в многочисленном классе... Все мальчики сами думают, сами добиваются, сами хотят научиться. Пробужденность их духа, самостоятельность внутренней работы в голове мальчика — вот чем радует яснополянская школа»43.
Толстой жил одною жизнью со своими школьниками.
«Главная причина успешного хода яснополянской школы в том, что она — семья, а не школа, — писал тот же Е. Л. Марков. — Граф Толстой полюбил детей душой артиста, поняв в них многое, непонятное прозаическим натурам. Дети поняли его любовь, полюбили его в свою очередь; этому много помог и психологический такт графа Толстого, его особенное умение правдиво и вместе осторожно относиться к детям»44.
Близость к детям проявлялась у Толстого вне школы еще сильнее, чем в школе. «Вне училища, — писал он, — несмотря на всю свободу его, на воздухе, между учениками и учителем» устанавливаются новые отношения — большей свободы, большей простоты и большего доверия, — те самые отношения, которые представляются нам идеалом того, к чему должна стремиться школа»45.
Толстой делал гимнастику со своими учениками, играл с ними в разные игры, рассказывал им и сказки «страшные и смешные», и случаи из действительной жизни (в том числе из времени Восточной войны), ходил с ними купаться, отправлялся вместе на охоту46.
Зимой для ребят к прежним удовольствиям прибавились еще катанье с горы на санях, игра в снежки и вечерние прогулки с учителем.
Живой рассказ об игре Толстого с ребятами в снежки дает в своих воспоминаниях управляющий имением Харино, Л. Т., посетивший Толстого по делу в марте 1862 года (перевод с немецкого): «Когда я въехал верхом во двор, меня встретило шумное веселье. Человек 40—50 мальчиков всякого возраста усердно старались делать снежки из свеже выпавшего снега и бомбардировать ими друг друга. Повидимому, особенно метили они в молодого мужчину в коротком пальто и мягкой серой войлочной шляпе, который ловко и проворно увертывался от сыпавшихся на него снежков и метко направленными ударами постоянно
458
заставлял отступать своих противников. Постепенно, однако, весь огонь сосредоточился на нем одном, и несмотря на всю свою еще более усилившуюся энергию и ловкость, он больше не мог держаться. Я остановил лошадь, чтобы не попасть под обстрел, и сделался таким образом зрителем забавной сцены. Но молодой мужчина уже заметил меня и, быстро подбегая ко мне, пустил последний шар в преследовавшую его толпу, что заставило их отступить. Этим моментом он воспользовался, чтобы укрыться за лошадью и седоком, как за прикрытием, против толпившейся ватаги ребятишек. Теперь только мог я как следует разглядеть этого человека. Свежее, несколько смуглое лицо, открытые смеющиеся глаза, горящие возбуждением только что перенесенной битвы, не очень длинные темные волосы, большой широко развернутый лоб, сильная, но стройная фигура человека выше среднего роста, в каждом движении которого чувствовалась естественная прирожденная грация и сила. «Это Лев Николаевич», — шепнул мне староста»47.
В одной из педагогических статей Толстой дает поэтическое описание одной из своих вечерних прогулок с детьми. После занятий он взял с собой трех лучших учеников: «Федьку» (Василий Морозов, по характеристике Толстого, «нежная, восприимчивая, поэтическая и лихая натура»), «Семку» (Игнат Макаров, «здоровенный и физически и морально малый») и Проньку («болезненный, кроткий и чрезвычайно даровитый мальчик») и отправился с ними в лес Заказ, а потом каждого из них проводил до его дома. Дорогой происходила самая оживленная беседа. Толстой рассказывал мальчикам разные случаи из своих кавказских воспоминаний: гибель Хаджи-Мурата, смерть абрека, окруженного русскими солдатами и бросившегося на свой кинжал; потом вторично, по просьбе ребят, рассказал им «страшную историю» убийства вдовы Ф. И. Толстого (Американца). Затем по поводу вопроса «Федьки» о том, «зачем петь», разговор перешел на эстетические и нравственные темы. Толстой старался разъяснить своим ученикам, что «не всё есть польза, а есть красота, и что искусство есть красота».
Подводя итог этой своеобразной беседе с детьми, Толстой говорит: «Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте пластической и нравственной»48.
VII
28 октября 1861 года Толстой записывает в дневнике: «Дела по школам и посредничеству идут хорошо».
459
Как рассказывает Толстой в одной из своих педагогических статей49, после отмены крепостного права «народ везде выразил убеждение, что ему необходима теперь большая степень образования, что для приобретения этого образования он готов делать известные пожертвования».
Толстой охотно пошел навстречу этому народному желанию, пользуясь своим положением мирового посредника для открытия школ в деревнях своего участка. При содействии Толстого в его участке, насчитывавшем 9000 «душ», к осени 1861 года возникла 21 школа. В некоторые из этих школ учителями поступали местные церковники и отставные солдаты; но Толстой старался определять учителями в открываемые им школы студентов Московского университета, исключенных за участие в студенческих волнениях, которых, по его просьбе, направлял к нему Чичерин.
То, что Толстой определял учителями в открываемые им школы исключенных из университета студентов, еще больше восстановило против него крапивенское дворянство. На очередном дворянском собрании в декабре 1861 года все дворянство Крапивенского уезда за всеми подписями подало уездному предводителю дворянства Щелину следующее заявление, датированное 12 декабря:
«При съезде дворянства Крапивенского уезда для рассмотрения в собрании своем списка лиц, имеющих право быть избранными в мировые посредники и кандидаты к ним, мы заявили Вам единодушное нежелание наше видеть в должности Посредника помещика этого уезда графа Льва Николаевича Толстого, потому что мировой посредник в таком только случае может соответствовать цели учреждения, когда пользуется уважением и доверием общества, нуждающегося в примирительном посредничестве. Ныне опыт показал нам, что граф Толстой не соединяет в себе столь необходимых условий, а дела Мирового съезда и Тульского губернского присутствия ясно свидетельствуют об отсутствии в помещиках доверия к графу Толстому, поэтому в видах общего спокойствия мы покорнейше просим Вас от лица всего дворянства Крапивенского уезда ходатайствовать об увольнении графа Толстого от должности».
К своему заявлению дворяне приложили список дел, будто бы неправильно решенных Толстым, а именно:
«Он взыскивал с помещиков (с А. П. Артюховой, А. В. Казариновой) в пользу крестьян, не выслушав показаний помещиков и даже без просьб крестьян. Губернское присутствие отменило эти решения, поставив на вид неправильность гр. Толстому.
460
В неправильной выдаче увольнительного билета без оброка крестьянам Заслонина, мелкопоместного дворянина, гр. Толстой сознался на Съезде сам, и Съезд возложил на него вознаграждение убытков Заслонину, а об его действиях донес Губернскому присутствию. Граф Толстой отдал рожь г-жи Бранд крестьянам, разрешил крестьянам ее же травить ее луг, позволял крестьянам рубить лес Хомяковых, не исполнял постановления Съезда о переселении крестьян, на запросы Съезда не давал объяснений и т. п.».
Щелин 18 декабря направил тульскому губернатору копию и этого заявления и предыдущего заявления крапивенского дворянства, поданного ему в августе, которое он до того времени по каким-то соображениям не представлял губернатору. Посылая заявление крапивенских дворян, Щелин вместе с тем направил губернатору от себя следующее письмо:
«При предъявлении Крапивенскому дворянскому собранию списка лиц, имеющих право быть избранными в мировые посредники, я счел долгом прислушаться к мнению и отзывам дворянства о каждом лице, помещенном в списке, потому что для правильного и спокойного введения в действие Высочайше утвержденного Положения о крестьянах необходимо, чтобы в мировые посредники избраны были те, к которым дворяне имеют полное доверие и которые распоряжениями по собственным своим имениям приобрели уже доверие и любовь крестьян.
Поверенный Уездным собранием список я имел честь представить Вашему превосходительству, и Вам угодно было вместо предложенного мною в мировые посредники 4 участка г. Михаловского избрать Льва Николаевича Толстого.
В то же время я счел долгом своим объяснить Вашему превосходительству, что избранный Вами не соединяет в себе тех качеств, которые так необходимы мировому посреднику, что граф Лев Николаевич Толстой не пользуется доверием ни помещиков, ни крестьян и что первые единогласно объявили мне о нежелании своем иметь его мировым посредником.
Вашему превосходительству не угодно было внять моим откровенным представлениям, и по утверждении графа Толстого мировым посредником начался ряд нескончаемых жалоб помещиков, крестьян и дворовых людей на односторонние, несправедливые и произвольные действия графа Толстого. То, что он делал для крестьян в ущерб прав помещика, отвергалось впоследствии Мировым съездом и Губернским присутствием и уничтожило в крестьянах всякое доверие к законности, а следовательно и прочности распоряжений графа Толстого. Таким образом, дела 4-го мирового участка не только поставлены в крайне затруднительное положение, но имеют весьма вредное влияние на успешный и спокойный ход дела по всему уезду.
461
В августе месяце сего года получено было мною письмо от многих помещиков и помещиц 4-го мирового участка о ходатайстве, чтобы дела их с крестьянами поручены были вместо графа Толстого другому мировому посреднику. Я медлил однако представлением этого письма в той надежде, что граф Толстой сам убедится в необходимости переменить образ действий своих и быть действительным миротворцем двух сторон, заинтересованных одна в приобретении больших выгод, другая в сохранении своей собственности.
К сожалению, граф Лев Николаевич Толстой не только не переменил образа действий своих, но приглашением студентов Московского унивеоситета после бывших в оном беспорядков к занятию должности волостных писарей и учителей совершенно восстановил против себя всех дворян Крапивенского уезда, которые письмом от 12 сего декабря просят моего ходатайства об увольнении графа Толстого от должности мирового посредника.
Считаю излишним говорить, какие последствия могли бы произойти от определения в должности писарей и учителей студентов, людей молодых, неопытных, поставленных в беспрестанные сношения с народом, и цель графа Толстого при таковом приглашении столь очевидна, что я вынужден покорнейше просить Ваше превосходительство немедленно или предложить графу Толстому отказаться от должности мирового посредника или об увольнении его представить, куда следует, потому что пока граф Толстой оставаться будет мировым посредником, я не только не надеюсь, чтобы помещики Крапивенского уезда подали к сроку уставные грамоты, но прямо заявляю Вашему превосходительству опасения свои в отношении спокойствия крестьян в Крапивенском уезде.
Засвидетельствованные мною копии с двух писем от дворян Крапивенского уезда имею честь у сего приложить и покорнейше прошу Ваше превосходительство о последующем распоряжении Вашем почтить меня уведомлением, дабы я благовременно мог принять меры к охранению в уезде желаемого спокойствия».
Что крестьяне были будто бы недовольны Толстым как мировым посредником, это, конечно, была сознательная ложь со стороны предводителя дворянства. 15 июня 1861 года И. С. Аксаков писал Толстому: «Я слышал, что вы мировой посредник, и слышал от лиц, с вами вовсе не знакомых, что крестьяне вашего участка от того «в восхищении», как выра-зился мне кто-то»50.
Управляющий имением генерала Костомарова, Л. Т., на которого нам уже приходилось ссылаться, приезжавший к Толстому
462
по делу в марте 1862 года вместе с сельским старостой деревни, ранее принадлежавшей Костомарову, в своих воспоминаниях рассказывает, что когда они тронулись в обратный путь, староста «не уставал восхвалять графа» и за то, что он еще до отмены крепостного права отпустил своих крестьян, и за то, что основал школу и сам «возится» с детьми.
Автор приводит слова старосты, которыми тот закончил свой «хвалебный гимн» Толстому: «Это — истинный благодетель, а не живодер, как наш барин». — «И он презрительно сплюнул». — «Никто из соседних помещиков не любит за то его сиятельство; они его ненавидят, как наш оборотень. Но Льву Николаевичу это нипочем». — «И он щелкнул пальцем». (Перевод с немецкого)51.
VIII
Приближалось время выпуска первого номера «Ясной Поляны».
Еще в начале ноября 1861 года у Толстого не было никаких материалов для его журнала, за исключением начатой им за границей, но в то время еще не законченной статьи «О народном образовании».
5 ноября Толстой начал писать для своего журнала «Дневник ясенский». Работа очень увлекла его, и вскоре большая статья под заглавием «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» была готова. Увлечение не проходит, и Толстой до самого нового года отдается работе «неестественно усиленной» (письмо к А. А. Толстой от 10 февраля 1862 года). Он пишет статьи: «О значении описания школ и народных книг», «О методах обучения грамоте», «История яснополянской школы» (впоследствии статья эта получила название «О свободном возникновении и развитии школ в народе»), пересказывает школьникам большую французскую повесть «Maurice, ou le travail», редактирует пересказ этой повести учениками, записанный учителями (под заглавием «Матвей»), и пишет предисловие к этому пересказу, редактирует статьи учителей открытых им школ о ходе их занятий.
После нового года Толстой едет в Москву, чтобы сдать в цензуру материал для первого номера журнала. В этот номер вошли три статьи Толстого: «О народном образовании», «О значении описания школ и народных книг» и «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статьи учителей окрестных школ и составленное одним из учителей описание
463
книг, которые он нашел у крестьян той волости, где была расположена его школа.
Цензурное разрешение было дано 18 января 1862 года.
Когда номер журнала уже печатался, Толстой написал небольшую общую вводную статью ко всему изданию, озаглавленную «К публике», в которой он, предвидя нападки на свои педагогические воззрения, обращался к будущим критикам с просьбой не выражать своих возражений «желчно», «чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику».
25 января была разрешена цензурой первая «книжка» для детей, служившая приложением к «Ясной Поляне»; в ней был помещен пересказ яснополянскими школьниками повести «Матвей», с предисловием Толстого.
Первый номер «Ясной Поляны» вышел в свет 5 февраля 1862 года.
В феврале Толстой сдал в цензуру второй номер журнала, в который вошли две его статьи: «О методах обучения грамоте» и «О свободном возникновении и развитии школ в народе», и две статьи его учителей.
Не дожидаясь выхода второго номера, Толстой 10 февраля уехал из Москвы в Ясную Поляну.
IX
В жизни Толстого в Москве в январе — феврале 1862 года обращают на себя внимание несколько отдельных эпизодов.
13 января к Толстому в гостиницу явилась незнакомая дама, с покрытым вуалью лицом, и передала ему тысячу рублей при письме, в котором было сказано, что деньги назначаются «на нужды народа» и могут быть употреблены на больницу или школу. Кто была эта дама и откуда знала она о близости Толстого к народу — от общих знакомых или из газетных и журнальных сообщений о его школе и журнале, неизвестно.
Толстой в первом же номере своего журнала объявил о получении этого пожертвования, а в следующих номерах объяснил назначение, которое было дано этим деньгам. Деньги, по решению избранных уполномоченных от крестьян, были розданы обществам Ясенецкой волости, которые распределили их самым бедным своим членам по приговорам стариков. Повидимому, в то время розданы были не все деньги, так как еще в 1889 году, как это видно из дел Ясенковского волостного правления, из этих денег в распоряжении правления еще оставалось 240 рублей.
464
Между 14 и 20 января 1862 года восстановились прерванные отношения Толстого с Фетом. По письму Фета к Тургеневу от 8 ноября 1874 года, дело произошло таким образом: «Однажды, делая сначала вид, что не замечает меня в театральном маскараде, Толстой вдруг подошел ко мне и сказал: «Нет, на вас сердиться нельзя», — и протянул мне руку»52.
Наконец, следует упомянуть о признании Толстого в письме к тетушке Толстой, написанном в день его отъезда в Ясную Поляну, о том, что в это свое пребывание в Москве он «почти влюбился». Речь идет, повидимому, об отношениях, которые в то время начали складываться у Толстого к одной из дочерей друга его детства Любочки Иславиной. Любовь Александровна Иславина в 1842 году вышла замуж за врача дворцового ведомства Андрея Евстафьевича Берса. Семья Берсов была небогата. А. Е. Берс был сын аптекаря; дворянство он получил уже после женитьбы в 1843 году.
«Состояния у нас почти не было никакого», — писала Софья Андреевна в своей автобиографии53. В Кремле Берсы жили в небогатой и тесной квартире. Впоследствии Толстой так описывал обстановку жизни семейства Берсов в Москве: «Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую; кабинет самого владыки был — негде повернуться. Барышни спали на каких-то пыльных просиженных диванах... Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, проваливались, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной если не провалится на лестнице, то непременно расшибет себе голову о люстру»54.
В 1862 году семейство Берсов состояло из пяти сыновей и трех дочерей: Елизавета (род. 27 июля 1843 года), София (род. 23 августа 1844 года) и Татьяна (род. 29 октября 1846 года). Фет, которого Толстой ввел в дом Берсов, следующими словами описывает этих трех барышень: «Все они, невзирая на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом «du chien» [с огоньком]»55.
Софья Андреевна в 1860—1861 годах готовилась к экзамену на звание домашней учительницы. Ее учителем был студент-медик В. И. Богданов, поэт, впоследствии автор получившей
465
большую популярность песни «Дубинушка» («Много песен слыхал я в родной стороне...»).
«Это был живой, способный малый, — пишет Софья Андреевна в своей автобиографии, — интересовавшийся всем на свете, прекрасный студент, умелый учитель и ловкий стихотворец. Он первый, как говорится, «развивал» нас, трех сестер. Он так умел интересно преподавать, что пристрастил прямо меня, ленивую девочку, например, к алгебре, к русской литературе, особенно к писанию сочинений. Эта форма самостоятельного изложения впечатлений, фактов, мыслей до того мне нравилась, что я писала длиннейшие сочинения с страстным увлечением».
Богданов пробовал было давать Софье Андреевне книги Бюхнера, Фейербаха, внушать ей, «что бога нет, что весь мир состоит из атомов», но успеха не имел56.
Экзамен на звание домашней учительницы Софья Андреевна выдержала в Московском университете в 1861 году.
Берс и его жена полагали, что частые посещения Толстым их дома объяснялись тем, что ему нравилась их старшая дочь. В действительности предметом внимания Толстого являлась не старшая дочь Берсов, а средняя — Софья Андреевна.
Толстой, однако, пока держал себя в доме Берсов таким образом, что нельзя было считать его женихом ни одной из трех сестер, и это возбуждало недовольство родителей.
X
Живя в Москве, Толстой отдал — теперь уже в последний раз в жизни — дань своей давнишней страсти к игре в карты и, по обыкновению, проиграл значительную сумму. Для погашения долга ему пришлось взять тысячу рублей у редактора «Русского вестника» Каткова, обещая предоставить ему для выплаты долга свой «кавказский роман» (будущие «Казаки»). «Чему я, подумавши здраво, очень рад, — писал Толстой Боткину 7 февраля 1862 года, — ибо иначе роман бы этот, написанный гораздо более половины, пролежал бы вечно и употребился бы на оклейку окон».
Вероятно, к этому времени относится не дошедшее до нас письмо Толстого начальнику батареи, в которой он служил, Н. П. Алексееву, продолжавшему свою службу на Кавказе. Как видно из ответного письма Алексеева от 23 сентября 1862 года57, Толстой писал ему, что он собирается писать о Кавказе и «обложился книгами».
466
Рассчитывая уже к апрелю закончить «кавказский роман», Толстой, вернувшись в Ясную Поляну, 15 февраля начинает «третью часть». Первые две части, в которых описывались приезд Оленина в станицу, станичный быт, любовь Оленина к Марьяне, выход Марьяны за Кирку, столкновение Кирки с Олениным и бегство его в горы, Толстой считал уже написанными. Действие третьей части происходит через три года после бегства Кирки.
Оленин открыто живет с Марьяной и чувствует себя довольным и счастливым. Он счастлив тем, что Марьяна приняла его «в свой простой, сильный мир природы, которого она составляет такую же живую и прекрасную часть, как облако, и трава, и дерево». Счастливым сделало Оленина слияние с простой, естественной, близкой к природе народной жизнью, яркой представительницей которой была для него Марьяна. Народная жизнь и раньше, до его отъезда на Кавказ, проходила перед его глазами, но он чуждался ее. «И я ожил, — писал он приятелю, — и стал человеком только с тех пор, как вступил в этот мир, который всегда был передо мной, но который в нашем быту, как заколдованный круг, закрыт для нас».
Оленин намерен навсегда остаться жить в станице. «Жена моя — Марьяна, дом мой — Новомлинская станица, цель моя — я счастлив, вот моя цель». И он провозглашает принцип, который, как ему кажется, должен для всех служить руководством жизни: «Кто счастлив, тот прав!»; «счастье есть высшая очевидность». (Следует сказать, что Толстой и сам иногда склонялся к этой формуле, приписанной им Оленину. В записной книжке 18 января 1858 года он записал: «Прав тот, кто счастлив».)
О своем прошлом Оленин не сожалеет, так как все его попытки найти деятельность, которая бы его удовлетворила, ни к чему не приводили. «Я ли был виноват или наше общество, но везде мне были закрыты пути к деятельности, которая бы могла составить мое счастие, и открывались только те, которые для меня были ненавистны и невозможны».
Действие открывается описанием утренних сборов на охоту Оленина, Ерошки и двух других офицеров. Рассказываются ночные размышления и мечтания рано проснувшегося Ерошки, его мысли против войны («И зачем она, война, есть?»). С нескрываемым любованием описывает автор, как у поднявшегося с рассветом и принявшегося за работу Ерошки «дело его так и спорилось, он не торопился, но от одного тотчас же переходил к другому». (Это, так привлекавшее его качество Толстой, как увидим ниже, в других произведениях приписывал и другим своим героям из народа.) Охотники отправляются на охоту, а оставшиеся дома казачки узнают, что из-за гор через Терек
467
переправились абреки, и с ними Кирка. Марьяна не расположена принять Кирку и говорит матери, что если он придет к ней, она сама выдаст его. На этом работа над окончанием повести была прервана.
Далее по планам и конспектам, набросанным Толстым ранее, должно было произойти убийство Киркой Оленина, и затем — его арест и казнь. Но по всему ходу своих занятий, увлеченный до последней степени и делами посредничества, и школьной работой, Толстой никак не мог настолько живо перенестись воображением в давно оставленную им кавказскую жизнь, столь не похожую на те условия, в которых он находился теперь, что несмотря на все свое желание поскорее рассчитаться с Катковым, не мог докончить своего «кавказского романа», и повесть опять была оставлена58.
XI
К 1861 или 1862 году относится еще несколько художественных произведений, начатых, но не законченных Толстым.
Это прежде всего отрывок, начинающийся словами: «Али давно не таскал?»59. Действие рассказа происходит в последние месяцы 1861 или в первые месяцы 1862 года; этим определяется и хронология его написания. Действие начинается в семье старого крестьянина Семена рассказом его сына о том, что в деревню приехал барин. Барин этот — мировой посредник в другом уезде, своей деятельностью заслуживший «негодование дворянства». В своем имении он желал бы поставить своих временно обязанных крестьян в более выгодные для них условия. Но крестьяне отказываются принять предлагаемые им условия в уверенности, что скоро приедет от царя землемер и «всю землю отхватят господскую».
На этом рассказ остановился, о чем приходится очень пожалеть, так как, судя по началу, Толстой имел в виду обрисовать в нем земельные отношения между помещиками и крестьянами в первый год после крестьянской реформы.
К 1861 или 1862 году относятся также еще два незаконченных рассказа Толстого, носящих заглавия: «Тихон и Маланья» и «Идиллия».
Замысел рассказов «Тихон и Маланья» и «Идиллия» появился у Толстого еще летом 1860 года во время его путешествия по Германии. 7 августа он записал в дневнике: «Мысль повести: работник из всех одолел девку или бабу. Формы еще не знаю». На другой день, 8 августа, «форма» задуманной повести уяснилась, и Толстой записывает: «Форма повести: смотреть с точки
468
мужика». И далее он поясняет, в чем состоит эта «точка мужика»: «уважение к богатству мужицкому, консерватизм. Насмешка и презрение к праздности. Не сам живет, а бог водит».
Исполнением этого замысла как относительно содержания, так и относительно формы, и явились два названных выше рассказа.
Сохранилось три варианта начала рассказа «Тихон и Маланья».
Действие первого варианта60 происходит рано утром на другой день после праздника Петрова дня. Старуха Осиповна «до зорьки вскочила», зажгла лучину и принялась за домашние дела, пока еще все спали. На этом обрывается первый вариант рассказа, занявший всего две страницы авторского текста. Толстой решил передвинуть начало своего рассказа на самый Петров день.
Второй вариант61 начинается с поэтического описания деревенского гулянья на праздник Петрова дня, — точнее, окончания этого гулянья. Описание это дано Толстым с нескрываемым любованием милым для него деревенским бытом:
«Всю ночь напролет слышны были песни, крики, говор и топот на улице. Уж петухи пели четвертый раз, уж звезды только кое-где, редкие и яркие, виднелись на небе, уже за лесом светлее стало, заря занималась, и холодная роса опустилась на землю, а еще кое-где слышались шаги, говор или песня загулявших для Петрова дня мужика или бабы. Петров день — веселый летний праздник, праздник, ...с которого начинается самое спешное рабочее время. <Не скоро после Петрова дня придется ночку прогулять мужику или бабе, не скоро опять приедут из работы к празднику мужья и привезут гостинцы и прогостят две ночки, не скоро уж дождешься целого дня без барщины и своей работы...> Не один молодой парень вчера с вечера стукнул последний раз в пристенок, собрал свои ладышки за пазуху и печально пошел от ребят домой, куда его давно уже строго зовет отец, обратал лошадей, пустил жеребят и мимо хоровода на проулке проехал в ночное, не останавливаясь пошутить с заигрывавшими бабами... Не одна молодайка, не доводивши «борша», вышла из хоровода, треснула напоследках по спине парня, который хотел остановить ее, и, топая котами и шурша новой паневой, побежала через улицу к свекрови, которая звала ее становить хлебушки. ...Греха и веселья, как всегда, много было; но утро пришло, у каждого было свое дело, и каждый взялся за него; вспоминать, да разбирать, <да серчать> — некогда».
469
Далее описывается наступление утра и начало трудового дня в семействе Ермилиных, причем описывается пробуждение не только всех членов семьи, но и кур, овец, коров, и возвращение из ночного лошадей и жеребят. Автор особенно останавливается на портрете молодайки Маланьи, жены только что вернувшегося ямщика Тихона: «Красавица была баба, чернобровая, румяная, складная». Пробуждение Маланьи описано в следующих словах: «Она... <сложила румяные губы в такую улыбку, что как будто только радость и <счастье> здоровье живут на этом свете>. И как будто никогда не спала, вскочила босыми ногами, и так и закипело дело».
Не доведя до конца описание начала трудового дня в семье Ермилиных, Толстой оставляет и этот вариант. Он решает передвинуть действие своего рассказа еще дальше — к самому утру Петрова дня.
Третий вариант «Тихона и Маланьи» был начат в иной форме — в форме рассказа старика крестьянина, современника того происшествия, о котором говорится в рассказе62. Местом действия названо Мясоедово, близкая к Ясной Поляне деревня. Вся суть происшествия рассказана в самом начале. Оговорившись, что про Мясоедово нужно много рассказывать, потому что «много там было разных историй», рассказчик тут же объявляет, что прежде всего он будет рассказывать «про Тихона, как он на станции стоял, а наместо себя на покос работника из Телятинок нанял — Андрюшку, и как он со станции домой приезжал, и как с Маланьей, с Тихоновой бабой, грех случился, и как Андрюшка сам отошел, и сапоги его пропали, и как Тихон в первый раз свою молодайку поучил».
Теперь рассказ начинается с описания приезда в свою деревню ямщика Тихона Ермилина, работавшего на стороне. Но Толстой не выдерживает формы сказа, в которой он начал было свое произведение, очень скоро оставляет ее и возвращается к обычной для него форме повествования от автора.
Изображая Тихона, Толстой так же любуется им, его ловкостью и своего рода изяществом в работе, как раньше, в «Романе русского помещика» и в «Утре помещика», любовался другим ямщиком — Ильей Болхиным. Он говорит, что пока Тихон распрягал лошадей, «ничто не цеплялось, не валилось, не соскакивало у него под руками, а все спорилось и ладилось, точно все было намаслено». Толстой отмечает в Тихоне ту же черту, какую он придал дяде Ерошке в варианте «Казаков», написанном 15 февраля 1862 г. Он говорит, что Тихон, «как
470
только бросал одно, так не торопясь, но ни секунды не медля брался за другое». «Ему неловко было сидеть, ничего не делая».
Далее Толстой описывает, как народ возвращался из церкви в праздник, и опять пользуется случаем вложить в это описание всю силу своей горячей любви к русскому крестьянству, и именно к яснополянскому крестьянству, которое он так хорошо знал и любил с самого детства:
«Народ шел из церкви. Шли старики большими широкими шагами (шагами рабочего человека), в белых, заново вымытых онучах и новых лаптях, которые с палочками, которые так, по одному и попарно; шли мужики молодые, в сапогах; староста Михеич шел в черном, из фабричного сукна кафтане; шел длинный, худой и слабый, как плетень, Резун, Фоканыч хромой, Осип Наумыч бородастый. Шли дворовые, мастеровые в свитках, лакеи в немецких платьях, дворовские бабы и девки в платьях с подзонтиками, как говорили мужики. На них только лаяли крестьянские собаки. Шли девочки табунками, в желтых и красных сарафанах, ребята в подпоясанных армячках, согнутые старушки в белых чистых платках, с палочками и без палочек. Ребятницы с белыми пеленками и холостые пёстрые бабы в красных платках, синих поддёвках, с золотыми галунами на юбках. Шли весело, говорили, догоняли друг друга, здоровкались, осматривали новые платки, бусы, коты прошивные. Все они были знакомы Тихону».
Далее те же крестьяне, возвращающиеся из церкви, характеризуются по тому представлению, которое имел о них Тихон, причем сообщаются некоторые интересные подробности крестьянского быта того времени.
«<Вон Осип Наумыч идет один в лаптях и старом кафтанишке, а Тихон знает, что у него денег станет на всю деревню купить.> Вон идет худая разряженная баба, убрана, как богачка, а Тихон знает, что это самая последняя завалящая баба, которую муж уж давно бить перестал... А вот Матрешкин, дворовый, красную кумачевую рубаху вчера купил в городе, надел, да и сам не рад, как народ на него дивится... Вон Болхина старуха, с клюкой, шла, устала, села. Всё жива старуха. А уж лет сто будет...»
Пришла из церкви жена Тихона Маланья. Про Маланыо Тихону мать уже успела сказать, что она «день деньской замучается, а домой идет — хоровод ведет, песенница такая стала... А народ хвалит, очень к работе ловка, и худого сказать нечего».
Тихон вскоре опять уезжает на три месяца ямщиком на станцию. Отец на рабочую пору нанимает работника Андрея. Этот-то работник, по замыслу Толстого, и должен был «из всех одолеть» Маланью.
471
Но и этот третий вариант начатого рассказа остался незаконченным63. Толстой решил вернуться к той форме, в которой был начат третий вариант — к форме рассказа старого крестьянина о том происшествии, которое давным-давно случилось в их деревне на его памяти. Толстой предпочел такую форму рассказа отчасти потому, что он действительно слышал рассказ о подобном происшествии от старой яснополянской крестьянки, с которой и случился этот «грех»; отчасти же для того, чтобы легче было раскрыть психологию крестьянина того времени, в особенности — взгляд на данный случай.
Новая редакция рассказа получает название: «Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того». В следующей редакции рассказ получил название «Идиллия» с подзаголовком: «Не играй огнем — обожжешься». По некоторым признакам обе редакции рассказа, надо думать, написаны были в 1862 году (не позднее июля)64. Действующие лица здесь те же, что и в «Тихоне и Маланье», но муж зовется не Тихон Ермилин, а Евстрат Дутлов — фамилия, уже встречающаяся в «Утре помещика».
Первая новая редакция рассказа, озаглавленная «Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того», доведена до конца, и замысел автора, выраженный в заглавии следующей редакции («Идиллия»), уже раскрыт в ней вполне. Идиллический характер рассказа состоит в том, что в нем описывается измена жены, не приводящая ни к какому драматическому финалу.
Героиня рассказа, как и в «Тихоне и Маланье», молодая, здоровая, красивая, веселая женщина, певунья, плясунья, «бой-баба», ловкая и выносливая во всякой работе. На Маланью заглядываются не только молодые парни, но и старые мужики: она со всеми смеется, иногда даже раззадоривает их, но любит одного мужа. Рассказываются подробно разные ее проказы. Но вот отец услал ее Евстрата на заработки на долгий срок. В конце шестимесячного отсутствия мужа с Маланьей и случился
472
«грех». Рассказчик недоумевает, как это произошло. «Немало, — говорит он, — в те поры народ дивовался. Тогда народ проще жил, и такие дела за чудо были».
Соблазнителем Маланьи явился молодой красивый мужик из другой деревни, прожженный плут, промышлявший скупкой и продажей скота, барышничаньем лошадьми, — разными темными делами. «Такой шельмы другой, — говорит про него рассказчик, старый крестьянин, — даром что молодой, по всей губернии не было. Насчет ли баб, девок обмануть, скотину чумную спустить, лошадьми барышничать, рощицу где набить, отступного взять — дошлый был, ...и отец такая же каналья».
Муж появляется неожиданно ночью и застает у жены гуртовщика. Как и следовало ожидать по крестьянским нравам того времени, муж наказывает виноватую жену, но рассказчик считает это (как и принято было думать в крестьянстве в старое время) доказательством его любви к ней. «Ведь шесть месяцев дома не был, да и побил. Так-то мила она ему», — говорит рассказчик.
Утром муж уезжает пахать, а в следующую ночь происходит полное примирение. Не было ни слез, ни раскаяния, ни упреков, ни прощения: просто та любовь, которая связывала их друг с другом, пробудилась во всей своей силе и вытеснила все другие чувства. Маланья «с тех пор и забыла думать» о гуртовщике. Какой резкий контраст между «Идиллией», где неверность жены — несомненный факт, и «Крейцеровой сонатой», где измена жены только подозревается, и одно это подозрение приводит к преступлению! Здоровые трудовые условия крестьянской жизни исключали возможность такой дикой расправы.
Еще одна подробность, усиливающая идиллический характер финала повести. Появившийся неожиданно ночью Евстрат увидел в сарае чьи-то чужие сапоги. Сапоги эти он забрал себе, а потом «Евстрат сапоги продал за шесть рублей и смеялся часто: «Не попался он, я бы с него и армяк снял». Опять резкий контраст с другим героем Толстого из привилегированного класса — Карениным. В то время как важный сановник Каренин более всего озабочен тем, чтобы «ни свет, ни прислуга» ничего не знали об измене его жены, деревенский мужик Евстрат не только не скрывал того, что случилось с его женой, но даже «смеялся часто», рассказывая историю с сапогами ее соблазнителя.
Весь рассказ, от первой строки до последней, дышит нескрываемой любовью автора к тому деревенскому быту, который он знает до малейших подробностей, к крестьянскому труду, к крестьянской психологии. Автор знает все мелочи описываемой им «самой веселой» работы — сенокоса. Знает он также житейскую народную метеорологию (сельскохозяйственные приметы). Рассказчик говорит, что хотя во время уборки сена погода стояла
473
хорошая, старики говорили, что погода не устоит по следующим признакам: «Росы мало было, табак у дворника в тавлинке к крышке прилип, ласточки низом летали, и мгла в воздухе была, из дали не синело, и так-то парило, что сил не было».
Знает Толстой, что семья, дети — необходимые, всеми признаваемые условия крестьянской жизни. Маланье «людей стыдно», что у нее, крепкой, здоровой женщины, нет детей.
Черты психологии крепостного крестьянина отмечены в рассказе в таких деталях. Барин приезжает в имение с своим камердинером. Об этом камердинере, или «камердине», рассказчик говорит, что он отъявленный плут. «Сам, бывало, рассказывает, как он у барина деньги таскает, как он барина обманывает». Но это плутовство барского камердинера не вызывает у рассказчика ни малейшего негодования. «Да это бы все ничего», — говорит он. Барских денег крестьянину нисколько не жалко, но он бранит камердинера за то, что тот «насчет баб уж такой подлый, что страх».
Другая черта отношений крепостного крестьянина к барину, отмеченная в рассказе, это — сознательное понижение производительности труда на барской работе. Крестьяне взялись убирать дворнику сено исполу (то есть на том условии, что половина убранного сена пойдет в их пользу). После того, как дворник, предчувствуя перемену погоды, обещает мужикам «винца полведра» поставить, «так любо-дорого смотреть, как работа пошла... На барщине того бы в три дня не сработали».
Нигде ранее Толстой не проявил с таким блеском свое превосходное знание русского народного языка, как в обеих редакциях рассказа «Идиллия». Вся речь рассказчика пересыпана множеством характерных народных слов и оборотов речи, как например:
«Птицы заливаются, а она пуще их», «то-то смеху было», «все не пронялся», «спасибо скоро уехал», «подшел», «бабы покатываются», «бабы помирают смеются, на меня глядя», «телятинский увалень, коли повернется, коли что», «табун шарахнется», «гладух такой», «работа день деньской», «всю дорогу песни, смехи», «я те вымещу», «на всю рощу заливается», «в обед полчаса вздохнули», «ноги подламываются», «тут зарость», «умираю люблю тебя, свет ты мой ясный», «не вели ты мне жить на белом свету», «наши бабы зарются», «подкосились ноги, моченьки не стало», «и лестно ей, и любо, и жутко», «сел на коня и был таков», «боюсь страх» и многие другие.
Первая редакция рассказа «Идиллия», доведенная до конца, писалась с большим подъемом и очень быстро, что видно как по характеру почерка автора, так и по большому количеству описок в рукописи. Рассказ начинается с описания Маланьи Дутловой такою, какой она была в старости. Уже ничего не осталось
474
от прежней разбитной, задорной молодайки. Теперь — это старая, степенная женщина, пользующаяся в своей деревне всеобщим уважением, охотно принимающая странников, любящая слушать «божественные» книги и оказывать услуги своим односельчанам. Сын ее, отцом которого был проезжий гуртовщик, теперь управляющий двумя деревнями; он настойчиво зовет мать переехать к нему на постоянное жительство, но она не соглашается, говоря, что «с сильным греха больше». «Я, — говорит, — мужичкой родилась, мужичкой и помру».
Все это начало рассказа тут же было вычеркнуто автором.
Вторая редакция рассказа «Идиллия» осталась незаконченной65.
Толстой перечитал «Тихона и Маланью» в 1906 году по случайному поводу: его жена просила дать что-нибудь неизданное для публичного чтения в Туле с благотворительной целью. В числе других рукописей она принесла ему и копию «Тихона и Маланьи». Толстому «приятно было читать» этот рассказ, так как в нем «видна была» его «любовь к народу», но в художественном отношении рассказ его не удовлетворил («многословен»), и он не согласился предоставить его для публичного чтения66.
XII
Несмотря на всё неудовольствие и жалобы помещиков, Толстой как мировой посредник нисколько не изменил своего образа действий, во всех случаях, насколько это было возможно, защищая интересы крестьян, чем вызывал все большее и большее озлобление местного дворянства.
26 января 1862 года Толстой писал Боткину: «Я попал в мировые посредники совершенно неожиданно и несмотря на то, что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не удается». О том же писал Толстой и А. Е. Берсу 17 марта того же года: «Помещики ненавидят меня всё больше и больше». Об озлоблении местного дворянства против Толстого пишет в своих воспоминаниях Е. Л. Марков: «Как мировой посредник первого призыва, горячо сочувствовавший делу освобождения крестьян, граф Л. Толстой действовал, разумеется, в таком духе, который страшно ожесточил
475

Л. Толстой в 1862 г.
С фотографии.
476
против него огромное большинство помещиков. Он получал множество писем с угрозами всякого рода: его собирались и побить, и застрелить на дуэли, на него писались доносы»67.
Считая, как писал Толстой Боткину в том же письме, что самое «существенное», что он мог сделать в должности мирового посредника, им уже сделано (этим самым существенным Толстой считал открытие школ), он уже в феврале 1862 года начал думать об отставке. 12 февраля он направил в Тульское губернское по крестьянским делам присутствие следующее заявление:
«Так как представленные на меня в Губернское присутствие жалобы [следует перечисление направленных против Толстого жалоб] не имеют никакого законного основания, а вместе с тем дела эти и многие другие продолжают быть решенными противно моим постановлениям, так что почти каждое постановление во вверенном мне участке отменяется, и даже старшины сменяются мировым съездом, и так как при таких условиях, возбуждающих недоверие к мировому посреднику как крестьян, так и помещиков, деятельность мирового посредника не только не может быть успешна, но становится невозможна, я покорно прошу Губернское присутствие поспешить произведением дознания чрез одного из своих членов о вышеупомянутых жалобах и вместе с тем считаю нужным уведомить Губернское присутствие, что до произведения такового дознания я не считаю удобным вступать в исправление сданной старшему кандидату должности».
Только 9 марта Толстой снова приступил к исполнению обязанностей мирового посредника, но 30 апреля подал новое заявление с просьбой об отставке под предлогом болезни. 26 мая 1862 года последовал указ сената тульскому губернатору об увольнении Толстого «по болезни» от должности мирового посредника.
Среди помещиков Крапивенского уезда отставка Толстого» вызвала взрыв ликования. Воспоминания Л. Т., управляющего имением генерала Костомарова, ярко характеризуют отношение к Толстому крапивенского дворянства. Автор воспроизводит свой разговор о Толстом с местным становым приставом, относящийся к последним месяцам службы Толстого. Этот становой говорил (перевод с немецкого):
«Видите ли, граф, положим, человек хороший, но у него есть воззрения, свои собственные мнения. Конечно, и у меня есть свои взгляды, но эти взгляды вот какие: исполняй свой долг, свои служебные обязанности так, чтобы начальство и власти были довольны, вот и всё. А он еще до отмены крепостного права даровал своим крестьянам личную свободу, даже не подумав о
477
том, в какое затруднительное положение он этим поставил остальных дворян. Что будет делать крестьянин с своей личной свободой? Может он свою личную свободу отнести в кабак, там ее заложить и устроить себе веселый день? Такой свободный крестьянин — все равно, что выгнанная из дома собака, которой хозяин даже хлеба из милости не дает; он пропадет! Но это не беспокоит такого теоретика, как граф Толстой. Теперь он хочет воспитать в своих идеях подрастающую детвору и устроил на свой счет у себя в Ясной Поляне школу. Помилуйте: школу для крестьянских детей!.. И он сам в качестве учителя?.. Граф — учитель!.. И после этого человек требует еще к себе уважения, которое ему подобает как графу, как помещику, как бывшему офицеру. Ну, я стараюсь как можно меньше встречаться с ним в обществе, избегаю более близкого знакомства и бываю у него только по делам. Да и о чем с ним говорить, о чем беседовать? Вот полюбуйтесь, что он опять написал».
Становой показал книжку журнала «Ясная Поляна» с эпиграфом из Гёте: «Думаешь подвинуть, а тебя самого двигают вперед», и продолжал: «Здесь в этой брошюре он хочет нам, дворянам, доказать, что отмена крепостного права не дело рук человеческих, нет, что это, напротив, закон природы, который был неизбежен. Ну, погоди, батюшка, как бы тебя самого не двинули! Двинут тебя, то-есть по-нашему, попросту говоря, прогонят, — учитель!»
Через несколько недель после этого разговора, когда уже состоялась отставка Толстого, управляющий встретил станового на вечеринке у своего знакомого. Он застал все общество уже сильно навеселе. Увидевши управляющего, становой бросился к нему навстречу «и торжествующе закричал: «Ну, Людвиг Петрович, разве я не прав? Вот свидетель, господа, что я еще несколько месяцев назад предсказывал: двинут тебя! Ха-ха-ха!.. И вот его двинули, прогнали тебя, мировой посредник, учитель!.. Граф!.. Еще лучше будет, подожди немного, тебя и из учителей прогонят!»68
Радовалось отставке Толстого несомненно и местное духовенство, крайне недовольное тем, что «посредник набирает в школы западников», т. е. студентов69.
Жандармский полковник Дурново, производивший по приказу из Петербурга обыск у Толстого в Ясной Поляне 6—7 июля 1862 года, долго расспрашивал тульского вице-губернатора, в то время исправлявшего должность начальника губернии, о службе Толстого мировым посредником. Со слов вице-губернатора, Дурново в своем рапорте шефу жандармов Долгорукову
478
писал: «С посторонними граф Толстой держит себя очень гордо и вообще восстановил против себя помещиков, так как, будучи прежде посредником, он оказывал особенное пристрастие в пользу крестьян, так что, по словам начальника губернии, многие его просили об удалении графа Толстого, но службу он оставил сам; бывши же на нынешних выборах, он пробыл один только день, ибо узнал, что ему хотят сделать большую неприятность. Обращение его с крестьянами чрезвычайно просто, а с мальчиками, учащимися в школах, даже дружеское»70.
Даже в дело департамента полиции о Толстом, начатое в 1898 году, попали сведения о его деятельности в должности мирового посредника. Здесь сказано: «При эмансипации 61 года граф Толстой был мировым посредником и при разверстании всегда держал сторону крестьян в ущерб помещикам, чем вызвал неудовольствие как владельцев, так и мирового института, и принужден был оставить должность посредника»71.
У Толстого осталось на всю жизнь самое отрадное воспоминание о своей работе в качестве мирового посредника. 8 апреля 1901 года он записал в своем дневнике: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям: школы, посредничество...»72.
XIII
Занятия с детьми продолжали попрежнему увлекать Толстого и поглощать почти все его время.
«Описать вам, до какой степени я люблю и знаю свое дело, невозможно», — писал Толстой Боткину из Москвы 26 января 1862 года. По возвращении из Москвы в Ясную Поляну Толстой 17 марта писал А. Е. Берсу: «Я нездоров, журнал идет скверно, хозяйство еще хуже, помещики ненавидят меня все больше и больше, но я чувствую себя таким довольным и счастливым, как никогда... И только оттого, что работаю с утра до вечера, и работа та самая, которую я люблю».
В яснополянской школе все учителя вели дневники своих занятий, записи в которых делались ежедневно. Все эти дневники, к сожалению, погибли, за исключением одного, охватывающего период с 26 февраля по 14 марта 1862 года73. Этот дневник дает ясное представление о ходе занятий в яснополянской школе. Из дневника видно, что школьники писали сочинения на
479
темы, «выдуманные ими самими»; делали алгебраические и сложные арифметические задачи не только с целыми числами, но и с дробями; производили физические и химические опыты; слушали рассказы из русской истории; читали самостоятельно разные книжки. Старшие ученики обучали младших под руководством учителей. Всего за этот период в яснополянской школе обучалось 37 учеников, в том числе 32 мальчика и 5 девочек.
Записи в дневнике делались как самим Толстым, так и другими учителями. Толстой занимался преимущественно математикой, разбором сочинений и прослушиванием рассказов учеников, производил физические опыты, рассказывал эпизоды из русской истории, контролировал других учителей. Наряду с заметками по вопросам преподавания Толстой заносит в дневник еще такие наблюдения:
«Часто в м[ладшем] к[лассе] М. (особенно когда я в[хожу?]), возьмет, позовет меня, посмотрит, улыбнется, и больше ничего». Цель, которую имел в виду Толстой, внося в дневник это свое наблюдение, состояла, очевидно, в том, чтобы усилить внимание учителей к проявлениям душевной жизни детей.
Учителя откровенно рассказывали в дневнике о своих ошибках и неудачах в преподавании. Пример откровенности подавал сам Толстой, который записывал про себя: «Я запутался», «Я хуже всех — сержусь», «Хотел найти формулу прогрессии и не нашел».
Один из уроков, проведенных Толстым, произвел на него такое сильное впечатление, что он посвятил ему особую статью под многозначительным названием: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».
Здесь Толстой рассказывает о том, как яснополянские школьники, по его предложению, писали сочинение на тему русской пословицы «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет». Толстой сообщил мальчикам примерное содержание рассказа на эту тему и сам написал первую страницу, а затем рассказал план продолжения и окончания рассказа. Мальчики приняли участие в обсуждении.
«Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были большею частью одинаковы и верны, как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и в характеристиках лиц. Все почти принимали участие в сочинительстве; но с самого начала в особенности резко выделились положительный Сёмка — резкой художественностью описания, и Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения».
480
С восхищением рассказывает Толстой о тех проявлениях тонкого художественного чутья, которое он заметил особенно в одиннадцатилетнем «Федьке» (Васе Морозове):
«Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически и с правом на этот деспотизм распоряжался постройкою повести, что скоро мальчики ушли домой и остался только он с Сёмкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде. Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать».
«Я оставил урок, потому что был слишком взволнован.
— Что с вами, отчего вы так бледны, вы, верно, нездоровы? — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал».
Мальчики остались ночевать в кабинете Толстого. «Он [«Федька»] долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно и радостно было...»
Писание рассказа продолжалось еще два дня, «и опять со стороны ребят [было] то же чувство художественной правды, меры и увлечения».
Через несколько месяцев после этого была написана «Федькой» на тему, предложенную Толстым, и под его руководством повесть «Солдаткино житье». Повесть эта привела Толстого в такое же восхищение; о последней главе ее он пишет: «Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе».
Так гениальному школьному учителю удавалось своим «неуловимым влиянием» вызывать в крестьянских детях таившиеся в них художественные задатки и способствовать их раскрытию74.
XIV
Вне школы между Толстым и его учениками продолжались те же близкие, дружеские отношения.
481
На масленицу 1862 года Толстой устроил блины для учеников не только яснополянской, но и всех других открытых им школ. Съехалось больше ста учеников из разных деревень. Была вывешена большая лента, на которой было написано: «Гуляй, ребята, масляница!» После блинов ребятам были розданы гостинцы: конфеты, жамки, стручки. Потом детьми были разыграны комические сценки, сочиненные Толстым. Мужик с бабой разговаривают относительно необходимости учения их детей и идут к дьякону сговариваться об условиях обучения. У дьякона они застают нескольких учеников. Сам дьякон разгуливает с плеткой и кричит на ребят. Главный комизм сценки состоял в том, что дьякон сел на стул, в который ребята воткнули булавку75.
На Пасху дети получили новые подарки: ситец на рубашки, карандаши, гармоники, кушаки, шапки. Однажды Толстой свозил всех яснополянских школьников в Тулу в цирк, но, повидимому, нашел в цирковом представлении что-то не подходящее для своих учеников и, несмотря на их просьбы, вторично в цирк их не повел.
Большое внимание уделял Толстой не только своей яснополянской школе, но и школам в окрестностях Ясной Поляны. Он рекомендовал крестьянам учителей, экзаменовал кандидатов в учителя, лично присутствовал на открытии школ, посещал школы не только им открытые, но и такие, в которых учителями были дьячки и солдаты.
Толстой поддерживал постоянное живое общение с учителями открытых им школ. Известно всего 14 учителей, по преимуществу студентов, занимавшихся в толстовских школах76. Известный талантливый писатель Н. В. Успенский и собиратель русских народных песен П. В. Шейн также некоторое время состояли в числе учителей толстовских школ77.
Один из учителей, Н. П. Петерсон, в своих воспоминаниях рассказывает: «В Ясной Поляне нам было необыкновенно приятно... Для меня было величайшей радостью приезжать по субботам и пред праздниками в Ясную Поляну из Плеханова (деревня, где я учительствовал, верстах в семнадцати от Ясной)
482
и проводить целый день вместе с остальными сотоварищами, которых было человек десять, в беседах со Львом Николаевичем и слушать его рассказы»78.
Разумеется, в отношениях Толстого с учителями не было никаких проявлений «графства», никаких признаков начальнического тона; они были для него «дорогие товарищи», как называет он их в письме к Т. А. Ергольской от 27 мая 1862 года.
Вся эта молодежь (самому младшему из них, Н. П. Петерсону, было только семнадцать лет) и в специально педагогических вопросах, и в вопросах общего миросозерцания безусловно признавала авторитет Толстого. Толстой уже в то время своей сильной личностью и своим энтузиазмом мог оказывать большое влияние на тех, кто входил с ним в близкое общение. Учитель тульской гимназии Е. Л. Марков в своих воспоминаниях, написанных почти через сорок лет после прекращения деятельности яснополянской школы, писал: «Могу сказать с полной искренностью, что годы моего знакомства с нашим гениальным романистом были одними из плодотворнейших лет моей жизни; я никогда, ни прежде, ни после, не встречал человека, который бы был способен так могуче зажигать в другом человеке внутренний пламень его духа. От духовного соприкосновения с ним, точно влетали в меня, в самую глубь души моей, какие-то невидимые электрические искры, порождавшие во мне целые потоки мыслей, намерений, решений»79.
Студенты приезжали к Толстому совершенно не подготовленными к учительской деятельности, многие и без особого расположения к ней. Но пример Толстого, его беззаветное увлечение работой с детьми вдохновляли их, и через некоторое время дело учителя становилось для них близким и родным. В письме к Толстому от 12 января 1862 года из Ясной Поляны в Москву студент А. П. Сердобольский, учительствовавший в деревне Головеньки, писал ему: «Теперь, мне кажется, вам не придется укорять нас за то, что мы не дружно принимаемся за дело. Теперь можете быть уверены, что это ваше дело становится и нашим. С Томашевским ужасная перемена: он увлечен своею обязанностью и ни за какие денежки не хочет куда-либо ехать... Ждем все вас с нетерпением: без вас как-то все не то. Мне сдается, что наше общее дело и может только идти под вашим личным руководством, может согреваться вашею теплою любовью к нему. Я не уверен, чтобы все сущие здесь учителя любили это дело, но уверен, что полюбят его, как люблю я, как полюбил Томашевский, если удастся им найти в нем ту поэзию, тот
483
восторг, какой проглядывает в вашей личности. Не оставляйте же нас надолго без вашего присутствия»80.
По словам Толстого, «во всех школах, основанных с убеждениями «Ясной Поляны», повторялось то же явление: учитель влюблялся в свою школу»81. Статьи самих учителей толстовских школ, помещенные в «Ясной Поляне», подтверждают это заявление Толстого.
«Меня занимает эта ежедневная кипучая работа настолько, что нет желания ее бросить», — писал бабуринский учитель А. А. Эрленвейн82.
Все учителя толстовских школ занимались по его методам. «Легкое или трудное понимание и больший или меньший интерес имели главное влияние на ход и способ преподавания, и я часто бросал совершенно приготовленное для урока только потому, что оно было мальчикам скучно или чуждо», — писал учитель рисования в яснополянской школе Г. Ф. Келлер83.
«Школа тогда удовлетворяет своему назначению, когда ученик, кроме знания грамоты и других необходимых сведений, выносит, как и при вступлении своем в школу, ту же неиспорченную, ничем не насилованную натуру, ту же свободу отношений», — писал А. А. Эрленвейн84.
Во всех школах, где учителями были рекомендованные Толстым студенты, ученики занимались с таким же увлечением и делали такие же быстрые успехи, как и в яснополянской школе.
«Ленивых [у меня] совсем нет», — писал учитель колпенской школы А. К. Томашевский. — Есть больше или меньше способные, умные, а ленивых нет»85.
В телятинской школе «одушевление ребят было до того сильно, что нельзя было на них не любоваться». В этой школе ученики в первый же день занятий научились узнавать и писать все буквы, а через две недели читали по складам сказки86.
В Бабурине уже в первые четыре месяца ребята «успели окончательно свыкнуться и полюбить школьную жизнь. Школа для них после родной избы — самый близкий дом. По вечерам они еще долго сидят и рады бы ночевать в школе»87.
484
Школы помещались в крестьянских избах; никакой школьной мебели в них не было. Скамейки для учеников устраивались таким образом: в землю (деревянных полов в избах тогда не было) вбивались два столба, и на них клалась тесина — вот и скамейка88. Буквы для обучения чтению и письму писались учителями на досках и на стенах. Этот способ Толстой особенно рекомендовал, отмечая, что стены крестьянских изб «всегда достаточно грязны для того, чтобы мел был на них виден»89. Для обучения чтению употреблялись также чугунные литые буквы, сделанные по заказу Толстого, а для обучения математике — четырехугольные деревянные палочки различной величины.
Учитель в деревне Житовке дает следующее описание школы, в которой он преподавал:
«Изба очень просторна и удобна для училища. Лишь только взойдете в нее, вам бросится в глаза длинный и узкий деревянный стол, сделанный мужиками, стол самого первобытного устройства: две доски положены на козлы, вроде тех, которые плотники употребляют на подмостки, а влево — отгороженный около громадной печи «чуланчик», в котором живет учитель. На стене этого чуланчика прибита гвоздями полукруглая доска, развалина от какого-то стола, прежде выкрашенная краскою, теперь полинялая так, что сделалась неопределенного цвета. На ней-то и на стенах мальчики и упражняются в писании мелом больших печатных букв. В закоптелом углу стоит образ богоматери с затертым и полинялым ликом. Пол в избе, конечно, земляной и только в чуланчике учителя, из особого внимания к нему, вымощен досками»90.
Но не везде школы помещались в таких просторных избах, как в Житовке. Вот что писал учитель в деревне Бабурино:
«Школа наша помещается в избе старосты... Помещение чрезвычайно неудобно по тесноте: каких-нибудь аршин 7 в длину и ширину и 3 в вышину — вот все пространство, занимаемое школой. Здесь же помещаются староста, его жена и учитель. Около стен стоят лавки, тут же два небольших стола, скамьи, печь, занимающая четверть пространства. Можно себе представить, сколько остается места для 24 учеников...»91.
За труды учителя получали по 50 копеек в месяц за каждого ученика; учеников бывало в среднем 20—30 человек. Кроме того, учителя получали гонорар за статьи, помещавшиеся ими в «Ясной Поляне». Крестьяне имели право отказать учителю, если найдут его не подходящим (такой случай был только один).
485
Все учителя ежедневно писали дневники своих занятий, которые по воскресеньям прочитывали друг другу и совместно обсуждали. На основании этих бесед составлялись планы преподавания на неделю, которые, однако, исполнялись не строго, а изменялись сообразно требованиям учеников.
Следуя своему «обожаемому руководителю», как называет Толстого в своих воспоминаниях А. А. Эрленвейн92, студенты-учителя проникались свойственным ему глубочайшим уважением к крестьянскому миросозерцанию и образу жизни и к земледельческому труду.
Народ, вспоминал Н. П. Петерсон, «казался тогда Льву Николаевичу источником истины, блага и красоты, но источником закрытым, за отсутствием органов, способных проявить внутреннее содержание. Внося в среду народа грамотность, мы должны были способствовать, помогать народу выразить его внутреннюю сущность, сказать свое слово, и мы должны были прислушиваться к этому слову, а не вносить в народ что-либо свое. Цивилизация... казалась Льву Николаевичу извращением здоровой жизни людей... И хотя мы все и были продуктом цивилизации, но не заражать народ своим «ядом» приглашал нас Лев Николаевич, а самим оздоровиться от соприкосновения с здоровой жизнью народа»93.
Живя в одних избах с крестьянами, учителя не только не тяготились этим, но были довольны таким образом жизни. «Я мог теперь в долгие зимние вечера жить вместе с учениками, прислушиваться к их молитве, к их мыслям. Моя жизнь сливалась с их жизнью, мне было легко, когда им весело», — писал головеньковский учитель А. Сердобольский94.
Толстой в общем был очень доволен студентами-учителями. «У меня 11 студентов, — писал он 7 августа 1862 года С. А. Рачинскому, — и все отличные учителя. Разумеется, наши совещания и журнал содействует этому, но, право, сколько я ни знал студентов, такая славная молодежь, что во всех студенческих историях обвиняешь невольно не их».
XV
Ближайшее общение с народом и его детьми не только было очень радостно для Толстого, не только придавало его жизни в его собственных глазах глубокий смысл, не только доставляло обильный материал для его художественных произведений, но
486
и имело очень важное значение для выработки его миросозерцания.
Земледельческий труд, твердые устои семейной жизни и весь уклад крестьянского быта представились теперь Толстому тем жизненным идеалом, выше которого он не знал ничего. Земледельческий труд привлекал его не только ближайшим общением с природой, соприкосновением с землей, но еще и тем нравственным воздействием, которое он оказывал на его участников. Это благотворное действие земледельческого труда Толстой, как сказано выше, пытался описать в незаконченном рассказе из крестьянской жизни, написанном в 1861 году, и особенно ярко в написанной позднее «Анне Карениной»95.
Еще гораздо более твердо, чем прежде, Толстой убедился теперь в том, что только народ, разумея под народом «класс людей, исключительно занятый физической работой»96, «рабочего человека»97 вообще, а по преимуществу земледельцев, — только народ ведет естественный, достойный и нравственный образ жизни.
С особенной силой провозглашает теперь Толстой моральное и жизненное превосходство людей из народа над людьми господствующих классов. В народе видит он «могущественное не одним количеством и счастливое большинство»98. Сравнивая «крестьянского никогда не учившегося мальчика с барским мальчиком, учившимся у гувернера с пяти лет», Толстой находит, что «преимущество ума и знании всегда на стороне первого»99. По мнению Толстого, «люди народа свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное, нужнее людей как бы то ни было воспитанных»100. Толстой убежден, что «в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров»101. Как видим, здесь Толстой объединяет в одну категорию представителей трех привилегированных классов: помещиков, капиталистов и буржуазной интеллигенции.
Все внимание Толстого устремлено теперь на жизнь народа и на служение ему; жизнь дворянства занимает его все меньше и меньше. Его нисколько не интересует вопрос о том, какая партия победит на дворянских выборах — либеральная или консервативная.
487
26 января 1862 года Толстой пишет Боткину: «У нас жизнь кипит. В Петербурге, Москве и Туле выборы, что твой парламент; но меня, с моей точки зрения, признаюсь, всё это интересует очень мало... Я смотрю из своей берлоги и думаю: «Ну-ка, кто кого?» А кто кого — в сущности совершенно всё равно».
XVI
Кипучая посредническая и школьная деятельность оставляла Толстому мало досуга для чтения. Но он все-таки нашел время прочитать только что появившиеся тогда «Записки из Мертвого дома» Достоевского, которые сразу были оценены им очень высоко (оценка это оставалась неизменной до конца его жизни). Тогда же в письме от 22 февраля 1862 года к А. А. Толстой, отвечая на какое-то ее нам неизвестное письмо, он в следующих выражениях рекомендовал ей произведение Достоевского:
«Благодарствуйте за ваше письмо — писать мне некогда, а пожалуйста сделайте одно: достаньте «Записки из Мертвого дома» и прочтите их. Это нужно». Последние два слова подчеркнуты Толстым.
Приведем здесь общий список книг, которые, по воспоминаниям Толстого, произвели на него наибольшее впечатление (или, как сказано, в черновой редакции списка, оказали «влияние») в возрасте от 20 до 35 лет, следовательно, с 1848 по 1863 год. Вот этот список:
Гёте. Герман и Доротея | очень большое | ||
<Фауст и мелкие стихотворения | влияние.> | ||
Виктор Гюго. Notre Dame de Paris [Собор Парижской богоматери] | очень большое. | ||
Тютчева стихотворения | большое. | ||
Кольцова | большое. | ||
Одиссея и Илиада (читанные по-русски) | большое. | ||
Фета стихотворения | большое. | ||
Платона (в переводе Cousin) Федон и Пир | большое102. |
Чтение указанных в этом списке стихотворений Кольцова, Тютчева, Фета, а также «Илиады» и «Одиссеи» было уже отмечено на предыдущих страницах.
Диалог Платона «Пир» упоминается в записи дневника Толстого под 22 мая 1852 года.
О «Фаусте» Гёте Толстой упоминал, как сказано выше, в письме к Герцену от 8 (20) марта 1861 года, где «Фауст» назван «величайшей в мире драмой».
488
Таким образом, из всего списка остается неизвестным время чтения Толстым только поэмы Гёте и романа Виктора Гюго.
XVII
Занимаясь с крестьянскими детьми, Толстой пробовал приобщить их к классической русской литературе, но попытки эти потерпели неудачу. Произведения Пушкина, Гоголя остались непонятны крестьянским детям.
Размышляя над причинами этого явления, Толстой постепенно приходит к выводу, что причина лежит в том, что литература образованного общества чужда народу и не нужна ему; у народа есть свои им созданные образцы литературы и искусства. Уже в первой из трех статей, озаглавленных «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», Толстой осторожно, в форме предположения, высказывает эту мысль. Здесь он говорит: «Может быть и то, что народ не понимает и не хочет понимать нашего литературного языка потому, что нечего ему понимать, потому, что вся наша литература для него не годится, и он вырабатывает сам для себя свою литературу»103.
Думая все более и более напряженно в том же направлении, Толстой окончательно утвердился в этой мысли. То, что в первой статье о яснополянской школе, напечатанной в январском номере его журнала, было высказано как предположение, относящееся только к литературе, в третьей статье под тем же заглавием, появившейся в апрельской книжке, утверждается уже как твердое убеждение автора, распространяющееся не только на область литературы, но и на область всех искусств. Здесь Толстой уже решительно утверждает: «Требования от искусства и удовлетворение, которое дает оно, полнее и законнее в народе, чем у нас». «Исключительная принадлежность нашего искусства одному классу» привела к «ложности направления» искусства. «Живет лучше и полнее тот, кто не живет в сфере искусств нашего образованного класса»104.
Толстой пришел к такому выводу на основании опыта своих занятий с яснополянскими школьниками. «Я делал, — писал он, — эти наблюдения относительно двух отраслей наших искусств, более мне знакомых и некогда мною страстно любимых, — музыки и поэзии. И страшно сказать: я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям, все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе».
489
И Толстой приводит примеры классических произведений искусства «так называемых образованных классов» и примеры тех же искусств в народе, отдавая преимущество произведениям народного творчества. Он говорит: «Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о Ваньке Клюшничке и напев «Вниз по матушке по Волге», что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости»105. (Под словом «раздражительность» Толстой разумел в то время восприимчивость, впечатлительность. )
Основной аргумент в пользу того, что «знания и искусства нашего образованного общества ложны» и именно поэтому народ их не воспринимает, заключается для Толстого в том, что «нас тысячи, а их миллионы»106.
Толстой отвергает обычное возражение, что для понимания произведений искусства нужна известная подготовка. Возражая против этого мнения, он задает вопрос: «Почему красота солнца, красота человеческого лица, красота звуков народной песни, красота поступка любви и самоотвержения доступны всякому и не требуют подготовки?»107
Собственным опытом Толстой убедился в том, что произведения народной поэзии — былины, песни, сказки, пословицы дают «полное удовлетворение» поэтическим требованиям его учеников. Он и сам, «спокойно и беспристрастно сличив первую попавшуюся» народную песню «с лучшим произведением Пушкина», находит это удовлетворение его учеников «законным»108.
Народная жизнь во всех отношениях представлялась Толстому в то время тем идеалом, к достижению которого следует стремиться. По его мнению, без всякого содействия образованных классов народ «мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения»109.
По наблюдениям Толстого, народу того времени (он разумел преимущественно земледельцев) был свойственен известный консерватизм в общественно-политических вопросах. Выше уже было сказано о том, что в 1860 году, определяя основную мысль
490
задуманной им повести из крестьянского быта, Толстой высказывал намерение в этой повести на все явления жизни смотреть с точки зрения мужика, особенностями которой являются не только «уважение к богатству мужицкому» и «презрение к праздности», но и «консерватизм»110.
Этот крестьянский «консерватизм» в то время не смущал Толстого, так как политическая жизнь и политическая борьба его тогда совершенно не интересовали. «Нельзя себе представить, — говорил Толстой впоследствии, — человека более чуждого политике, чем я был в те времена»111. В. П. Буренин, в шестидесятые годы бывший сотрудником «Современника» и «Искры», в своих воспоминаниях рассказывает, что когда он впервые увидел Толстого у А. Н. Плещеева в 1861 году (очевидно, в сентябре), среди присутствующих, в числе которых было много учащейся молодежи, передавался слух об аресте Чернышевского (слух был преждевременный). «Студенты, — рассказывает Буренин, — очень были взволнованы этим арестом и высказывали перед Толстым свои резкие суждения по поводу ареста Чернышевского. Толстой долго в молчании слушал речи молодых людей, полные негодования, затем самым спокойным тоном сказал: «Я не понимаю, господа, почему вас так волнует арест. Конечно жаль, что Чернышевский арестован, но что уж так волноваться вам, юношам? В ваши годы можно жить и учиться, не смущаясь никакими арестами». Он продолжал высказывать далее суждения в таком роде и говорил с искренним убеждением, совершенно спокойным тоном. На его молодых слушателей такие суждения подействовали неприятно, и ему горячо и даже резко возражали. Но он остался равнодушен к возражениям и скоро ушел»112.
Даже Герцен, которого еще недавно Толстой ставил так высоко и считал таким близким себе писателем, теперь вызывает со стороны Толстого отрицательное отношение. В письме к одному из учителей основанных им школ А. П. Сердобольскому, написанном из Москвы 12 января 1862 года, Толстой жаловался на другого учителя, студента А. П. Соколова, который «любит заниматься литографией и слушает бредни Герцена, но делом не занимается»113. Преувеличенно резкий отзыв о Герцене,
491
вызванный взволнованным и возбужденным состоянием Толстого после произведенного у него обыска, находим в его письме к А. А. Толстой, написанном в конце июля 1862 года.
Студент Соколов, упоминаемый в письме Толстого к Сердобольскому, составлял исключение среди других студентов-учителей, приглашенных Толстым. Все другие студенты находились под его безусловным влиянием и разделяли его отчуждение от политики. По словам Толстого, «от прикосновения с народом» исчезала «вся квазилиберальная дребедень», которой раньше были пропитаны эти студенты114. По позднейшему воспоминанию Толстого, между учителями его школ «никогда разговоров не было никаких политических»115. «Лев Николаевич был чужд политике и нас всех отчудил от нее», — вспоминал один из учителей толстовских школ Н. П. Петерсон116.
Толстой в то время так близко подошел к идеологии русского патриархального крестьянства, что вносил в свое мировоззрение его психологию, свойственное ему отчуждение от политики.
Отдавая во всех отношениях предпочтение народной жизни перед жизнью господствующих классов, Толстой приходит к мысли о необходимости перемены своей собственной жизни. У него является желание устроить интеллигентную колонию, куда бы вошли он сам и занимающиеся под его руководством учителя. Вопрос этот не раз обсуждался в Ясной Поляне. Учителя вместе с Толстым ходили даже осматривать участок принадлежавшей Толстому земли, пригодный для устройства колонии. При этом предполагалось, что учителя будут жениться только на крестьянках117. «Жениться на барышне, — говорил Толстой студенческой молодежи, — значит навязать на себя весь яд цивилизации»118.
Но мысль об устройстве земледельческой колонии практического осуществления не получила.
Мечтал Толстой и о том, чтобы лично самому оставить помещичью жизнь, приписаться к яснополянскому обществу, взять надел земли и жениться на крестьянке. В. С. Морозов рассказывает,
492
как однажды Лев Николаевич поделился со школьниками своими мечтаниями о том, чтобы землю свою передать крестьянам, выстроить себе избу на краю деревни, жениться на крестьянской девушке и начать работать всю крестьянскую работу. Ученики приняли живое участие в обсуждении этого плана их любимого учителя и даже стали намечать ему невест из числа яснополянских девушек119.
Труды, лишения и вся обстановка крестьянской жизни Толстого не пугали.
Эти мечты Толстого о перемене помещичьей жизни на крестьянскую нашли впоследствии свое отражение в «Анне Карениной». Левин до женитьбы «часто любовался на эту [крестьянскую] жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью». Ему приходили мысли о том, чтобы отречься от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему ненужного образования, «переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Он даже мысленно спрашивал себя, что ему делать: «Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в [крестьянское] общество? Жениться на крестьянке?»120
Занятия искусствами и науками не оправдывали в то время для Толстого его образа жизни. Хотя ему и «страшно» было думать и сказать, что искусство «так называемого образованного класса» идет по ложному пути, он это думал и сказал и не мог в то время думать и говорить иначе. Хотя ему и казалось «страшно сказать по выводам, на которые оно наводит», он все-таки сказал, что если взять детей «от нескольких воспитанных поколений» и «невоспитанных детей народа» и сравнить их «в чем хотите: в силе, ловкости, уме, способности воспринимать, в нравственности даже и во всех отношениях», то «громадное преимущество поражает, вас на стороне детей невоспитанных поколений»121.
Это означало сомнение во всей культуре, во всем ходе умственного развития европейских стран.
В то время среди либеральной интеллигенции было очень распространено понятие «прогресс», под которым подразумевалось всякое движение вперед в умственной и политической жизни, а особенно в области техники. Понятие «прогресс» ближайшим образом не определялось и оставалось очень неопределенным;
493
благотворность «прогресса» понималась так неопределенно, что Толстому, начавшему судить обо всем с патриархально-крестьянской точки зрения, такое смутное и голословное признание благотворности «прогресса» представлялось не чем иным, как принятой на веру догмой.
По словам Толстого, «единственная вера» многих интеллигентов того времени состояла в том, что «прогресс есть добро, а отсталость — зло», хотя «никто не знает, в чем состоит эта всеобщая вера прогресса»122.
Толстой и сам некоторое время (очень недолго) разделял эту «веру», но скоро отрекся от нее. В дневнике под 26 мая 1860 года он записывает: «Странная религия моя и религия нашего времени — религия прогресса». По мнению Толстого, эта слепая вера в «прогресс» проистекает только от отсутствия определенного миросозерцания, с одной стороны, и от неудовлетворенной потребности деятельности, с другой. О том же еще раз пишет Толстой в дневнике через два года, 20 мая 1862 года: «Мысль о нелепости прогресса преследует. С умным и глупым, с стариком и ребенком беседую об одном».
Позднее Толстой изложил свои взгляды на распространенные в то время представления о «прогрессе» в статье «Прогресс и определение образования».
XVIII
Неразрешенность вопроса о перемене образа жизни, с одной стороны, неудовлетворенность господствующим миросозерцанием, с другой, вместе с тяжестью борьбы против дворян-крепостников и напряженностью работы для журнала привели к тому, что Толстой, как рассказывает он в «Исповеди», «заболел более духовно, чем физически», появились апатия, равнодушие к жизни123.
Душевная подавленность вызвала и физическое недомогание: усилился кашель, которым Толстой страдал и ранее и который он, помня, что два его брата умерли от чахотки, считал признаком той же болезни.
Доктор Берс посоветовал Толстому ехать на кумыс в Самарскую губернию. Толстой решил последовать его совету. «Не буду ни газет ни писем получать, забуду, что такое книга, буду валяться на солнце брюхом вверх, пить кумыс да баранину
494
жрать! Сам в барана обращусь, — вот тогда выздоровлю!» — смеясь говорил Толстой своим знакомым124.
14 мая, захватив с собой двух учеников, Василия Морозова и Егора Чернова, Толстой выехал в Москву, где пробыл пять дней. Здесь он докончил третью статью из серии «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» и сдал в цензуру апрельский номер своего журнала, побывал у Каткова, у Аксакова и, разумеется, у Берсов, где, повидимому (быть может, вследствие его нездоровья), уже перестали смотреть на него как на возможного жениха, что видно из следующей записи его дневника, сделанной 20 мая: «У Берсов свободнее — меня немного отпустили на волю».
19 мая Толстой выехал по железной дороге из Москвы в Тверь, а на следующий день, 20 мая, на пароходе с билетом третьего класса отправился в Самару.
Волга, движение, разговоры с пассажирами, в том числе и с рабочим людом — всё это сразу подействовало на Толстого бодрящим образом. «Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию ее», — записал он в тот же день в дневнике.
В Казани Толстой сделал остановку, чтобы побывать у мужа своей тетки В. И. Юшкова. Отсюда он писал Т. А. Ергольской, что его путешествие «до сих пор было наслажденье».
27 мая Толстой приехал в Самару, откуда направился в башкирское кочевье Каралык на речке того же названия, Николаевского уезда, в 130 верстах от Самары125.
Здесь Толстой пробыл полтора месяца. Время проходило в том, что он жарился на солнце, ел баранину, пил кумыс и кирпичный чай, делал прогулки с мальчиками, купался. По словам В. С. Морозова, все башкиры, от старого до малого, полюбили Толстого. «Он способный с кем как обойтись: с некоторыми стариками беседовал серьезно о вере, боге, аллахе, с некоторыми шутил до веселого смеха, а с некоторыми происходил все башкирские игры, и во всем он участвовал. И всякий его любил за свое, и это продолжалось каждый день за все время, что мы там прожили. Башкиры с ним все вскоре так сблизились, что всякий, встречаясь с ним, с радостью улыбался и кланялся ему. Даже четырех-пятилетние башкиренки, встречаясь с ним, кивали головой, улыбались и обзывали его: «князь Тул»126.
495
В июне Толстой съездил в город Уральск, где его приятель и сослуживец по Севастополю А. Д. Столыпин был атаманом уральского казачьего войска. Из Уральска Толстой привез с собой писаря, но занимался мало — только докончил статью «Воспитание и образование», начатую еще в Москве. Тетрадь дневника, которую Толстой захватил с собой в Каралык, осталась нераскрытой.
В середине июля Толстой выехал из Каралыка в Москву.
Здесь он получил от тетушки Ергольской очень взволновавшее и возмутившее его известие о жандармском обыске в Ясной Поляне.
История этого обыска такова.
XIX
В июне 1861 года появилась первая в России печатная прокламация революционной группы «Великорусс». По своим политическим воззрениям группа «Великорусс» примыкала к умеренным конституционалистам. Всего группа выпустила три прокламации, в которых требовала бесплатного наделения крестьян землею, установления конституционного строя и признания независимости Польши.
В августе 1861 года М. И. Михайлов привез из Лондона составленную Н. В. Шелгуновым и отпечатанную в типографии Герцена прокламацию «К молодому поколению». В прокламации содержался уже призыв к революционным действиям и к отнятию земли у помещиков.
Правительство было очень напугано появлением этих прокламаций. Распространявший прокламацию Шелгунова М. И. Михайлов был арестован и отправлен в каторжные работы.
В сентябре — октябре 1861 года произошли студенческие волнения в Петербурге и Москве, в результате чего университеты были закрыты и большое число студентов исключено.
Большое беспокойство в правительственных кругах вызвало и заявление представителей тверского дворянства относительно манифеста 19 февраля. Заявление это, произведшее большой шум и ставшее известным и в Москве127, было сделано 1—3 февраля 1862 года на чрезвычайном собрании тверского
496
дворянства. На этом собрании тверское дворянство, как уведомил губернатора новоторжский уездный предводитель дворянства Алексей Александрович Бакунин (родной брат Михаила Александровича Бакунина), в прошении на имя Александра II «заявило: 1) несостоятельность закона 19 февраля, 2) необходимость предоставления крестьянам земли в собственность, 3) несостоятельность сословных привилегий и 4) несостоятельность правительства удовлетворять общественным потребностям, и указало единственный неизбежный к тому путь — собрание представителей от всего народа без различия сословий». Это заявление подписали член губернского по крестьянским делам присутствия Н. А. Бакунин и двенадцать мировых посредников.
16 февраля все подписавшие заявление были арестованы и затем препровождены в Петропавловскую крепость, где пробыли до 22 июля, после чего были освобождены с лишением прав поступать на государственную службу и участвовать в выборах128.
Такова была напряженная общественно-политическая атмосфера, приведшая сначала к установлению полицейского надзора за Толстым, а затем и к производству у него жандармского обыска.
3 января 1862 года жандармский полковник Воейков, прикомандированный к Московской губернии, отправил в III отделение следующее донесение:
«В Тульской губернии проживает в собственном имении «Ясная Поляна» отставной артиллерийский офицер Толстой, очень умный человек, воспитывался кажется в Московском университете и весьма замечателен своим либеральным направлением; в настоящее время он очень усердно занимается распространением грамотности между крестьянами, для сего устроил в имении своем школы и пригласил к себе в преподаватели тоже студентов и особливо тех, которые подверглись каким-либо случайностям, оставили Университет, и как слышно у Толстого находятся уже 10 человек, которым он дает хорошее жалование и готовое содержание, в числе таковых оказался здешний студент Алексей Соколов, состоящий под надзором за участие в издании и распространении разных запрещенных антирелигиозных сочинений.
Нельзя ручаться, насколько справедливы дошедшие слухи, что у Толстого, когда собрались все преподаватели, сказана была речь, в которой весьма многое заимствовано из Великорусса.
497
Толстой, как слышно, состоит мировым посредником и имеет в Тульской губернии большое значение»129.
От кого были получены Воейковым сообщенные им в третье отделение сведения, неизвестно. Толстой, после произведенного у него обыска, в письме от 6 августа к брату Сергею Николаевичу высказал такую догадку: «Должно-быть, какой-нибудь Михаловский так удружил мне доносом». Догадка эта вполне правдоподобна. Вполне вероятно, что именно со стороны какого-нибудь представителя озлобленного против Толстого крапивенского дворянства поступил донос о том, что Толстой приглашает учителями в открытые им народные школы исключенных из университета студентов. К этому был присоединен еще вымысел о речи в духе «Великорусса».
Третье отделение, получив донесение Воейкова, 9 января сделало предписание жандарму по Тульской губернии, полковнику Муратову, проверить справедливость донесения Воейкова и относительно студентов, живущих у Толстого, и относительно «речи возмутительного содержания», будто бы произнесенной в кругу преподавателей, и вообще собрать сведения «об упомянутом графе Толстом».
В ответ на этот запрос третьего отделения, Муратов 16 января сообщил, что действительно граф Толстой в открытые им школы пригласил учителями пятерых студентов и двух семинаристов, имена которых тут же были названы. Что же касается речи «возмутительного содержания», будто бы произнесенной в кругу преподавателей толстовских школ, то относительно этого «нет никаких слухов».
Это донесение Муратова было доложено Александру II. При дворе Толстой пользовался «плохой репутацией». Об этом уже после обыска, 18 августа 1862 года, писала ему из Петербурга А. А. Толстая130.
Кроме надзора со стороны третьего отделения, за Толстым еще в бытность его в Москве в январе — феврале 1862 года был учрежден и полицейский надзор. Частный пристав московской
498
городской части Шляхтин получил сведения, что Толстой, живя в Москве, имел «постоянные сношения со студентами» и что у него часто бывал студент Освальд, впоследствии замешанный в деле распространения прокламаций «Великорусса»131. Частный пристав, зная, что Толстой сам «много пишет», предположил, не он ли был «редактором этого сочинения», то есть прокламаций группы «Великорусс», и поручил сыщику Шипову следить за Толстым как в Москве, так и в Ясной Поляне по отъезде его из Москвы.
В феврале Шипов с разрешения полиции поселился в Туле под именем Зимина. Какие донесения о Толстом делал Шипов своему начальству, нам неизвестно; но 1 июня полковник Муратов донес заведующему третьим отделением генералу Потапову, что Зимин «все время пребывания своего в Туле вел разгульную, нетрезвую жизнь, посещая гостиницы низшего разряда» и «болтливостью своею обнаружил секретное поручение, данное ему будто бы правительством, следить за действиями графа Льва Толстого и за лицами, живущими у него в имении в селе Ясная Поляна».
Между тем Шипов еще в мае прослышал от кого-то, будто бы Толстой выехал в Петербург, и поехал за ним туда же; но, не найдя его в Петербурге, отправился узнавать его адрес в третье отделение, где Потапов сказал ему, что на него получена жалоба от тульского начальства и что ему «будет нехорошо».
Из третьего отделения слух о том, что за Толстым установлен негласный полицейский надзор, достиг и до придворных сфер. 14 июня А. А. Толстая писала Льву Николаевичу в Самару, что она беспокоилась о нем не только по поводу состояния его здоровья, но и по другим причинам, о которых — прибавляла она — «я не могу говорить в письме». «Нам во что бы то ни стало надо повидаться этой осенью», — писала Толстая далее132.
Шипов из Петербурга отправился в Москву, где и был арестован. 12 июня на допросе служащим московского генерал-губернатора Шеншиным Шипов показал, что при Толстом «находится более двадцати студентов разных университетов и без всяких видов», занимающих должности учителей в народных школах и волостных писарей. По воскресеньям все студенты собираются к графу; «цель этих посещений или собраний студентов у графа мною еще не узнана». Кроме того, Шипов сообщил, что на четвертой неделе великого поста к графу были привезены из Москвы «литографические камни со шрифтом и какие-то краски» «для печатания запрещенных сочинений», но в силу
499
близости Ясной Поляны к Туле «все эти камни и инструменты для печатания» были перевезены в другое имение графа в Курской губернии, причем предполагалось начать печатание в августе.
На другой день, 13 июня, в дополнение к сделанному накануне показанию, Шипов прибавил, что у графа в имении «есть один человек, который исполняет должность курьера и часто ездит по трактам к Харькову и к Москве».
На третьем допросе, произведенном 21 июня, Шипов показал еще, что «в имении его сиятельства графа Л. Толстого» «часто бывают продавцы разного товара из Стародубенных слобод, которые у него иногда ночуют и живут по одному и по два дня». «Кроме ж всех сказанных, приему не бывает очень лично даже близким соседям и знакомым», — доносил далее Шипов не без некоторого основания, так как Толстой действительно не поддерживал знакомства ни с кем из окрестных помещиков. Это свое показание Шипов заключил следующей фантастической картиной: «В доме его сиятельства в кабинете и канцелярии устроены потайные двери и лестницы, и вообще дом в ночное время всегда оберегается большим караулом». В августе «предполагается у его сиятельства печатание какого-то манифеста по случаю тысячелетия России, и оный манифест был у них на просмотре и отправлен для чего-то за границу, но куда, мне неизвестно».
Показания Шипова были доложены московскому генерал-губернатору Тучкову, который счел необходимым обратить на них внимание Потапова. 16 июня Тучков отправил арестованного Шипова в распоряжение Потапова, а в письме, посланном одновременно, писал ему:
«Препровождаю к Вам, почтеннейший Александр Львович, бывшего секретного агента Михаилу Шипова со всеми показаниями, сделанными им по известному Вам делу гр. Льва Толстого.
Хотя Шипов есть такого рода личность, на которую полагаться совершенно нельзя, но важность показаний его требует особенного внимания, и указание на подготовляемый манифест к Тысячелетию не должно остаться без тщательного исследования. Требуют особенного внимания и указанные им сношения с раскольниками. Все это побудило меня отправить к Вам Шипова для подтверждения всего им дознанного лично и для принятия необходимых мер со стороны Вашей, так как место пребывания гр. Толстого вне района вверенного мне Управления».
Потапов отправил подробное донесение о показаниях Шипова шефу жандармов князю Долгорукову133. Долгоруков с одобрения
500
Александра II решил произвести у Толстого обыск и с этой целью направил в Ясную Поляну жандармского полковника Дурново.
Дурново получил от Долгорукова инструкцию, в которой ему предписывалось отправиться в Тульскую и, если понадобится, в Курскую губернию в имение Толстого, чтобы удостовериться, в какой степени справедливы показания Шипова, и при содействии местных чиновников, назначенных губернатором, «сделать надлежащее дознание по сему предмету», а по окончании дознания, «если по оному откроется что-либо противозаконное, передать виновных в распоряжение полиции», то есть арестовать.
Дурново выехал из Петербурга 2 июля. В Туле Дурново явился к вице-губернатору Никифорову, исправлявшему в то время должность губернатора, который назначил для производства обыска у Толстого местного пристава Кобеляцкого134. 6 июля Дурново в сопровождении крапивенского исправника, тульского пристава Кобеляцкого и местного станового пристава, понятых, а также, вероятно, и сыщика Шипова, приехал в Ясную Поляну.
В Ясной Поляне в то время гостила сестра Толстого. Дурново заявил ей, что они приехали для производства обыска «по высочайшему повелению».
501
Обыск продолжался два дня. Были тщательно осмотрены все комнаты дома, в особенности кабинет Толстого, прочитана вся его переписка; были осмотрены также подвалы дома, где вскрывались полы, и даже конюшни. Горничная Т. А. Ергольской, Дуняша, успела схватить в кабинете Толстого его портфель, в котором хранились запрещенные книги и карточки Герцена и Огарева, и бросила его в канаву135.
М. Н. Толстая успела отправить учителя Н. П. Петерсона в деревню Ясенки к учителю М. В. Бутовичу спрятать письма Герцена — не к Толстому, а к другому лицу, которые Толстой взял у кого-то прочитать136.
Во время обыска жандармы и полицейские вели себя развязно, потребовали себе обед, вина, корма для лошадей.
После Ясной Поляны обыск был произведен в двух ближайших школах в деревнях Колпне и Кривцове, после чего Дурново направился в Никольское.
Результаты обыска должны были разочаровать Долгорукова и Потапова. «В доме графа Толстого, — доносил Дурново о результатах обыска, — устроенном весьма просто, по осмотре его, не оказалось ни потайных дверей, ни потайных лестниц, литографных камней и телеграфа тоже не оказалось, хотя вице-губернатор, в разговоре со мной, и объяснил, что он предполагает, что у графа есть типография для печатания его журнала». И ни в Ясной, ни в Никольском, ни в деревенских школах «никаких предосудительных бумаг не оказалось»137.
XX
Приехав в последних числах июля из Самары в Москву и узнав об обыске (вероятно, из письма Т. А. Ергольской), Лев Николаевич сейчас же написал письмо в Петербург А. А. Толстой. В этом письме он не только излил все свое негодование против произведенного над ним насилия, но и воспользовался
502
случаем высказать своему другу совершенно откровенно, в самых резких выражениях, свое отрицательное отношение к тому положению, которое занимала А. А. Толстая.
Еще ничего не сказав Александре Андреевне о том, что произошло, Толстой сразу же обрушивается на нее со словами:
«Хороши ваши друзья! Ведь все Потаповы, Долгорукие и Аракчеевы и равелины — это всё ваши друзья».
И только ошеломив свою «бабушку» таким неожиданным обращением, Толстой очень кратко сообщает ей об обыске, причем и тут не воздерживается от ядовитых укоров: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех».
«Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил!» — заявляет далее Толстой.
Конечно, не может быть никакого сомнения, если бы Толстой в то время находился в Ясной Поляне, то он не допустил бы жандармов производить у него обыск, произошло бы столкновение, и Толстой был бы арестован.
«Вот как делает себе друзей правительство», — пишет далее Толстой и заканчивает письмо следующими полными негодования словами:
«Ежели бы можно было уйти куда-нибудь от этих разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками, которые приветливо улыбаются. Я, право, уйду, коли еще поживу долго, в монастырь — не богу молиться, это не нужно по-моему, а не видать всю мерзость житейского разврата, напыщенного, самодовольного и в эполетах и кринолинах. — Тьфу!»
И в самых последних словах письма вновь обращается непосредственно к своему другу. «Как вы, отличный человек, живете в Петербурге? Этого я никогда не пойму, или у вас уж катаракты на глазах, что вы не видите ничего».
31 июля Толстой приехал из Москвы в Ясную Поляну и здесь узнал все подробности обыска, которые взволновали его еще более. Целую неделю он не мог успокоиться. 7 августа он пишет второе письмо А. А. Толстой. Горечь нанесенного ему оскорбления и обиды чувствуется им еще больнее. Кроме того, он считает, что испорчена вся его деятельность, в которой он нашел «счастье и успокоенье». «Вы знаете, — пишет Толстой, — что такое была для меня школа с тех пор, как я открыл ее. Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни». Теперь он опасается, что деятельность его испорчена в глазах народа. «О помещиках что и говорить, это стон восторга». Вновь Толстой повторяет, что считает «огромным счастьем», что обыск был произведен в его отсутствие. «Ежели бы я был,
503
то верно бы уже судился как убийца». У него и теперь на случай вторичного посещения жандармов «заряжены пистолеты».
Мириться с таким положением, когда «дамоклесов меч произвола, насилия и несправедливости всегда висит над каждым», невозможно. Одно из двух: если это делается без ведома царя, то «надобно воевать и из последних сил биться против такого порядка вещей». Если же это делается с ведома царя, то нужно «стараться разуверить» его в необходимости этих мер или же «уйти туда, где можно знать, что ежели я не преступник, я могу прямо носить голову».
Толстой намерен или подать царю письмо с тем, чтобы «получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление, или экспатриироваться». «К Герцену я не поеду, — пишет Толстой. — Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — и уеду».
В конце письма Толстой спрашивает свою придворную тетушку, не компрометирует ли он ее своими письмами, и заканчивает письмо такими словами: «Прощайте, жму вашу руку и кланяюсь всем вашим, которые, признаюсь, мне все представляются в каком-то нехорошем свете; мне кажется, вы все виноваты».
23 августа в Москве Толстой через знакомого флигель-адъютанта подал Александру II жалобу на произведенный у него обыск. Толстой писал, что он желает знать, «кого упрекать во всем случившемся», а так как производивший у него обыск жандармский штаб-офицер объявил, что он действует «по высочайшему повелению», то Толстой желает, чтобы с имени царя «была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени».
На другой день Толстой побывал у своего севастопольского сослуживца, близкого к Александру II, генерала Крыжановского, бывшего в Севастополе начальником артиллерии, прося его «позаботиться об участи» его письма к царю. Крыжановский, как записал Толстой в дневнике, в разговоре с ним «старался показать, что он не забывается в величии». «А кабы он знал, — прибавляет Толстой, — как я его величие считаю ему в упрек».
Жалоба Толстого была передана царю вместе с «всеподданнейшей справкой» шефа жандармов Долгорукова. В своем объяснении оснований произведенного у Толстого обыска Долгоруков ни словом не упоминал о потайных дверях и лестницах, и литографских камнях, которые он предписывал жандармскому полковнику отыскать у Толстого. «Мера эта, — писал Долгоруков, — была вынуждена разными неблагоприятными сведениями насчет
504
лиц, у него проживающих, близких его с ними сношений и других обстоятельств, возбудивших сомнение».
7 сентября Долгоруков отправил тульскому губернатору извещение о том, что царь, получивши от «помещика Тульской губернии графа Толстого» письмо относительно произведенного у него обыска, отдал приказание, чтобы, несмотря на то, что у некоторых студентов, проживавших у Толстого, не оказалось «для жительства законных видов», а у одного «хранились запрещенные сочинения», «помянутая мера не имела собственно для графа Толстого никаких последствий».
Произведенный в Ясной Поляне обыск не оказал сколько-нибудь серьезного влияния на деятельность Толстого, но произвел некоторое воздействие на течение его личной жизни.
505
Глава десятая
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Л. Н. ТОЛСТОГО.
ЖУРНАЛ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
I
Впервые с изложением своих педагогических воззрений Толстой выступил печатно в августе 1861 года, когда появилось составленное им объявление об издании журнала «Ясная Поляна»1. Кроме обычных сведений об условиях подписки, Толстой счел необходимым осветить в этом объявлении задачи и направление своего журнала.
В первом же абзаце Толстой излагает основные убеждения, которыми он будет руководствоваться при редактировании журнала. Это, во-первых, убеждение в том, что «педагогика есть наука опытная, а не отвлеченная»; и, во-вторых, в том, что для народа, «по выражению Песталоцци, самое лучшее только как раз в пору».
Развивая первое из этих положений, Толстой далее говорит: «Не философскими откровениями в наше время может подвинуться наука педагогика, но терпеливыми и упорными повсеместными опытами. Не философом-воспитателем и открывателем новой педагогической теории должен быть каждый преподаватель, но добросовестным и трудолюбивым наблюдателем, в известной степени умеющим сообщать свои наблюдения».
Задача журнала в том, чтобы «уловить» и закрепить употребляемые разными учителями бесследно исчезающие приемы обучения и «найти в них законы».
Кроме того, Толстой обещает в своем журнале давать отчеты «о всех опытах, удачах и неудачах новых приемов преподавания» как в яснополянской школе, так и в Тульской гимназии, у преподавателей которой Толстой надеялся найти сочувствие своим начинаниям, а также обещает помещать критические обзоры «о всех народно-педагогических статьях» и о книгах для народа.
506
Относительно «книжек», которые будут выходить при журнале и будут содержать материал для детского и народного чтения, Толстой объявляет, что в них будут помещаться только те статьи, которые «пройдут через критику народа» и будут им одобрены и которые, по убеждению редактора, «не будут противны началам изящного вкуса и строгой нравственности».
В последних строках объявления указывался размер каждого номера, включая и «книжки», — от пяти до десяти листов.
Объявление об издании Толстым нового журнала вызвало в печати целый ряд откликов.
Давний почитатель таланта Толстого И. И. Панаев поспешил в очередных «Заметках Нового поэта» уведомить читателей «Современника» о «прекрасной мысли» Толстого об «издании с будущего года народного журнала, которому он дал название своей деревни: «Ясная Поляна». Сообщение Панаева сделано в форме разговора двух собеседников. Один из них говорит: «От всей души приветствую смелую и благородную попытку г. Толстого, желая ему полного торжества на новом, трудном и еще доселе никем не изведанном поприще». Другой собеседник отвечает первому: «Нет сомнения, что все люди, не боящиеся развития мысли, распространения просвещения в низших классах, будут способствовать успеху такой благородной попытки. Да здравствует на многие лета «Ясная Поляна»!»2.
Украинский журнал «Основа», изложив программу «Ясной Поляны», снабдил свое изложение следующими комментариями:
«Судя по этой программе, нельзя не признать за «Ясной Поляной» весьма важного значения. Никто глубже и яснее графа Толстого не взглянул на вопрос о требованиях и способах, обусловливающих народное обучение, никто так просто и прямо не подошел к народу. Если исполнение будет соответствовать задаче, то, без сомнения, это почтенное дело русского писателя поставит его выше всех его сочинений, как они ни прекрасны, — поставит его выше настолько, насколько дело выше самого красноречивого слова. Мы думаем, все русские таланты обязаны содействовать графу Толстому; он чуть ли не первый в России попал на настоящую дорогу, определительно высказав ту верную мысль, что в деле народного воспитания необходимы, кроме необыкновенного таланта и призвания, еще непосредственная помощь и указания самого народа. Кто сближался с народом, кто вглядывался с любовью и уважением в его жизнь, кто прислушивался к его мнениям, одним словом, кто уразумевал его дух, тот только способен оценить всю правду этой мысли. Она одушевляла песни и думы нашего Кобзаря и все лучшее в украинской литературе, которая тем-то так и дорога и незаменима,
507
что она вполне народна, что она выросла непосредственно из народного духа и жизни и, следовательно, всегда будет заключать в себе воспитательные стихии для всего народа. Украинские писатели и народолюбцы всем сердцем приветствуют графа Толстого. То, что говорит он в своей программе, не раз повторял наш Шевченко, который с особенным сочувствием принял бы первую весть о народной школе в Ясной Поляне»3.
Другой журнал, «Русская речь», также вспомнил Т. Г. Шевченко по случаю объявления о «Ясной Поляне». «По нашему мнению, — писал этот журнал, — граф Толстой очень удачно привел слова Песталоцци, что «для народа самое лучшее только как раз впору». Это же самое нам доводилось слышать от многих истинных друзей народа и между прочим от покойного Т. Г. Шевченко»4.
К. Д. Ушинский в руководимом им «Журнале Министерства народного просвещения», перепечатав программу «Ясной Поляны», прибавил от себя только несколько слов: «Желаем полного успеха этому в высшей степени полезному и благородному предприятию»5.
Журнал «Светоч» в следующих словах выразил свое сочувствие педагогической работе Толстого: «Прекрасную и почтенную деятельность избрал себе граф Толстой! В самое цветущее время своей литературной известности, при первой возможности действовать и жить согласно со своими убеждениями, он оставляет (надеемся, однако ж, что не навсегда) литературную деятельность и в своем имении принимается учить грамоте крестьян, принимает на себя должность мирового посредника, делается издателем народного журнала. Да! Это человек жизни и дела, и у него не мешало бы поучиться нашим писателям эпикурейцам, которые в самое страдное для России время шаркают по паркетам великосветских и невеликосветских гостиных»6.
Только два журнала с двух различных точек зрения отнеслись несочувственно к задачам и направлению «Ясной Поляны». Либеральный журнал «Век», выходивший под редакцией поэта и переводчика П. И. Вейнберга, при ближайшем участии Дружинина, выразил сомнение в пользе предположенной Толстым предварительной критики самим народом произведений, предназначающихся для народа. «Мы не думаем, — писал этот журнал, — что народ наш, несмотря на весь его здравый смысл, может быть судьею в деле, касающемся его же собственного образования; он не настолько еще развит, не настолько еще
508
сознал сам себя, чтобы решать, какая умственная пища может быть для него полезна»7.
Педагогический журнал «Учитель», издававшийся Паульсоном и Весселем, этот, по выражению Н. Н. Страхова, «по наружности русский, по внутренности немецкий» журнал, убежденный в том, что русских детей следует обучать по немецким педагогическим системам, в статье возвратившегося из ссылки петрашевца Ф. Ф. Толля писал, что если задача «Ясной Поляны» будет состоять «в определении общих законов методики, в уловлении приемов, которые должны быть нормою всякого преподавания», то задача эта бесцельная, так как «эти законы уже найдены. Методика на Западе уже имеет свою историю и во многих отношениях достигла высокой степени совершенства. Для чего же нам повторять зады, снова проходить через весь ряд тяжелых, скучных опытов, на которые там потрачено столько сил и времени?» По мнению Толля, школы в России должны быть устроены «по тем законам, которые уже открыты на Западе наукою училищеведения». Но что касается отдела «книжек» при «Ясной Поляне», то даже этот германофильский орган признал правильной «основную мысль» этого отдела8.
Из сделанного нами краткого обзора видно, что большинство органов периодической печати отнеслось вполне сочувственно к смелому начинанию Толстого.
II
Журнал «Ясная Поляна» просуществовал только один год. Всего вышло двенадцать номеров журнала и столько же «книжек». Почти все статьи журнала были посвящены исключительно вопросам народной школы; общие вопросы педагогики затрагивались преимущественно также в их отношении к народной школе.
Эпиграфом к своему изданию, печатавшимся на первой странице каждого номера журнала, Толстой выбрал изречение Гёте: «Glaubst zu schieben und wirst geschoben» («Думаешь подвинуть, а тебя самого толкают вперед», — слова Мефистофеля — «Фауст», «Вальпургиева ночь»). Смысл этого изречения в применении к основным положениям, развивавшимся в «Ясной Поляне», состоял, повидимому, в том, что педагогику в том виде, в каком она существовала в то время, Толстой считал бессильной подвинуть вперед дело образования народа, хотя она и претендовала на это («думаешь подвинуть»). Образование народа, по мнению Толстого, может продвигаться вперед только тогда, когда образовывающие
509
будут руководиться не своими предвзятыми идеями, а требованиями народа («а тебя самого толкают вперед»). Сам Толстой поместил в «Ясной Поляне» двенадцать статей, в которых затронул целый ряд важнейших вопросов педагогики. Одни из этих вопросов были разработаны им подробно, других он коснулся только вскользь, но сделанные им как бы мимоходом замечания по этим вопросам, при дальнейшей разработке, могут иметь большое значение для выяснения существенных педагогических проблем. Вместе с тем педагогические статьи Толстого дают богатый материал для уяснения его общего мировоззрения в данный период.
Первый номер «Ясной Поляны», после обращения «К публике», открывался статьей «О народном образовании». Статья была написана Толстым, но появилась без подписи, очевидно, для указания на то, что статья выражает основные взгляды редакции.
Статья «О народном образовании» была написана под свежим впечатлением тех многочисленных осмотров школ, какие предпринял Толстой во время своего заграничного путешествия. Впечатления эти были неутешительны. «Я мог бы, — говорит Толстой, — написать целые книги о том невежестве, которое видал в школах Франции, Швейцарии и Германии».
Как в России, так и за границей школы устраиваются не так, чтобы ученикам было удобно учиться, а чтобы учителям было удобно учить. «Они хотят учить так, как умеют, как вздумалось, и при неуспехе хотят переменить не образ учения, а самую природу ребенка». Существующее устройство школ Толстой называет «полицейским»; оно похоже на устройство «тюремных заведений». Всякий учащийся насильственно втискивается в рамки этого устройства школы, и до тех пор, пока остаются в нем задатки самостоятельности, ученик составляет диссонанс в школе. Школа, «устроенная свыше и насильственно», приучает учащихся «к лицемерию и обману»; она оказывает на учащихся «одуряющее влияние», состоящее «в продолжительном искажении умственных способностей».
Кроме того, существующие школы отстали от жизни. Современный уровень знаний далеко превышает тот уровень, на котором стоит школьное обучение. Современная школа не только не возбуждает у учащихся новых вопросов, но даже не отвечает на те вопросы, которые ставит жизнь.
Народ постоянно противодействует школьному образованию, и это противодействие объясняется, по мнению Толстого, не тем, что народ не желает получить образование. Но это образование народ в западноевропейских странах получает не в школах, а в театрах, кафе, в чтении книг, журналов и газет, в слушании лекций. Толстой придает огромное значение этому внешкольному
510
образованию, которое он называет «бессознательным образованием», и приходит к выводу, что «всякое серьезное образование приобретается только из жизни, а не из школы».
Переходя затем к положению народного образования в России, Толстой прежде всего констатирует, что «деятельность наша еще не начиналась», что мы «не имеем еще истории народного образования».
Ни религия, ни философия не могут быть положены в основу образования. Религия — потому, что преподавание религии составляет только малую часть всего образования; философия — потому, что все философские теории «в ряду других теорий» являются неполными.
Считая, что народное образование в Европе «идет ложным путем», Толстой утверждает, что наша школа должна развиваться «свободно и своевременно, то есть сообразно той исторической эпохе, в которой она должна развиться, сообразно своей истории и еще более всеобщей истории». Нам следует пользоваться опытом европейских школ, но мы должны «отличать то, что в них основано на вечных законах разума, и то, что родилось только вследствие исторических условий». «Мы призваны совершить новый труд на этом поприще». У нас не должно быть ни принуждения родителей, как в Германии, под страхом штрафа посылать своих детей в школу, ни принуждения детей против их воли учиться тому и тогда, что находят нужным учителя и родители.
Наша школа «не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения». Она «не должна служить известным правительственным или религиозным целям».
«Всякое учение должно быть только ответом на вопрос, возбужденный жизнью». Задача школы состоит «в передаче всего выработанного и созданного народом», а задача «науки образования» — в «отыскании законов воздействия одних людей на других».
Для того чтобы школьное обучение было поставлено разумно, нужно изучить «свободного ребенка». Школа должна быть «педагогической лабораторией», «опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы». «Образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие, или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его». «Только тогда опыт будет в состоянии положить твердые основы для науки образования». «Нам нужно шаг за шагом из бесчисленного количества фактов подвигаться к разрешению вопросов науки образования». В своей деятельности следует руководствоваться «одной волей народа». «Мы не можем знать, в чем должно состоять образование
511
народа» до тех пор, пока не изучим потребности народа9.
Толстой сам понимал, что высказываемые им суждения «противны всему свету» и многим представятся «дикими»; однако он чувствовал себя в силах «шаг за шагом и факт за фактом» доказать «приложимость и законность» своих утверждений. «Мы только этой цели посвящаем наше издание» — такими словами закончил Толстой свою программную статью, которую он недаром в одном и черновых набросков называет «передовой статьей» своего журнала.
Вслед за статьей «О народном образовании» Толстой помещает в первом номере своего журнала небольшую статью «О значении описания школ и народных книг». В этой статье Толстой, твердо убежденный в том, что «система народных школ и образования может быть прочно основана только на потребностях народа», обращается к педагогам и к книгопродавцам с просьбой присылать ему для печати в какой угодно форме сообщения о работе школ и о книгах, читаемых народом, с тем чтобы сообщения эти могли служить материалом для хроники народного образования. Интересуют его не сухие статистические данные, а ответы на жизненные вопросы дела народного образования: как и вследствие каких причин открываются школы, как они управляются, на какие средства существуют, какие предметы и какими методами в них преподаются, как народ относится к школе, какими правами обладают крестьянские общества в отношении школ, какие книги читает и особенно любит народ.
Этот призыв Толстого имел очень небольшие практические результаты. Из книгопродавцев на его обращение не откликнулся ни один, а из педагогов только очень немногие через несколько месяцев прислали свои статьи, которые и были напечатаны в последних номерах «Ясной Поляны».
III
Подобно тому, как статья «О народном образовании» является центральной теоретической статьей «Ясной Поляны», так и три статьи под общим заглавием «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» являются центральными статьями по вопросу о практическом применении педагогических воззрений Толстого. Содержанием статей явилось описание общего устройства яснополянской школы, порядка занятий и общих
512
методов обучения, в ней применявшихся, а также изложение основных приемов преподавания отдельных предметов: обучения чтению и письму, преподавания грамматики, «священной истории», русской истории, рисования, черчения, пения, математики, «закона божия» и бесед из естественных наук.
Опыт преподавания истории показал Толстому, что у его школьников еще не пробудился исторический интерес. Но его художественный рассказ о 1812 годе вызвал в учениках чрезвычайный подъем патриотического чувства. «Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, — все замерли от волнения... Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем?.. Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов — всё загрохотало от сознания непокоримости... Наконец, наступило торжество — отступление... Вся комната застонала от гордого восторга...»10.
Статьи «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» содержат богатый материал для изучения отношений, существовавших в Ясной Поляне между учителем и учениками в классе и вне класса. Написанные с необычайным художественным подъемом, статьи эти ярко рисуют ту душевную близость, какая установилась между Толстым и его учениками, его постоянное любование крестьянскими детьми, сказавшееся уже в обильном, редком для Толстого, употреблении ласкательных и уменьшительных существительных: Федька кричит «тоненьким голоском»; ребята, «задрав головки», смотрят учителю прямо в рот; Савин, «как только спросят его, подожмет на бок свою хорошенькую кудрявую головку»; после рассказа о войне 1812 года «у кукушек [т. е. у девочек] глазенки горели»; по окончании занятий «застучали ножонки по ступенькам» и т. д.
Толстой любуется тем, как перед началом занятий друзья и односельчане «садятся рядом и, оглядываясь кругом, представляют на лице такой вид счастия и удовлетворенности, как будто они уже наверное на всю остальную жизнь будут счастливы, усевшись на этих местах». Он видит, что мальчики относятся к дворовой девочке «с огромными и всесторонними способностями» — «с тонким оттенком учтивости, снисходительности и сдержанности». С ласковым юмором рассказывает Толстой, как мальчик, обязанный звонить в колокольчик перед началом занятий, «употребляет все силы, стиснув зубы, разбить колокольчик, но с тех пор, как после двух разбитых повешен толстый колокол, старания его остаются большей частью безуспешны»11.
513
Тонкие, проникновенные характеристики отдельных учеников, данные Толстым в его статьях, могут служить образцом любовного, вдумчивого и серьезного отношения учителя к детям, а такие картины, как восхитительное описание ночной прогулки с детьми по лесу, являются перлами толстовского художественного творчества.
Кроме описания школы, статьи «Яснополянская школа» содержат изложение мнений автора относительно задач образования народа. Толстой считает, что народу должна быть предоставлена возможность усвоить все достижения многовековой культуры всего человечества. Обращаясь к либералам благотворителям, которые хотели облагодетельствовать человека из народа грошевыми подачками или слащаво-лицемерными наставлениями, Толстой говорит: «Вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет и возьмет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас — так же, как дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять не забитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать — дайте же ему то, что вы выстрадали, — ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей».
Толстой предвидит возражения против своей точки зрения со стороны представителей господствующих классов. Одни — либералы — скажут, что не следует «усиленно развивать» крестьянских детей, потому что это поставит их во враждебные отношения к своей среде. Другие — крепостники — скажут: «Хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет!» Эти, говорит Толстой про крепостников, «выдают себя головой»: они «прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были... рабы, которые бы работали за других»12.
Не обращая никакого внимания на эти и подобные им возражения, Толстой твердо проводит свою точку зрения.
«Каждое дитя народа, — говорит он, — имеет точно такие же права — что я говорю? — еще бо́льшие права — на наслаждения искусством, чем мы, дети счастливого сословия, не поставленные в необходимость того безустального труда, окруженные всеми удобствами жизни». «Все существо» ребенка из народа «всеми силами души просится» в «область лучших наслаждений», доставляемых искусством13.
514
Но Толстой из всего своего опыта общения с народом пришел к несомненному заключению, что искусство «так называемого образованного общества» не соответствует требованиям народа. Он перечисляет признаваемые лучшими образцы четырех искусств: живописи, ваяния, музыки и поэзии, и говорит о том, как, по его мнению, люди из народа отнеслись бы к этим произведениям.
«Картина Иванова, — говорит Толстой, имея в виду известную картину А. А. Иванова «Явление Христа народу», — возбудит в народе только удивление перед техническим мастерством, но не возбудит никакого ни поэтического, ни религиозного чувства... Венера Милосская возбудит только законное отвращение перед наготой, перед наглостью разврата — стыдом женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится неприятным шумом, интересным разве только потому, что один играет на большой дудке, а другой на большой скрипке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его — презренными пустяками».
Толстой знает, что «дитя народа» может быть приведено к пониманию этих произведений «посредством иерархии учебных заведений, академии и художественных классов», но он считает, что понимание это будет куплено ценою физического и морального расслабления. «Требования народа от искусства, — говорит Толстой, — законнее требований испорченного меньшинства так называемого образованного класса».
Поэтому Толстой убежден, что не следует «навязывать ложное молодому поколению», но нужно дать возможность молодому поколению «вырабатывать новое как по форме, так и по содержанию»14.
IV
Статья «О методах обучения грамоте» начинается рядом иронических замечаний по адресу тех пустозвонов-либералов, которые любят «делать из всякой честной мысли игрушку для тщеславия и праздности», которые «от избытка образования» уделяют «маленькую частичку его — в воскресенье, между обедней, и визитами — несчастному, погибающему в невежестве народу». (Разумеется ставшее в то время модой увлечение воскресными школами для взрослых.) «Нет другого средства содействовать образованию, как самому учить и отдаться совершенно этому делу», — сурово говорит Толстой по адресу этих либералов.
515
Перейдя далее к главному предмету своей статьи, Толстой вновь повторяет, что «народная школа должна отвечать на потребности народа». На вопрос же о том, в чем состоят эти потребности, «может ответить только изучение их и свободный опыт». До тех пор, пока не изучены потребности народа, не могут быть определены и предметы преподавания в народной школе.
Рассмотрев далее применявшиеся в то время методы обучения чтению и письму, Толстой высказывает свое мнение, что учитель в первоначальном обучении не должен следовать какой-либо одной методе, но должен овладеть знанием всех метод и употреблять их «по мере встречающихся трудностей».
Толстой обрушивается на методу «наглядного обучения» в том уродливом виде, в каком он видел применение этой методы в Германии и какую усиленно насаждало в то время в России Министерство народного просвещения и пропагандировал журнал «Учитель». Немецкая педагогика пользовалась в то время огромным авторитетом среди русских педагогов. «Русские педагоги, — говорит историк русской педагогики П. Ф. Каптерев, — толпами устремлялись к немцам самолично учиться педагогии, чтобы самим все видеть, высмотреть и принести на родину последнее слово педагогической немецкой науки; чиновники министерств получали казенные командировки за границу, как скоро возникала в министерстве мысль о какой-либо реформе; усвоялись немецкие методы преподавания по грамоте, письму, арифметике, географии и всем другим предметам; переводились немецкие книги и статьи по различным отделам педагогической науки; целые журналы педагогические издавались с помощью немцев... Каждый русский педагог тащил от немца все, что ему нравилось... Словом, совершалась какая-то вакханалия по части, заимствования педагогических идей: методов и приемов у немцев, причем сомнения в пользе заимствованного не допускалось»15.
Толстой, считавший, что русская педагогика должна быть национальной русской, решительно восстал против этого рабского копирования принципов и приемов обучения немецкой педагогики.
Статья «О свободном возникновении и развитии школ в народе» рассказывает историю возникновения и развития двадцати трех школ в окрестностях Ясной Поляны, открытых при содействии Толстого.
Толстой знает все подробности истории каждой из этих школ и потому уверенно говорит, что «главнейшее условие успеха развития школ есть совершенная свобода отношений к ним
516
народа». «Вознаграждение учителя, выбор учителей родителями и учеников учителями и размещение школ», — все это, по мнению Толстого, должно быть предоставлено самому народу и не должно находиться ни в какой зависимости от правительственного вмешательства.
Из этой статьи мы узнаем, что, открывая школы и подыскивая для них учителей, Толстой руководствовался убеждением, что «дурные школы» не то что мало полезны, но «положительно вредны» и отодвигают назад дело народного образования.
Статья «Проект общего плана устройства народных училищ» посвящена разбору проекта, выработанного Министерством народного просвещения в 1862 году.
Проект этот, состоящий из девяти разделов и подробно регламентирующий основные положения устава народных училищ, был разослан на рассмотрение всем учебным заведениям Министерства народного просвещения и отдельным педагогам по выбору министерства, а также послан в переводах наиболее известным французским, английским и немецким педагогам. В числе лиц, занимающихся народным образованием, проект был получен и Толстым, как редактором педагогического журнала.
В своем обзоре Толстой приводит целиком те статьи проекта, которые он серьезно критикует, и только кратко излагает, большей частью в ироническом тоне, те статьи, которые считает совершенно пустыми и бессодержательными. Весь проект представился Толстому бюрократической затеей петербургских чиновников, чуждых народу, не знающих народной жизни и не считающихся с потребностями народа. Предлагаемую проектом программу обучения в народных школах Толстой называет «невозможней и узкой». Во всем проекте, говорит Толстой, «видна одна идея, проведенная от начала до конца: идея подчинения народного образования правительству, — идея, с которой мы не согласны». В противоположность правительственному проекту, Толстой излагает свой взгляд на постановку дела народного образования. Нужно, говорит он, чтобы народ сам «посредством своих представителей» «составлял свою систему» обучения в начальной школе. Но народ устранен «от участия в своем собственном деле»; от него требуют «не руководства и обсуждения, а только покорности».
Вновь и на этот раз с еще большей силой провозглашает Толстой свой основной принцип, что русская педагогика должна носить национальный характер. «Я твердо убежден, — говорит Толстой, — что для того, чтобы русская система народного образования не была хуже других систем (а она по всем условиям времени должна быть лучше), она должна быть своя и не похожая ни на какую другую систему».
517
V
Статья «Воспитание и образование» ставит своей задачей, во-первых, теоретически определить содержание понятий «воспитание» и «образование»; во-вторых, подвергнуть критике существующие учебные заведения, начиная с народных школ и кончая университетами.
Толстой разграничивает понятия воспитания и образования. Образование он определяет как «свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им». Воспитание, напротив, «есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим».
«Образование свободно»; «воспитание есть образование насильственное». «Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму». «Воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, — неплодотворно, незаконно и невозможно», — считает Толстой и делает свой вывод: «Права воспитания не существует». Этого права «не признает, не признавало и не будет признавать» «молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания».
Воспитание не может иметь разумных оснований; но если «существует веками такое ненормальное явление как насилие в образовании — воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе». По мнению Толстого, воспитание «имеет свое начало: a) в семье, b) в вере, c) в правительстве, d) в обществе».
Толстой утверждает, что «семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и имеют за себя оправдание необходимости». Стремление родителей воспитать своих детей «такими, какими бы они желали быть сами», представляется Толстому «ежели не справедливым, то естественным» «до тех пор, пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя». Столь же естественным считает Толстой желание религиозного человека, верующего в то, что «человек, не признающий его учения, не может быть спасен», «хотя насильно обратить и воспитать каждого ребенка в своем учении». Правительства, по мнению Толстого, также имеют «неоспоримые оправдания» воспитывать «таких людей, какие им нужны для известных целей», потому что «если бы не было слуг правительству, не было бы правительства», а «если бы не было правительства, не было бы государства».
Что же касается воспитания «общественного» (под «обществом» Толстой разумел здесь интеллигенцию — в то время еще
518
не существовало этого слова), то это воспитание, по мнению Толстого, «не имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные плоды».
Привилегированное общество, по мнению Толстого, воспитывает детей и юношество «в понятиях, противных народу, всей массе народа»; оно не слышит нападающего на него «могучего голоса народа», к которому «надо прислушиваться». «Крестьяне и мещане не хотят школ, приютов и пансионов, чтобы не сделали из их детей белоручек и писарей вместо пахарей». Толстой обвиняет воспитателей во всех школах, от низших учебных заведений до университетов, в том, что они стремятся оторвать детей от их среды и воспитать их так, «чтобы они не были похожи на своих родителей». Особенно нападает Толстой на университеты. Он обвиняет университеты в том, что предметы, в них преподаваемые, за исключением естественных наук, не приложимы к жизни; что в университетах существует «догмат папской непогрешимости профессора»; что студенты на лекциях не имеют права задавать вопросы и возражать преподавателю: что, при современных условиях образования, чтение лекций профессорами «есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла»; что университет «готовит не таких людей, каких нужно человечеству», а таких, «каких нужно испорченному обществу». Из университетов выходят или «чиновники, только удобные для правительства, или чиновники профессора, или чиновники литературы, удобные для общества... или же так называемые люди университетского образования, развитые, то есть раздраженные, больные либералы», «либерализм» которых ни к чему неприложим. Таких либералов «совсем не нужно народу».
«Либералами» в данном случае Толстой называет сторонников направления 1860-х годов. Это видно из того, что в той же статье Толстой порицает студентов, которые заняты главным образом чтением «старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и т. п.» и чтением и перепиской «запрещенных книг»: «Фейербах, Молешотт, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев».
В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» В. И. Ленин, цитируя статью «Воспитание и образование», оценил содержащуюся в ней критику Толстым университетского образования и «либералов», как одно из проявлений верности Толстого «идеологии восточного строя, азиатского строя». «Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании, — писал Ленин. — ...Толстой верен этой идеологии и в «Крейцеровой сонате»... и в статье 1862-го года, объявляющей, что университеты готовят только «раздраженных, больных либералов», которые «совсем не нужны
519
народу», «бесцельно оторваны от прежней среды», «не находят себе места в жизни» и т. п. (IV, 136—137)»16.
Статья «Воспитание и образование» содержит несколько таких положений, от которых Толстой вскоре отказался.
Статья еще не была напечатана, когда Толстой увидал существенный пробел в своей отрицательной характеристике университетов. В письме к профессору С. А. Рачинскому от 7 августа 1862 года, рассказывая об открытых им школах, Толстой очень хвалил учителей-студентов и порицал учителей-семинаристов. По мнению Толстого, для народного учителя нужно, прежде всего, «уважение к той среде, из которой его ученики», и «сознание всей важности ответственности, которую берет на себя воспитатель». «Ни того, ни другого, — говорит Толстой, — не найдешь вне нашего образования (университетского и т. п.). Как ни много недостатков в этом образовании, это выкупает их».
Но Толстой не хотел видеть того, что то, что он считал благотворным последствием университетского образования, в действительности было последствием того «либерализма», к которому приводило студентов чтение Герцена, Огарева, «Современника», — того общественно-политического направления, которое он в своей статье признал ненужным народу.
Вскоре Толстой отказался и от того резкого разграничения понятий «воспитание» и «образование», которое он проводит в своей статье. Уже в конце той же статьи Толстой признает за лектором, читающим ту или иную научную дисциплину, право передавать слушателям свои взгляды по тому или другому вопросу и рекомендовать тот метод изучения, который он признает наилучшим. Толстой считает, что «нельзя запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать своим ученикам то историческое воззрение, которое он имеет». Эта оговорка, несомненно, значительно ослабляла протест Толстого против того, что он называл «общественным» воспитанием.
Еще современная критика возражала Толстому, что, не признавая за школой права воспитания, он тем не менее сам в своей школе воспитывает своих учеников. Сам Толстой уже после прекращения школы, вспоминая свою прошлую педагогическую деятельность, признавал, что воспитательный элемент в его школе действительно существовал. В ноябре 1865 года он писал А. А. Толстой: «Я воспитывал своих яснополянских мальчиков смело. Я знал, что каков бы я ни был, наверное мое влияние для них будет лучше того, какому бы они могли подчиниться без меня»17.
520
В 1909 году на сделанный ему вопрос о том, продолжает ли он придерживаться высказанного в этой статье мнения о полной противоположности понятий «образование» и «воспитание», Толстой ответил: «То разделение, которое я в своих тогдашних педагогических статьях делал между воспитанием и образованием, — искусственно. И воспитание и образование нераздельно»18.
Статья «Воспитание и образование», предназначавшаяся для июньской книжки «Ясной Поляны», встретила большие цензурные препятствия. Московский цензурный комитет, получив статью для рассмотрения, не решился разрешить ее к печати.
«Автор, — писал председатель Московского цензурного комитета в своем отношении на имя министра народного просвещения, — ни за кем не признает права воспитания в принципе и только в виде уступки утвердившимся веками и обычаем [предрассудкам?] оставляет его за семьею, церковью и государством и безусловно отнимает его у общества».
«Принимая во внимание, что автор статьи силится ниспровергнуть всю систему общественного образования, принятую не только в России, но и в целом мире, и что он не ограничивается одними теоретическими рассуждениями, но делает при них практические выводы в применении ко всем существующим учебным заведениям в России», — Московский цензурный комитет представил статью «на благоусмотрение» министра народного просвещения.
Либеральный министр народного просвещения А. В. Головнин на отношение Московского цензурного комитета наложил следующую резолюцию, датированную 10 сентября 1862 года:
«Отвечать, что из этой статьи следует исключить всё, что порицает учебные заведения других ведомств и оставить критику учреждений Министерства народного просвещения, так как в университетах и гимназиях многие лица будут отвечать автору и объяснят, в чем он ошибается»19.
VI
Статья «Об общественной деятельности на поприще народного образования» посвящена критике возникшего в 1861 году Петербургского Комитета грамотности. В состав Комитета вошли наиболее известные в то время педагоги-теоретики и практики. В 1862 году в число членов Комитета были выбраны также Толстой и Тургенев.
521
Считая дело народного образования настолько серьезным, важным и трудным, что им нельзя заниматься между прочим, в часы досуга, Толстой резко критикует устав Комитета, мечтающего «просто наивно осчастливить всю Россию». В бюрократическом устройстве Комитета Толстой видит «пустоту такую же, какую найдешь в каждом штате присутственного места». Слабому Комитету грамотности Толстой противопоставляет «огромный русский комитет» «не грамотности, а образования, самого всестороннего образования», который «существует давно по всей России, развился в последнее время с необычайной силой, и деятельность его приводит в удивление всех людей, умеющих здраво смотреть на явления общественной жизни».
«Кто произвел, — спрашивает Толстой, — те десятки тысяч, школ крестьянских, помещичьих, духовных, правительственных, студенческих, купеческих, воскресных, солдатских, женских, мещанских и всех возможных школ, возникших и возникающих в последнее время, как не тот бессознательно существующий огромный комитет образования, составленный из всего русского-народонаселения». Деятельность этого «огромного русского комитета» «будет продолжать идти своим широким историческим путем».
Далее Толстой разбирает «Список русских и малороссийских книг, одобренных Комитетом грамотности для народных училищ и школ и для народного чтения». Он останавливается на книге Перевлесского «Предметные уроки по мысли Песталоцци. Руководство для занятий в школе и дома с детьми от семи до десяти лет», и выражает грусть «о тех тысячах мучимых детей, о тех тысячах забитых детских светлых и поэтических душ», которые становятся жертвами уродливого применения метода наглядного обучения, заимствованного из немецкой педагогики.
Затем Толстой рассматривает составленную К. Д. Ушинским книгу для чтения «Детский мир». Он возмущается языком, каким написана эта книга. Язык отдельных статей «Детского мира» Толстой называет «дурным и неточным языком», «ложным и дурным языком», «безобразным, мнимо-народным языком», «таким мягким, как будто влезающим в душу языком», «языком расслабляющим, приучающим говорить слова без образов и мыслей», «самым дурным, то-есть гладким литературным языком, которым пишут фельетоны и повести в плохих журналах».
Статья заканчивается разбором книги И. Паульсона «Арифметика по способу немецкого педагога Грубе». В этой книге Толстой увидал извращенное применение принципа наглядного обучения к изучению арифметики; он называет книгу Паульсона «одной из самых безобразных и неприличных шуток с публикой». Возмущаясь «безнравственностью и преступностью» этой книги, Толстой не может отделаться от чувства «озлобления,
522
оскорбления и грусти» при мысли о том, сколько через эту книгу «замучено, испорчено детских душ, сколько испорчено наивных учителей».
Статья «Об общественной деятельности на поприще народного образования» была напечатана в сентябрьской книжке «Ясной Поляны» с цензурными смягчениями, касающимися тех мест, где Толстой восставал против бюрократизма.
Председатель Петербургского комитета грамотности С. С. Лошкарев признал справедливость критики Толстого. В письме к Толстому от 25 января 1863 года Лошкарев писал: «Я лично очень Вам признателен, что Вы нас побранили, хотя не совсем с Вами согласен во многом в отношении пользы Комитета и членов в губерниях. Правда Ваша, что мы во многом расходимся с народом, его свойствами и требованиями, потому что большая часть из членов наших, участвующих в трудах Комитета и комиссии по составлению списка книг, народа не знает, она видела его не далее Сенной в Петербурге, да и там — полно, видела ли? Притом у нас много немцев, которые едва ли и способны понимать русского мужика и его натуру и особенно детей его; а если бы и были способны понять, то не поймут, потому что не хотят ближе посмотреть. Они так убеждены в верности и важности своих педагогических знаний, что даже и читать не хотят, что говорят им люди опыта изнутри России, занимающиеся обучением крестьянских детей. Я чувствую (хотя и не специалист) ежедневно наши ошибки. Жаль, что Вы не разобрали все наши книги... Я показал членам Ваше мнение о нашем списке»20.
VII
Статья «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» написана в обычном для педагогических статей Толстого тоне любования крестьянскими детьми. Уже одна фраза в описании того, как ребята, кончив сочинение, снимая шубы и укладываясь спать под письменным столом в кабинете Толстого, «не переставали заливаться детским, мужицким, здоровым, прелестным хохотом», — одна эта фраза ярко характеризует отношение Толстого к крестьянским детям. Картины воодушевления ребят при писании сочинений («Большие черные глаза его, блестя неестественным, но серьезным, взрослым блеском, всматривались куда-то вдаль; неправильные губы, сложенные так, как будто он собирался свистать, видимо, сдерживали слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел высказать» и т. д.) принадлежат к лучшим поэтическим страницам Толстого.
523
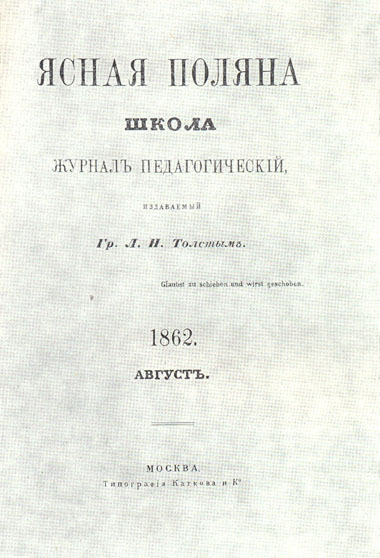
Обложка августовского номера журнала «Ясная Поляна» 1862 г.
524
Разбирая детские сочинения, Толстой попутно излагает свои собственные мнения по важнейшим вопросам художественного творчества. Он говорит о значении необходимого во всяком искусстве чувства меры, «которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники»; о необходимости сжатых и ярких характеристик героев и окружающей их обстановки, дающих читателю возможность «видеть» все происходящее; о важности для художника любовного отношения к изображаемым лицам («Автор глубоко полюбил и потому понял всего его...», «У Федьки художественное чувство захватывает и бабу..., она в его глазах не виновата»); о том преимуществе, которое дает начало рассказа с действия, а не с описания действующих лиц; о свойстве «каждого художественного слова» вызывать «бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений» и пр.
По поводу замеченных им задатков художественных дарований в яснополянских школьниках Толстой высказывает свой взгляд на природу ребенка. Он соглашается с Руссо, утверждавшим, что «человек родится совершенным». «Здоровый ребенок, — говорит Толстой, — родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем».
«Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей». «Ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в своей гордости, хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне».
Отход от детского возраста, по мнению Толстого, означает удаление от идеала гармонии. Воспитание и образование должны иметь одну цель: «достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра».
Следует сказать, что не только данная статья, но и все педагогические статьи Толстого проникнуты духом преклонения перед первобытной чистотой и неиспорченностью ребенка. Дети, по мнению Толстого, «самые лучшие, честные и безобидные существа в мире»21.
Последняя статья, напечатанная Толстым в «Ясной Поляне» и озаглавленная «Прогресс и определение образования», почти не касается педагогических вопросов. Она является ответом на статью о «Ясной Поляне» тульского педагога Е. Л. Маркова,
525
напечатанную в «Русском вестнике» за 1862 год. Отвечая Маркову, Толстой защищает принцип свободного обучения и решительно восстает против права высших классов вмешиваться в дело народного образования. Он считает, что вмешательство высших классов в дело народного образования «несправедливо, но выгодно для высших классов», и эта «их несправедливость кажется им правом, как казалось правом крепостное право».
Статья посвящена главным образом изложению социальных воззрений Толстого.
Кроме статей Толстого, в «Ясной Поляне» помещались также статьи других авторов, в том числе за весь год издания журнала было напечатано 23 статьи учителей основанных Толстым школ и 7 статей других педагогов. Большая часть этих статей написана людьми, знающими и любящими дело народного учителя; в них сообщаются ценные сведения об умственном уровне крестьян того времени, об их требованиях к учителям и об общих условиях крестьянской жизни.
VIII
В архиве Толстого сохранилось несколько начал незаконченных работ, предназначавшихся для «Ясной Поляны». Одной из таких работ является конспект ненаписанной статьи о демократизации науки.22
Толстой предполагал начать свою статью с констатирования того факта, что в современном обществе «низшие классы, не имея образования, не могут получить его» по двум причинам. Во-первых, потому, что «образование идет вглубь, а не вширь, то есть оно, по свойству своему, служит более роскоши ума, чем удовлетворению потребности», и, во-вторых, потому, что «низшие классы так заняты физической работой, что не могут иметь досуга для образования. Высшие же классы, владея образованием, эксплуатируют их»; образование дает высшим классам «власть, силу, независимость и возможность досуга».
Такое положение должно быть изменено. Должно быть установлено «равенство образования». Но не популяризацией науки может быть достигнуто это равенство — должны быть выбраны другие пути. «Наука должна окрепнуть, принять другие основы, чтобы стать сознанием всего человечества, а не одной части его». Следует объединить знания всех — и ученых, и неученых. Образованные люди ошибаются, полагая, что им не нужно заимствовать
526
знания «от людей, ниже нас стоящих», как в древнем мире считали, что не нужно заимствовать знания от скифов и рабов. «А между тем разве филолог, историк, даже математик не найдут бесчисленного количества новых знаний в народе?» — спрашивает Толстой.
Следует «ввести всю массу народа в наши знания, и нет конца углублению, и наши знания станут прочно». «Благо, то-есть действительный прогресс и цивилизации и образования заключается в равномерности распределения и богатства и знания».
«Но возможно ли общение при несвободе с одной и свободе и власти с другой стороны?»
Не давая ответа на этот вопрос, Толстой вновь повторяет, что «главная задача образования» состоит в том, чтобы дать народу «средства выражать и обобщать знания».
По мнению Толстого, существуют две основные отрасли науки: язык (или языки) и математика. Математика развивает способность «мыслить, обобщать, выводить»; изучение своего языка и языков других народов развивает способность «выражать мысли и понимать их оттенки», «понимать, как мыслят другие». Эти две отрасли науки «свободны, ибо имеют предметом сущность и свойство мысли, а не ее содержание».
На этом конспект обрывается.
Мысли, выраженные в этом конспекте, не получили развития ни в одной из педагогических статей Толстого. Кратко основная мысль конспекта была выражена им в статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», где он писал, что, по его мнению, знания, предлагаемые народу образованными классами, «нехороши, ненормальны», и «нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу знания»23.
IX
Основные положения системы образования, предлагаемой Толстым, могут быть сформулированы в следующих пунктах, текст которых заимствован из его педагогических статей.
1. «Образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству [знаний] и неизменный закон движения вперед образования»24.
2. «Потребность образования и приобретения знаний всегда была и будет одна из главных потребностей человека»25.
527
3. «Задача науки образования есть только отыскание законов воздействия одних людей на других»26.
4. «Для изучения законов образования» следует употреблять «не метафизический метод, а метод выводов из наблюдений»27.
5. «Единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть свобода»28.
6. «Школа хороша только тогда, когда она сознала те основные законы, которыми живет народ»29.
7. «Я должен поучать, как поучает сама жизнь, руководствуясь только тем, что приятно и занимательно для ребенка»30.
8. «Есть кое-что31 в школе неопределенное, почти не подчиняющееся руководству учителя, похожее на электрический ток в телах, кое-что совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, — это дух школы... Дух напряженного оживления, скучный и неприятный вне класса, есть необходимое условие принятия умственной пищи... Смотреть на веселый дух школы, как на врага, как на помеху, есть грубейшая ошибка»32.
9. «В каждом ребенке есть стремление к самостоятельности, которое вредно уничтожать»33.
10. «Образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его»34.
11. «Мысль человечества постоянно стремится к освобождению народа от насилия в деле образования»35.
12. «Чем менее принудительно образование, тем оно действительнее. Чем свободнее школа, тем она лучше»36.
13. «Насилие [в деле образования] употребляется только
528
вследствие поспешности и недостатка уважения к человеческой природе»37.
14. «Насилие [в деле образования], во-первых, невозможно, во-вторых, не приводит ни к каким результатам или к печальным, в-третьих, насилие это не может иметь другого основания, кроме произвола»38.
15. Обязанность педагога — «следить и угадывать все пути, которыми все учащиеся доходят до знания»39.
16. «Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики»40.
17. «Всякий учитель... должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе способность изобретать новые приемы»41.
18. «Наилучший учитель будет тот, у которого сейчас под рукою готово разъяснение того, что остановило ученика»42.
19. «Наилучшая метода была бы та, которая отвечала бы на все возможные затруднения, встречаемые учениками, то есть не метода, а искусство и талант»43.
20. «Всякий учитель должен знать, ...что так как дело преподавания есть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны»44.
X
В своих педагогических статьях Толстой, выходя за пределы специально педагогических вопросов, часто затрагивал вопросы философского и общественно-политического характера. Поэтому его педагогические статьи дают полную возможность уяснить его общее миросозерцание данного периода.
529
В области философии Толстой примыкает к идеализму. «Сознание человечества, — утверждает он, — составляет главный элемент истории»45. «Мы убеждены, что сознание добра и зла, независимо от воли человека, лежит во всем человечестве и развивается бессознательно вместе с историей»46. «Мы убеждены, что добро присуще человеческой природе»47. Существуют «вечные законы философии и науки, одинаково проявляющиеся в высшем выражении мысли и знания и в первобытной душе ребенка»48. В учениях таких мыслителей, как Руссо, проявляется «вечное начало»49. «Критериум добра и правды всегда лежал один и тот же во всем человечестве»50. Этому положению резко противоречит утверждение Толстого в другой статье: «абсолютной правды нет»51.
Религиозность Толстого в его педагогических статьях проявляется лишь в самой общей форме, — в таких выражениях, как «цель, поставленная Провидением», «препятствие, положенное Творцом». «Понятие бога» Толстой относит к числу таких же «великих вечных истин», как 2 × 2 = 4, как закон тяготения, как «красоты искусства»52. Таким образом, религия для Толстого была в то время неразрывно связана с поэзией.
Толстой относится с глубоким уважением ко всякой религии, — с уважением, доходящим да того, что он допускает право религиозных людей насилием внушать свою веру детям ради их «вечного спасения». Но сам Толстой нигде не выказывает себя приверженцем какого-либо определенного вероисповедания, в том числе и православной религии.
Обучение религии Толстой относил к области воспитания, а не образования, и включил «закон божий» в программу своей школы, только идя навстречу требованиям родителей учеников. Чтение Библии с учениками в яснополянской школе (хотя Толстой и писал, что в Библии каждое слово «справедливо, как откровение, и справедливо, как художество») объясняется только тем, что по опыту Толстого рассказы еврейской мифологии оказывались очень занимательными для школьников и представляли удобные поводы для бесед по различным вопросам жизни.
530
В черновом тексте статьи «О народном образовании» сказано, что в современной школе «выучивают догматы, прежде бывшие истинными, но в которые никто больше не верит»53. В статье «Прогресс и определение образования» Толстой упоминает о том, что «духовенство веровало искренно и в особенности искренно потому, что вера эта ему была выгодна; по тому же самому оно всеми средствами внушало эту веру народу, который меньше верил в нее, потому что она была невыгодна». Несмотря на то, что ранее было сказано, что речь идет о духовенстве католическом, вся эта фраза была вычеркнута цензурой. Читатель, конечно, легко мог уловить мысль автора, что если духовенство — католическое или какое другое — веровало «искренно» только потому, что вера эта была ему выгодна, то эта вера — обман.
Церковников не удовлетворяли суждения Толстого о религиозном воспитании. Преподаватель Киевской духовной академии Е. Крыжановский в своей статье о «Ясной Поляне», выписав из статьи «О народном образовании» мнение Толстого о том, что «образование, имеющее своею основою религию, то есть божественное откровение, в истине и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, и насилие в этом, но только в этом случае законно», — замечает по этому поводу: «Кому же покажется логичною и для религии не обидною такая уступка? Ей одной предоставляет он [Толстой] то, что в целой педагогике назвал безобразием, то есть насилие». По поводу упоминания Толстого о преподавании религии в другой статье — «Воспитание и образование», Крыжановский говорит: «Здесь религия представляется уже делом личного слепого убеждения, а религиозное воспитание — делом слепого фанатизма. На таких-то основаниях оно, насилие, будто и законно и разумно!!... «Ясная Поляна» неправильно понимает религию, считает ее делом личности, сердца, делом условным. Толстой уважает ее в этом виде и из уважения к живой душе не хочет трогать того, что какое бы то ни было лицо считает святынею своего сердца». Недоволен Крыжановский и тем, что Библия у Толстого «получила не прямое свое значение»54.
Впоследствии Толстой так вспоминал о своем отношении к церковному учению в период своих школьных занятий:
«Когда я учил в школе, я еще не уяснил себе своего отношения к церковному учению, но, не приписывая ему важности, избегал говорить о нем с учениками, а читал с ними библейские истории и Евангелие, обращая преимущественное внимание на
531
нравственное учение и отвечая всегда искренно на те вопросы, которые они задавали мне. Если спрашивали о чудесах, я говорил, что не верю в них»55.
XI
Общественно-политические воззрения Толстого отразились в его педагогических статьях достаточно отчетливо.
Толстой в этот период еще признает необходимость государства и правительства, но относится весьма критически к некоторым установлениям государственной власти.
Представители высшей государственной власти, люди, живущие «в мире Пальмерстонов, Кайен56, в мире, где разумно не то, что разумно, а то, что действительно», на взгляд Толстого являются людьми «наказанными», то есть живущими в узкой, душной сфере57.
Правительственных чиновников Толстой считает совершенно не нужными для народа. Он иронически отзывается об одной статье в составленной Ушинским книге для чтения «Детский мир», в которой проводится мысль, что «без чиновников и образованных людей пропали бы крестьяне»58.
По мнению Толстого, «бюрократическое устройство полезно для прикрытия пустоты и бессмыслия содержания». Как только в суде произносятся слова: «по указу его императорского величества», так судьи перестают уже быть обыкновенными людьми, а становятся представителями закона, и «тогда не на кого сердиться»59.
Толстой не признает неизбежности войн между народами, говоря: «Если люди всегда убивали друг друга, то из этого никак не следует, чтобы это всегда так должно было быть и чтобы убийство нужно было возводить в принцип, особенно если бы найдены были причины этих убийств и указана возможность обойтись без них»60.
Вновь осуждает Толстой колониальную политику европейских правительств. Он вспоминает войну в Китае, куда «три
532
великие державы» отправились «с пушками и ружьями внушать китайцам идею прогресса»61.
Европейцы и американцы, говорит Толстой, кичатся своей культурой и цивилизацией, а между тем «в древней Греции и Риме было более свободы и равенства, чем в новой Англии с китайской и индийской войнами, в новой Франции с двумя Бонапартами и в самой новой Америке с ожесточенной войной за право рабства»62.
Перейдя к положению народа в России, Толстой высказывает свою неудовлетворенность условиями отмены крепостного права. По мнению Толстого, еще не известно, улучшилось или ухудшилось положение крестьян по манифесту 19 февраля 1861 года, после их освобождения. Манифест 19 февраля лишил крестьян «прав пастбищ, выездов в леса» и наложил на них «новые обязанности, к исполнению которых они оказываются несостоятельными».
В противоположность либералам, которые нападали на помещиков и восхваляли представителей нарождающейся в России крупной буржуазии, Толстой заявляет, что он не находит, чтобы «отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному»63.
Кроме того, Толстой ставит вопрос: «почему прогресс книгопечатания остановился на Положении 19 февраля?» По мнению Толстого, нельзя остановиться на отмене крепостного права; должно быть произведено «равномерное разделение земли между гражданами».
«Почему же никто, кроме людей, признаваемых за сумасшедших, не говорит в печати о таком разделении земель?» — спрашивает Толстой. (Ему вспомнилась, очевидно, очень понравившаяся ему во время его заграничного путешествия статья Герцена о Роберте Оуэне, которого английские буржуазные публицисты называли сумасшедшим так же, как и других социалистов.) «Тут, в сущности, ничего нет сумасшедшего, — отвечает Толстой буржуазным публицистам, — и прямое дело прогресса книгопечатания было бы разъяснять необходимость и выгоды такого разделения, а вместе с тем ни в России, ни в Англии, ни во всей Европе никто не печатает об этом». В другом месте той же статьи Толстой опять говорит о том, что «по понятиям русского народа» увеличение его благосостояния
533
состоит прежде всего «в равномерном разделении земель»64. «Благо, — говорит Толстой в черновой редакции той же статьи, — т. е. действительный прогресс и цивилизации и образования заключается в равномерности распределения и богатства и знания»65.
Разумеется, рассуждения Толстого о недостаточности Положения 19 февраля и о необходимости «равномерного разделения земель» были вычеркнуты цензурой. Они появились в печати только в 1936 году в Полном собрании сочинений.
XII
В статье «Прогресс и определение образования» Толстой подробно излагает свои не только общественно-политические, но и философско-исторические воззрения.
Толстой не видит никакой возможности и необходимости «отыскивать общие законы в истории». Есть «общий вечный закон прогресса, или совершенствования», написанный «в душе каждого человека», и закон этот «только вследствие заблуждения переносится в историю». Здесь Толстой вступает в противоречие с тем, что он раньше писал в другой статье своего журнала. Рассуждая о преподавании истории в школе, Толстой признал законным «интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается человечество»66.
Обращаясь к очень распространенному в шестидесятые годы понятию «прогресс», Толстой не считает «закон прогресса» всеобщим законом человечества. Он находит чрезвычайно убедительные доводы для критики современного ему буржуазного прогресса, оценивая этот «прогресс» с точки зрения благосостояния всего народа.
Недаром статья «Прогресс и определение образования» с таким трудом увидела свет. Московский цензурный комитет сначала предполагал запретить целиком всю статью, как «написанную не в видах правительства». В конце концов статья была разрешена, но все самые сильные места были выброшены цензурой.
Толстой не соглашается с мнением либералов, будто бы технический прогресс ведет к увеличению благосостояния «всей массы народа». Что называть благосостоянием? — спрашивает он. Называть ли благосостоянием «улучшение путей сообщения, распространение книгопечатания, освещение улиц газом, распложение домов призрения бедных, бордели и т. п.», или же
534
«первобытное богатство природы — леса, дичь, рыбу, сильное физическое развитие, чистоту нравов и т. п.?»
По мнению Толстого, «для малой части общества прогресс есть благо, для большей же части он есть зло». Прогресс — благо для «так называемого образованного общества» и зло для народа. «Интересы общества и народа, — утверждает Толстой, — всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому».
Кто в России — «верующие в прогресс»? — спрашивает Толстой. И отвечает: «Верующие в прогресс суть: правительство, образованное дворянство, образованное купечество и чиновничество». И напротив, неверующие в прогресс это — «мастеровые, фабричные, крестьяне-земледельцы и промышленники», то есть «люди, занятые прямой физической работой»67.
Чтобы более подробно изложить свои взгляды, Толстой обращается к рассмотрению «самых обыкновенных и прославленных явлений прогресса в отношении их выгоды и невыгоды для общества и народа». Эти явления: книгопечатание, пар, электричество.
Какое значение для народной жизни имеет телеграф? — спрашивает Толстой. И дает на этот вопрос категорический ответ: «Все мысли, пролетающие над народом по этим проволокам, суть только мысли о том, как бы наиудобнейшим образом эксплоатировать народ».
Типическое содержание передаваемых телеграмм, по утверждению Толстого, состоит в следующем: «По проволокам пролетает мысль о том, как возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет; или мысль о том, что так как вооружение Франции увеличилось, то призвать как можно скорее к службе еще столько-то граждан; или мысль о том, что народ становится недоволен своим положением в таком-то месте и что необходимо послать для усмирения его столько-то солдат; или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени 40 тысяч франков». (Упоминание о телеграммах с требованием войск для подавления недовольства народа было вычеркнуто цензурой.)
«Яснополянский мужик Тульской губернии или какой бы то ни было русский мужик, — говорит далее Толстой, — никогда не послал и не получил и долго еще не пошлет и не получит ни одной депеши». Толстой говорит, что яснополянский мужик «долго еще не пошлет и не получит ни одной» телеграммы, но
535
не говорит, что никогда не пошлет и не получит; он, следовательно, предвидит, что когда-то в будущем и яснополянский мужик будет получать и отправлять телеграммы.
«Все депеши, — пишет далее Толстой, — которые пролетают над его [яснополянского мужика] головой, не могут ни на одну песчинку прибавить его благосостояния... Все эти мысли, с быстротою молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительность его пашни, не ослабляют караул в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить».
Закончив эту часть своей статьи ироническим замечанием по адресу либералов, «поборников прогресса»: «не надобно думать и убеждать других, что то, что выгодно для меня, есть величайшее благо и для всего мира», и сравнением либералов с помещиками-крепостниками, «уверяющими, что для крестьян, для государства и для всего человечества нет ничего выгоднее крепостного права и барщинной работы»68, — Толстой переходит к вопросу о книгопечатании.
«Распложение журналов и книг, — говорит Толстой, — безостановочный и громадный прогресс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей... Литература так же, как и откупа, есть только искусная эксплоатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа... Мелочность и ничтожество литературы увеличиваются соразмерно увеличению ее органов».
Толстой перечисляет названия выходивших тогда журналов, не делая никакого различия в направлении этих журналов. Революционно-демократический «Современник» идет в одном списке с либеральным «Русским вестником» и с органом «почвенников» «Время». Чувствуется полное отчуждение автора от журналистики независимо от направления того или другого органа. Чтобы подчеркнуть свое пренебрежение к журналистике, Толстой к именам действительно существовавших журналов присоединяет еще несколько выдуманных им названий не существовавших журналов.
Толстой называет писателей самых прославленных: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, присоединяя к ним еще знаменитого церковного проповедника митрополита Филарета (это упоминание о Филарете было исключено цензурой),
536
и делает общее заключение относительно всех перечисленных им журналов и авторов: «И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, ненужны для народа и не приносят ему никакой пользы»69.
На основании своих опытов с яснополянскими школьниками Толстой утверждает, что «для того, чтобы русскому человеку полюбить чтение «Бориса Годунова» Пушкина или «Историю» Соловьева, надобно этому человеку перестать быть тем, чем он есть, т. е. человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».
«Выгоды от книгопечатания — вот уже сколько времени прошло — мы не видим ни малейшей для народа», утверждает Толстой. «Ни пахать, ни делать квас, ни плесть лапти, ни рубить срубы, ни петь песни, ни даже молиться, — не учится и не научился народ из книг».
Толстой предвидит возражение против его мнений, состоящее в том, что, признавая то, что прогресс книгопечатания не приносит «прямой выгоды народу», нельзя вместе с тем не признать, что он «смягчает нравы общества» и тем способствует благосостоянию народа. Толстой отводит это возражение доводом, что «смягчение нравов общества еще нужно доказать», забывая о том, какое благотворное действие на него самого оказали в его юности «Записки охотника» и «Антон Горемыка».
Далее Толстой вспоминает факт недавнего прошлого — отношение периодической печати к отмене крепостного права. Делая на этот раз некоторое различие в направлении органов печати, Толстой утверждает, что «ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова», то «большая часть органов требовала бы освобождения без земли».
И Толстой заканчивает эту часть своей статьи словами:
«Прогресс книгопечатания... есть монополия известного класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые под словом «прогресс» разумеют свою личную выгоду, вследствие того всегда противоречащую выгоде народа»70.
Последний пример технического прогресса, приводимый Толстым, это — применение пара в транспорте и в промышленности. Толстой хочет рассмотреть вопрос о «тех выгодах, которые принес и приносит пар массе народа». Он оговаривается, что под словом «народ» он разумеет «настоящий народ, т. е. народ, прямо, непосредственно работающий и живущий плодотворно,
537
народ, преимущественно земледелец, 9/10 всего народа, без которых бы немыслим был никакой прогресс».
Толстой не может побороть своего негодования против либералов за их высокомерное, презрительное отношение к народу. По словам Толстого, либералы (он называет их «прогрессистами») хотя и не показывают этого открыто, придерживаются мнения, что трудовой народ «это не люди, а животные; и потому мы считаем себя вправе не обращать внимания на их мнение и делать для них то самое, что мы нашли хорошим для себя». «Но я полагаю, — возражает Толстой «прогрессистам», — что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких, суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты». Толстой протестует против взгляда «прогрессистов» не только потому, что народ составляет большинство, но, главное, потому, что «народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как то: трудиться, веселиться, любить» мыслить и творить художественные произведения (Илиада, русские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа»71.
Для Толстого представителем народа являлся «близко и хорошо известный» ему тульский мужик.
Этот тульский мужик «не нуждается в быстрых переездах из Тулы в Москву, на Рейн, в Париж и обратно». Не нужны ему и продукты промышленности, перевозимые по железным дорогам: «ему не нужны ни трико, ни атласы, ни часы, ни французское вино, ни сардинки». Все, что ему нужно, начиная с пищи и кончая одеждой, он производит своим собственным, трудом на земле.
Для народа железные дороги невыгодны тем, что «они увеличивают [городские] соблазны, они уничтожают леса, они отнимают работников, они поднимают цены хлеба, они уничтожают коннозаводство». Поэтому народ «всегда недоброжелательно относится к нововведениям железных дорог».
В рукописи и в корректурах статьи «Прогресс и определение образования» рассуждение о влиянии роста железных дорог на народную жизнь гораздо пространнее. Была ли эта часть статьи сокращена самим автором, или пропуски были сделаны по требованию цензуры — неизвестно. Во всяком случае нет никаких оснований полагать, что страницы эти не попали в печать потому, что Толстой отказался от изложенных на этих страницах взглядов.
Здесь Толстой в следующих выражениях формулирует невыгодные для народа последствия развития сети железных
538
дорог: железные дороги «1) стягивают народонаселение в городах, 2) уничтожают леса, 3) возвышают цену на хлеб, 4) поощряют праздность».
Рост городов Толстой не считает выгодным для народа. Он утверждает, что «увеличение городов» «выгодно только для людей общества, в смысле так называемого образованного общества». «Оно выгодно для домовладельцев, для трактирщиков, откупщиков, лавочников и т. д.». Чтобы убедиться в том, что рост городов невыгоден для народа, т. е. крестьян, «стоит только подумать о необработанных, невозделанных по недостатку рук полях России, о разваливающихся и бедных по недостатку рук жилищах народа, о сверхъестественном труде, который несут по деревням женщины, потому что мужья уходят в города».
А «что делает сельское население, стянутое в городах»? Нетрудно дать ответ на этот вопрос. «Извозчики, лавочники, половые, банщики, разносчики, нищие, писцы, делатели игрушек, кринолин и т. п., — все эти, очевидно, пропавшие для народа руки трудятся только для того, чтобы дать выгоды поклонникам прогресса, эксплуатирующим народ и этих людей».
С чувством презрения к праздной жизни господ в городах и обиды за изнуренную трудом крестьянскую женщину Толстой говорит о том, что «в Ярославле, Владимире и других губерниях беременные бабы косят и пашут, потому что мужья их праздно стоят на углах извозчиками, или банщиками мочалками растирают спины прогрессистов».
С большим воодушевлением отстаивает Толстой преимущества деревенского быта перед городским. Он утверждает, что «посконная рубаха, тканная дома, прочнее, теплее, прохладнее, приятнее на теле и даже красивее ситца и холстинки... Чай, сахар, табак... не прибавят здоровья и благосостояния, как и вообще все привычки и потребности, вынесенные из города».
Толстой отказывается говорить «о сравнительном физиологическом и нравственном здоровье городского и сельского населения», как о «слишком избитой и всем известной истине»72.
Условия жизни русского крестьянина, живущего на земле, по мнению Толстого, несравненно более нормальны, чем условия жизни «мнимо свободного» английского пролетария, «уже окончательно оторванного от прямых отношений с природой».
Все свои рассуждения о прогрессе и цивилизации Толстой заканчивает заявлением, что он не признает того, что «мы, русские, должны необходимо подлежать тому же закону движения цивилизации, которому подлежат и европейские народы». Не
539
считая «движение вперед цивилизации» неизбежным для русского народа, Толстой вместе с тем не только не признает этого движения благом для народа, но напротив, считает «движение вперед цивилизации одним из величайших насильственных зол, которому подлежит известная часть человечества».
Для Толстого «весь интерес истории» «заключается в прогрессе общего благосостояния». Прогресс же общего благосостояния, по мнению Толстого, «не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большей частью противуположен ей»73.
В статье «Прогресс и определение образования» от критики современной ему цивилизации Толстой переходит к отрицанию закона прогресса вообще, так как считает, что закон этот выведен из наблюдения над «одной малой частью человечества — Европой». «Весь так называемый Восток не подтверждает закона прогресса, а напротив, опровергает его». Опровергает его Китай, «имеющий 200 миллионов жителей»; опровергают все «неподвижные восточные народы».
По поводу этого упоминания Толстого о «неподвижных восточных народах» В. И. Ленин в 1911 г. в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» писал:
«Взгляд «историков», будто прогресс есть «общий закон для человечества», Толстой побивает ссылкой на «весь так называемый Восток» (IV, 162). «Общего закона движения вперед человечества нет, — заявляет Толстой, — как то нам доказывают неподвижные восточные народы».
Между тем, именно 1862 год, к которому относится статья Толстого «Прогресс и определение образования», был, как это указано В. И. Лениным, началом того периода, когда в России старый строй «переворотился», кончилась эпоха «восточной неподвижности» и началась эпоха ломки старого и укладывания нового строя. В России этот период завершился революцией 1905 года. «А за событиями 1905-го года в России последовали аналогичные события в целом ряде государств того самого «Востока», на «неподвижность» которого ссылался Толстой
540
в 1862 году. 1905-й г. был началом конца «восточной» неподвижности»74.
В этот период (после 1905 года) Толстой и сам убедился в том, что в жизни восточных народов происходят большие изменения. В 1908 году он внимательно следил за началом революционного движения в Турции и Персии и говорил: «Чувствуется, что это кризис всемирный»75.
XIII
Социально-политические воззрения Толстого в период его педагогических занятий могут быть сведены к следующим основным положениям:
1. Настоящей, нормальной жизнью живет только народ, то-есть крестьяне земледельцы, составляющие 9/10 всего населения России. Только трудящиеся земледельцы живут в условиях, способствующих здоровой и нравственной жизни. «В поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров».
2. Интересы народа и интересы господствующих классов противоположны. То, что выгодно господствующим классам, невыгодно народу, и наоборот, то, что выгодно народу, невыгодно господствующим классам.
3. Все условия общественной жизни, развитие науки, искусства, прогресс техники и промышленности должны рассматриваться только с точки зрения выгодности или невыгодности их для народа.
4. Науки и искусства, сложившиеся в среде господствующих классов, чужды и не понятны народу. Литература образованных классов не считается с потребностями народа и не служит ни просвещению народа, ни увеличению его благосостояния.
5. Технический прогресс не приносит народу никакой пользы. Развитие промышленности бесполезно для народа, так как народ все свои потребности, начиная от пищи и кончая одеждой, удовлетворяет своим собственным трудом на земле.
6. Процесс увеличения народного благосостояния не может остановиться на отмене крепостного права. То, что может действительно увеличить благосостояние народа, это — «равномерное распределение земли». О равномерном распределении земли прежде всего другого должна бы говорить как русская, так и европейская печать, но вопрос этот в печати не поднимается, за
541
исключением немногих писателей, не пользующихся большим влиянием и третируемых представителями господствующих классов.
7. Существование правительств необходимо, но правительственная опека над народом не нужна и оскорбительна для народа. Народ может сам устраивать свою жизнь. Некоторые установления современного государственного строя не могут быть оправданы разумом, как например, наказание по суду, являющееся проявлением чувства мести.
8. Война не является неизбежным условием жизни человечества. Особенно возмутительна колониальная грабительская политика европейских правительств, служащая проявлением варварства, жестокости, отличающих эти правительства.
9. Цивилизация, технический прогресс, рост больших городов не являются непреложным законом для всего человечества, что доказывается существованием огромных по своей численности «неподвижных» восточных народов. Закону движения вперед по пути цивилизации подлежат только европейские народы. Для русского народа следование по пути цивилизации и технического прогресса также не является неизбежным.
Таковы общественно-политические взгляды Толстого в период его педагогической деятельности76.
Никогда во все предыдущие годы своей жизни Толстой не подходил так близко к крестьянской идеологии, никогда не был ему так дорог и мил крестьянский уклад жизни.
Всё с точки зрения крестьянина («яснополянского мужика») и всё для крестьянина, для его интересов сегодняшнего дня.
Всего за пять-шесть лет до этого Толстой готов был советовать правительству, во избежание народного возмущения, как можно скорее произвести отмену крепостного права, хотя бы и без наделения крестьян землею. Теперь уже наделение крестьян землею по Положению 19 февраля представляется ему недостаточным; он признает необходимым «равномерное разделение земель», т. е. фактически лишение помещиков права иметь земельную собственность в размере большем, чем имели крестьяне.
Такое существенное изменение за сравнительно короткий срок претерпели общественно-политические взгляды Толстого.
542
XIV
В числе неоконченных педагогических статей Толстого есть статья, посвященная вопросу о языке и содержании книг для детей и для народа77.
Толстой считает, что язык в книжках для детей и для народа «должен быть не только понятный или простонародный, но язык должен быть хороший... Я советую не то что употреблять простонародные, мужицкие и понятные слова, а советую употреблять хорошие сильные слова и не советую употреблять неточные, неясные, необразные слова». «Нужно просто хороший, мастерской язык, которым отпечатывает простолюдин (простонародье) все, что ему нужно сказать, то, чему мы учимся у него и не можем научиться».
Перейдя к содержанию книжек для народа, Толстой отзывается неодобрительно о научно-популярной литературе по географии, истории, естественным наукам, агрономии и технике. По мнению Толстого, все известные ему написанные для народа «теоретические» книги «никуда не годятся, кроме обертки». Толстой в то время считал научно-популярную литературу делом невозможным (мнение, от которого он впоследствии отказался). Этим объясняется, что в «Книжках», составлявших приложение к «Ясной Поляне», не было помещено ни одной научно-популярной статьи.
В других педагогических статьях Толстой не один раз высказывал свои мнения о том, какова должна быть литература для детей. Он с презрением говорил о тех фальшиво-сентиментальных книжках для детей и народа, которые в то время усиленно распространялись либералами. «Уже давно, — говорит Толстой, — в Европе и у нас пишутся книги для поучения народа труду и смирению (которого терпеть не могут поучающие)»78.
Не такие книжки нужны народу и детям.
По мнению Толстого, «требование истинного содержания, художественного или поучительного, у детей гораздо сильнее, чем у нас»79. «Занимательность есть единственный признак как полезности, так и доступности» рассказов для детей. «Природа ребенка» требует от рассказа «личности и движения»80.
Такими требованиями руководствовался Толстой, помещая в «Книжках», служивших приложением к журналу «Ясная Поляна», рассказы и статьи для детского и народного чтения. «По
543
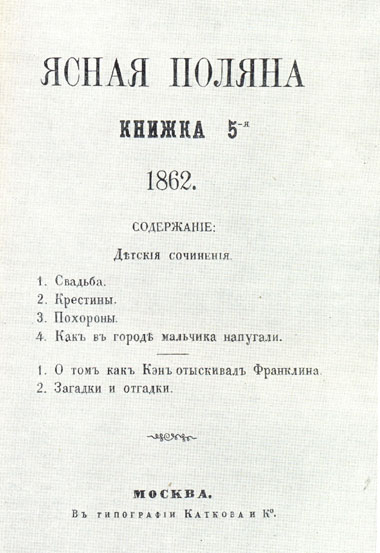
Обложка 5-й «книжки» журнала «Ясная Поляна».
544
форме, — писал Толстой, — задача наших книжек состоит в том, чтобы предлагать это содержание постоянно на таком языке, который бы весь без исключения был понятен чтецу из народа»81.
Содержание «Книжек» «Ясной Поляны» составляли следующие материалы: народные исторические песни и загадки, сочинения и переложения яснополянских школьников, рассказы писателей, популярные исторические очерки, написанные разными авторами.
«Сочинения крестьянских детей» впервые появились в мартовской книжке «Ясной Поляны» с следующим примечанием от редакции: «С настоящей книжки мы начинаем новый отдел: сочинений учеников. По нашим опытам такого рода сочинения читаются весьма охотно. Сочинения эти иногда вовсе не выправлены, иногда с небольшими исправлениями орфографических ошибок».
Из сочинений яснополянских школьников выделяются рассказы: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Солдаткино житье», о которых с таким восхищением говорит Толстой в своей статье «Кому у кого учиться писать». В обоих этих рассказах вполне отразилась вся живость и непосредственность восприятия окружающей действительности умными и наблюдательными крестьянскими мальчиками. Оба рассказа написаны прекрасным народным языком, всегда приводившим Толстого в восхищение. Толстой, ранее учившийся народному языку у яснополянских крестьян, теперь учился ему у своих школьников. Некоторые выражения, употребленные в этих сочинениях, перешли впоследствии в произведения Толстого82. Легенда «Чем люди живы», написанная Толстым в 1881 году, по языку очень напоминает «Солдаткино житье».
Кроме этих двух сочинений, яснополянскими школьниками было написано еще несколько небольших бытовых очерков из крестьянской жизни: «Кто празднику рад, тот до свету пьян», «Как мой батинька был в солдатах», «Свадьба», «Крестины», «Похороны», «Как мужики лес воруют», «Как меня не взяли в Тулу». Все эти очерки так же, как и два упомянутых выше рассказа, очень точно и подробно рисуют тогдашний быт русского крестьянина центральной полосы России и в этом отношении могут служить самым достоверным материалом для историка.
В «Книжках» «Ясной Поляны» печатались также записанные учителями со слов учеников пересказы различных произведений,
545
в том числе народных сказок, сказок из «Тысячи и одной ночи», «Робинзона Крузо», «Хижины дяди Тома» Бичер Стоу, путешествий Кена и Головина, древнего поучительного сказания о Федоре и Василии, осуждающего жадность к деньгам, и повести «Maurice» не установленного французского писателя, в пересказе озаглавленной «Матвей». Основная мысль повести — важное значение труда в жизни человека. Только благодаря труду жизнь человека становится честной. Труд есть лучшее лекарство против всякого горя. «Когда много работаешь, так об горе не думаешь, а думаешь о работе». Упорным трудом преодолеваются все препятствия. «Что вздумаешь, до всего дойдешь, только работай». Труд дает глубокое нравственное удовлетворение. «Когда сам работаешь, всегда хлеб сладок бывает».
В «Книжках» находим также несколько очерков на исторические темы, в том числе «Ермак» и «Петр I» (учителей толстовских школ), «Никон» (А. С. Суворина), «Магомет» и «Лютер» (свояченицы Толстого Е. А. Берс). На основании собственного опыта Толстой считал, что исторический интерес пробуждается благодаря чтению газет и «сочувствию политической жизни своего отечества», чего еще не могло быть у крестьянских детей того времени. Поэтому от популярных очерков на исторические темы Толстой требовал только одного — занимательности, причем, по его мнению, следовало приурочивать рассказ к определенным историческим лицам, которые могут «привязать» к себе детей. Вследствие этого все очерки на исторические темы, помещенные в «Книжках» «Ясной Поляны», особенно очерки, составленные Е. А. Берс, при известной степени занимательности, лишены всякого научно-исторического значения.
Произведений писателей в «Книжках» «Ясной Поляны» появилось только три: незначительный очерк Глеба Успенского (под псевдонимом Г. Брызгин) «Михалыч», рассказ Николая Успенского «Хорошее житье» (перепечатан из «Современника» 1858 г.) и очерк, вероятно, его же (под псевдонимом Печкин) «Акимка».
Все содержание «Хорошего житья» составляет рассказ бывшего кабатчика о пьянстве мужиков. В этом рассказе очень хорошо схвачен народный язык, что всегда особенно ценил Толстой и в чем он видел главное достоинство рассказов Николая Успенского. Толстой, очевидно, не опасался того, что читатели его «Книжек» — крестьянские дети и их отцы — найдут рассказ о пьянстве в деревнях для себя оскорбительным83.
546
Николай Успенский, кроме того, рассказал Толстому сюжет задуманного им рассказа, который Толстому очень понравился. В своих «Воспоминаниях» Успенский так передает этот сюжет: «Два мужика-соседа... из-за чего-то между собою так рассорились, что порешили судиться в волостном правлении, которое находилось от них в далеком расстоянии. Когда наступил день отъезда в деревенский синедрион, один из соседей обратился к своему врагу с вопросом: — Ты что ж, Ермолай, уж запрягаешь лошадей? — Запрягаю. На дворе-то, вишь ты, не рано. — Вот какое дело, братец ты мой: чем нам гонять двух лошадей, поедем на одной. Моя, примером скажем, будет телега, а твоя лошадь, али так повернем: моя будет лошадь, а твоя телега». Враг соглашается. «Тяжущиеся уселись в одной телеге и отправились в волостную. Дорогой они покурили из одной трубочки, а при первом на пути кабаке остановились» и решили завернуть в него. «Зашли мужики в кабак, выпили и почувствовали себя в самом праздничном расположении духа. — А что я тебе скажу, Аверьян, — начали они беседу, — из-за чего мы с тобой затеяли эти самые дрязги? — Из-за чего? Сам знаешь, — из-за баб». Обсудив, что такое баба, и установив, что она «самая что ни на есть первая смутьянка в семье», один предложил другому: «А вот что я тебе скажу, милый человек: лучше бросим эту канитель да поедем домой. Что нам с тобой делить?.. А то, знаешь, какое дело: приедем мы, положим, в Курносово. Сейчас, первым делом, старшину надо ублаготворить, писаря тоже, а там судьи привяжутся. Да прах их возьми совсем!.. Скажи, значит, по душе: ну, на что они нам нужны? Мы с тобой легче сами выпьем, нежели поштвовать будем всякую ораву». И мужики с миром возвратились домой.
Толстой предложил Успенскому написать рассказ на эту тему для «Книжек» «Ясной Поляны». Успенский обещал, но обещания не выполнил84. Толстой, по словам Успенского, «целых 27 лет не мог забыть этого рассказа», а в последнее свидание с ним Успенского в Москве в 1888 или 1889 году спрашивал его, написал ли он рассказ на эту тему.
Толстой иначе представлял себе подробности этого рассказа, чем они переданы в «Воспоминаниях» Успенского. В 1885 году
547
он передавал В. Г. Черткову общее содержание намеченного Успенским рассказа в следующих словах: «Мужики поссорились и поехали к мировому. Ехали они в разных санях, но дорогой их настигла метель, и они помогали друг другу, пересаживались и к приезду к мировому уже все перемешались и передружились так, что и сами не могли понять, зачем они станут судиться»85.
XV
Сдавши в печать первый номер «Ясной Поляны» и ожидая его выхода, Толстой 26 января 1862 года писал Боткину: «Надеюсь, что в литературе на меня поднимется гвалт страшный, и надеюсь, что вследствие такого гвалта не перестану думать и чувствовать то же самое».
Сочувствия своим взглядам Толстой ожидал прежде всего от главы «Современника» Н. Г. Чернышевского. 6 февраля 1862 года он отправил Чернышевскому следующее письмо:
«Милостивый государь Николай Гаврилович! Вчера вышел 1-й номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: «Да... «Детство» очень мило, но журнал?...» А журнал и всё дело составляют для меня всё. Ответьте мне в Тулу».
Первый отзыв, который Толстой получил о своих педагогических статьях, принадлежал редактору «Русского вестника» Каткову, которому Толстой отправил в рукописи свою статью «О народном образовании». Отзыв, как и следовало ожидать от англомана, каким был тогда Катков, был отрицательный. 7 января 1862 года, возвращая Толстому статью, Катков писал ему:
«Прочтя ее, я окончательно убедился, что Вы грешите против своего призвания, предпринимая это издание. С основаниями статьи, конечно, я не согласен... Пишу Вам откровенно именно в силу моего уважения к Вам, к Вашему таланту, к тому значению, которое Вы имеете и должны иметь в нашей литературе»86.
В печати первой отозвалась о «Ясной Поляне» славянофильская газета «День», выходившая под редакцией И. С. Аксакова.
548
В № 21 «Дня», вышедшем 3 марта 1862 года, появилась следующая заметка от редакции, посвященная «Ясной Поляне»:
«Это новое, чрезвычайно замечательное литературное явление есть, по нашему мнению, в то же время чрезвычайно важное явление в нашей общественной жизни; мы намерены поговорить об нем в отдельной статье, а теперь обращаем на журнал графа Толстого особенное внимание наших читателей. Не во всем с ним согласные, мы тем не менее спешим выразить ему наше искреннее сочувствие». Однако обещание редакции «поговорить в отдельной статье» о журнале Толстого выполнено не было.
Заметка в «Дне» или не удовлетворила Толстого или не дошла до него, и он продолжал с нетерпением ожидать отзывов о своем журнале. 11 апреля он писал Каткову: «Журнал мой совсем не идет, и до сих пор о нем не было ни одного слова в литературе. Такими [замалчиваниями?] не бывает встречена ни одна поваренная книга... Материалов у меня, особенно на отдел «Книжки», готово на 3 номера вперед, и я вообще предан этому делу больше, чем прежде его начала».
Вскоре Толстой познакомился с отзывом на первые номера его журнала, появившимся в мартовском номере журнала «Современник». Статья, появившаяся без подписи автора, была написана Чернышевским87.
Когда Толстой просил Чернышевского высказаться о его журнале, он надеялся на сочувствие со стороны Чернышевского как свободной организации его школы, так и тем своим теоретическим высказываниям, в которых он говорил о праве народа на усвоение всех плодов многовековой культуры человечества. Но Толстой не принял в соображение того значения, которое Чернышевский придавал общему направлению журнала. Отзыв Чернышевского оказался не таким, какого ожидал Толстой.
Чернышевский начинает свою статью с замечаний по поводу свободы обучения в школе Толстого. Он делает большую выписку из статьи «Яснополянская школа на ноябрь и декабрь месяцы» о том, как дети приходят в школу, как рассаживаются, как начинаются занятия и т. д., и дает следующую оценку организации яснополянской школы: «Превосходно, превосходно. Дай бог, чтобы всё в большем числе школ заводился такой добрый и полезный «беспорядок» — так называет его, в виде уступки предполагаемым возражателям, автор статьи, его панегирист, — а по-нашему, следует сказать просто: «порядок», потому что какой же тут беспорядок, когда все учатся очень прилежно, насколько
549
у них хватит сил, а когда сила покидает их или надобно им отлучиться из школы по домашним делам, то перестают учиться? Так и следует быть во всех школах, где это может быть, — во всех первоначальных народных школах».
«Такое живое понимание пользы предоставлять детям полную свободу, такая неуклонная выдержанность этого принципа подкупает нас в пользу редакции журнала, издаваемого основателем яснополянской школы», — говорит далее Чернышевский. Но после этого он сейчас же переходит к критике теоретических положений «Ясной Поляны».
Прежде всего Чернышевский высказывается по поводу выраженного в статье «О народном образовании» мнения Толстого, что народ как в России, так и за границей, «противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство». Не отрицая самого факта упорного сопротивления народа «в довольно многих случаях» «заботам об его образовании», Чернышевский объясняет его тем, что народ не есть «собрание римских пап, существ непогрешительных», что могут быть «случайные ошибки народа или его просветителей», что в народе, как и в других классах общества, встречаются как прогрессисты, так и консерваторы, что наконец «большою помехою ученью детей простолюдинов служит бедность простолюдинов», вследствие чего «деятели народного образования должны заботиться о том, как бы улучшить материальное положение народа».
Далее Чернышевский высказывает свое несогласие с мыслью Толстого о том, что, так как народная школа должна отвечать на потребности народа, то пока эти потребности не изучены, мы не можем знать, чему и как учить народ. На это Чернышевский возражает, что было бы «неправдоподобно» полагать, что невозможно узнать «потребности и желания» «простолюдинов» «по делу образования». Затем Чернышевский выписывает из статьи «О народном образовании» отдельные места, которые он считает «дурными», и дает оценку каждому из этих мест. В одних случаях разногласия Чернышевского с Толстым касались частных вопросов, не имеющих существенного значения, как, например, вопроса о том, трудно или легко сделаться хорошим бухгалтером, верно ли, как утверждает Толстой, что студенты поступают в университет «только под условием приманки чина»; в других случаях разногласия затрагивали важные принципиальные вопросы. Так, Чернышевский без всяких комментариев выписывает из статьи Толстого его мнение о том, что применение насилия законно при преподавании религии. По цензурным условиям Чернышевский не имел возможности высказать свое суждение об этом утверждении Толстого, но несомненно, что это место статьи «О народном образовании» было в глазах Чернышевского
550
одним из самых «дурных» в прочитанных им двух номерах «Ясной Поляны».
Еще раз возвращается Чернышевский к мнению Толстого о том, что до тех пор, пока не изучены потребности народа в области образования, не может быть определена и программа народной школы, и советует Толстому для разрешения его недоумения поступить в университет, после чего обращается к Толстому с такими словами: «Но вы думаете, что даже и не можете узнать, — очень жаль, если так, — но это свидетельствовало бы только о несчастной организации вашей нервной системы: если вы не можете понять такой простой вещи, как вопрос о круге предметов народного преподавания, то, значит, природа лишила вас способности приобретать какие бы то ни было знания».
Затем Чернышевский переходит к замечаниям на другую статью Толстого — «О методах обучения грамоте». Против мнения Толстого, что в деле обучения грамоте «все методы одинаково хороши, каждая с известной стороны имеет преимущество над другою... и каждая имеет свои затруднения», Чернышевский возражает, что «как скоро есть два способа делать что-нибудь, то непременно один из этих способов вообще лучше, а другой вообще хуже». Чернышевский отмечает в той же статье «очень неосторожные колкости против людей, занимающихся преподаванием в воскресных школах». Здесь Чернышевский имел в виду то место из статьи «О методах обучения грамоте», где Толстой, считая несомненным, что «народная школа должна отвечать на потребности народа», писал: «Грамота же составляет только одну малую, незаметную часть этих потребностей, вследствие чего школы грамотности суть школы, может быть, очень приятные для их учредителей, но почти бесполезные и часто вредные для народа и нисколько не похожие даже на школы первоначального образования. Вследствие того... люди, для забавы занимающиеся школами грамотности, гораздо лучше сделают, переменив это занятие на более интересное, ибо дело народного образования, заключающееся не в одной грамотности, представляется делом не только трудным, но и необходимо требующим непосредственного упорного труда и изучения народа»88.
По поводу этих строк Чернышевский обращается к Толстому с такими словами: «Это уж решительно нехорошо. Каковы бы там ни были люди, умны ли они по-вашему или глупы, но они честные люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы поднимаете на них руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди».
551
Резкость этого обращения Чернышевского объясняется тем, что «Современник» придавал большое значение работе воскресных школ, вскоре закрытых правительством, и считал политически недопустимым всякое дискредитирование их в глазах общества.
Чернышевский оговаривается, что своей статьей он не хочет сказать, что «редакция «Ясной Поляны» проникнута духом мракобесия». «Странные вещи», которые он находит в «Ясной Поляне», он объясняет отсутствием у редакции журнала «надлежащего знакомства с предметами, о которых она рассуждает». Чернышевский, по его словам, говорит «Ясной Поляне» «неприятную ей правду собственно из желания, чтобы она увидела опасность компрометировать себя такими странными тирадами, дурную сторону которых не замечала прежде, конечно, только по непривычке к теоретическому анализу мыслей».
Свое общее суждение о «Ясной Поляне» Чернышевский высказывает в следующих словах: «За издание педагогического журнала принялись люди, считающие себя очень умными, наклонные считать всех остальных людей, — например, и Руссо, и Песталоцци, — глупцами89, люди, имеющие некоторую личную опытность, но не имеющие ни определенных общих убеждений, ни научного образования... Но кое-что они все же читали и запомнили, и обрывки чужих мыслей, попавшие в их память, летят у них с языка как попало, в какой попало связи друг с другом и с их личными впечатлениями. Из этого, натурально, выходит хаос».
Чернышевский заканчивает свою статью замечаниями на книжки для чтения, служившие приложением к журналу Толстого. Эти книжки Чернышевский считает «лучшей частью «Ясной Поляны». Он очень хвалит язык книжек, но в то же время находит, что «в содержании вещей, рассказанных так хорошо, отразился недостаток определенных убеждений, недостаток сознания о том, что́ нужно народу, что́ полезно и что́ вредно для него». Такой вредной для народа Чернышевский считает помещенную в первой «Книжке» «суеверную сказку» о Федоре и Василии, в которой «чорт соблазнял монаха». «А язык рассказов очень хорош» — такими словами закончил Чернышевский свою статью.
«Определенные общие убеждения», о которых говорит Чернышевский в своей статье, это, конечно, не «определенные убеждения» вообще, а убеждения революционно-демократические. Только исходя из революционно-демократических убеждений
552
можно, по мнению Чернышевского, решать вопросы о том, «что нужно народу, что полезно и вредно для него».
Статья Чернышевского, таким образом, вышла из рамок обсуждения специально педагогических вопросов и получила характер краткого изложения общих социально-политических воззрений автора90.
Но Толстой как-то не уловил принципиального характера статьи Чернышевского, которая произвела на него тяжелое впечатление теми нападками на него лично, которые в ней содержались. В своем незаконченном ответе критикам его журнала91 Толстой посвятил Чернышевскому следующие строки: «Упоминать о критике «Современника» я считаю недостойным себя, что для меня тем более счастливо, что в неприличной статье этой нет ни одного довода и ни одной мысли, а только неприличные отзывы». Замечание о статье «Современника» было сделано Толстым также в примечании к статье «Воспитание и образование», где он писал: «Я боюсь полемики, втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья «Современника». И далее: «Я прошу от критики... не голословных порицаний с известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную антипатию... Я говорю это в особенности потому, что трехлетняя деятельность моя довела меня до результатов, столь противоположных общепринятым, что не может быть ничего легче подтрунивания, с помощию вопросительных знаков и притворного недоумения, над сделанными мною выводами». Несомненно, что и эти строки, говорящие о неодобряемых Толстым приемах критики, были направлены против статьи Чернышевского.
Статья Чернышевского не заставила Толстого изменить его взгляды. Напротив, все те положения, против которых возражал Чернышевский, как право религиозных людей на насилие в деле преподавания религии, указание на недостатки воскресных школ, утверждение, что «грамота в том виде, в котором она преподается народу», не содействует успеху дела образования, — все эти положения Толстой с еще большей настойчивостью повторил в своих дальнейших педагогических статьях.
Только впоследствии путем самостоятельной работы мысли Толстой на иных, чем Чернышевский, основаниях пришел к заключению о том, что «наше церковное учение есть бессовестнейшая
553
и вреднейшая ложь, и преподавание его детям — величайшее преступление»92.
Вторая статья о «Ясной Поляне», озаглавленная «Наши толки о народном воспитании» и принадлежавшая одному из редакторов журнала А. Н. Пыпину, появилась в январской книжке «Современника» за 1863 год.
В самом начале своей статьи Пыпин оговаривается, что «характер понятий» Толстого «весьма самобытен» и поэтому трудно причислить его к какому-либо определенному литературному направлению.
Пыпин не считает педагогику самостоятельной наукой. В то время, как Толстой утверждал, что только опыт может положить твердые основания науке педагогике, Пыпин полагал, что «существенные теоретические основы» педагогики «лежат в физиологии и психологии, науках политических и экономических; в последних выводах этих наук заключаются последние выводы современной теоретической педагогии». Не придавая поэтому никакого значения педагогическим опытам вообще и, в частности, педагогическим опытам Толстого, Пыпин обращается к нему с вопросом: «Кому могут быть интересны ваши умозаключения, подкрепленные только личным вашим капризом, если есть выводы физиологии, антропологии, истории, подкрепленные строгими научными фактами?».
Автор подробно разбирает только одну из статей Толстого — «Воспитание и образование». Он делает выписку из статьи, где Толстой признает право воспитания за семьей, религией и государством, и замечает по этому поводу: «Отказавшись решительно признавать за кем бы то ни было право воспитания, граф Толстой признает его опять за всеми».
Дальнейшая часть статьи Пыпина посвящена критике нападок Толстого на университетское образование, в которых Пыпин находит «обскурантные вещи». В конце статьи автор причисляет Толстого к представителям «школы национального мистицизма», которая говорит «о неразгаданных свойствах русского народа, о том, что он непохож ни на какие европейские народы и т. д.» Пыпин решительно несогласен с таким представлением о-русском народе и считает, что русский народ «принадлежит к тому же индо-европейскому племени, как и все остальные европейские народы, развившие так называемую европейскую цивилизацию». «Мы никогда не думали, что русских следует поставить в одну категорию с турками, татарами, калмыками и т. д.», — безапелляционно заявляет Пыпин.
В третий раз «Современник» вернулся к «Ясной Поляне» в том же 1863 году в рецензии на изданные А. А. Эрленвейном
554
«Народные сказки, собранные сельским учителем», написанной также, вероятно, А. Н. Пыпиным. В предисловии к этому изданию, написанном «Головеньковским учителем», то есть А. П. Сердобольским, говорится, что сказки записывались со слов крестьянских ребят или самими ребятами в ближайших к Ясной Поляне деревнях. Пыпин, не считавший педагогику самостоятельной наукой и не придававший поэтому никакого значения педагогическим опытам, в своей первой статье о «Ясной Поляне» не уделил никакого внимания яснополянской школе. Теперь он исправляет свою ошибку. Свою рецензию Пыпин начинает следующими словами:
«Как мы ни мало сочувствуем теоретическим взглядам графа Толстого, это, конечно, не помешает нам сказать, что его школьные практические приемы, насколько можно было познакомиться с ними по его рассказам, представляют очень много дельного и здравого. К числу этих приемов принадлежит и старанье развить в детях способность связного толкового рассказа... Его выполнение этого приема имеет свои достоинства и могло бы быть существенно полезно в первоначальном обучении»93.
XVI
Не один «Современник», но все толстые журналы в 1862—1864 годах поместили положительные или отрицательные отзывы о педагогической системе и педагогической деятельности Толстого.
В радикальном журнале «Дело» Д. И. Писарев в статье «Промахи незрелой мысли», целиком посвященной Толстому, писал: «Что учение может идти совершенно успешно не только без розог, но даже — что несравненно важнее — безо всякого нравственного принуждения, это доказано на вечные времена практическим опытом самого же графа Толстого в яснополянской школе»94.
Либеральный «Русский вестник» напечатал статью Е. Л. Маркова «Теория и практика яснополянской школы»95. Относясь отрицательно к теоретическим основам педагогической системы Толстого, Марков формулирует свое несогласие с «Ясной Поляной» в следующих главных пунктах:
«Мы признаем право одного поколения вмешиваться в воспитание другого. Мы признаем право высших классов вмешиваться в народное образование... Считаем наше воспитание не вредным, а полезным. Думаем, что полная свобода воспитания, как ее понимает граф Толстой, вредна и невозможна».
555
Вместе с тем Марков признает в журнале Толстого «представителя лучших стремлений новейшей педагогики, стремлений, выраженных в слишком радикальной форме, но в основе все-таки справедливых», и выражает свое полное согласие с «общим направлением» нового журнала.
Последние страницы статьи Маркова посвящены восторженной характеристике яснополянской школы. «Как бы ошибочны ни были мнения графа Толстого, — пишет Марков, — они никогда не могут быть вредны, потому что неминуемо исправятся практикою школы. В них так много широты, свободы, натуры, что всему будет место, что только окажется нужным».
Марков закончил свою статью словами: «Мы приветствуем в «Ясной Поляне» свежего, полного сил и любви бойца, которому дай бог не уставая и не унывая идти его свободным жизненным путем».
В «Библиотеке для чтения», выходившей тогда под редакцией Писемского, появилась статья Д. Г. Щеглова — товарища Добролюбова по Главному педагогическому институту, — в которой автор, признавая появление журнала Толстого «явлением в высшей степени современным», указывал на отличие этого журнала от других педагогических журналов, состоящее в том, что «это не есть педагогический журнал для образованного класса, он имеет в виду образование чисто народное»96.
Умеренно-либеральные «Отечественные записки» поместили статью за подписью Б. (вероятно, известный в то время педагог П. Е. Басистов), в которой высказывалось мнение, что «всякого, принимающего к сердцу народное образование», яснополянская школа «невольно наведет на много мыслей и вызовет много способных педагогов». «В журнале графа Толстого, — писал рецензент, — мы приветствуем первый русский педагогический журнал, а в его школе — первую школу, в которой рационально и с успехом проводится в жизнь учение о необходимости любви между учителем и учениками, как основа школы»97.
Позднее в тех же «Отечественных записках» появилась статья Е. Л. Маркова «Сомнения в школьной практике», в которой автор вполне присоединялся к критике немецкой педагогики в статьях Толстого. «Я несколько понимаю, — писал Марков, — почему граф Л. Толстой, заглянувший в мрачные лаборатории немецкой педагогии, вынес из них безусловную ненависть к ней и безусловное ее отречение. Различные крайности его мнений и некоторые несправедливости объясняются легко этими фактами,
556
особенно же его жаждой совершенно новой и совершенно русской педагогии. Это давало естественный исход для живого наблюдателя немецких школ»98.
Либеральные «Петербургские ведомости» дали следующий отзыв о «Ясной Поляне»:
«Ясная Поляна» — журнал необыкновенно живой, интересный, — в нем постоянно наталкиваешься на такие факты, которые и неверующего заставят верить в славную будущность нашего народа. Мы рекомендуем этот журнал всем интересующимся нашим народом и всем училищам. Педагоги встретят в нем много кой-чего такого, чего не встретят они в разных журналах для воспитания»99.
По выходе в свет повести «Казаки» те же «Петербургские ведомости» напечатали критическую статью по поводу этой повести, принадлежавшую П. В. Анненкову, члену когда-то для Толстого «бесценного», а теперь потерявшего для него всякий интерес «триумвирата» в составе Боткина, Анненкова и Дружинина. Анненков в своей статье следующим образом оценил значение «Ясной Поляны» для раскрытия особенностей детской психологии:
«Ни общество, ни литература наша, конечно, никогда не забудут великих педагогических заслуг Толстого по открытию целого мира богатой внутренней жизни детей, — мира, существование которого только предчувствовалось до него немногими. Он проник в самые скрытные уголки этого мира, и, вероятно, не один раз придется всякому учителю и наставнику, понимающему свое призвание, справляться с открытиями Толстого для того, чтобы проверить свои планы образования и уяснить многие загадочные проявления детской воли и души»100.
Очень сочувственно отнесся к «Ясной Поляне» журнал «Время», орган так называемых «почвенников», близких к славянофильству, издававшийся братом Достоевского. Этот журнал посвятил «Ясной Поляне» три статьи. В первой статье, появившейся без подписи автора, Толстой и его педагогические взгляды были охарактеризованы следующими словами:
«Граф Толстой — не теоретик, а человек, бегущий от теории на свободу, на чистый воздух, к свежей первобытной человеческой природе, просить у нее защиты от теории и совета, как ему поступать в его деле... Его нельзя упрекнуть в искажении своих понятий наносными началами: более полного и более искреннего
557
отречения от всяких наносных теорий и начал, кажется, уже нельзя требовать».
«Мы, впрочем, очень сомневаемся, — писал автор в конце своей статьи, — чтобы наши педагоги обратили на нее [«Ясную Поляну»] какое-нибудь внимание. В ней ведь нет рутины»101.
Вторая статья в том же журнале была написана будущим горячим поклонником таланта Толстого и близким его другом Н. Н. Страховым. В статье под характерным названием «Новая школа» Страхов писал: «Положительная сторона «Ясной Поляны» состоит в необыкновенном поэтическом чутье всех явлений живой души, то есть в настоящем случае всех явлений души русских детей известной местности... Дух детской невинности, свежести и чистоты, которого обыкновенно вовсе не слышно в педагогических журналах, в «Ясной Поляне» схвачен весьма глубоко». Страхов очень одобрительно отзывается о критике Толстым «принудительной педагогики», главный грех которой тот, что она «слишком тупа сравнительно с живою душою детей. Она ломает в детях хорошее, потому что не понимает его... Замечания автора в этом отношении большей частью весьма справедливы».
Страхов, однако, не одобряет того, что «Ясная Поляна» «свое уважение к живой детской душе доводит до пристрастия» и приносит ему в жертву «весьма дорогие вещи, например, Пушкина, наши университеты и т. п.»102.
Третья статья во «Времени», посвященная «Ясной Поляне», напечатанная за подписью Игдев (И. Г. Долгомостьев), содержала полемику против статьи Пыпина «Наши толки о народном образовании».
Автор называет Толстого «врагом всякого «нигилизма», то есть ничтожества, пустозвонства и т. п. современных добродетелей». Толстой, по словам автора, является противником «всякого деспотизма, откуда бы тот ни шел»; однако он не проводит последовательно этой точки зрения, так как «защищать народ от деспотизма семьи, религии и правительства считает ненужным». Не согласен автор и с тем разграничением воспитания и образования, которое отстаивает Толстой. Он полагает, что Толстой в своей школе, «сам того не замечая, воспитывает своих учеников, и прекрасно воспитывает»103.
XVII
Несколько статей о «Ясной Поляне» напечатал педагогический журнал «Воспитание». Первая статья о «Ясной Поляне»,
558
помещенная в «Воспитании», давала вполне благоприятный отзыв о журнале Толстого. «Факты, добытые графом Толстым, — читаем в этой статье, — путем честного опыта и беспристрастных наблюдений и занесенные в издаваемый журнал, ставят «Ясную Поляну» на высокую ступень интереса в ряду других наших педагогических журналов; «Ясная Поляна» есть, так сказать, физиология педагогики. При теперешней невыработанности наших понятий о народном образовании вообще, путь, выбранный графом Л. Н. Толстым для уяснения вопросов о духовных немощах народа и о нуждах народных школ, едва ли не самый лучший». Но автор полагает, что идти по этому пути невозможно «со светочью одного эмпиризма», «отрицая все добытое тысячелетними опытами и наблюдениями лучших умов над проявлениями высших законов духовной природы человека».
Но в следующих статьях о «Ясной Поляне», помещенных в «Воспитании», высказывалось уже или недоумение в отношении основных принципов педагогической системы Толстого или прямое их отрицание.
«Полянская школа, — писал С. Протопопов, — скорее есть школа навыворот, нежели место порядка, дисциплины и благочиния, которым дети должны подчиняться и научаться в школе, за недостатком всего этого в домах своих родителей... Легко можно [яснополянскую] школу принять за какую-то жидовскую синагогу или за цыганский табор, где крику и движениям каждого мальчика дан полный разгул».
Автор, однако, допускал возможность в будущем некоторых практических успехов применения принципа свободного образования. «Может быть, — писал он далее, — пример этой вполне новой у нас не методической методы обучения послужит современным образцом для обучения и в прочих наших общественных учебных заведениях и принесет гораздо больше пользы, нежели теперешняя наша формальная дисциплинированная школьная учебность. Но все это только одни гадания. По крайней мере масштаб ни одной из известных доселе не только русских, но и европейских школ в собственном смысле слова к школе Полянской и ей подобным неприложим... Новый Колумб только еще отправляется открывать в области педагогики Америку, а потому пожелаем ему от чистого сердца всевозможных успехов в его трудном и многообещающем предприятии»104.
Следующая статья о «Ясной Поляне» появилась в том же журнале под характерным заглавием «Педагогические парадоксы». Нисколько не обольщаясь теми уступками в пользу насильственного воспитания, которые Толстой делал для семьи, религии и государства, критик говорит: «Автор, кажется, полагает...,
559
что все элементы человеческого воспитания: семья, государство, религия, школа, — все это не что иное, как пружины адских сил. Видите — и семьянин, и проповедник, и законодатель, желающие передать свои лучшие убеждения... не верьте им, все это шайка эгоистов, коварных лжеучителей, желающих, по меткому выражению яснополянского барышника дворника, напитать воспитываемого своим духом, сделать его похожим на себя, то есть более испорченным. Вот куда парадоксомания увлекла уже не Ясную, а сильно помраченную Поляну»105.
В последней статье о «Ясной Поляне», напечатанной в «Воспитании», тот же С. Протопопов повторил, что нормальная школа «есть место порядка и благочиния для детей, а не место для их распущенности и для упражнения их во всевозможных выходках дикого своевольства»106, как это, по его мнению, имело, место в яснополянской школе.
Ни одним добрым словом по адресу «Ясной Поляны» не обмолвился германофильский педагогический журнал «Учитель». За все время выхода в свет «Ясной Поляны», «Учитель» хранил полное молчание об этом журнале. Только в 1863 году один из главных сотрудников «Учителя», Е. Кемниц, в обзоре педагогической литературы вскользь упомянул об издателе «Ясной Поляны», как о «главном представителе индивидуально-эгоистического направления в педагогике», содействовавшего распространению в обществе «материалистических идей»107.
В следующем 1864 году, то есть уже через два года после прекращения «Ясной Поляны», Кемниц посвятил журналу Толстого целую статью, в которой причислил Толстого к «педагогическим нигилистам», которые смотрят на явления жизни «в очки материализма», и заявил, что «все учение «Ясной Поляны» было построено на абсурде»108.
В противоположность германофильским течениям в русской педагогической литературе того времени, журнал «Очерки» решительно заявлял: «Яснополянская школа есть педагогический опыт. Ведется он добросовестно, фактически и рационально... Будем же смотреть уважительно или, по крайней мере, серьезно на почтенную и бескорыстную педагогическую деятельность графа Л. Н. Толстого, нисколько не стесняясь в духе самоунижения тем, что великая попытка, которой нет ничего подобного в просвещенной Европе, задумана и энергически выполняется русским человеком»109.
560
Столь же сочувственно отнесся к педагогике Толстого и близкий к славянофильству журнал «Светоч», напечатавший следующий отзыв о «Ясной Поляне»:
«Ясная Поляна», это лучший из наших педагогических журналов как относительно свежести своих взглядов, так и относительно смелых, энергических стремлений на пользу народного образования... В журнале гр. Толстого не немецкая педагогическая мертвечина (как в «Учителе»), а живой ключ, веющий русской силой и свежестью... Такие явления, как журнал гр. Толстого и его школа, как нельзя более необходимы нам теперь»110.
Всеобщими похвалами встречен был язык «Книжек» для чтения при «Ясной Поляне». Уже было приведено мнение Чернышевского по этому вопросу. Журнал «Воспитание» в следующих словах отозвался о языке «Книжек».
«Язык в этих книжках совершенно отличен от книжного языка, на котором мы привыкли читать не только исторические повести, но и басни и сказки. Он в то же время чужд как всякой подделки, так сказать, под мужичество крестьянских выражений, так и всякой грамматичности в построении предложений и периодов. Ни одной крестьянской поговорки, ни одного причастия и деепричастия, много-много, что союзы «а», «и», «да» — вот и все орудия, посредством которых вяжется речь и выговаривается вся внутренняя и внешняя сторона быта, жизни, рассказываемых случаев, описываемых событий и приключений»111.
Толстой был очень обрадован появившейся в «Московских ведомостях» заметкой об одной из крестьянских школ под Рязанью, устроенной помещиком, где повесть «Матвей» была прочитана учителем вслух и произвела на учеников «обаятельное впечатление». «Каждый из них сразу до того хорошо выразумел и запомнил ее содержание, что сейчас же мог рассказать своему учителю всю повесть»112.
XVIII
Министерство народного просвещения за все время существования «Ясной Поляны» относилось к журналу Толстого вполне благожелательно. В одном из циркуляров Московского учебного округа «Ясная Поляна» рекомендовалась учебным заведениям, в особенности приходским училищам113.
Иначе взглянуло на «Ясную Поляну» Министерство внутренних дел.
561
3 октября 1862 года министр внутренних дел Валуев отправил министру народного просвещения Головнину следующее отношение:
«Наблюдательное чтение педагогического журнала «Ясная Поляна», издаваемого графом Толстым, приводит к убеждению, что журнал этот, проповедующий совершенно новые приемы преподавания и основные начала народных школ, нередко распространяет такие идеи, которые, независимо от их неправильности, по самому направлению своему оказываются вредными.
Не входя в подробный разбор доктрины этого журнала и не указывая на отдельные статьи и выражения, — что, впрочем, не представило бы затруднений, я считаю нужным обратить внимание Вашего Превосходительства на общее направление и дух этого журнала, нередко низвергающие самые основные правила религии и нравственности.
Продолжение этого журнала в том же духе, по моему мнению, должно быть признано тем более вредным, что издатель, обладая замечательным и, можно сказать, увлекательным литературным дарованием, не может быть заподозрен ни в злоумышленности, ни в недобросовестности своих убеждений. Зло заключается именно в ложности и, так сказать, эксцентричности этих убеждений, которые, будучи изложены с особенным красноречием, могут увлечь на этот путь неопытных педагогов и сообщить неправильное направление делу народного образования.
Имею честь сообщить о сем Вам, Милостивый Государь, в том предположении, что не изволите ли Вы признать полезным обратить особенное внимание цензора на это издание».
Получив эту бумагу, Головнин поручил одному из служащих Министерства народного просвещения подробно ознакомиться со всеми вышедшими до того времени номерами «Ясной Поляны» и представить ему о них письменное донесение. Донесение это, озаглавленное «Мнение о «Ясной Поляне», педагогическом журнале, издаваемом графом Л. Н. Толстым», сохранилось в архиве Министерства народного просвещения. Автор его нам не известен114. Содержание этого «Мнения о «Ясной Поляне» состоит в следующем.
Автор на основании вышедших к тому времени первых шести номеров «Ясной Поляны» добросовестно излагает взгляды Толстого относительно: «а) метода образования, б) отношения учащихся к учащим и в) соответствия народных школ с характером и потребностями народа».
Изложив «основные педагогические понятия» Толстого, автор
562
дает им высокую оценку. Он признает их «справедливость, несмотря на всю исключительность и крайность некоторых взглядов», признает также «чистоту и благонамеренность выводов, силу убеждения и горячее сочувствие к делу» основателя яснополянской школы. «Положить в основу народного воспитания природу детей вообще и природу русского простолюдина в особенности, — говорит автор, — идти в своих школьных занятиях путем опыта и наблюдений, установить между учащимися и учащими простые, легкие, свободные отношения, проникнуться духом взаимной любви и доверия, освободить уроки от всякого принуждения и механизма, устроить из школы как бы семейство, где начальники заступают место добрых, попечительных отцов и матерей, — что может быть лучше этого, желательнее и плодотворнее?»
Автор отмечает также важное значение для педагогики материалов о ходе занятий в сельских школах, сообщаемых в статьях Толстого и его сотрудников. Новаторство «Ясной Поляны» автор видит в том, что «до сих пор русские педагоги устремляли свое внимание на воспитание и учение одного только образованного класса», тогда как «Ясная Поляна» занята вопросами образования народа.
Далее автор, хорошо осведомленный в истории педагогики, устанавливает связь педагогических воззрений Толстого с воззрениями Монтеня, Локка и Руссо и переходит к указанию «неудобств и недостатков» педагогической системы «Ясной Поляны». Таких «неудобств и недостатков» автор находит три.
Первое неудобство заключается, по его мнению, в том, что педагогическая система Толстого не применима в обычных условиях народной школы и при большом числе учеников.
Вторая ошибка Толстого в том, что он хочет «освободить детей от всякого труда, передать им знания легко, приятно и даже сладко», между тем как «вся жизнь наша есть труд» и «труд есть обязанность учащегося».
Третье заблуждение Толстого автор видит в том, что он «каждое требование ученика считает законным и его неразвитым вкусом определяет хорошее или дурное в области поэзии», «ставит лирические стихотворения Пушкина и симфонию Бетховена ниже простонародных русских песен и напевов, забывая, что к пониманию и художественной и нравственной красоты восходят постепенно путем долгих упражнений». «Даже в оценке нравственных подвигов нельзя доверяться простому наивному чувству, и для нее необходима известная подготовка». «Граф Толстой решительно упустил из виду, что если бы мы доверялись только непосредственному, неразвитому чувству истины, добра и красоты, то для нас были бы недоступны самые высшие проявления этих идей».
563
Автор заканчивает свое «Мнение» рассмотрением отношения «Ясной Поляны» к движению 60-х годов и к религии. Он выписывает из статьи Толстого «О народном образовании» его наблюдение, что в школах того времени «рядом с классом заучивания истины о бессмертии души ученику стараются дать уразуметь, что нервы, общие человеку и лягушке, суть то, что прежде называли душою», и высказывает свое твердое убеждение, что не Толстой «конечно, думает, что нервы и душа одно и то же: это есть учение материализма».
Автор находит в «Ясной Поляне» неодобрительный отзыв о духовенстве, но считает, что вера и служители веры не одно и то же, и заканчивает рассуждения по данному вопросу словами, что «не антирелигиозные тенденции видны в журнале графа Толстого, а скорее совершенно противные, то есть религиозные. Современный материализм не сойдется с ним ни под каким видом».
Получив это заключение о «Ясной Поляне», Головнин копию его отправил Валуеву вместе со следующим отношением:
«Ваше превосходительство от 3 октября изволили сообщить мне некоторые замечания на общее направление издаваемого графом Толстым журнала «Ясная Поляна».
Вследствие сего, вышедшие до настоящего времени книжки этого издания, несмотря на то, что Министерство народного просвещения своевременно следило за оным, снова, по моему распоряжению, были подвергнуты тщательному пересмотру, и я долгом считаю препроводить у сего к Вам, Милостивый Государь, копию с донесения мне по этому предмету. Из этого донесения Ваше превосходительство изволите усмотреть, что в направлении помянутого издания нет ничего вредного и противного религии, но встречаются крайности педагогических воззрений, которые подлежат критике в ученых педагогических журналах, а никак не запрещению со стороны цензуры. Вообще я должен сказать, что деятельность графа Толстого по педагогической части заслуживает полного уважения, и Министерство народного просвещения обязано помогать ему и оказывать сочувствие, хотя и не может разделять всех его мыслей, от которых после многостороннего обсуждения, он и сам, вероятно, откажется»115.
XIX
В архиве Толстого сохранилось несколько писем к нему разных лиц с отзывами о «Ясной Поляне». Так, профессор Московского
564
университета С. А. Рачинский в письме от 22 мая 1862 года писал Толстому:
«Во многих из Ваших положений, которые кажутся парадоксами в силу привычки к совсем иному, лежит неотразимая истина. Я, конечно, не могу говорить об этом предмете с авторитетом опыта, но у меня нет педагогических предрассудков, и я помню собственное детство и детство моих товарищей... Нет возможности отвергнуть, что каждый из нас не знает ни единой йоты, кроме того, что он узнал свободно, что он взял сам, а не принял пассивно»116.
Друг Пушкина, ректор Петербургского университета П. А. Плетнев писал Толстому 20 марта 1862 года, что он и его жена, слушая чтение их детьми пересказа «Робинзона», напечатанного в одной из «Книжек» «Ясной Поляны», пришли в восхищение, а их восьмилетний сын после этого прочитал всех «Робинзонов», какие ему удалось достать в книжных лавках, и нашел, что «понятнее и интереснее «Робинзона», напечатанного в «Книжке» «Ясной Поляны», он ничего не отыскал»117. Толстой, отвечая П. А. Плетневу 1 мая, писал: «Ради бога простите меня, многоуважаемый Петр Александрович, что еще не отвечал вам. Я тем более виноват, что мне редко удается получать письма столь приятные, как ваши. Ваше высказываемое сочувствие мне очень дорого. А Робинзона вы похвалили самым лестным для меня образом... Желал бы, чтобы вашему молодому человеку понравились повести 4-й книжки «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» так же, как Робинзон. Критика его очень мне дорога — ежели он по отцу пошел»118.
Полное согласие с принципами «Ясной Поляны» выразила известная в свое время писательница и переводчица Е. Н. Ахматова, друг Н. И. Пирогова, бывшая в переписке с Некрасовым. В обширном письме от 30 июля — 6 августа 1862 года она писала: «Чем более я читаю Ваши статьи в «Ясной Поляне», тем более я удивляюсь, до какой степени Ваши взгляды сходятся с моими... Ваши слова в одной из Ваших статей, что учитель не имеет права притеснять ученика на том основании, что ему только десять или двенадцать лет, когда это такой же человек, окончательно привели меня в восторг, потому что они убедили меня, что мнения мои были не парадоксальны, не эксцентричны, что их могут иметь и другие, не одна я... Ваши мнения внушены были Вам не только Вашей наблюдательностью, но и Вашей любовью к человечеству вообще. Вы, заботясь о народном образовании, хотите принести пользу всем русским детям вообще...».
565
Далее Ахматова писала, что на опыте воспитания своего семилетнего сына она вполне убедилась в бесплодности принудительного образования.
Толстой был очень обрадован письмом Ахматовой и в ответном письме от 1 октября писал ей: «С тех пор, как я занимаюсь школами и журналом, я не слыхал ни от кого слова сочувствия, которое бы было мне столь приятно и драгоценно, как письмо, полученное от вас... Дорого мне то, что вы просто вследствие того, что любите своего Сережу и непредубежденно, ясно смотрите на мир, дошли до совершенно тех же убеждений, до которых дошел я, мне кажется, иным путем».
Далее Толстой просил у Ахматовой разрешения напечатать с сокращениями ее письмо в своем журнале, прибавляя: «Вы не можете сами чувствовать всей важности, которую в моих глазах и в глазах публики [имеют] ваши слова, вытекающие из источника, совершенно противуположного тому, из которого идет большая часть литературы, — из сердца»119.
Ахматова дала согласие на напечатание ее письма, но вследствие прекращения «Ясной Поляны» письмо ее в печати не появилось.
Другая писательница, М. А. Маркович, автор рассказов из крестьянской жизни, пользовавшаяся в 1860-е годы большой известностью и печатавшаяся под псевдонимом Марко Вовчок, прислала Толстому из Парижа восторженное письмо по поводу его статей в «Ясной Поляне», датированное 9 мая (нов. ст.) 1862 года. Она писала: «Ваша книга хорошая, в ней все правда. Я над ней плакала, не выходит у меня из головы самостоятельная дворовая девочка, и маленький вор, и Кыска, и белый карапузик, и тот большой, что дрова несет и на ходу складывает, и трое, что с вами гуляли ввечеру, и все, все. Я видела и слышала, как пели дети странными, дрожащими голосами в приюте графа Потоцкого в Немирове, как вы видели и слышали за границей. Я после по ночам слышала эти голоса». В заключение письма М. А. Маркович спрашивала Толстого, не может ли ему пригодиться ее помощь. «Научите меня, что делать, и я буду из всех сил стараться»120.
Толстой ответил М. А. Маркович 19 мая. Он писал: «Ваш искренний сочувственный голос очень был мне приятен, от души благодарю вас за то, что вы написали мне». Толстой просил Маркович присылать ему то, что она напишет для «Ясной Поляны», и просил позволения «быть откровенным»121. Но сотрудничество
566
М. А. Маркович в «Ясной Поляне» почему-то не осуществилось.
Было бы очень интересно найти какие-либо материалы по вопросу о том впечатлении, какое производила «Ясная Поляна» на лиц, непосредственно занятых педагогической работой, — на учителей народных и средних школ. Но, к сожалению, по этому вопросу мы имеем только одно свидетельство — известного впоследствии педагога Н. Ф. Бунакова, который в год появления «Ясной Поляны» занимал место учителя в Вологодской гимназии. В своих воспоминаниях Бунаков рассказывает:
«Не могу умолчать о том впечатлении, какое произвели на меня и моих вологодских друзей первые педагогические статьи Л. Н. Толстого в его журнале «Ясная Поляна». Они нам казались откровением и истинно «новым словом». Мы с жадностью читали их. В Вологде тотчас основалась и школа на новых началах, в духе яснополянской»122.
567
Глава одиннадцатая
ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО.
ПЕРВЫЙ ГОД СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
(1862—1863)
I
В последних числах июля 1862 года, живя в Москве и находясь в взволнованном и возбужденном состоянии после произведенного у него обыска, Толстой старался забыться и рассеяться в обществе своих знакомых. Он стал чаще бывать у Берсов, живших в то время на даче в Покровском-Стрешневе, в двенадцати верстах от Москвы.
В начале августа, когда Толстой уже уехал в Ясную Поляну, Л. А. Берс вместе с тремя дочерьми и младшим сыном Володей собралась навестить своего отца А. М. Исленьева, жившего в своем имении Ивицы Тульской губернии Одоевского уезда. По дороге она решила заехать в Ясную Поляну, отстоявшую от Ивиц в пятидесяти верстах. Поводом к такому заезду было, по словам С. А. Толстой, желание ее матери повидаться с другом своего детства М. Н. Толстой, гостившей в то время у брата. Но, кроме этого, несомненно, решение Л. А. Берс было вызвано также и тем вниманием, которое Толстой оказывал ее дочерям.
В Ясной Поляне Берсы пробыли двое суток.
Софья Андреевна в своих воспоминаниях рассказывает, как она поздно вечером, сидя на балконе яснополянского дома, любовалась открывавшимся перед нею чудесным видом; как приходил к ней Лев Николаевич и в разговоре сказал ей: «Какая вы вся ясная, простая»; как он помогал приготовлять для нее постель в комнате «под сводами»1.
На другой день Толстой устроил пикник в лесу Засека. На пикник были приглашены также соседи — педагоги тульской гимназии с их семьями. Сестрам Берс было очень весело.
Повидимому, приезд в Ясную Поляну семьи Берсов и особенно Софьи Андреевны имел для Толстого решающее значение в вопросе о женитьбе. Вероятно, именно теперь он, как изображенный
568
им впоследствии Левин, почувствовал: «Нет, как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее». Быть может, как тот же Левин, он теперь «с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке»2.
Из Ясной Поляны Берсы уехали в Ивицы. На следующий день туда же явился и Толстой.
Здесь произошло объяснение Льва Николаевича с Софьей Андреевной при помощи начальных букв нескольких слов, описанное впоследствии в «Анне Карениной».
Вечером, оставшись вдвоем с Софьей Андреевной в той комнате, где перед тем происходила игра в карты и стоял покрытый зеленым сукном ломберный стол, Лев Николаевич предложил Софье Андреевне прочесть то, что он напишет мелом на столе одними начальными буквами. Он стер щеткой все карточные записи и написал начальными буквами следующую фразу: «Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастия, и именно вы»3.
Софья Андреевна тут же написала ему ответ также одними начальными буквами, но содержание этого ответа исчезло из ее памяти.
Невольной свидетельницей этого объяснения явилась младшая сестра Софьи Андреевны Таня, которая, спасаясь от настойчивых упрашиваний что-нибудь спеть, забилась под рояль, стоявший в той же комнате. По ее рассказу, некоторые слова Лев Николаевич подсказывал ее сестре4.
С. А. Толстая в своих воспоминаниях рассказывает, что Лев Николаевич в тот же вечер написал ей начальными буквами еще две фразы («В Вашем семействе существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»), но это, как кажется, ошибка ее памяти, опровергаемая письмами к ней Толстого от 9 и 14 сентября и его записью в дневнике от 28 августа, делающими этот эпизод хронологически не вполне ясным (очевидно, Толстой написал эти фразы начальными буквами 28 августа).
«Взволнованная и счастливая, я ушла спать», — вспоминала Софья Андреевна. Ее старшая сестра Лиза, мечтавшая о замужестве со Львом Николаевичем, видя его отношение к Соне, была очень расстроена.
На другой день Толстой уехал, взявши с Л. А. Берс слово, что на обратном пути она еще раз заедет в Ясную Поляну.
569
Л. А. Берс обещание выполнила, но на этот раз Берсы пробыли в Ясной Поляне совсем недолго. Толстой вместе с ними в том же экипаже отправился в Москву.
II
В Москву Толстой приехал, повидимому, 21 августа. Он снял небольшую квартиру у какого-то немца-сапожника. Здесь он занялся работой над двумя статьями для «Ясной Поляны»: «Об общественной деятельности на поприще народного образования» и «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Обе эти статьи были частью им написаны, частью продиктованы жившим в то время в Москве учителям его школы. Кроме того, тогда же начат был Толстым ответ на статью Е. Л. Маркова об его школе, законченный уже в феврале 1863 года и напечатанный под названием «Прогресс и определение образования».
Но не литературно-педагогические работы были главным делом, ради которого Толстой жил в Москве. Главным делом его было выяснение своих отношений с Софьей Андреевной.
Семейство Берсов продолжало жить на даче в Покровском-Стрешневе, и Толстой стал часто бывать у них. Чувствуя необходимость разобраться в своих отношениях к заинтересовавшей его девушке, Толстой возобновляет оставленный им дневник и ведет его почти ежедневно. В первой после возобновления дневника записи 23 августа он пишет: «Ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло!»
Вспоминая, очевидно, свои прежние увлечения, из которых ни одно не было достаточно глубоким, он далее пишет: «Я боюсь себя: что ежели и это — желанье любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно. Ребенок! Похоже».
На следующий день: «Встал здоров с особенно светлой головой, писалось хорошо, но содержанье бедно. Потом так грустно, как давно не было. Нет у меня друзей, нет! Я один. Были друзья, когда я служил мамону, и нет, когда служу правде».
А друзья ему особенно необходимы были теперь, когда решался важнейший вопрос его жизни.
26 августа: «Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. С. нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Всё я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Всё это не про меня. Труд и только удовлетворение потребности».
570
Повесть, о которой здесь говорится, была написана Софьей Андреевной, когда ей было 16 лет. В повести изображались все три сестры Берс и их мать, а также и Толстой под именем князя Дублицкого, причем отмечалась «необычайно непривлекательная наружность» и «переменчивость суждений» князя. Повесть была сожжена Софьей Андреевной перед выходом замуж.
Слова Толстого: «все это не про меня» — означали то, что, прочитав повесть Софьи Андреевны, он убедился, что «не про него» ее молодость и привлекательность, что его назначение — труд, и на этом успокоился.
Но успокоение это было только временным.
В день своего рождения, 28 августа, когда ему минуло 34 года, Толстой «встал с привычкой грусти. Придумал общество для учеников мастерствам» (запись дневника).
В этот день Берсы прислали ему «букеты писем и цветов». Поздравление прислали все взрослые члены семьи Берсов: отец, мать, старший сын и все три дочери. Софья Андреевна писала: «Если б я была государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения всемилостивейший рескрипт, а теперь, как простая смертная, просто поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет божий, и желаю вам долго еще и если можно всегда смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь. Соня»5.
Далее в дневнике Толстого под тем же числом записано: «Написал напрасно буквами С-е». Запись эту можно понять только в том смысле, что Толстой вновь написал Софье Андреевне что-то одними начальными буквами слов. Какие были эти слова — разъяснено в письме Толстого к Софье Андреевне от 9 сентября.
В этот день Толстой провел «приятный вечер у Тютчевых». Потом «сладкая, успокоительная ночь». Записав это, Толстой вновь внушает себе: «Скверная рожа, не думай о браке, твое призванье другое, и дано зато много»6.
571
Но и это самовнушение не подействовало. На другой день он записывает: «Не любовь, как прежде, не ревность, не сожаление даже, а похоже, а что-то сладкое — немножко надежда (которой не должно быть). Свинья. Немножко как сожаленье и грусть. Но чудная ночь и хорошее, сладкое чувство. Заставила разбирать письмо. Я смутился. Она тоже». Здесь говорится, повидимому, о словах, написанных Толстым 28 августа, одними начальными буквами. Запись заканчивается словами: «Грустно, но хорошо. Машенька говорит: «Ты всё ждешь». Как не ждать».
30 августа. «К Берс. С. к П[опову]7 не ревную; мне не верится, что не я. Как будто пора, а ночь! Она говорит тоже: «Грустно и спокойно». Гуляли, беседка, дома за ужином — глаза, а ночь!.. Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблен, как в С[онечку] К[олошину] и в А[лександрин Оболенскую] только. Ночевал у них, не спалось, и всё она. «Вы не любили?» она говорит, и мне так смешно и радостно».
31 августа. «И утром то же сладкое чувство и полнота любовной жизни».
Он отправляется к Тютчевым. Дочери Тютчева, в том числе и Екатерина Федоровна, которая раньше нравилась Толстому, теперь вызывают в нем раздражение. «Заскорузлые синие чулки, — пишет он. — Как мне на них гадко. Кто-то заговорил, и мне показался ее голос... Не про тебя, старый черт, — пиши критические статьи! Начал ей писать — помешали, и хорошо. Я не могу уехать теперь — вот что».
1 сентября. «О С. спокойнее».
3 сентября. «У них, сначала ничего, потом прогулка... Я спокоен! Ехал и думал: либо все нечаянно, либо необычайно тонко чувствует, либо пошлейшее кокетство — нынче один, завтра другой и, главное, к чему отъезжающий, — либо и нечаянно, и тонко, и кокетливо. Но вообще — ничего, ничего, молчание8. — Никогда так ясно, радостно и спокойно не представлялось мне будущее с женой».
572
И тут же сомнение. Побывав у своего приятеля В. С. Перфильева, Толстой записывает: «Знаю, Васюк, знаю твои грехи. Как пошло тихое обманывание друг друга — счеты. А может, и мне судьба то же». И сейчас же вслед за этим: «Memento [помни], Дублицкий, старый черт, дядя Лявон. А чувствуешь: «mein schönes Herz» [мое прекрасное сердце]. — Главное, кажется, так бы просто, впору: ни страсти, ни страху, ни секунды раскаянья».
Через день — разочарование. Толстой увидал Софью Андреевну в кругу приехавших к Берсам барышень, гулял с ними и вдруг почувствовал: «не то, не то, не то. А накануне, — писал он далее, — я не спал ночь, так ясно представлялось счастье. Вечер говорили о любви. Еще хуже».
Дурное расположение продолжалось и на другой день 6 сентября. Переночевав у Берсов, Толстой утром этого дня «учил» (вероятно, мальчиков Берсов), «гулял и злой и без ничего ушел домой». Записав это, Толстой внушает себе: «Я стар, чтобы возиться. Уйди или разруби». И заканчивает запись словами: «Кроме Берсов ничего нет в это время».
Тетушке Татьяне Александровне он пишет, что через неделю вернется в Ясную Поляну, и объясняет, что живет в Москве для того, чтобы выпустить два номера своего журнала.
На следующий день Толстой не пошел к Берсам, а в дневнике своем записал: «Нынче один дома, и как-то просторно обдумывается собственное положение. Надо ждать. Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь... Вздор: монастырь, труд, вот твое дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастие, — и я был в этом монастыре, и опять вернусь. Да».
Запись заканчивается неожиданным признанием: «Неискренен дневник. Arrière pensée [задняя мысль], что она у меня, подле меня будет сидеть и читать, и...... и это для нее».
В тот же день Толстой написал письмо своему самому близкому в то время другу — тетушке Александре Андреевне, с единственной целью — поделиться теми новыми переживаниями, которыми он был тогда захвачен. Не называя имени, он сообщает, что с ним случилось «несчастье или счастье»: он, «старый, беззубый дурак, влюбился». Он сам не знает, «правду ли» он сказал и «так ли» он сказал. «Когда-нибудь с радостью или с грустью воспоминанья» он расскажет всё своему другу; теперь же находится в состоянии тяжелого раздумья, так как боится, «как бы не быть виноватым перед собою», то есть как бы под влиянием чувства не предпринять ложный шаг, который может оказаться роковым по отношению ко всей дальнейшей жизни. Но он надеется скоро выйти «из того запутанного, тяжелого и вместе с тем счастливого положенья», в котором он теперь находится.
На другой день, 8 сентября, Толстой «пошел-таки к Берсам к
573
обеду. Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл, — записывает далее Толстой, — С. отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других — условно-поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет... Ночью гуляли».
То, что доктор Берс обходился с Толстым так, как будто он что «украл» у него, объясняется тем, что, по словам Софьи Андреевны, отец ее «сердился, что Лев Николаевич, посещая так часто наш дом, не делал предложения старшей дочери... Положение в доме было натянутое и серьезное». В записи дневника от 8 февраля 1893 года Софья Андреевна давала иное объяснение недружелюбного отношения ее отца к Толстому: он ревновал его к своей жене9.
«Она краснеет и волнуется. О, Дублицкий, не мечтай! — записывает Толстой 9 сентября. — Начал работать и не могу. Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю. Уехать из Москвы не могу, не могу. Пишу без задней мысли, для себя, и никаких планов стараюсь не делать. Мне кажется, что я в Москве уже год. До трех часов не спал. Как 16-летний мальчик, мечтал и мучился».
Письмо, написанное Софье Андреевне 9 сентября, Толстой передал ей уже после женитьбы; оно сохранилось в ее архиве10. В нем Толстой давал разъяснение тех фраз, какие он написал ей 28 августа одними начальными буквами слов. Это, прежде всего, «ложный взгляд» семейства Берсов по отношению к нему. Взгляд этот, — писал Толстой, — «состоит в том, что я влюблен или que je fais la cour [что я ухаживаю] в вашу сестру Лизу. Это совершенно несправедливо».
Второе разъяснение касалось того, почему повесть Софьи Андреевны «сидит» у него в голове. Это потому, пишет Толстой, что «в ней я узнал себя Дублицким и ясно убедился в том, что я, к несчастью, забываю слишком часто, что я — дядя Лявон, старый, необычайно непривлекательный черт, который должен один упорно и серьезно работать над тем, что ему дано от бога, а не думать о другом счастьи, кроме сознания исполненного дела».
Далее Толстой поясняет и те слова, которые раньше — в Ивицах — были написаны им первыми буквами. «Я бываю мрачен, — пишет он, — глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастия». Прочитанная им повесть Софьи Андреевны «совершенно отрезвила» его. Теперь он решил больше не бывать у Берсов, хотя для него это равносильно лишению себя «лучшего
574
наслаждения». Письмо заканчивалось словами: «Я Дублицкий, но только жениться на женщине так, потому что надо же жену, я не могу. Я требую ужасного, невозможного от женитьбы. Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. Но это невозможно... Я перестану ездить к вам, защитите меня вы с Танечкой11».
Это решение не было исполнено. Вечером следующего дня Толстой опять пошел к Берсам, а по возвращении от них ночью записал в дневнике:
«Проснулся 10-го сентября в 10, усталый от ночного волненья. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера. Пошел ходить... и в Кремль. Ее не было... Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде. Au fond [в глубине] сидит надежда. Надо, необходимо надо разрубить этот узел... Господи! помоги мне, научи меня! Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, — я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечке, и всё напрасно... Господи, помоги мне, научи меня. Матерь божия, помоги мне!» — «по старой детской привычке»12 повторяет Толстой.
11 сентября. «Чувство так же сильно... Не смел идти к ним... Никто не может помочь мне, кроме бога. Прошу его. Вечер у Перфильевых. Хорошенькие Мент. Для меня нет никого. Устал. Какое-то физическое волнение».
12 сентября. «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я — отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий — пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать всё и при всех. Господи, помоги мне!»
13 сентября. «Ничего не было... Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и всё скажу или» (было написано: «застрелюсь», но потом зачеркнуто).
Ночью Толстой написал Софье Андреевне письмо, после чего записал в дневнике:
«4-й час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, т. е. нынче, 14-го. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне».
575
Письмо, написанное в ночь с 13 на 14 сентября, Толстой начинает со слов:
«Софья Андревна! Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе... Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все».
Далее Толстой повторяет вкратце те разъяснения фраз, написанных им первыми буквами слов, какие он давал и в письме 9 сентября, и заканчивает письмо словами:
«Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень сомненья в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней»13.
В эту ночь Толстой спал только полтора часа, но встал «свеж и нервозен страшно. Утром то же чувство».
Он отправился к Берсам и на другой день записал в дневнике: «Положение объяснилось, кажется. Она странна... Не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух, она будет всё читать». В этот день он лег спать «усталый нервно», но спал мало — шесть часов. Высказавшись в письме, он почувствовав себя спокойнее, но напряженно ждал, «что-то будет».
Написанное письмо не было передано ни 14-го, ни 15 сентября, но 15-го Толстой сказал Софье Андреевне, что ему «есть что сказать» ей.
Нервы были страшно напряжены. В тот же день, увидевшись с В. С. Перфильевым, он рассказал ему «смерть Николеньки» и при этом «плакал слезами ребенка».
«Завтра» — этим словом заканчивает Толстой запись своего дневника 15 сентября.
И действительно, вечером на другой день, 16 сентября он наконец передал Софье Андреевне письмо, которое два дня проносил в кармане, не решаясь передать.
Как рассказывает Софья Андреевна в своих воспоминаниях, схватив письмо, она «стремительно бросилась бежать» в их общую девичью комнату, где они, все три сестры, жили вместе. Заперев дверь на ключ, она начала читать письмо, «задыхаясь от волнения». Дочитавши до вопроса: «хотите ли быть моей женой?»
576
она «не могла читать дальше и так и замерла». В это время раздался сильный стук в дверь. Это стучала сестра Лиза.
— Что тебе пишет граф? — настойчиво спрашивала Лиза. — Говори.
Соня молчала.
— Говори сейчас, что граф тебе пишет! — кричала Лиза.
Услышавши ответ Сони, что граф делает ей предложение, Лиза со слезами в голосе закричала:
— Откажись! Откажись сейчас! — И забилась в истерике.
Софья Андреевна молчала. Видя ее замешательство, сестра Таня, бывшая тут же, побежала за матерью. Мать, как рассказывает Софья Андреевна, «строго отнеслась» к Лизе, а Соне сказала, что если она откажется, то Лев Николаевич от этого не полюбит Лизу. Любовь Александровна решительно взяла дочь за плечи и, повернув к двери, «почти вытолкнула» ее из комнаты, сказав: «Пойди к нему и скажи свой ответ».
«Я пошла точно не своей, а ее волей», — рассказывает Софья Андреевна. Она выбежала в комнату матери, где ожидал ее Лев Николаевич, и на его вопрос: «Ну, что?» ответила: «Конечно, да».
Через несколько минут весь дом узнал о случившемся, и начались поздравления.
Толстой очень тяготился тем напряженным состоянием, в котором он находился последнее время, и торопил со свадьбой. Несмотря на непременное желание Любови Александровны приготовить приданое, он настоял на том, чтобы свадьба была через неделю.
Было решено сейчас же после свадьбы ехать в Ясную Поляну.
Эту последнюю неделю Толстой каждый день приходил к невесте. Один раз, не желая скрывать от нее своего прошедшего, он принес ей свои старые дневники. Впоследствии в своих воспоминаниях Софья Андреевна объясняла этот его поступок «излишней добросовестностью».
Полного спокойствия и уверенности у Толстого не было. Как записал он в дневнике на третий день после свадьбы, у него появлялись иногда «сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает».
Накануне свадьбы он не спал ночь. Чувствуя «страх, недоверие и желание бегства», не в силах совладать с собой, он утром отправился к невесте. «Он начал, — вспоминает Софья Андреевна, — меня мучить допросами и сомнениями в моей любви к нему. Мне даже казалось, что он хочет бежать, что он испугался женитьбы. Я начала плакать».
«Пришла моя мать, — рассказывает далее Софья Андреевна, — и напала на Льва Николаевича: «Нашел, когда ее расстраивать, — говорила она. — Сегодня свадьба, ей и так тяжело,
577

С. А. Толстая в 1863 г.
С фотографии.
578
да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». Льву Николаевичу стало как будто совестно. Он скоро ушел».
Душевное состояние Софьи Андреевны перед свадьбой было смутное, неопределенное.
Как рассказывает Софья Андреевна в своей автобиографии «Моя жизнь»14, перед свадьбой она чувствовала себя «больной, ненормальной». «Ничего я не могла есть, кроме соленых огурцов и черного хлеба; ночи были тревожные и настроение невеселое». Вместе с тем Софья Андреевна боялась «потерять любовь Льва Николаевича»: «я боялась, что он во мне, глупой, ничтожной девочке, скоро разочаруется».
Свадьба была 23 сентября. Сейчас же после ужина молодые в просторном дормезе выехали на лошадях шестериком в Ясную Поляну.
«Когда выехали из Москвы за город, — вспоминала Софья Андреевна, — стало темно и жутко. Я никогда прежде никуда не ездила ни осенью, ни зимой. Отсутствие света и фонарей удручало меня... До первой станции, кажется, Бирюлево, мы почти не разговаривали. Помню, что Лев Николаевич был как-то особенно бережно нежен со мной».
В Бирюлеве сделали первую остановку. К ночи следующего дня 24 сентября приехали в Ясную Поляну.
III
25 сентября, на другой день по приезде в Ясную Поляну, Толстой, вспоминая события последних трех дней, писал в своем дневнике:
«Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она всё знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна. Сережа15 разнежен, тетенька16 уже готовит страданья. Ночь, тяжелый сон. Не она».
«В Ясной, — писал Толстой далее. — Утро, кофе — неловко. Студенты озадачены».
Студенты, учителя толстовских школ, были «озадачены» потому, что женитьба Льва Николаевича на барышне, а не на крестьянке, была для них полной неожиданностью. Всем им памятны были его слова: «Жениться на барышне — значит впитать в себя весь яд цивилизации».
«Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она
579
пишет подле меня. Не может быть, чтобы это всё кончилось только жизнью».
Такими словами закончил Толстой свою первую после женитьбы дневниковую запись.
В тот же день Софья Андреевна писала своей любимой младшей сестре Тане, жившей с родителями в Москве. Вместе с поручениями относительно присылки разных вещей Софья Андреевна писала и о своем «семейном счастьи»: «Тетенька такая довольная, Сережа [Сергей Николаевич Толстой] такой славный, а про Левочку и говорить не хочу, страшно и совестно, что он меня так любит, — Татьянка, ведь не за что? Как ты думаешь, он может меня разлюбить? Боюсь я о будущем думать»17.
Толстому очень понравилось это первое письмо его жены. Он сделал к нему приписку, в которой просил Татьяну Андреевну вернуть ему это письмо: «Ты вникни, — писал Толстой свояченице, — как все это хорошо и трогательно: и мысли о будущем и пудра». О себе Толстой писал: «Дай бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает».
Через неделю после свадьбы, 30 сентября Толстой записывает: «В Ясной. Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Её люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши?» Работать Толстой не мог, но у него уже бродили мысли о художественных произведениях. «Так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine [на продолжительное время] — роман или т. п.», — писал Толстой Ел. Андр. Берс 1 октября.
О своем счастье Толстой поспешил написать всем своим друзьям: сестре, тетушке Александре Андреевне, Васеньке Перфильеву, Фету. Ему казалось, что наступил новый период в его жизни. «Я теперь спокоен и ясен, как никогда не бывал в жизни», — писал он 28 сентября А. А. Толстой. Всегда склонный чернить свое прошедшее, Толстой писал ей же 8 октября: «Куда это идет? — не знаю, только с каждым днем мне спокойнее и лучше. Я было уж устал делать счеты с собою, начинать новые жизни (помните), было примирился с своей гадостью, стал себя считать, хоть не положительно, но сравнительно хорошим; теперь же я отрекся от своего прошедшего, как никогда не отрекался, чувствую всю свою мерзость всякую секунду, примериваясь к ней, к Соне, «но строк печальных не смываю»18.
580
Прошла еще неделя. 14 октября Толстой заносит в дневник, что у него с женой было «два столкновенья», и были «тяжелые минуты», но тут же признается: «Я еще больше и больше люблю, хотя другой любовью... Нынче пишу оттого, что дух захватывает, как счастлив».
Софья Андреевна вскоре после свадьбы тоже начала писать дневник19.
Дневники Софьи Андреевны за первый год замужества заняты исключительно описанием личных переживаний — отношений с мужем. В них вполне сказалась ее натура, о которой хорошо знавшая ее сестра Татьяна Андреевна писала так: «Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь в первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему, или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем: И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех, — не то, что я, которая, напротив, в весельи и счастьи умеет найти грустное»20.
Софья Андреевна в первые годы замужества писала дневник только тогда, когда чувствовала себя несчастной, когда, по ее собственному выражению, испытывала «потребность сосредоточиться и выплакаться и выписаться в журнале» (запись от 22 апреля 1864 года). Лев Николаевич подметил эту слабость своей жены. «Когда не в духе — дневник», — говорил он ей (запись Софьи Андреевны от 2 января 1864 года).
Первая запись дневника сделана Софьей Андреевной через две недели после свадьбы, 8 октября, в тот самый день, когда Толстой писал тетушке Александре Андреевне, что он чувствует себя «с каждым днем спокойнее и лучше». Запись Софьи Андреевны начинается словами: «Опять дневник... Бывало, я писала, когда тяжело, и теперь, верно, от того же». Далее записано, что накануне муж сказал ей, что не верит ее любви к нему, и ей «стало серьезно страшно». «И как жаль мне его, — пишет далее Софья Андреевна, — в те минуты, когда он не верит мне, и слезы на глазах, и такой кроткий, но грустный взгляд... И стала я сегодня вдруг чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе, что я начну создавать себе свой печальный
581
мир, а он свой — недоверчивый, деловой. И в самом деле показались мне пошлы наши отношения. И я стала не верить в его любовь».
В своей любви Софья Андреевна не сомневается. «Есть ли минутка в моей жизни теперь, где бы я вызвала что-нибудь из прошедшего, чтоб я пожалела о чем-нибудь, или есть ли минутка? когда бы я не только не любила его, но могла бы подумать о возможности разлюбить его».
И тут же мрачное предчувствие: «У нас есть что-то очень непростое в отношениях, которое нас постепенно совсем разлучит в нравственном отношении».
На другой день 9 октября, когда Толстой писал Фету, что он «две недели женат и счастлив и новый, совсем новый человек», Софья Андреевна записывает, что у нее с мужем произошло объяснение. «Легче стало, совсем даже весело... Муж, кажется, покоен, верит, дай бог. Я вижу, это правда, что я ему даю мало счастия. Я вся как-то сплю и не могу проснуться».
Следующий день, 10 октября, пропущен, а 11 октября вновь жалобы, что муж не любит, сожаление о том, что покинула мать и сестру, и мрачное окончание: «Зачем я только на свете живу?»
IV
Несмотря на то, что Толстой в своем дневнике 14 октября писал о своем полном счастье, записи его жены за три дня до этого об охлаждении к ней мужа, повидимому, имели некоторое основание.
Женитьба Толстого внесла в его жизнь большие перемены, которыми он не мог быть доволен. Считая себя обязанным обеспечить жену и будущих детей, Толстой в течение трех недель после свадьбы усиленно отдается практической деятельности. Наконец, это начинает его тяготить, и 15 октября он записывает:
«Всё это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими, только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать. И потому собой недоволен и неясен в отношениях с другими. Журнал решил кончить, школы тоже, кажется. Мне всё досадно и на мою жизнь и даже на нее. Необходимо работать».
Такой работой, которая заполнила бы душевную пустоту, образовавшуюся вследствие усиленных занятий практическими делами, для Толстого было прежде всего приготовление материала для запоздавших восьмого и девятого номеров журнала «Ясная Поляна». Для этих номеров Толстой окончательно проредактировал написанные им еще в Москве статьи: «Об общественной деятельности на поприще народного образования» и
582
«Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Это заняло немного времени. Но над Толстым тяготел долг Каткову — занятая у него еще в феврале тысяча рублей для уплаты проигрыша, в счет которой Толстой обещал прислать ему для печати свой «кавказский роман». Роман так и не был закончен, и Толстой 9 октября пишет Каткову письмо с просьбой освободить его от данного обещания и позволить вернуть долг деньгами. Катков замедлил ответом, а Толстой между тем начал обдумывать продолжение и окончание своего романа и почувствовал желание довести эту работу до конца. 18 октября он пишет брату: «Писать мне хочется роман, но от Каткова, которому я писал, не получал ответа».
Ответ Каткова, до нас не дошедший, повидимому, был получен в ближайшие дни. Катков, очевидно, отвергнул предложение Толстого получить с него долг деньгами и настаивал на присылке романа, и Толстой после долгого перерыва взялся опять за художественную работу. Уже 21 октября жена его пишет своей сестре Тане, что Лев Николаевич не может ей писать — «некогда, писать надо».
28 ноября Толстой отослал Каткову первые главы «Казаков». В посланном одновременно письме он писал: «Я, как всегда, чрезвычайно недоволен этой повестью и поправлял и переправлял ее до тех пор, что не чувствую возможность над ней более работать».
8 декабря Толстой отослал Каткову последние главы повести. В сопроводительном письме он писал, что замедлил отсылкой потому, что «увлекся новыми поправками и дополнениями», вследствие чего посылаемая вторая половина повести «много выиграла» и он ею «гораздо менее недоволен», чем посланной ранее первой частью.
В январе 1863 года Толстой читает корректуры «Казаков» и находит, что написанное им «страшно слабо» (запись дневника 23 января). Повесть появилась в запоздавшей именно из-за «Казаков» январской книжке «Русского вестника».
Процесс работы Толстого над окончательной редакцией повести был таков.
Толстой собрал и перечитал все написанные им на протяжении нескольких лет начала и отдельные главы «кавказского романа», носившего названия: «Беглец», «Беглый казак», «Казаки», и выбрал из написанного то, что подходило к плану повести, как он сложился у него в то время. Это были главы, описывающие отъезд Оленина из Москвы и приезд его на Кавказ, быт казаков, жизнь Оленина в станице, знакомство его с дядей Ерошкой, убийство казаком Лукашкой абрека, любовь Оленина к Марьяне, приезд брата убитого абрека выкупить его тело, стычка казаков с абреками и ранение Лукашки (главы I—
583
XL окончательного текста). Эти главы были расположены по новому плану повести и сданы в переписку.
Получив переписанную рукопись, Толстой по своему обыкновению занялся художественной отделкой. Он значительно сокращает текст, выпуская зачастую места совершенно безупречные в художественном отношении только потому, что они замедляли действие повести. Так, целиком вычеркиваются интересные страницы, рассказывающие о толках об Оленине после его отъезда в московском обществе и в деревне21. В описании ночи в казацкой станице выпущены следующие строки:
«Горцы из страха казаков не смеют выехать из аулов; казаки с вечера запирают ворота в станицах, и без конвоя нельзя выехать. Только звери и птицы одни топчут росистую траву, ломают густой лес, пьют воду ручьев и дышат остановившимся прозрачным воздухом вечера. Они не знают опасности, и то хрустнет ветка в лесу, заслышится топот копыт, и из-за ветки завиднеется блестящий черный глаз и настороженное ухо лани. То отзовется фазан из далеких тернов, и другой откликнется ему, и третий, и четвертый отзовется с того берега из камышей; то булькнет большая рыба в реке, то верхом высоко прореют гуси и, перелетев через реку, начнут медленно загибаться в ущелье»22.
Вместо этого поэтического описания в окончательном тексте повести (глава V) читаем только такую короткую фразу: «Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне».
Существенное дополнение вносится в размышления Оленина о том, в чем состоит истинное счастье. Глава об уединенных размышлениях Оленина в лесу, совпадающих с взглядами автора, что единственное истинное счастье состоит в том, чтобы «жить для других», так как если человек живет для себя, ищет богатства, славы, роскоши, любви, то может случиться, что он не достигнет этих целей, в то время как «любовь, самоотвержение» всегда достижимы, — эта глава была написана раньше. Но теперь мысли Оленина дополняются еще следующим соображением, указывающим на то, что философское разрешение вопроса о сущности бытия — идеалистическое или материалистическое воззрение на мир — не интересует Оленина: «Все равно, что́ бы я ни был, — думает Оленин: — такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась
584
часть единого божества, все-таки надо жить наилучшим образом».
Это — мысль самого автора. Она была внесена в повесть при чтении корректур в конце декабря 1862 года или в январе 1863 года, что видно из того, что в записной книжке Толстого под 27 декабря 1862 года значится: «Шиллер во сне мне сказал: что бы ты ни был: прах, который будет прахом, или рамка, в которой выразилась одна часть божества единого... дальше не помню, что он сказал. Но разве не это мое последнее убеждение — счастье есть наибольшее захватыванье божества в ширину и глубину»23.
Заново пишется окончание повести.
С самого первого наброска «кавказского романа», относящегося к 1853 году, вплоть до главы, написанной 15 февраля 1862 года, Толстой имел в виду закончить повесть трагической развязкой: бежавший к горцам казак, принимавший участие в набегах на казацкие станицы, тайно возвращается на родину; его арестовывают и казнят. Теперь Толстой считает то, что он посылает в печать, только первой частью повести и заканчивает ее иначе.
Оленин делает предложение Марьяне и получает с ее стороны не вполне определенное выражение согласия. Но после того, как в схватке с горцами был тяжело ранен любимый ею казак Лукашка, Марьяна грубо и резко отталкивает от себя Оленина. Ее отказ производит на Оленина потрясающее действие. Любовь к Марьяне была для него не только его личным чувством, но и выражением протеста против тех условий светской жизни, от которых он бежал. Любя Марьяну, Оленин отказывался, как писал он приятелю, от того, чтобы сделаться «мужем графини Б., камергером, дворянским предводителем». Теперь для него не только исчезла надежда на личное счастье, но вместе с тем рухнула и мечта о том, чтобы уйти из ненавистного ему мира привилегированного общества и слиться с народной жизнью.
Оленин уезжает в штаб, и когда дядя Ерошка на прощание говорит ему: «У вас фальчь, одна все фальчь», — Оленин «не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался».
Этих слов нет в первой редакции сцены отъезда Оленина. Они вписаны Толстым или в последнюю рукопись, отправленную в редакцию журнала, или в корректуры повести, — следовательно, написаны в декабре 1862 или в январе 1863 года. С глубокой грустью вписывал Толстой в свою повесть эти строки, выражающие мнение не только его героя, но и его самого. Он сам чувствовал себя в положении Оленина, когда после женитьбы
585
отошел от близкого общения с народом, расстался с мечтами о перемене жизни и вернулся к тому привилегированному обществу, которое было ему так ненавистно.
Той же глубокой грустью проникнут и финал повести.
«Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что́ он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новой жизни...
Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату...
— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него».
Основное содержание повести свелось к противопоставлению трудовой, близкой к природе и потому здоровой физически и морально жизни представителей народа, казаков — праздной, удаленной от природы, искусственной и нездоровой жизни расслабленных физически и морально высших классов. Сочувствие автора неизменно на стороне народа. Попутно с обычным сочувствием изображает Толстой и солдат — «солдатиков», их приход и размещение в станице.
Соответственно изменению сюжета изменяется и заглавие повести. Повесть сначала была названа «Марьяна», затем это заглавие было изменено на «Молодость (Кавказ 1853)»24 и, наконец, на «Казаки» с подзаголовком сначала «Попытка ро[мана]», тут же зачеркнутым и замененным другим: «Кавказская повесть 1852 года». Этим подзаголовком Толстой хотел указать не на то, что повесть будто бы была написана в 1852 году, а на то, что действие повести относится к тому времени, когда Кавказ еще не был покорен русскими войсками. Основное название повести указывало на ее коллективного, а не индивидуального героя.
В письмах к Каткову Толстой несколько раз называл посланную им в журнал повесть только первой частью всего задуманного произведения. Толстой, следовательно, не оставлял мысли о том, чтобы написать и вторую часть «Казаков». Был ли ясен автору теперь, после окончания первой части, план дальнейшего развития сюжета с драматическим финалом — неизвестно.
Упоминание о замысле второй части «Казаков» находим в записи дневника Толстого от 30 сентября 1865 года. Перечисляя различные типы художественных произведений, в которых
586
может проявиться «поэзия романиста», Толстой прежде всего называет в качестве возможного основного элемента художественного произведения «интерес сочетания событий». Примером произведения, построенного на «интересе сочетания событий», указываются: «мои Казаки будущие». Но увлеченный другими работами, в первую очередь «Войной и миром», Толстой не приступил к исполнению этого замысла25.
V
Кроме «Казаков», Толстой осенью 1862 года решил пересмотреть все другие начатые и не законченные им художественные произведения. Он дал своей жене переписать «Декабристов» и «Поликушку». Но «Декабристы» вскоре уступили место «Войне и миру», «Тихон и Маланья» были в переработанном виде продиктованы Толстым его жене, но в печать не были сданы, потому что действующим лицом в этом рассказе являлась Аксинья Базыкина. По той же причине повесть аналогичного содержания «Идиллия» даже не отдавалась в переписку.
Из всех ранее начатых повестей только одна — «Поликушка» — была заново переработана и отправлена в «Русский вестник».
Действующие лица и обстановка «Поликушки» связаны с Ясной Поляной.
В списке крестьян Ясной Поляны за 1858 год значится Поликей 38 лет и его жена Акулина. Фамилии крестьян, изображенных в повести: Ермилины, Резун (Резунов), Житков, Копылов — принадлежали крестьянам Ясной Поляны. «Флигерь», где жил Поликей с семьей, напоминает доныне сохранившийся «дом Волконского», где во времена крепостного права жили дворовые.
Основная тема повести «Поликушка» — моральный гнет крепостного права.
Некоторые исследователи, основываясь на сентиментальном восклицании барыни: «Страшные деньги, сколько зла они делают!», полагали, что основная идея повести — зло власти денег; но это мнение ошибочно. Роковой конец Поликея был вызван не пропажей денег самой по себе, а пропажей денег, получение которых было поручено ему барыней. Если бы у Поликея пропали не деньги, а какие-нибудь ценные для барыни предметы, ему порученные, например, хотя бы фамильный портрет, результат был бы тот же самый; а если бы Поликей потерял свои собственные деньги в какой бы то ни было сумме, он не лишил бы
587
себя жизни. Катастрофа произошла с Поликеем только потому, что барыня, считавшая себя призванной не только устраивать материальную жизнь своих крепостных, но и руководить их нравственностью, взялась его исправлять, и он чувствовал себя обязанным во что бы то ни стало восстановить в глазах барыни свое честное имя. В этом проявлялся нравственный гнет крепостного права и в этом одном — причина гибели Поликея.
Отношение к барыне на протяжении всей повести ироническое, выражающееся сначала устами приказчика Егора Михайловича («Ну, понесла» — подумал Егор Михайлович»), затем устами рассказчика из народа («Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала») и, наконец, — самого автора.
Ирония автора распространяется и на некоторых дворовых, особенно на тех, которые стоят ближе к господам. Так, о бабушке Анне, убиравшей мертвого ребенка, рассказывается в таких выражениях:
«Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было всё это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце».
Отношение автора к народу — типичное для Толстого того времени любование. Он отмечает «ораторский талант» плотника Резуна, говорившего на сходке, рисует яркую картину разудалой пляски принятого на службу рекрута, с большим сочувствием передает душевное состояние жены Поликея, беспокоившейся об уехавшем муже. «Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее», — пишет Толстой, указывая на успокаивающее действие физического труда и перечисляя все многочисленные дела, которые Акулина должна была успеть сделать в это утро.
По общему тону и по отношению к народу повесть «Поликушка» очень близка к «Тихону и Маланье» и «Идиллии».
С большой силой изображен Толстым весь трагизм рекрутчины для крестьянства того времени. Чувствуется, однако, что автор смотрит на военную службу как на необходимость, и считает, что как ни тяжела для крестьянства рекрутская повинность, отбывание ее необходимо.
Стиль «Поликушки» весьма своеобразен.
За первой главой, в которой дан разговор барыни с приказчиком относительно поставки рекрутов, идет вторая глава, содержащая характеристику Поликея и условий его жизни. Здесь автор переходит на крестьянский язык и рассказывает о Поликее так, как должны были бы рассказывать о нем дворовые, его
588
соседи: «Оно, пожалуй, и нельзя было»... «Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепадало... Коровенка отелилась»... «Господского овса тоже оставалось»... «У этого конюшего Поликей первое ученье прошел» (говорится о воровстве)... «Поликей не любил, чтобы где что плохо лежало»... «До барыни довели и стали примечать»... «Народ срамить стал»... и т. д.
Далее следует описание занятий Поликея коновальством, требование его барыней для отправки в город, описание мирской сходки, собравшейся для обсуждения вопроса о том, кого назначить в рекруты, и поездки Поликея в город. Описывая поездку Поликея, автор вновь на короткое время предоставляет слово рассказчику из народа («Оно, правда, всякий знает... Только это то, да не то... Это едет холопишка»... и т. д.) Затем уже до самого конца повести весь рассказ идет от лица автора.
Блестки тонкого юмора рассыпаны по всей повести, как, например, в таких фразах: «Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно и еще меньше ему самому»; «Столярова жена была тонкая, политичная и язвительная дама»; «Аксютка налаживала свои маятники»; «Болтуны не забывали своей должности» и т. д.
Весь рассказ ведется автором в совершенно спокойном эпическом тоне без всякого лиризма. Ни одним словом не обнаруживает автор своего сочувствия Поликею и его семье. Несчастье, постигшее Поликея и его семью, как будто совершенно не трогает его. Спокойно продолжается рассказ о событиях, происходивших в деревне после гибели Поликея и сумасшествия его жены. Поликея нет в живых, жена его сошла с ума, малые дети остались сиротами, а жизнь продолжает идти так же, как шла раньше. Дутловы веселы, Илья избавился от рекрутчины; на общей жизни деревни событие с Поликеем нисколько не отразилось. Гибель нескольких людей незаметна в общем потоке жизни. Такое впечатление остается у читателя после прочтения повести.
Работа автора над повестью перед отправкой ее в печать состояла прежде всего, по обыкновению Толстого, в больших сокращениях текста. Выпущены были подробные характеристики старика Дутлова и его невестки Аксиньи, напоминающей Аксинью Базыкину, а также сцены семейных раздоров у Дутловых; заново написано окончание повести, в черновой редакции сводившееся в последних строках к краткому конспекту.
Повесть «Поликушка» была напечатана во втором номере «Русского вестника» за 1863 год. В том же году повесть появилась в немецком переводе в журнале «Russische Revue», издававшемся другом Б. Ауэрбаха В. Вольфзоном. (Это был первый перевод произведений Толстого на немецкий язык.)
589
Толстой предполагал написать какое-то продолжение «Поликушки» или другую повесть из жизни крестьян того же Покровского. Так можно заключить из слов автора в пятой главе, где, упомянув о различных типах крестьян, пришедших на сходку, он прибавляет: «Про всех их, бог даст, я расскажу в другой раз». Но намерение это выполнено не было.
VI
В своем дневнике 19 декабря 1862 года Толстой так характеризовал свою жизнь того времени: «Черты теперешней жизни: полнота, отсутствие мечтаний, надежд, самосознания, зато страх, раскаяние в эгоизме». Это «раскаяние в эгоизме» проистекало от того, что семейная жизнь постепенно вытесняла все другие интересы, в том числе — и главное — сближение с народом и занятие школами.
Занятия в яснополянской школе не были прекращены, но у Толстого исчезло то горячее увлечение, с каким он раньше отдавался этому делу. Уже 1 октября Толстой записал в дневнике: «С студентами и с народом распростился». Яснополянская школа продолжала существовать до осени 1863 года, но вот что писал о ней Лев Николаевич Александре Андреевне Толстой в октябре 1863 года: «Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет»26.
Большинство студентов, занимавшихся в сельских школах, основанных Толстым, нуждались в его руководстве и поощрении. Лишившись этого руководства и поощрения, они не были в состоянии продолжать занятия и жить в условиях крестьянской обстановки, и стали разъезжаться. Толстой успел полюбить всю эту горячую, восприимчивую, увлекающуюся молодежь, и ему грустно было расставаться с ними. «Студенты уезжают, и мне их жалко», — записал он в дневнике 19 декабря.
Толстой сохранил на всю жизнь теплые воспоминания об этих студентах-учителях. В 1908 году он выражал желание написать для его биографии, над которой тогда работал П. И. Бирюков, воспоминания об этих студентах, характеризуя их следующими словами: «Какой это был народ! Чистые, самоотверженные... О распущенности и речи не могло быть; что он будет жить в Бабурине27, об этом и вопроса не поднималось...»28
590
Позднейшие воспоминания Толстого о своих школьных занятиях были также всегда самые светлые. Так, 5 апреля 1877 года, отвечая на письмо профессора ботаники С. А. Рачинского, рассказывавшего о своей работе в сельской школе, Толстой писал, что, читая его письмо, он «переживал свои старые школьные времена, которые всегда останутся одним из самых дорогих и, главное, чистых воспоминаний»29. 8 апреля 1901 года Толстой записал в дневнике: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям». И первым из таких периодов Толстой называет свою школьную деятельность30. В письме к П. И. Бирюкову от 24 ноября 1903 года, ответив на вопрос биографа о его «любвях», Толстой счел нужным прибавить: «Самый светлый период моей жизни дала мне не женская любовь, а любовь к людям, к детям. Это было чудное время...»31
И в устных беседах Толстой неоднократно вспоминал о своих занятиях с детьми, как о лучшем времени своей жизни. Так, А. Г. Русанов рассказывает, что, будучи в их семье в 1896 году, Толстой «с величайшей любовью стал вспоминать, как он учил в своей школе ребят»32. А. Б. Гольденвейзер в своем дневнике записывает следующее воспоминание Толстого о его школьных занятиях: «Какое это было хорошее время! Как я любил это дело!..»33
Главной причиной охлаждения к школьным занятиям и прекращения общения с народом были новые условия семейной жизни, начатой Толстым. Софья Андреевна не могла примириться с тем, что муж не принадлежал ей всецело и безраздельно. 23 ноября она записывает в своем дневнике: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Левы. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала потому, что мне всё и все стало гадко. И тетенька, и студенты, и Наталья Петровна34, и стены, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому... Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала».
591
Софья Андреевна не была аристократического происхождения; тем сильнее она тяготела к аристократии, и с этой стороны была вполне довольна своим замужеством. Через месяц после выхода замуж, 19 октября 1862 года, Софья Андреевна писала своему любимому брату Саше: «Пришла мне глупость в голову. Помнишь, мы говорили: «nous autres aristocrates» [«наш брат аристократ»]. Вот оно к чему клонилось. Так-то, Саша»35. К сближению Толстого с народом Софья Андреевна относилась враждебно. В то время Толстой не мог не считаться с этим настроением своей жены.
Была и еще одна, очень важная причина охлаждения Толстого к школьным занятиям — художественная деятельность все больше и больше привлекала его и занимала его внимание.
Прекращение деятельности яснополянской школы вызвало сожаление некоторых органов печати. Так, петербургская либеральная газета «Голос» одну из корреспонденции из Москвы заканчивала таким сообщением:
«В заключение позвольте сообщить вам еще новость, хотя и не совсем утешительную. Мы слышали недавно за самое достоверное, что знаменитая яснополянская школа графа Толстого пришла в упадок. Говорят, что с тех пор, как граф Л. Н. Толстой перестал в ней постоянно заниматься лично, большая часть учеников перестала посещать школу и в последнее время число их уже ограничивалось только несколькими единицами. Излишне говорить, насколько неприятна такая новость. Л. Н. Толстой, как известно, основатель новой педагогической системы и проповедник новых педагогических начал, имеющих на своей стороне многое. Они немало могли внести в науку и жизнь при своем развитии, а развивать их некому, кроме Л. Н. Толстого. Известно, как мало существенной поддержки нашли не только в публике, но и в передовых людях новые мысли журнала «Ясная Поляна», который должен был зачахнуть. Прозелитов эти мысли почти не нашли, хотя все признавали за ними достоинства; граф Толстой оставался одиночным их поборником, так как они не вызрели еще до ясности, и, должно признаться, что отстаивал он их стойко»36.
Официальный «Журнал Министерства народного просвещения» в статье В. Золотова, посвященной описанию осмотренных им народных школ, также выразил сожаление о прекращении яснополянской и других окрестных школ. «Я предполагал, —
592
писал Золотов, — съездить в Ясную Поляну, но к крайнему моему сожалению узнал, что школа графа Толстого уже не существует; говорю «к крайнему сожалению» потому, что, несмотря на некоторые увлечения графа Толстого, все-таки школа его имела большое значение по своей практичности и особенно по своей резкой противоположности с педантичною педагогичностью... По свидетельству коротко знакомых с яснополянской школой, успехи учеников во многом действительно были поразительны»37.
VII
23 декабря Толстой с женой приехал в Москву.
Толстой ехал для того, чтобы передать в редакцию «Русского вестника» законченную им повесть «Поликушка», но главной целью поездки было желание Софьи Андреевны повидаться с родными.
В Москве Толстые прожили около семи недель.
Толстой, как писал он в дневнике 27 декабря, «как всегда», отдал городской жизни «дань нездоровьем и дурным расположением». Кроме того, встреча с знакомыми вызвала в нем чувство недовольства своей женой. «Я очень был недоволен ей, — откровенно записал Толстой в дневнике, хотя и знал, что жена будет читать его, — сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался». Но потом это недовольство «прошло».
Судя по дневнику, отношения Толстого с женой во все время их пребывания в Москве были очень неровные. То он записывает (5 января): «Счастье семейное поглощает меня всего...»; то через три дня в дневнике отмечается крупная ссора из-за какого-то платья, причем жена давала, по его словам, «пошлые объяснения», а за обедом с нею началась истерика. Ему было «тяжело, ужасно тяжело и грустно». Чтобы «забыть и развлечься», он пошел к И. С. Аксакову, в котором увидел, как и раньше, «самодовольного героя честности и красноречивого ума». Вернувшись, Толстой записывает в дневнике: «Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накипело на душе; я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее, и я ничего не могу сказать ей — да и нечего. Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело». Будущее представляется ему в мрачном свете. «Она меня разлюбит, — пишет он, подчеркивая эти слова. — Я почти уверен в этом... Она говорит: я добр. Я не люблю этого слышать, она за это-то и разлюбит меня».
593
23 января в дневнике записано: «С женою самые лучшие отношения. Приливы и отливы не удивляют и не пугают меня». Далее, однако, опять очень тревожная запись: «Изредка и нынче всё страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет».
Живя в Москве, Толстой прочел корректуру «Казаков» и «Поликушки» и больше ни над чем не работал. В то же время он чувствовал вызревание какого-то большого художественного произведения. 30 декабря он записывает в дневнике: «Пропасть мыслей, так и хочется писать. Я вырос ужасно большой».
3 января 1863 г. Толстой записывает: «Эпический род мне становится один естественен». После «Казаков» и «Поликушки» запись эта понятна.
23 января в дневнике появляется запись: «Правду сказал мне кто-то, что я дурно делаю, пропуская время писать38. Давно я не помню в себе такого сильного желания и спокойно-самоуверенного желания писать. Сюжетов нет, т. е. никакой не просится особо, но — заблужденье или нет — кажется, что всякий сумел бы сделать».
И далее Толстой записывает два напрашивающиеся ему сюжета. Во-первых, «тип профессора западника, взявшего себе усидчивой работой в молодости диплом на умственную праздность и глупость», и как противоположность этому типу, тип человека, «до зрелости удержавшего в себе смелость мысли и нераздельность мысли, чувства и дела». Толстой вывел эти типы впоследствии в «Анне Карениной» в лице Кознышева, с одной стороны, и Левина, с другой. Второй сюжет: столкновение «любви мужа, строгой к себе, все поглощающей, сделавшейся делом всей жизни», «с увлечением вальса, блеска, тщеславия и поэзии минуты», которому поддалась его жена. К такому сюжету, по мнению Толстого, подходит давно им прочитанная повесть Дружинина «Полинька Сакс» «и пожалуй, нынешняя драма» «Грех да беда на кого не живет». Здесь Толстой называет драму Островского «нынешней драмой» потому, что видел первую постановку ее в Малом театре 21 января. Пьеса очень понравилась Толстому. «Я никогда не испытывал более сильного и ни одной фальшивой нотой не нарушенного впечатления», — записал он в дневнике 23 января.
Из писателей, кроме И. С. Аксакова, Толстой виделся с Фетом. 1 января он ужинал у Погодина, где был также П. И. Бартенев
594
и В. А. Черкасский39. У Аксакова Толстой вечером 25 января излагал свои педагогические взгляды, вызвавшие возражения со стороны всех присутствующих. Краткое описание этого спора было дано в корреспонденции из Москвы в газете «Одесский вестник», напечатанной за подписью Ф. В. Здесь читаем: «Граф Толстой отличается большой оригинальностью мнений. Должен, впрочем, сказать, что в основателе новой системы педагогии такая оригинальность — дело естественное. У него она только доходит до крайностей, и он в обществе совершенно одинок. Вчера я встретился с ним у Аксакова. Не было, кажется, человека, который бы с ним не спорил. Отойдет один — подойдет другой, и спор идет с удивительным спокойствием и логичностью. Сошлись такие два диалектика, как граф Толстой и Юркевич40; кругом составился тесный кружок»41.
Увлекшись спором, Толстой засиделся у Аксакова до утра и вернулся только в четыре часа, причинив тем большое беспокойство взволновавшейся его продолжительным отсутствием жене.
VIII
17 января 1863 года в «Московских ведомостях» появилось объявление Толстого о прекращении журнала «Ясная Поляна».
Толстой начинает это объявление с заявления о том, что его педагогические убеждения, высказанные в «Ясной Поляне», «не только не изменились, но подтвердились и постоянно подтверждаются» его, «хотя и ограниченными, опытами и наблюдениями». Прекращение журнала вызвано тем, что «несмотря на лестные отзывы о «Ясной Поляне», напечатанные почти во всех журналах», цифра подписчиков не превышала 400. Толстой оговаривается, что он не перестанет делать «те педагогические опыты, которые составляли все содержание журнала, и выводить из них» свои «посильные наблюдения». Он заявляет о своем намерении выпускать с 1863 года, по мере накопления материала, не журнал, а отдельные сборники статей по педагогическим вопросам42.
Это объявление вызвало многочисленные отклики в печати.
Близкий к славянофильству журнал «Очерки» прекращению
595
«Ясной Поляны» посвятил заметку, озаглавленную «Чувстви-тельная потеря для нашей педагогической литературы»43.
Либеральная газета «Голос» сначала сообщила своим читателям «печальное известие» о прекращении журнала Толстого44, а позднее поместила заметку, в которой прямо обвиняла Толстого за прекращение «Ясной Поляны». «Общество, — писала газета, — имеет полное право строго осуждать графа Толстого за такой плачевный конец такого шумного начала!.. Странно бросить начатое дело, когда известная деятельность, встреченная недоброжелательно одними, встретила самое теплое сочувствие в других, и именно в тех, кому эта деятельность посвящалась... Он открыл народную школу на новых педагогических началах, он предпринял издание народного педагогического журнала, в котором развивал эти начала, и надо сказать правду, развивал мастерски; школа его процветала. Были, конечно, староверы, которые глядели на школу неприязненно, видя в ней что-то зловещее, но что именно — сказать не могли, не умели или совестились... Общество имеет полное право обвинять его»45.
Орган Киевской духовной академии «Воскресное чтение» поместил большую статью Е. Крыжановского, озаглавленную «Новые начала для народной педагогии», в заключении которой писал: «Несмотря на то, что мы во многом и многом не согласны с нею [«Ясной Поляной»], мы все-таки считаем ее замечательным явлением в нашей народной педагогии и жалеем, что она прекратилась, особенно если вспомним, какими узкими теориями и затеями руководствовалась до сих пор эта педагогия»46.
По особым соображениям не был огорчен прекращением «Ясной Поляны» журнал Писемского «Библиотека для чтения», который сообщение о прекращении «Ясной Поляны» снабдил следующим кратким замечанием: «Может быть, все к лучшему. Может быть, досуг, остающийся за прекращением журнала, граф Толстой употребит на возобновление своей поэтической деятельности, и тогда бог знает, останется ли общество в проигрыше»47.
Германофильский журнал «Учитель» в год прекращения «Ясной Поляны» никак не откликнулся на этот факт, но в следующем 1864 году «Учитель» откровенно высказал свое удовлетворение прекращением «Ясной Поляны». «Все учения «Ясной Поляны» были построены на абсурде, — писал видный сотрудник журнала Е. Кемниц. — То, что у графа Толстого высказывается
596
в несколько резком, экстравагантном, парадоксальном виде, так что для полного опровержения графа Толстого достаточно сделать из него ряд выписок, у других педагогических нигилистов принимает вид более основательный»48.
Добрым словом в том же 1864 году помянул «Ясную Поляну» «Журнал для родителей и наставников».
«У нас нет ни одного журнала, который строго посвятил бы себя изучению народного быта. Народные журналы — «Народная беседа», «Чтение для солдат», «Грамотей», «Мирской вестник» — ограничиваются сценами из современной народной жизни, далеко не уясняющими ее внутреннего смысла, иногда историческими рассказцами и пр. «Ясная Поляна» большую услугу сделала в этом отношении»49.
Газета «Голос» в том же году напечатала письмо народного учителя, выразившего сожаление о прекращении выхода «Книжек», служивших приложением к «Ясной Поляне». Народный учитель, скрывший свою фамилию под буквой К., писал:
«Вообще я должен сказать, что книг, пригодных для наших народных училищ, чрезвычайно мало. Большая их часть написана далеко не простым языком. Сборники статей для народа составлены большей частью неудачно и решительно неинтересны крестьянским ребятам. В отношении языка удивительно хороши «Книжки» «Ясной Поляны». Нельзя не пожалеть о прекращении этого издания»50.
Намерение Толстого выпускать сборники статей по педагогическим вопросам не было осуществлено. Остался не выполненным целый ряд замыслов статей по педагогическим вопросам, о которых Толстой уведомлял читателей своего журнала. Так, он высказывал намерение написать о детских садах, об образовательном значении детских народных игр, о книгах, которые читает народ, «о значении популярной музыки, особенно пения, для возбуждения падающего искусства», о недостатках литературного языка, о вредном влиянии плохих школ, об учебниках по арифметике и о своих опытах преподавания арифметики, о книгах научного содержания и книгах для чтения, издаваемых Комитетом грамотности, и т. д. Все эти статьи остались не написанными.
597
IX
Около 8 февраля Толстые вернулись в Ясную Поляну.
Уже шел второй месяц 1863 года, а Толстой еще не выпустил декабрьскую книжку «Ясной Поляны» за 1862 год. В эту книжку Толстой предполагал поместить статью «Прогресс и определение образования», начатую им еще в октябре минувшего года. По возвращении из Москвы он окончательно проредактировал эту статью и отослал ее в Москву. Толстой доволен статьей: «Хороша, хотя и небрежна», — записывает он в дневнике от 23 февраля.
Это — последняя статья, написанная Толстым для «Ясной Поляны». В этой статье Толстой, как сказано было выше, с особенной силой провозгласил свое убеждение в моральном, умственном и физическом превосходстве людей из народа над людьми привилегированных классов. Несмотря на то, что он «распростился» с народом, он и теперь так же твердо был убежден в этой истине, как и прежде.
Статья «Прогресс и определение образования» прошла при своем появлении совершенно незамеченной. Ни в одной журнальной или газетной статье не было о ней ни одного упоминания.
Одновременно с окончательной отделкой для печати статьи «Прогресс и определение образования» Толстой занят и художественной работой. 23 февраля, после перерыва в 15 дней, он записывает в дневнике: «Начал писать. Не то».
25 февраля Софья Андреевна пишет своей сестре Татьяне Андреевне: «Лева начал новый роман»51.
8 марта Толстой пишет сестре: «Пишу роман и повести».
Повидимому, в этих записях и письмах речь идет о каком-то начале или конспекте будущей «Войны и мира». Других данных о работе Толстого над романом вплоть до июля 1863 года мы не имеем.
Далее в той же записи дневника от 23 февраля сказано: «Перебирал бумаги — рой мыслей и возвращение или попытка возвращения к лиризму. Он хорош».
«Перебирая бумаги», то есть начала не оконченных и не отделанных произведений, Толстой нашел написанное им в 1857 году стихотворение в прозе «Сон». Он проредактировал это небольшое произведение (быть может, в этом и состояло его «возвращение к лиризму») и отправил его Аксакову, издававшему тогда газету «День». Почему-то Толстой не захотел раскрыть Аксакову свое авторство и послал ему «Сон» от имени жившей у них компаньонки Т. А. Ергольской Н. П. Охотницкой. В письме к Аксакову, написанном Толстым, мнимый автор «Сна» писал, что
598
это его «первый литературный опыт», и просил ответа. Аксаков ответил 28 марта. Он писал, что «статейка «Сон» не может быть напечатана, потому что «этот «Сон» слишком загадочен для публики, его содержание слишком неопределенно, и может быть вполне понятен только самому автору. Для первого литературного опыта слог, по моему мнению, недурен но сила вся не в слоге, а в содержании»52.
Запись Толстого в дневнике 23 февраля 1863 года заканчивается словами: «Не могу писать — кажется — без заданной мысли и увлеченья».
Вероятно, в конце февраля была начата Толстым новая повесть, получившая впоследствии название «Холстомер».
Работа над повестью о Холстомере отмечена в дневнике Толстого 3 марта 1863 года в следующих выражениях: «Мерин не пишется, — фальшиво, а изменить не умею... В мерине всё нейдет, кроме сцены с кучером сеченым и бега».
Происхождение этой повести таково.
Замысел «истории лошади» появился у Толстого, как было сказано выше, еще в 1856 году. Затем в 1859 году Толстому пришлось ехать из Москвы в Ясную Поляну вместе со своим знакомым А. А. Стаховичем, владельцем конного завода в сельце Пальна Елецкого уезда Орловской губернии. Дорогой Стахович рассказал Толстому сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую хотел, но не успел написать умерший в минувшем году его брат Михаил Александрович, автор сцен из народного быта и стихотворений оригинальных и переводных. «Пегий мерин», историю которого хотел написать М. А. Стахович, принадлежал к числу рысаков конного завода графа А. Г. Орлова в селе Хреновом. Он родился в 1803 году, звали его «Мужик первый», но владелец за его «длинный и просторный ход» прозвал его «Холстомером» («словно холсты мерит»). В Шаболовской бегу, принадлежавшем графу Орлову, Холстомер выказал необычайную резвость: он пробежал 200 сажен в 30 секунд. Но у этой необыкновенно резвой лошади был недопустимый для рысака недостаток: она была пегая и потому не могла участвовать в состязаниях.
По словам А. А. Стаховича, брат его так рисовал себе развитие сюжета этой повести. Удаленный из графских конюшен, Холстомер попадает на аукцион, где его покупает богатый московский купец. Предполагалось дать описание быта таких купцов, любителей разных орловских рысаков, за которых они платили «большие тысячи». От купца Холстомер переходит к лихому гвардейцу времен Александра I, который дарит его дирижеру
599

Т. А. Берс (Кузминская) в 1862 г.
С фотографии.
600
цыганского хора. Тут Холстомеру приходится возить цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением Пушкина. Потом Холстомер попадает к «удалому молодцу разбойничку», а под старость — к сельскому попу и от него к мужику, у которого и умирает53.
Рассказанный Стаховичем сюжет заинтересовал Толстого; быть может, он тогда же написал какое-то начало повести на этот сюжет. Так можно думать на основании того, что в феврале 1863 года Толстой приступил к писанию «Холстомера» после просмотра своих «старых бумаг». В пользу такого предположения говорит также и то, что первый лист черновой редакции «Холстомера», относящийся к 1863 году, начинается зачеркнутым текстом, являвшимся продолжением какого-то утраченного текста, — быть может, того самого наброска, который был написан Толстым вскоре после того, как он прослушал рассказ Стаховича.
Теперь Толстой пишет план повести, в котором, как и следовало ожидать, не нашли места ни романтические («удалой молодой разбойничек»), ни эффектные (цыганка Танюша) моменты сюжета Стаховича. Владельцы Хлыстомера (так называлась лошадь в первой редакции) — простые, заурядные люди. Повесть была написана в основном по намеченному плану, за исключением одной важной подробности: после смерти старушки, жившей спокойной, тихой жизнью, которую Хлыстомер возил только в церковь, его покупает офицер, и он попадает на венгерскую войну 1849 года. Здесь Толстой имел в виду описать «трусости и храбрости» участников войны и различные военные картины в восприятии Хлыстомера.
Надо думать, что эпизод отправки Хлыстомера на войну не был использован Толстым при работе над повестью вследствие того, что эпизод этот уводил бы читателя слишком далеко в сторону от основной темы повести.
Упоминание о работе над «Мерином» находим в письме Толстого к Фету в начале мая 1863 года. «Теперь я пишу историю пегого мерина, — писал Толстой, — к осени, я думаю, напечатаю».
Но повесть, очевидно, не была закончена «к осени». Во всяком случае Толстой не делал никаких попыток напечатать ее в 1863 году.
Основное содержание повести — критика условий людской жизни с точки зрения лошади, то есть существа, живущего естественной жизнью, согласной с законами природы. С этой точки зрения Хлыстомер критикует и понятие собственности. Рассуждения Хлыстомера о собственности в первой редакции значительно
601
отличаются от окончательного текста. Вот разговор Хлыстомера с другими лошадьми о собственности по первой редакции54.
«Для меня совершенно было темно тогда, что такое значило, что я был продан или подарен конюшему. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же мне казалось так непонятно, чтобы я мог принадлежать кому-нибудь. Что такое значило, когда говорили про меня: мой жеребенок или моя лошадь? Я понимаю, что значит: моя нога, моя голова, мой хвост, но почему же моя лошадь? Ежели бы это значило, что он кормил меня, я бы понял, — но кормили меня различные люди. Ежели бы это значило, что он бьет меня; но и били меня различные люди. Сказать «моя лошадь» мне казалось так же невозможно, как сказать «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Теперь только, побывав у многих хозяев, я понял, что значит — моя лошадь.
— Что же это такое значит? — спросили другие лошади, с любопытством настороживая себе уши. — Мы часто слыхали это и не можем дать себе отчета».
Хлыстомер продолжал:
«Вот что значит «моя лошадь». Люди любят говорить: «моя, мой, мое» про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. В этом заключается главная страсть людей, и для того, чтобы говорить про какую-либо вещь — мое, они готовы всем пожертвовать. Но так как про одну и ту же вещь многие желают говорить «мое», и им неприятно, когда кто-нибудь другой говорит «мое» про одну и ту же вещь, то они условливаются, чтобы только один говорил про одну вещь «мое», и тот, кто про наибольшее число вещей говорит «мое», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это понятие — мое, за которое столь многим жертвуют люди, — какою-нибудь прямою выгодою, но не мог; и убежден теперь, что в этом состоит существенное различие людей от нас, и потому только мы смело можем сказать, что стоим выше, чем люди: люди подлежат желанию называть вещи «мое», а мы свободны от этой животной слабости. Прежде, отыскивая эту истину, я спрашивал себя: не означает ли «мое» какой-нибудь прямой и существенной выгоды, права, или силы, или обязанности для человека? Многие из моих хозяев называли меня своей лошадью, но ездили на мне не они, а совершенно другие. Кормили меня не они, а другие. Делали мне добро опять-таки не они — хозяева, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие
602
«мое» не имеет никакого другого основания, как бессмысленно составленное условие или животный людской инстинкт, называемый чувством собственности. Государь говорит: «государство мое», но государство это не содействует нисколько его личному благосостоянию. Он не имеет вследствие этой собственности ни больше силы, ни больше ума, ни больше образования, ни, главное, что дороже всего каждому животному, — ни больше досуга. Купец говорит: «моя лавка», «моя лавка сукон», например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке, и опять не имеет вследствие этого ни больше образования, ни больше силы, ни больше досуга, а напротив, меньше. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые называют других людей — своими, а эти люди сильнее, здоровее и досужее хозяев. Есть мужчины, которые женщин называют своими, а женщины эти живут с другими мужчинами, и люди счастливы, главное, тем, когда получат исключительное право только называть какую-либо вещь своею».
Это рассуждение, в котором В. А. Соллогуб увидал отголосок изречения Прудона: «собственность есть кража»55, включает не только вопрос о праве собственности на землю и на продукты труда, но и вопрос о собственности на людей (крепостное право), а также вопрос о царской власти. Крепостное право отрицается на том основании, что люди, составляющие собственность других людей (крепостные), «сильнее, здоровее» и даже «досужее» тех, кто ими владеет.
Крепостное право затрагивается в повести еще в двух картинах: в подслушанном Хлыстомером рассказе конюха другому конюху о том, как он был высечен конюшим (этот рассказ нравился автору), и в упоминании о богомольной старухе, к которой потом попал Хлыстомер и которая все «ездила к Николе Явленному и секла кучера», и кучер плакал в стойле у Хлыстомера.
Повесть не была закончена. Позднее Толстой сделал попытку напечатать ее через В. А. Соллогуба, но Соллогуб усмотрел в повести «цинизм», чуждый, по его мнению, таланту Толстого, и повесть была возвращена автору.
Только в 1885 году Толстой вновь взялся за «Холстомера». Переработанная повесть получила еще более острый социальный смысл.
X
С наступлением весны Толстой усиленно занялся хозяйством. Он приступил к посадке нового яблоневого сада, устройству пасеки,
603
покупке овец, поросят, телят, птицы, пчел; вместе со своим соседом А. Н. Бибиковым построил в имении Бибикова Телятинки небольшой винокуренный завод. Этот винокуренный завод просуществовал около полутора лет. Разведение скотины, птицы и пчел не приняло больших размеров; но яблоневый сад, полученный Толстым по наследству размером около 10 гектаров, к половине 1870-х годов был расширен им до 40 гектаров. В нем насчитывалось до 6500 деревьев56.
Для Толстого занятия хозяйством не только являлись источником дохода, но и давали возможность близкого общения с природой, что было для него совершенно необходимо. В том же письме к Фету, в котором он уведомлял его, что пишет «Историю пегого мерина», Толстой далее прибавлял: «Впрочем, теперь как писать? Теперь «незримые усилья»57 даже зримые, и при том я в юхванстве опять по уши».
Отношения с женой продолжали оставаться неровными и колеблющимися. «Мне так хорошо, так хорошо, я так ее люблю», — пишет Толстой сейчас же по возвращении в Ясную Поляну 8 февраля — и далее отмечает, что жена «преобразовывает» его, хотя и «несознательно». Примером такого «преобразования» для Толстого служит изменение в его отношении к студентам-учителям. «Студенты, — пишет Толстой, — только тяготят неестественностью отношений». И далее: «Как мне все ясно теперь. Это было увлеченье молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой». Здесь под словом «это» следует, как кажется, разуметь всю педагогическую деятельность, которую Толстой теперь подвергает такому несправедливому осуждению.
Временами Толстой чувствует всю непрочность той семейной сферы, в которую он иногда готов был погрузиться, отказавшись от всех других интересов. «Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть — и все кончено», — пишет он 1 марта.
Следующая запись от 3 марта начинается словами: «Два раза чуть не ссорились по вечерам. Но чуть. Нынче ей скучно, тесно. Безумный ищет бури58 — молодой, а не безумный. А я боюсь этого настроения больше всего на свете».
604
Запись заканчивается оправданием того «преобразования», которое, как это чувствовал Толстой, произошло в нем с началом семейной жизни и которое состояло в отказе от самоотверженной деятельности на пользу народа: «Так называемое самоотвержение, добродетель есть только удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав! Человек самоотверженный слепее и жесточе других».
23 марта Толстой в шутливом тоне сообщает свояченице о том, что его жена вот уже два дня, как в его присутствии превращается в холодную фарфоровую куклу. Такой холодной фарфоровой куклой она делается только тогда, когда они остаются, вдвоем; «как при других, все попрежнему». Что это письмо, несмотря на шуточную форму, вовсе не было шуткой, как думали некоторые исследователи, а отражением какого-то действительного душевного состояния, в котором временно находилась Софья Андреевна, видно из того, что 27 марта Софья Андреевна писала сестре: «Я уже теперь больше не фарфоровая»59.
Но уже на другой день после письма о фарфоровой кукле 24 марта Толстой записывает в дневнике: «Я ее всё больше и больше люблю».
Через неделю 1 апреля на первый день Пасхи Толстой почему-то вспомнил свой разговор со студентом-учителем Сердобольским на Пасху прошлого года. Это была «совсем другая Пасха». Толстой вспомнил «свои скучные хозяйственные соображения», которыми он был теперь занят, и ему «на себя стало гадко». «Я эгоист распущенный, — пишет он. — А я счастлив. Тут и надо работать над собой».
Проходят два месяца, и 2 июня, подводя итог пережитому за эти месяцы, Толстой пишет:
«Все это время было тяжелое для меня время физического и оттого ли или самого собой нравственного тяжелого и безнадежного сна. Я думал и то, что нет у меня сильных интереса или страсти (как не быть? отчего не быть?). Я думал и что стареюсь, и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее, и будущее, и себя, и свою жизнь».
И далее прибавляет с робкой покорностью судьбе, которой прежде у него не было: «Ничего не сделаешь против сложившегося». И утешает себя таким соображением: «В чем кажется слабость, в том может быть источник силы».
605
XI
«Казаки» вызвали целый ряд критических статей в журналах и газетах. Об одной из них Толстой высказался в письме к Фету в начале мая 1863 года. Это была статья поэта Я. П. Полонского, с которым были знакомы и Толстой и Фет, напечатанная в журнале М. М. Достоевского «Время»60. По поводу этой статьи Толстой писал Фету: «А Полонский-то, бедный, как плохо рассуждает во «Времени». Причины недовольства Толстого статьей Полонского понятны: беспринципность автора, заявляющего, что с некоторыми писателями «трудно говорить, потому что большинство стоит за них»; ложное понимание образа Оленина, который представляется автору «человеком явно отживающего поколения», чем-то «вроде бледного отражения лучших людей пушкинской эпохи»; непонимание самой идеи произведения, приводящее автора к утверждению, что «всё, что нашел Оленин истинно прекрасного в станице, всё это есть и в среде образованной, причем «истинно прекрасное» в казацкой станице критик видит между прочим в «хороших, трудолюбивых казачках, созидающих довольство»; наконец, художественная наивность автора, забывающего о заглавии повести и утверждающего, что такие эпизоды «Казаков», как убийство Лукашкой абрека, приезд брата убитого выкупить его тело, стычки казаков с абреками — не что иное, как «повесть в повести», а «такая сложность разбивает, двоит внимание читателя», — всё это не могло не оттолкнуть Толстого от статьи Полонского.
Крупные ошибки критика не могли в глазах Толстого быть заслонены его справедливым указанием, что от всей повести «веет кавказским воздухом». «Это не поддельный, не подкрашенный, не романтический Кавказ с романтическими героями. Каждый штрих, рисующий тамошнюю природу, верен».
Гораздо удачнее статьи Полонского была статья Е. Эдельсона в «Библиотеке для чтения»61. Критик в следующих словах отмечает новаторство Толстого в описании Кавказа: «Под мастерским пером автора перед нами восстает какая-то новая, вовсе не знакомая нам жизнь, о которой все прежние описания Кавказа не давали никакого понятия». Отметив далее известное всем «почитателям таланта графа Л. Н. Толстого» его необычайное мастерство «нарисовать в короткой сцене и отношения лиц, и их глубочайшие внутренние движения, и природу, их окружающую», автор заканчивает свой обзор утверждением, что повесть Толстого с художественной стороны «безукоризненна:
606
все, что сказано в ней, может быть принято безусловно как факт из действительной жизни».
Критик «Северной пчелы», подписавший свою статью одной буквой А.62, презрительно отозвавшись о характере Оленина («гниленький московский дворянчик»), очень высоко ставит описание Кавказа и типы казаков, выведенные Толстым. «Это не Кавказ Марлинского, — пишет критик, — с изысканными страстями, утесами, резней черкесов, дикими речами героев и героинь и с прочей напускною драматико-трагической небывальщиной бедного, дикого и в сущности очень простого Кавказа».
«Какая прелесть у графа Толстого, — говорит далее критик, — эти главные лица его повести: казак Лукашка..., простая героиня Марьянка — совершенно законченный, живой, пленительный образ, каким редко дарят нашу литературу». «Верхом художественности» представляются критику сцена убийства Лукашкой джигита и стычки Лукашки с братом убитого. В заключение критик вспоминает педагогическую деятельность Толстого, которую считает «очень плодотворной», и заканчивает статью словами: «Но педагогическая деятельность графа Толстого не поглотила, как видно, его художественного таланта. От души желаем ему побольше таких трудов, как его прелестная повесть «Казаки». Впечатление, оставляемое ею, так свежо, так отрадно, как читатель давно не испытывал, вероятно».
П. В. Анненков начал свою статью о «Казаках», напечатанную в «Петербургских ведомостях»63, следующей общей характеристикой творчества Толстого:
«С именем Толстого (Л. Н.) связывается представление о писателе, который обладает даром чрезвычайно тонкого анализа помыслов и душевных движений человека и который употребляет этот дар на преследование всего того, что ему кажется искусственным, ложным и условным в цивилизованном обществе. Сомнение относительно искренности и достоинств большей части побуждений и чувств так называемого образованного человека на Руси вместе с искусством передать нравственные кризисы, которые навещают его постоянно, составляют отличительную черту в творчестве нашего автора... Он проникал, не разбирая пола и возраста, до дна тех кокетливых и наружно благообразных душевных порывов человека, которые прикрывают другой, тайный мир его ощущений и мыслей, исполненный страшилищ или по крайней мере карикатур и пародий на то, что вышло к свету, на фразу, идею, слезу и пр... Только в последнее время Толстой
607
сам откровенно выдал себя за скептика и гонителя не только» русской цивилизации, но и расслабляющей, причудливой, многотребовательной и запутывающей цивилизации вообще... Настоящий определенный идеал замещается у него, как уже было замечено прежде нас, страстным влечением к простоте, естественности, силе и правдивости непосредственных явлений жизни».
Перейдя далее к разбору «Казаков», Анненков спешит заявить свою общую оценку повести:
«На какую бы точку зрения ни становилась критика по отношению к этому произведению Толстого, она должна будет признать его капитальнейшим произведением русской литературы наравне с наиболее знаменитыми романами последнего десятилетия... Десятки статей этнографического содержания вряд ли могли бы дать более подробное, отчетливое и яркое изображение одного оригинального уголка нашей земли... Поэзия составляет основной грунт всей его картины».
Характер Оленина критик считает «столь же глубоко задуманным и превосходно изображенным, как и все другие лица и части замечательного романа графа Толстого». Оленин, по мнению критика, «болен цивилизацией». «Она дала ему спасительное беспокойство ума и чувства, много благородных стремлений, но не показала ему никакой серьезной цели существования».
Известная в свое время писательница Евгения Тур (псевдоним графини Е. В. Салиас де Турнемир) начала свою статью64 с восхваления художественных достоинств «Казаков». «В этой повести бездна поэзии, художественности, образности. Повесть не читаешь, не воображаешь, что в ней написано, а просто видишь; это целая картина, нарисованная рукою мастера, колорит которого поразительно ярок и вместе с тем верен природе; в нем с ослепительною яркостью соединена правда красок... Это — сама жизнь с ее неуловимой прелестию». Но перейдя к рассмотрению содержания повести Толстого, Евгения Тур объявила, что это не что иное, как «поэма, где воспеты не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность дикаря-зверя. Рядом с этим дикарем-зверем унижен, умален, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества»... Главный герой повести Оленин «мало чем по своей жизни и наклонностям разнится от животного»; казаки, изображенные Толстым, — «воры и пьяницы». Толстой «рьяно и храбро принялся поэтизировать пьянство, разбой, воровство, жажду крови». И т. д.
608
Как это ни странно, но и мнение Ф. И. Тютчева о повести Толстого до известной степени приближалось к мнению Евгении Тур. Ему принадлежит следующая эпиграмма на «Казаков»:
«Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа»65.
«Современник» напечатал о «Казаках» статью секретаря редакции А. Ф. Головачева66, который за несколько лет до этого в газете «Наше время» поместил восторженную статью о яснополянской школе. В самом начале статьи критик заявляет, что в настоящее время беллетристика должна решать вопросы о том, «какими именно средствами личность может добиться возможной доли счастья и в чем должна заключаться ее деятельность по отношению к среде и другим личностям, для достижения искомой цели». Став на эту точку зрения, критик не удовлетворяется повестью Толстого. К Оленину автор относится иронически, считая, что это лицо «должно представить ряд измышлений автора о человеческом счастьи вообще и затем показать все превосходство идеала счастья простого, естественного, так сказать, дикого, перед идеалом счастья человека, заеденного сознательностью, плодом неестественной цивилизации». Письмо Оленина к товарищу о своем отвращении к светской жизни и любви к Марьяне, по мнению критика, может понравиться только «любителям расслабляющих поэтических ощущений». Отношение Оленина к Марьяне кажется критику «идеальничанием с вещами, которые сами по себе поэтичны потому только, что они просты и естественны». В заключение статьи автор объявляет Толстого, как и других «знаменитых художников писателей» [имелся в виду прежде всего, конечно, Тургенев], «ввиду резкого поворота, который дало течение нашей общественной жизни», ненужными для современных читателей. «Романы и повести, которые захватывали бы глубоко текущую жизнь, которые бы в состоянии были настолько раздражить мысль современного человека, — таких произведений наличные знаменитости не дадут: они вышли из жизни». «Они, воображавшие себя всегда руководителями общества, вдруг очутились в хвосте. На этом и должно кончиться их художественное поприще, потому, что в жизни зады не повторяются».
Но критик все-таки не мог, при всей предвзятости своего отношения к Толстому, не подпасть под обаяние его таланта.
609
Статья заканчивается снисходительной похвалой Толстому, который, по мнению критика, «все-таки беллетрист хороший, — его можно читать без скуки. Он хороший рассказчик и ловкий, хотя и поверхностный наблюдатель, но он плохой мыслитель. Ему не следует браться за глубокие рассуждения, а тем более за решение вопросов о судьбах человечества».
В восторге от «Казаков» были Фет и Тургенев, мнением которых Толстой очень дорожил.
Фет 4 апреля 1863 года писал Толстому: «Сколько раз я Вас обнимал заочно при чтении «Казаков» и сколько раз смеялся над Вашим к ним неблаговолением! Может быть, Вы и напишете что-либо другое — прелестное, — ни слова — так много в Вас еще жизненного Еруслана, но «Казаки» в своем роде chef d’oeuvre. Это я говорю положительно. Я их читал с намерением найти в них все гадким от А до Z и, кроме наслаждения полнотою жизни — художественной, ничего не обрел... Я нарочно по вечерам читаю теперь «Рыбаков» Григоровича. Все эти книги убиты Вами. Все повести из простонародного быта нельзя читать без смеха после «Казаков»... Неизъяснимая прелесть таланта».
В следующем письме от 11 апреля Фет опять возвращается к повести Толстого: «Казаки» — Аполлон Бельведерский. Там отвечать не за что. Все человечно, понятно, ясно, ярко-сильно»67.
Тургенев писал И. П. Борисову 5 июня 1864 года: «На днях перечел я роман Л. Н. Толстого «Казаки» и опять пришел в восторг. Это вещь поистине удивительная и силы чрезмерной»68.
И позднее Тургенев не изменил своего восторженного отношения к повести Толстого. В 1868 году он писал относительно Бальзака: «Все его лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно до мельчайших подробностей — и ни одно из них никогда не жило и жить не могло; ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в «Казаках» нашего Л. Н. Толстого»69.
Из рядовых читателей повесть Толстого особенно понравилась «кавказцам», которые были «в полном от нее восхищении», как 6 мая 1863 года писал Толстому А. Е. Берс70.
Что касается «Поликушки», то эта замечательная повесть при своем появлении прошла почти не замеченной критикой.
Газета «Сын отечества» увидала в повести одну только «ложь, неестественность и клевету на жизнь». Поликей, как привычный вор, не мог исправиться от увещаний барыни; он не мог
610
также потерять деньги, потому что только об этом и думал — самоуверенно и без доказательств заявляет критик71.
«Одесский вестник»72, признавая в повести блестящие частности, «живо схваченные краски и черты быта», вследствие чего повесть читается с захватывающим интересом, тем не менее утверждал, что по окончании повести у читателя должен появиться вопрос: «К чему потрачено столько таланта, наблюдательности и ума?.. Для нас литература игрушка», — заканчивал свою статью критик, совершенно не понявший идеи повести Толстого.
И, наконец, газета «Северная пчела» свою хвалебную статью о «Казаках» заканчивала такими словами: «Все нами сказанное о «Казаках» относится и к другому прекрасному очерку гр. Л. Н. Толстого «Поликушка», также в «Русском вестнике»73. Больше в статье ничего не было сказано о повести Толстого.
Этими тремя отзывами исчерпывается все написанное критикой при появлении «Поликушки» в печати.
По своему обыкновению оценил по достоинству повесть Толстого Тургенев. 25 января 1864 года он писал Фету:
«Прочел я после вашего отъезда «Поликушку» Толстого и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много потрачено, да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает, а ведь у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!»74
Сам же Фет, как и следовало ожидать от поэта «чистого искусства», совершенно не понял и не оценил «Поликушку». В том же письме от 11 апреля 1863 года, где он называл «Казаков» «Аполлоном Бельведерским», он писал: «В «Поликушке» всё рыхло, гнило, бедно, больно... Все верно, правдиво, но тем хуже. Это глубокий, широкий след богатыря, но след, повернувший в трясину... Я даже не против сюжета, а против отсутствия идеальной чистоты. Венера, возбуждающая похоть, плоха. Она должна только петь красоту в мраморе. Самая вонь должна в создании благоухать, прошедши durch das Labyrinth der Brust [через лабиринт сердца] художника. А от «Поликушки» несет запахом этой исковерканной среды. Это такие-то вчерашние зады. Вот мое личное впечатление. Если я не прав, тем хуже для меня».
611
XII
18 июня 1863 года в дневнике Толстого находим подлинный вопль души, вызванный сознанием несоответствия своей жизни со своими стремлениями.
«Где я? — с отчаянием спрашивает себя Толстой, — тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю». И далее неожиданное признание:
«Всё писанное в этой книжке почти вранье — фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду».
Речь идет здесь о тех местах дневника, в которых Толстой писал о своем семейном счастье.
Как оказывается, повод к этой записи был самый незначительный: «видимое удовольствие» жены «болтать и обратить на себя внимание» «самого ничтожного» человека — учителя Эрленвейна.
«Стоит это прочесть, — пишет Толстой далее, — и сказать: «Да, знаю — ревность», и еще успокоить меня и еще что-нибудь сделать, чтобы успокоить меня, чтобы скинуть меня опять во всю с юности ненавистную пошлость жизни. А я живу в ней девять месяцев. Ужасно. Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства погубил невозвратимые девять месяцев, которые могли бы быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни... Сколько раз я писал: «Нынче кончено». Теперь не пишу. Боже мой, помоги мне. Дай мне жить всегда в этом сознании тебя и своей силы».
И далее обращение к жене: «Я тебя ищу, чем бы обидеть невольно. Это скверно и пройдет, но не сердись, я не могу не не любить тебя».
Толстой поправляет свое утверждение о том, что все, что он писал в дневнике о своих отношениях к жене, неправда. Он говорит: «Должен приписать, для нее — она будет читать — для нее я пишу не то, что неправда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать». Смысл этой несколько туманной фразы, повидимому, тот, что Толстой не стал бы, может быть, писать в дневнике о своей любви к жене и отношениях с ней, если бы писал только для себя.
«Я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек», — пишет Толстой далее. «Нынче луна подняла меня кверху». (Лунные ночи всегда оказывали на Толстого сильное действие.)
Так чувствовал себя Толстой на девятом месяце после женитьбы.
612
Что же касается его жены, то в дневниках ее за пять месяцев (февраль — июнь 1863 года) видна любовь к мужу и одновременно требование полной отдачи его ей. Достаточно ему задержаться по хозяйству на два часа против обещанного часа возвращения, как Софья Андреевна уже называет его «дурным человеком» за то, что «у него даже нет жалости, которую имеет всякий мало-мальски не злой человек ко всякому страдающему существу». Останется она одна — у нее появляется «злость», она «готова упрекать ему» за то, что у нее «нет экипажа кататься» и что он о ней «мало заботится».
С волнением и беспокойством ожидал Толстой появления своего первого ребенка, надеясь, что это приведет к большим переменам в его жизни.
613
Глава двенадцатая
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1863—1869 ГОДАХ
I
28 июня 1863 года у Толстых родился сын Сергей.
О том, как серьезно смотрел Толстой на семейную жизнь, дает представление начатый им 5 августа «материнский дневник» — описание родов его жены. Он рассказывает, как в ожидании родов он поехал в Тулу за акушеркой, и как ему было странно, что «Копылов [купец] хочет, как всегда, говорить о политике, аптекари запечатывают коробочки»... Возвратившись домой, он вошел к жене. «Милая, как она была серьезно, честно, трогательно и сильно хороша... Она про меня не думала, и серьезное, строгое было в ней... Глаза всё горели спокойно и торжественно...»
Это описание не было закончено.
Первые месяцы после рождения ребенка были омрачены для Толстого вскоре начавшейся болезнью Софьи Андреевны. Доктора запретили ей кормить; пришлось взять кормилицу. Это нарушало представление Толстого о нормальной семейной жизни; он находил, что со стороны матери «уродство не ходить за своим ребенком». Гостившая в то время в Ясной Поляне Т. А. Берс (Кузминская) рассказывает в своих воспоминаниях, что «Льву Николаевичу не удавалось победить в себе неприязненное чувство к детской с кормилицей и няней... Когда Лев Николаевич входил в детскую, на его лице проглядывала брюзгливая неприязнь»1.
Нарушение нормального, с его точки зрения, течения семейной жизни сделало Толстого особенно чувствительным к недостаткам характера его жены, которые стали для него теперь особенно заметны.
614
6 августа, не дописав начатый им «материнский дневник», Толстой прерывает его словами: «Я не докончил этого и не могу [не] писать дальше о настоящем мучительном». И далее пишет:
«Ее характер портится с каждым днем, я узнаю в ней и Поленьку2 и Машеньку3 с ворчаньем и озлобленными колокольчиками. Правда, что это бывает в то время, как ей хуже; но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня... Или она никогда не любила меня, а обманывалась. Я пересмотрел ее дневник — затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто то же. Если это так, и все это с ее стороны ошибка — то это ужасно. Отдать все... всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и т. д. Мне ужасно тяжело... С утра я прихожу счастливый, веселый и вижу графиню, которая гневается и которой девка Душка4 расчесывает волосики, и мне представляется Машенька в ее дурное время, и все падает, и я, как ошпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи, по привычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тетеньке, к Тане5, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что всё это не просто дурно, но ужасно в сравнении с тем, что я желаю... А малейший проблеск понимания и чувства — и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. И я доволен тем, что только меня мучают... Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь, но за что было меня так больно обманывать».
Тяжесть семейной жизни настолько давила Толстого, что он ухватывается за представившуюся, как ему казалось сначала, возможность выйти из-под ее гнета.
22 сентября, накануне годовщины свадьбы, Софья Андреевна записывает в дневнике, что муж объявил ей о своем желании отправиться на войну, если она начнется (ожидались осложнения с Францией в связи с польским восстанием). Софья Андреевна не догадывалась о причинах этого внезапного, как ей казалось, решения ее мужа. Плохо читавшая Севастопольские рассказы, в которых Толстой с самого начала предупреждает читателя,
615
что он будет описывать войну «не в правильном, красивом и блестящем строе с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а будет описывать войну в ее «настоящем выражении, в крови, в страданиях, в смерти», — Софья Андреевна вообразила себе, что муж ее намеревается пойти на войну потому, что ему хочется «весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули».
Между тем вполне достаточное психологическое объяснение желания Толстого пойти на войну находим в его произведениях. В одном из вариантов «Казаков», написанном в 1862 году и рассказывающем о том, что Оленин женится на Марьяне, он в письме к товарищу, описав перестрелку с горцами, прибавляет: «Мне жутко. Никогда так мне не бывало страшно смерти, как теперь. Боюсь, не хочу смерти теперь»6. Оленин не хочет умирать потому, что счастлив своей любовью к Марьяне.
Иначе чувствует себя князь Андрей в «Войне и мире», у которого семейная жизнь сложилась неудачно. Когда Пьер Безухов спрашивает его, зачем он идет на войну, князь Андрей откровенно отвечает ему: «Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!».
Затем князь Андрей произносит свое известное наставление Пьеру: «Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, которую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам... Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, все закрыто... Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым!..»7
Автобиографичность этих речей князя Андрея, так напоминающих строки дневника Толстого, не подлежит сомнению8.
Но войны, как известно, не последовало, да если бы война и началась, то несомненно чувство долга перед своей семьей не
616
позволило бы Толстому подвергать свою жизнь смертельной опасности.
II
Проходят два месяца, и 6 октября Толстой записывает в дневнике, что все то, о чем он писал в предыдущей записи, «все это прошло и все неправда». «Я ею счастлив, — говорит Толстой, — но я собой недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие». Здесь под словом «смерть» Толстой разумел жизнь, не удовлетворяющую требованиям сознания. «Выбирать незачем, — пишет Толстой далее. — Выбор давно сделан: литература — искусство, педагогика и семья».
Литературные занятия, о которых упоминает здесь Толстой, состояли в работе над будущей «Войной и миром». Несмотря на свое увлечение хозяйством, Толстой возобновил эти занятия еще летом. 18 июля 1863 года гостившая в Ясной Поляне Т. А. Берс пишет своему знакомому М. А. Поливанову: «Левочка большей частью сидит у себя. Он принялся за свой новый начатый роман»9. И Софья Андреевна отмечает в своем дневнике 3 августа, что Лев Николаевич «пишет».
В конце августа или в начале сентября Толстой обратился к Елизавете Андреевне Берс с просьбой поискать ему источников для его романа — книг о военных событиях 1812 года, а — главное — записок современников об общественной жизни того времени. Е. А. Берс исполнила просьбу Толстого и 14 или 15 сентября отправила ему письмо со списком тех русских книг, какие ей удалось найти по интересовавшему его вопросу. Этот список был очень неполон. Е. А. Берс писала даже, что «очерков из общественной жизни» того времени «почти совсем нет; все так много заботились о политических событиях, и их было так много, что никто и не думал описывать домашнюю и общественную жизнь того времени», — что было, конечно, неверно.
Андрей Евстафьевич с большим участием отнесся к замыслу Толстого. В письме к нему от 5 сентября 1863 года Берс писал: «Вчера вечером мы много говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе». Далее Берс сообщал некоторые воспоминания свои и своих знакомых о войне 1812 года. Позднее Берс устроил Толстому свидание с лейб-медиком Маркусом, бывшим в 1812 году полковым
617
врачом и близким человеком графа М. С. Воронцова, участника кампании10.
С наступлением осени работа над романом пошла успешнее, и 17 октября Толстой писал тетушке Александре Андреевне: «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810-х и 20-х годов, которая занимает меня вполне с осени».
Далее Толстой делится со своим другом той переменой во взглядах на жизнь, которая произошла в нем за последнее время. Он пишет: «Доказывает ли это слабость характера или силу — я иногда думаю и то и другое — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с с вами виделись. Их можно жалеть, но любить — мне трудно понять, как я мог так сильно».
«Детей и педагогику я люблю, — писал Толстой далее, — но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад... Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал».
Все другое, на что Толстой ранее затрачивал «силы своей души», теперь для него более не существовало.
Софья Андреевна 28 октября записывает в дневнике, что Лев Николаевич «сильно занят, но невесело занят». Эта «невеселость» могла происходить оттого, что работа над романом в первые месяцы, когда автору еще не вполне был ясен план всего произведения, представляла особенные трудности и требовала большого напряжения.
16 декабря Софья Андреевна писала родителям: «Лева перевел опять кабинет вниз и целый день пишет»11. 19 декабря Толстой писал И. П. Борисову: «Я все пишу длинный роман, который кончу только, ежели долго проживу».
III
Как ни усиленно занимался Толстой своим романом, все же занятия эти не достигли еще в то время такой степени напряжения (как это бывало с Толстым в других случаях), чтобы он не мог заняться чем-нибудь другим.
В декабре 1863 и в январе 1864 года Толстой отвлекся от романа работой над комедией, впоследствии получившей название «Зараженное семейство». О работе над этой комедией писала
618
Софья Андреевна своей сестре Тане 22 декабря 1863 года: «Лева очень занят писательством». 24 февраля 1864 года Толстой извещал свою сестру, что «между прочим» он написал комедию, которая «вся написана в насмешку эмансипации женщин и так называемых нигилистов». Комедия была закончена вчерне к 1 февраля и в ближайшие 2—3 дня окончательно исправлена11а.
Толстому хотелось поставить свою комедию на сцене Малого театра в Москве; он даже набросал вчерне проект распределения ролей между артистами этого театра. Переговоры с дирекцией Малого театра он поручил своему шурину Александру Андреевичу Берсу. 11 января А. А. Берс сообщил С. А. Толстой, что режиссер Малого театра А. Ф. Богданов с большим сочувствием отнесся к мысли о постановке комедии Толстого в его бенефис, который состоится в ближайшее время, и потому просит как можно скорее прислать ему пьесу12. Бенефис Богданова состоялся 21 января, но комедия к этому сроку еще не была закончена.
Около 3 февраля Толстой вместе с женой приехал в Москву, во-первых, для того, чтобы жена могла повидаться со своими родными, и, во-вторых, для того, чтобы хлопотать о постановке своей пьесы. Но было уже поздно, театральный сезон заканчивался 23 февраля, и постановка комедии не состоялась.
Толстому хотелось узнать мнение Островского о своей пьесе, он пригласил его к себе и прочитал ему пьесу. Островскому комедия не понравилась. Толстому он высказал свое мнение в смягченной форме, сказав, что в пьесе «мало действия, надо переделать»13. «Куда торопиться, поставь лучше на будущий год». На возражение Толстого, что его пьеса «очень современная и к будущему году не будет иметь того успеха», Островский отозвался иронически: «Что же, боишься, за год поумнеют?»14 В письме к Некрасову от 7 марта 1864 года Островский более откровенно
619
высказался о «Зараженном семействе»: «Когда я еще только расхварывался, утащил меня к себе Л. Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения»15.
Мнение Островского, очевидно, произвело впечатление на Толстого. 24 февраля, извещая сестру о том, что он не успел поставить комедию до окончания театрального сезона, Толстой прибавлял: «Да и комедия, кажется, плоха».
Уезжая из Москвы около 20 февраля, Толстой поручил хлопоты по проведению его комедии через цензуру и постановке ее на сцене В. Л. Соллогубу. Неизвестно, предпринял ли Соллогуб какие-либо шаги в этом направлении, но ни в печати, ни на сцене комедия Толстого не появилась16.
Когда в августе 1864 года Фет вместе с В. П. Боткиным, по дороге из своего имения в Петербург, заехал в Ясную Поляну, Толстой прочел им «Зараженное семейство».
Боткин нашел, что комедия «вовсе не так дурна, как говорили». К числу недостатков комедии Боткин относил то, что «первый и второй акты растянуты, и вообще нет комической струи».
Последнее замечание можно объяснить прежде всего тем, что Боткин слушал комедию в чтении самого автора, который, читая свои произведения, иногда стеснялся и не оттенял интонацией нужных мест. Несомненно, что, работая над комедией, Толстой особенно старался усиливать комизм положений и рассуждений героев. Но Боткину, как врагу революционно-демократического движения, очевидно, хотелось, чтобы «нигилисты» были выставлены в комедии Толстого в еще более смешном и нелепом виде. Вообще же Боткин находил, что комедия Толстого «имеет значение в общественном отношении и бьет прямо в жилу современного общества... Если он поработает над двумя первыми актами, то все-таки выйдет весьма верная и современная вещь»17.
Но Толстой в то время уже до такой степени был поглощен работой над будущей «Войной и миром», что не мог и думать ни о какой переработке написанной им комедии.
Самому Толстому его комедия с художественной стороны нравилась. В 1908 году, вспоминая о «Зараженном семействе» в
620
разговоре с Н. Г. Молоствовым, писавшим его биографию, Толстой сказал: «Помню, она была недурна»18. Но не придавая серьезного значения этой комедии, Толстой настолько к ней охладел, что не только не заботился ни о ее напечатании, ни о постановке на сцене, но даже не потребовал от Соллогуба рукопись обратно, несмотря на напоминание о ней Соллогуба в письме к Толстому от 15 сентября 1873 года19.
Последняя редакция «Зараженного семейства», переданная Соллогубу, до сих пор не обнаружена, но в архиве Толстого сохранились многочисленные черновики этой пьесы.
IV
Комедия «Зараженное семейство» первоначально была озаглавлена «Современные люди», затем заглавие было изменено на «Новые люди». Это первоначальное заглавие ясно указывает на то, что комедия полемически была направлена против романа Чернышевского «Что делать?», имевшего подзаголовок «Из рассказов о новых людях».
Роман Чернышевского, повидимому, задел Толстого за живое, хотя устами цыганки Маши в «Живом трупе» он и называет «Что делать?» «скучным» романом.
Действие комедии Толстого происходит в 1862—1863 годах, следовательно, после отмены крепостного права. В пьесе изображена растерянность помещиков, с трудом приспособляющихся к новым порядкам. Некоторые из них, по выражению одного из действующих лиц, даже начали «выть, как бабы».
Действие начинается в имении помещика Ивана Михайловича Прибышева. До манифеста 19 февраля Иван Михайлович был типичным крепостником. «Был ли день, чтоб Сашка камердин без битья одел, был ли староста, чтобы в стан не сводили», — вспоминает няня старое время. Но теперь, когда у его дочери жених из «передовых» людей, Иван Михайлович, по словам няни, «посмирнел совсем». Он хочет «идти за веком»; молодежь импонирует ему тем, что изучает естественные науки. О женихе своей дочери он отзывается в следующих выражениях: «Анатолий Дмитриевич человек современный, передовой, огромного ума, образованья, писатель, человек, которого вся Россия знает, может быть. Это, матушка, в нынешнее время лучше генеральских чинов», — внушает он жене.
Жених Любови Ивановны, Анатолий Дмитриевич Венеровский,
621
акцизный чиновник, читает «Полярную звезду» Герцена, устраивает школы, пишет в журналах, читает публичные лекции о происхождении человека, считает себя гениальным, изображает из себя человека, который будто бы «отвык заботиться о своих интересах» и всецело предан деятельности на общую пользу, хотя и не принадлежит, как он заявляет, к «крайним». Либеральные фразы не сходят у него с языка, хотя весь его либерализм имеет целью лишь устройство карьеры. Он женится на дочери Прибышева будто бы для того, чтобы «вырвать эту девушку, хорошую девушку из одуряющих и безнравственных условий», а в действительности его цель — получить богатое приданое. Он относится враждебно к помещикам за то, что их состояние «накрадено посредством крепостного права», но сам обедает у губернатора и устраивает себе вполне обеспеченную жизнь. Он дает своей невесте книги Жорж Санд и развивает перед ней теорию «свободной любви»: «Ежели мы хотим, мы можем соединиться, а наскучило нам — мы можем разойтись, не стесняя один другого». Проповедуя свободу женщины, он обходится со своей женой так деспотически, что она сразу после венца убегает от него обратно к отцу.
Совершенно под стать Венеровскому его приятель Беклешов, служащий по мировым учреждениям, так же, как и Венеровский, сделавший себе из либерализма доходную статью.
Далее представителем «новых людей» изображен студент Твердынский, занимающийся с сыном Прибышева, гимназистом Петрушей. Он из духовного звания и гордится этим, говоря: «Как всем известно, что в наше время быть из семинарии почти чин, так как лучшие головы и таланты все из семинарии». Он говорит вычурным, изломанным, им самим придуманным языком, наполовину книжным, наполовину семинарским («рыболовство учиняли», «невредная статейка», «девица невредная», «можно и усладиться легким смехотворством», «что же, и попитаться можно», «вотще учиняете толкования», «вы какое такое душеусладительное чтение проводите» и т. д.).
Помещиков Твердынский называет «Зуботыковыми». К Венеровскому он относится враждебно-презрительно, называет его «акцизным либералишкой», «лично равнодушно относящимся к царствующей лжи жизни», и произносит по его адресу такую тираду: «Я как взглянул на эту личность, убедился, что в нем все фальшь. Как хотите, — индивидуум, служащий по акцизному правлению, имеющий и лошадку, и квартиру, и две тысячи жалованья, — уж никак не новый человек. А новый синьор, — вот и все...» «От сего достопочтенного синьора всякая мерзость произойти может».
Кажется, что и автор сочувствует Твердынскому в этой характеристике Венеровского.
622
Твердынский иногда высказывает мнения, сами по себе вполне справедливые. Так, по поводу условий жизни помещиков и крестьян он говорит: «Мужики вон пашут с четырех часов, а тут до двенадцати чай пьют. Ведь как же с этим помириться?» Относительно народных школ он держится такого мнения: «Я полагаю, что надо прежде позаботиться о том, чтобы они были сыты и одеты — экономические условия определить... Все это пустяки, надо корень излечить». Но как «излечить корень», этого он сам не знает и на вопрос «что делать» дает туманный ответ: «А вот не пить этого вина, а им дать хлеба».
В черновой редакции комедии Твердынский выражается еще более решительно. Здесь он говорит про Прибышева: «Я видеть не могу этого бессмысленного, бесполезного и пошлого субъекта из породы рубчатых ползунов. Вот бы раздавил с радостью и без зазренья». А о своем ученике, гимназисте Петруше, отзывается так: «Я, бедняк, из-за куска хлеба менторствую с откормленным поганым барчонком, которого пришибить бы надо».
Но все «крайние» фразы Твердынского совершенно не соответствуют его духовному облику. Он называет себя «тружеником и борцом», а в действительности бездельник и трус. У Прибышева он пристает к горничным, назойливо ухаживает за его дочерью, делает грубые предложения «нигилистке» Катерине Матвеевне. Его изломанный язык вызывает презрительное отношение к нему старосты ямщиков на почтовой станции, который на его кривляния пренебрежительно отвечает: «Будет баловаться-то, барин, ну вас к богу». Он уговаривает племянницу помещика отправиться вместе с ним в петербургскую коммуну, где «супружества не существует, а совершенно свободные отношения». Как известно, после появления романа Чернышевского «Что делать?» в Петербурге было основано несколько коммун, из которых наибольшей известностью пользовалась коммуна, устроенная писателем В. А. Слепцовым. Как видим из комедии Толстого, неясные и извращенные слухи об этих коммунах дошли и до Ясной Поляны20.
Задумав уехать от Прибышева, не закончив занятий с его сыном и взявши вперед деньги, Твердынский сначала немного колеблется, но очень быстро отгоняет от себя всякое сомнение соображением о том, что дело, ими затеваемое, так важно, что все посторонние соображения «могут быть отстранены», так как «цель оправдывает средства».
К «новым людям» принадлежит и племянница Прибышева,
623
Катерина Матвеевна, бывшая гувернантка, девушка 26 лет, которую автор в плане комедии характеризует как «нигилистку» и «привязчивую». Она стриженая, в очках, курит, усердно читает книги по физиологии, интересуется «Полярной звездой», говорит искусственным книжным языком, наполовину непонятным для нее самой, считая себя «быть может, единственной вполне свободной женщиной». Она говорит слуге «вы», однако считает себя вправе помыкать им, как ей вздумается, посылая его всюду для исполнения своих требований. Она заявляет, что для людей их «закала» «средства к жизни допускаются только те, которые приобретены личным и честным трудом». Признавая полную «свободу» женщины, она, влюбленная в Венеровского, первая делает ему предложение. Делая Венеровскому предложение, она считает, что их отношения будут «первым образцом новых отношений мужчины и женщины», «осуществлением идеи века». От Венеровского она получает грубый, оскорбивший ее отказ, после чего принимает предложение студента ехать вместе с ним в петербургскую коммуну. Но, после того как студент, называющий себя «неофитом в любви и даже атеистом оной», начинает грубо приставать к ней, она разочаровывается в студенте и впадает в безысходное отчаяние.
К числу членов «зараженного семейства» принадлежит и пятнадцатилетний Петруша, который проникается идеей, что «семья есть главная преграда развития индивидуальности», и заявляет своим родителям: «Я буду иметь к вам обоим настолько уважения, насколько вы его заслуживаете»21.
Совершенно не испытывает никакого влияния «новых людей» хозяйская дочь Любочка, девушка восемнадцати лет, весь интерес жизни которой сводится к тому, чтобы полюбить и выйти замуж.
Представительницей народного здравого смысла выступает в комедии няня, которая все видит, все понимает и обо всем судит спокойно и трезво. Она говорит тем русским народным метким, образным языком, который всегда приводил Толстого в восхищение («этот соколик заладил ездить», «как же, дуру нашли, так я и поверила», «есть на что польститься», «все от ума большого», «Что нос-то уж больно он дерет», «Бахвал, матушка. Это по нашему значит: я, мол, всех прекрасней, всех умней, и окромя меня все дураки», «хорошая слава под порожком лежит, а дурная задрамши хвост бежит» и пр.).
Представителем старого поколения является помещик Николаев, который в конце пьесы высказывает затаенную мысль автора
624
о том, что у этих «новых людей» нет ничего нового, а «все старое, самое старое: гордость, гордость и гордость».
В конце пьесы и Прибышеву становится совершенно ясно, что представляет собой Венеровский. В глаза ему Прибышев говорит, что увидел в нем одно только «ничтожество и гордость». Низкое поведение «новых людей» воскрешает в Прибышеве (быть может, временно) крепостные замашки и взгляды. Он отказывается делать какие-либо уступки крестьянам и жалеет об отмене крепостного права.
Мнение В. Ф. Саводника, будто бы Венеровскому присвоены некоторые черты личности Чернышевского22, ни на чем не основано. В доказательство этого утверждения Саводник приводит только одно соображение, что Венеровскому Толстой «усвоил характерный для Чернышевского тон легкой насмешки, хихиканья». Вот и все «некоторые черты» сходства между Чернышевским и героем комедии Толстого.
Отдельные мысли, развиваемые героями «Зараженного семейства», иногда напоминают идеи Чернышевского23, но сущность комедии не столько в тех воззрениях, которые развивают ее герои, сколько в изображении умственного и нравственного убожества этих лиц.
Сам Толстой говорил впоследствии, что в «Зараженном семействе» он «осмеял тогдашних революционеров»24.
Можно вполне допустить, что Толстому приходилось встречать людей, подобных изображенным им Венеровскому и Твердынскому, — мнимых «новых людей». Любопытно отметить, что имя и отчество Твердынского совершенно совпадают с именем и отчеством студента Соколова, занимавшегося в одной из основанных Толстым школ. Это был единственный студент, которым Толстой был недоволен. Вполне возможно, что некоторые черты студента Соколова послужили Толстому материалом для образа Твердынского.
В некрасовском «Современнике» можно найти статьи, направленные против тех, кого «Современник» считал мнимыми представителями
625
движения шестидесятых годов, кто компрометировал это движение.
В марте 1864 года (следовательно, почти одновременно с тем, как Толстой писал свою комедию) М. Е. Салтыков-Щедрин писал в одном из своих ежемесячных обзоров «Наша общественная жизнь»: «Но, без сомнения, всего более содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила. Эти люди считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление общее всем векам и странам... В самом деле, что такое это молодое поколение, о котором так много говорят, какие его стремления и какова его деятельность — всё это вопросы темные не только для публики, но и для большинства самих тех, до которых они ближайшим образом относятся. А этот туман еще более способствует размножению тех темных личностей, которые упомянуты мной выше под именем юродствующих и вислоухих... В прошлом году, как и нынче, я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набеги в область ерунды; в прошлом году, как и нынче, я находил, что эти невинные существа отнюдь не должны считаться представителями какого бы то ни было поколения, но что они изображают собой тот паразитский, из угла в угол шатающийся элемент, от которого, по несчастью, не может быть свободно никакое, даже самое лучшее дело»25.
«Современник» подвергал осмеянию тех женщин, которые, считая себя передовыми, извращали проповедуемые «Современником» идеи. Так, в № 3 «Современника» за 1862 год, — там же, где появилась статья Чернышевского о «Ясной Поляне» и статья Антоновича об «Отцах и детях», — были напечатаны «Житейские сцены» Плещеева, героиня которых, мадам Штарк, вдова тридцати двух лет, получает от автора такую характеристику: «Одна из тех барынь, по мнению которых эмансипация женщины состоит в том, чтобы курить папиросы, пить шампанское и вообще вести себя беззастенчиво». Эта «эмансипированная» барыня до такой степени уверена в том, что она передовая женщина, что решительно заявляет про себя и себе подобных: «Нам первым будет принадлежать честь эмансипации от ига мутноводских рутинеров!»26.
626
В комедии Толстого и были изображены не подлинные революционеры, а подонки революционного движения 60-х годов, «примазавшиеся» к движению. Ошибка Толстого состояла в том, что им не был выведен ни один положительный тип из людей, примыкавших к движению 60-х годов.
Вряд ли Толстому в период работы над «Зараженным семейством» или ранее приходилось встречаться с теми женщинами, которых называли нигилистками. Повидимому, впервые ему пришлось столкнуться с типом такой женщины позднее.
19 июля 1866 года С. А. Толстая записывает в дневнике: «У нас новый управляющий с женой. Она молода, хороша, нигилистка». Судя по дневнику Софьи Андреевны, Толстой с большим вниманием вглядывался в этот новый для него тип женщины. «У нее с Левой, — пишет далее Софья Андреевна, — длинные оживленные разговоры о литературе, об убеждениях». Софья Андреевна, сначала испытывавшая ревность к этой женщине, впоследствии убедилась в неосновательности своих подозрений. 27 июля она писала сестре Тане: «У нас новый управляющий, бывший сам помещик, но у которого хозяйство шло так дурно, что он все бросил и пошел в управляющие. Он славный, простой, бывший кадет, длинный, страшный силач и молодой. У него жена восемнадцати лет, очень хорошенькая брюнетка, нигилистка, стриженая, болезненная, но довольно образованная, училась в петербургской гимназии. Мы с ней целые дни проводим, переписываем Леве, ездим за грибами, рассуждаем и спорим о литературе»27.
Толстой относился к Марье Ивановне (фамилия ее неизвестна) с большим участием. Повидимому, «нигилистка» оказалась нисколько не похожа на Катерину Матвеевну из «Зараженного семейства».
О подлинных представителях движения шестидесятых годов Толстой впоследствии отзывался с большим уважением. В его дневнике под 19 декабря 1889 года записано:
«Читал Слепцова «Трудное время». Да, требования были другие в 60-х годах. И оттого, что с требованиями этими связалось убийство 1-го марта, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут до тех пор, пока не будут исполнены»28.
Повесть В. А. Слепцова (которого Толстой вообще считал очень талантливым писателем) «Трудное время» была напечатана в «Современнике» в 1865 году. Герой повести, Рязанов, так же, как и Твердынский в «Зараженном семействе», происходит
627
из духовного звания. Но между этими двумя семинаристами глубокая разница.
Приехав на лето к университетскому товарищу помещику Щетинину, Рязанов внимательно наблюдает отношения Щетинина с крестьянами. Щетинин — помещик-либерал. При отмене крепостного права он безвозмездно передал крестьянам в собственность часть принадлежавшей ему земли. На этом он успокоился и теперь уже без всяких колебаний владеет оставленным себе количеством земли, занят изысканием различных способов увеличения своих доходов, берет с крестьян штрафы за потраву и уверяет, что этим он воспитывает в крестьянах чувство законности.
Рязанов высказывает по этому поводу свои общественно-политические воззрения. В них-то и выразились те «требования шестидесятых годов», которым Толстой так решительно высказал свое сочувствие в дневнике 1889 года.
Щетинин верит, что, продолжая быть помещиком, он сумеет установить добрососедские отношения с крестьянами. Рязанов, говоря в ироническом тоне (это его обычный тон в разговорах), старается показать Щетинину всю неисполнимость его мечтаний. Он утверждает, что подобно тому, как крепостная зависимость крестьян держалась только на насилии, так и помещичья собственность на землю держится только на одном насилии. С убийственной иронией он советует своему приятелю обратиться к мировому посреднику с жалобой на крестьян, причинивших ему убыток, и тогда «всё, до последней копейки, взыщут», а «ежели наличных денег не имеют, то, может быть, окажется движимость, скот» — «продадут». «Что им в зубы-то смотреть!»
Продолжая далее свои иронические рассуждения, Рязанов говорит, что нельзя допускать снисходительного отношения к неисполнению крестьянами взятых ими на себя по отношению к помещику обязанностей, потому что этим помещик «портит рабочие руки» и приносит вред не только самому себе, но и всем другим помещикам: «священное право поругано, отечество в опасности».
В ответ на замечание Щетинина, что работающие у него крестьяне «только о том и стараются, чтобы как можно меньше работать и в то же время как можно больше получать», Рязанов возражает, что и сам Щетинин не к тому стремится, «чтобы как можно больше работать и как можно меньше получать», — следовательно, стремления у него с крестьянами совершенно одинаковые, и «весь вопрос в том, кто — кого».
«Вот в древние века, — говорит Рязанов в своем обычном ироническом тоне, — нравы были грубые — тогда и орудия, которыми понуждались глупорожденные к труду, тоже были неусовершенствованные, как то: исправники, становые и проч. Теперь же, когда нравы значительно смягчены, и сельские жители вполне
628
сознали пользу просвещения, — понудительные меры употребляются более деликатные, духовные, так сказать, а именно: увещания, штрафы, уединенные амбары и так далее. Вот и хороводимся мы таким манером и долго еще будем хороводиться, доколе мера беззаконий наших не исполнится»29, — заканчивает Рязанов свои рассуждения, как бы намекая на то, что время, когда «мера беззаконий исполнится», все-таки рано или поздно наступит.
По поводу того, что жена Щетинина думает завести школу для крестьянских детей и отыскивает в журналах статьи по народному образованию, происходит разговор о современной журналистике. Рязанов и в журналистике видит то же своекорыстное отстаивание личных и классовых интересов. По его мнению, журналистика не что иное, как «продажа на вынос». О журнальных статьях по поводу народных школ Рязанов говорит, что везде, где в этих статьях написано слово «школа», следует читать «шкура», и что все эти статьи имеют только одну цель: содействовать такому устройству народных школ, чтобы в них не проникало ничего такого, что мешает делать жизнь высших классов «легким и веселым препровождением времени».
Отношения между помещиками и крестьянами Рязанов иронически изображает следующим образом: «Ну вот, прежде всего я вижу прилежного земледельца, вижу я, что этот земледелец ковыряет землю и в поте лица добывает хлеб; затем примечаю я, что в некотором отдалении стоят коротко мне знакомые люди и терпеливо выжидают, пока этот прилежный земледелец в должной мере насладится трудом и извлечет из земли плод; а тогда уже подходят к нему и, самым учтивым манером отобрав от него все, что следует по правилам на пользу просвещения, оставляют на его долю именно столько, сколько нужно человеку для того, чтобы сохранить на себе зрак раба и не умереть с голоду»30.
Когда Щетинин рассказывает Рязанову, что он хочет различными путями накопить денег, чтобы потом устроить какое-то «полезное» предприятие, так как «деньги — это сила», Рязанов так отзывается о его проекте: «Сила-то она, конечно, сила, да только вот что худо, — что пока ты приобретешь ее, так до тех пор ты так успеешь насолить человечеству, что после всех твоих богатств не хватит на то, чтобы расплатиться. Да главное, что и расплачиваться будет как-то уже неловко: желание приобретать войдет в привычку, так что эти деньги нужно будет уж от тебя насильно отнимать»31.
Нечего и говорить, как близки были Толстому восьмидесятых
629
годов все эти рассуждения Рязанова, подлинного шестидесятника32.
В 1910 году в разговоре о Достоевском Толстой осудил его отношение к революционерам. Он сказал: «У Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение»33.
V
16 сентября 1864 года Толстой после почти годового перерыва вновь берется за оставленную тетрадь дневника. Он записывает: «Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший».
Первое, о чем он хочет записать в дневник, это — его семейная жизнь. «Отношения наши с Соней утвердились, упрочились, — пишет он. — Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете», — так Толстой, привыкший глубоко анализировать все свои душевные переживания, определяет «любовь», — «и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно».
«Я начал с тех пор роман, — пишет Толстой далее, — написал листов десять печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. — Мучительно».
«Педагогические интересы ушли далеко», вытесненные художественной работой.
«Сын очень мало близок мне».
Это последнее обстоятельство было для Толстого неожиданным, но то же самое повторилось и со следующими детьми. До появления в них первых проблесков сознания дети не представляли для него интереса. Лев Николаевич писал 26 октября 1872 года А. А. Толстой: «Я не люблю детей до 2—3 лет — не понимаю»34.
Запись Толстого о том, что его отношения с женой вступили в новую фазу, то есть стали более ровными и спокойными, чем они были в первый год его семейной жизни, подтверждается его перепиской с женой за этот год во время его непродолжительных отлучек из Ясной Поляны.
Так, еще 23 апреля, когда Толстой на несколько дней уехал в Пирогово по хозяйственным делам брата и сестры, находившихся
630
за границей, Софья Андреевна, получив от него первое письмо, в своем ответном письме писала: «В кухню Таня принесла мне твое письмо. Я так обрадовалась, что меня всю в жар бросило. Я читала и просто задыхалась от радости». И далее, рассказав о нездоровье десятимесячного Сережи, из-за которого она не спала всю ночь, Софья Андреевна прибавляла: «Как много я передумала в эту ночь, как любила тебя, как я хорошо понимала и чувствовала, какой ты отличный и как я тебя люблю». Ей хочется, чтобы мальчик больше походил на отца: «Тебя я не вижу, и мне все хочется в его личике увидать твои черты и найти сходство».
В августе Толстой вторично уехал на несколько дней в Пирогово повидаться с вернувшимися из-за границы братом и сестрой. Из Пирогова Толстой проехал в свое чернское имение Никольское и заехал к зятю Фета И. П. Борисову в его имени Новоселки. В первом же письме от 9 августа Толстой писал жене: «Пишу к Соне, без которой мне жить плохо... Ты говоришь, я забуду. Ни минуты, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле, но с людьми при всяком столкновении, слове я вспоминаю о тебе, и все мне хочется сказать тебе то, что я никому, кроме тебя, не могу сказать».
На это письмо Софья Андреевна ответила письмом, которое до нас не дошло и на которое Толстой отвечал ей вторым письмом в тот же день 9 августа. Начав письмо словами: «А я-то тебя как люблю! Голубчик, милый», — Толстой далее писал: «Удовольствия без тебя для меня быть не может, кроме охоты», — и заканчивал письмо словами: «В этот раз я чувствую, как ты мне еще много ближе стала». Получив письмо Льва Николаевича, Софья Андреевна в ответном письме от 10 августа писала: «Твое письмо меня так обрадовало, что передать тебе не могу... Я его побежала читать в мою комнату, и даже стыдно было, — все время от радости смеялась. Уж сколько раз я его перечитывала!» И в следующем письме 11 августа: «Мне нынче... так захотелось скорее, скорее увидаться с тобой. Это все сделало твое милое письмо и то, что нам все делается лучше и лучше жить на свете вместе».
4 октября 1864 года у Толстых родилась дочь, названная Татьяной в честь их общей любимицы Т. А. Берс. На этот раз Софья Андреевна сразу взяла на себя кормление ребенка, чем Толстой был очень доволен. В последних числах октября он писал свояченице Татьяне Андреевне: «Соня очень хороша и мила со своими птенцами и труды свои несет так легко и весело».
VI
В августе 1864 года в Петербурге в издательстве Ф. Стелловского вышло в свет первое издание собрания сочинений Толстого
631
в двух томах. В него вошли все написанные им к тому времени повести, рассказы и очерки и только пять педагогических статей. Не были перепечатаны даже такие шедевры, как «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» и «Кому у кого учиться писать?»
Это первое издание сочинений Толстого вызвало в печати несколько критических статей.
Первой появилась замечательная по своей общей оценке творчества Толстого статья Д. И. Писарева под заглавием «Промахи незрелой мысли»35. Упрек в незрелости мысли, которая привела к промахам, был направлен критиком не против какого-либо другого критика, а против себя самого.
Писарев вспомнил свою статью «Цветы невинного юмора», напечатанную в том же году, в которой он, «мельком упоминая о литературной деятельности графа Толстого», объяснял равнодушие читающей публики к Толстому «тем обстоятельством, что в произведениях графа Толстого нет ничего, кроме чистой художественности». Теперь Писарев находит, что это объяснение «никуда не годится». Он сообщает, что в собрании сочинений Толстого он прочел «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика» и «Люцерн», и его «изумили обилие, глубина, сила и свежесть мыслей» в этих произведениях. Теперь Писарев видит ясно, что «критика наша молчала о Толстом или, еще того хуже, говорила о нем ласкательные пустяки единственно по своему признанному бессилию и скудоумию». Толстой, по словам Писарева, остается в тени. «Его читают, его любят, его знают, как тонкого психолога и грациозного художника, его уважают, как почтенного работника в яснополянской школе; но до сих пор никто не подхватил, не разработал и не подвергнул тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается в превосходных повестях этого писателя».
В этом отношении Писарев противопоставляет Толстому Тургенева. «О каждом романе Тургенева, — говорит критик, — кричат и спорят по крайней мере по полугоду. Толстого прочитают, задумаются, ни до чего не додумаются, да так и покончат дело благоразумным молчанием». Писарев решается «нарушить» это молчание.
Далее в обширной статье Писарев старается дать читателю «анализ тех живых явлений, над которыми работала творческая мысль графа Толстого». Он подробно разбирает все главные рассуждения и поступки Иртеньева и Нехлюдова, причем, как обычно поступала публицистическая критика, излагает при этом и свои собственные мысли по поводу их действий и рассуждений.
632
Говоря о дурном воспитании Иртеньева, Писарев высказывает полное сочувствие принципу свободы, положенному Толстым в основание его педагогической системы.
После Писарева по поводу издания собрания сочинений Толстого высказался «Современник» в рецензии, написанной А. Я. Пятковским36.
Критик вполне признает художественный талант Толстого, его «наблюдательность и тонкий психологический анализ». В тех случаях, когда граф Толстой не задается никакой предвзятой идеей, не силится произвести нечто новое и имеющее целью удивить всю вселенную, он вполне удовлетворяет своего читателя верностью наблюдений и мастерскими штрихами в обрисовке изображаемых им лиц». К числу таких произведений Толстого критик относит «Детство» и «Отрочество», Севастопольские рассказы, которые он называет «Севастопольскими воспоминаниями», кавказские очерки «Рубка леса» и «Набег», «Записки маркера», «Поликушку». Но не то получается, когда Толстой предается «лукавому мудрованию» и производит «преднамеренную подтасовку своих художественных изображений». Критик в ироническом тоне излагает содержание «Семейного счастья», «Люцерна» и «Утра помещика» и с такой же иронией говорит о статье Писарева, который в Нехлюдове «увидал целый тип». В действительности, по мнению критика, Нехлюдов — только «избалованный барич, каких много», а Иртеньев — «такой же выродок крепостного права и московского общества». Извращая смысл «Утра помещика», критик уверяет читателя, что в этом рассказе будто бы проводится мысль, что «конечно, по глупости» крестьяне не соглашаются на предложения Нехлюдова.
Негодование Нехлюдова в «Люцерне» против черствости знатных путешественников-англичан критик называет «медвежьей демонстрацией».
В романе «Казаки» критик находит «замечательными по своей художественной отделке» картины природы и очерки кавказской жизни, признает верно переданными «впечатления героя романа, испытанные им по приезде в эту полудикую страну», но характер Оленина, по мнению критика, «слаб донельзя, а движущая идея романа еще того хуже». Эта «движущая идея» — та же, что в «Кавказском пленнике» Пушкина. «Поздненько вздумал граф Толстой реставрировать старые картины», — насмешливо замечает критик.
633
Свою статью молодой критик закончил пренебрежительным, упоминанием о педагогических статьях Толстого, в которых, по его мнению, все дельное заимствовано из западноевропейской педагогики и, с другой стороны, проявилось «извращенное мышление автора» и его полное «невежество, где добро и зло в жизни».
Газета «Петербургские ведомости»37 в одной и той же заметке сообщила читателям о выходе пятого тома сочинений Тургенева и второго тома сочинений Толстого. Критик противопоставлял этих двух писателей: в то время, как у Тургенева, в его последнем этюде «Довольно» сказались «грусть и разочарование», в Толстом чувствуется «кипучая сила созревающего, крепнущего таланта, полного сознания своей силы, даже несколько самоуверенного и потому иногда исключительного и склонного к эксцентричности».
«Нельзя не порадоваться, — писал далее критик, — тому, что у нас еще впереди деятель литературный, одаренный действительно большими способностями. При оживляющей свежести таланта, граф Л. Н. Толстой отличается изумительной способностью к наблюдению. Наблюдательность его до того разнообразна, до того смело проникает в самую глубь предметов и типов, что мы вправе ожидать от автора «Детства» и «Отрочества» еще очень многих томов, подобных данному по объему и несравненно лучше еще по содержанию».
VII
26 сентября 1864 года Толстой поехал к своему соседу Бибикову. За ним увязались две борзые собаки.
Дорогой собаки увидели зайца и бросились за ним; Толстой, хотя ехал не на охоту, увлекся и поскакал за зайцем по испаханному полю. Вскоре лошадь наткнулась на очень узкую, но глубокую рытвину, споткнулась и упала. Толстой тоже упал через голову лошади, на него навалилось седло и своей тяжестью вывихнуло ему правую руку. Лошадь и собаки убежали домой, а Толстой с ужасной болью в руке встал и с большим трудом медленно пошел по направлению к шоссе, до которого было около версты. Когда он шел, ему все казалось, что «когда-то давно» он ехал верхом, «давно» травил зайца и «давно» упал.
Дойдя до шоссе, Лев Николаевич лег. Ехали мимо какие-то мужики, он кричал им, но они не обратили на него внимания. Наконец, какие-то другие мужики, проезжавшие мимо, подняли его и по его просьбе привезли не домой, а на деревню, к бабке
634
Акулине, которая славилась тем, что умела вправлять вывихи. Домой Толстой не поехал, чтобы не взволновать беременную жену. Бабка Акулина подала ему первую помощь.
Когда Толстого привезли домой, тотчас же были вызваны врачи из Тулы. Они вправили руку, но, как оказалось впоследствии, сделали это неудачно.
Прошло около двух месяцев, а Толстой не мог делать рукой свободные движения и чувствовал боль в руке. Он решил ехать в Москву, чтобы посоветоваться с хирургами и, если нужно, сделать операцию.
В Москву Толстой приехал 21 ноября и остановился у Берсов. Сначала он прибегнул к лечению ваннами и врачебной гимнастикой, но вскоре убедился, что этого лечения недостаточно и, вопреки опасениям врачей, решился на операцию. Любопытно, что, как писал Толстой жене, окончательно решился он на операцию в Большом театре, слушая оперу Россини «Моисей» («Зора»). Слушая эту оперу, Толстой почувствовал особенную любовь к жизни и энергию к борьбе за жизнь.
Операция была произведена под хлороформом 28 ноября. Два больничных служителя изо всех сил тянули руку для того, чтобы выломать неправильное сращение, после чего хирург ловко вдвинул руку на свое место.
После операции Толстой провел в Москве до окончательного выздоровления еще две недели. Операция оказалась удачной, и рука зажила совершенно.
Главное, что, кроме лечения руки, занимало Толстого в Москве, был его роман.
29 октября Толстой известил Каткова, что он «на днях» кончает «первую часть романа из времен первой войны Александра с Наполеоном» и хотел бы напечатать ее в «Русском вестнике». Ответ Каткова не сохранился, но несомненно, что он ответил согласием, и Толстой, уезжая в Москву, захватил с собой первые главы романа.
27 ноября эти главы были переданы секретарю редакции «Русского вестника». Чувство, которое испытал Толстой после передачи рукописи, описано им в письме к жене от 29 ноября: «Когда мой портфель запустел и слюнявый Любимов понес рукописи, мне стало грустно, именно от того, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше».
Во все пребывание в Москве Толстой усиленно собирал материалы для своей работы. Он ходил по книжным лавкам, доставал книги у профессоров истории С. В. Ешевского и Н. А. Попова, занимался в Румянцевской и Чертковской библиотеках, где, между прочим, рассматривал портреты деятелей 1812 года, брал по знакомству исторические документы из Архива Дворцового ведомства, ходил к Аксакову «за сведениями»
635
об Австрии, где происходит действие второй части его романа (одно время думал даже поехать в Австрию); встречаясь со знакомыми старыми людьми, наводил их на рассказы о двенадцатом годе38.
Для образов неисторических лиц своего романа Толстой, как всегда, черпал материал из окружающей его жизни. Так, 29 ноября он писал жене, что когда он в Большом театре слушал оперу Россини «Моисей», ему «было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам», которые для него были «всё типы».
Первые дни по приезде в Москву Толстой сам писал продолжение романа; после операции он изредка диктовал свояченицам, Татьяне и Елизавете Андреевнам Берс.
«Я как сейчас вижу его, — через 60 почти лет вспоминала Т. А. Кузминская: — с сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух:
— Нет, по̀шло, не годится!
Или просто говорил:
— Вычеркни.
Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение, и часто, диктуя, он до трех-четырех раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное, но это бывало реже, и тогда выражение его лица становилось спокойное. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша»39.
Чрезвычайно характерное для Толстого как писателя признание находим в его письме к жене от 6 декабря:
«Нынче поутру около часу диктовал Тане, но не хорошо — спокойно и без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет».
К последним дням пребывания Толстого в Москве количество новых материалов для романа настолько увеличилось, что ему необходимо было остановиться, чтобы продумать дальнейшее течение своего произведения. 2 декабря он писал жене: «Но, несмотря на богатство материалов здесь или именно вследствие этого богатства, я чувствую, что совсем расплываюсь, и ничего не пишется».
636
Кроме подлинных исторических материалов, Толстой в Москве читал исторический роман Загоскина «Рославлев», о чем 27 ноября писал жене: «Вчера зачитался «Рославлевым». Понимаешь, как он мне нужен и интересен». И далее в том же письме: «После бани мне дали «Рославлева», и за чаем слушая, разговаривая и слушая пенье Тани, всё читал с наслажденьем, которого никто, кроме автора, понять не может»
Чтобы понять, чем был интересен Толстому роман Загоскина, нужно принять в соображение то, что писал он тетушке Александре Андреевне 14 ноября 1865 года.
«Много у нас — писателей — есть тяжелых сторон труда, но зато есть эта, верно вам не известная volupté [наслаждение] мысли — читать что-нибудь, понимать одной стороной ума, а другой — думать и в самых общих чертах представлять себе целые поэмы, романы, теории философии».
Так и слабый в художественном отношении, хотя и не лишенный некоторых удачных сцен, роман Загоскина наводил Толстого на новые мысли, образы, картины для его собственного романа.
Накануне отъезда из Москвы, 11 декабря, Толстой читал вслух Аксакову и поэту А. М. Жемчужникову первые главы своего романа. «Они говорят — «прелестно», — в тот же день писал Толстой жене.
Кроме изучения нужных ему исторических материалов, Толстой в Москве перечитывал «давно забытую» «Авторскую исповедь» Гоголя. Несколько раз Толстой был в московских театрах.
6 декабря Толстой слушал в Большом театре оперу «Иван Сусанин», носившую тогда название «Жизнь за царя». Он нашел, что «очень хорошо, но монотонно» (письмо к жене от 7 декабря). 9 декабря Толстой слушал в том же театре оперу Россини «Вильгельм Телль». Дважды смотрел в Малом театре комедию Островского «Шутники», о чем писал жене 24 ноября: «Из деревни всегда мне покажется все дико, ломаньем и фальшью, но приглядишься — и опять нравится. Комедия трогательна, даже слишком».
Во все пребывание в Москве Толстой с женой почти ежедневно обменивались письмами. Эта переписка еще больше, чем переписка в дни предшествующих кратковременных отлучек Толстого в том же 1864 году, раскрывает характер их взаимных отношений того времени.
В первом же письме от 22 ноября Софья Андреевна писала: «Всё думала о том, что я очень счастливая благодаря тебе, и что ты мне много хорошего внушил... А как нам хорошо было последнее время, так счастливо, так дружно, надо же было такое горе [т. е. перелом руки]. Грустно без тебя ужасно, и всё приходит в
637
голову: его нет, так к чему все это? Зачем надо всё так же обедать, зачем так же печи топятся и все суетятся, и такое же солнце яркое, и та же тетенька, и Зефироты40, и всё».
В ответ на это письмо Толстой писал 27 ноября: «За обедом позвонили — газеты, Таня все сбега̀ла, позвонили другой раз — твое письмо. Просили у меня все читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут, и не поняли. На меня же оно подействовало как хорошая музыка: и весело, и грустно, и приятно — плакать хочется».
И для Софьи Андреевны письма мужа имели большое значение. В письме от 25 ноября, сетуя на то, что до сих пор не получала еще от него писем, Софья Андреевна писала: «Твоим духом на меня повеет, когда прочту твое письмо, и это меня много утешит и оживит».
Письмо от 2 декабря, продиктованное Т. А. Берс, Толстой закончил следующими словами, с трудом написанными им через пять дней после операции: «Прощай, моя милая, душечка, голубчик. Не могу диктовать всего. Я тебя так сильно всеми любовями люблю все это время, милый мой друг. И чем больше люблю, тем больше боюсь».
В ответ на это письмо Софья Андреевна писала 5 декабря: «Сейчас привезли твое письмо, милый мой Лева. Вот счастие-то мне было читать твои каракульки, написанные больной рукою. Всеми любовями, а я-то уж не знаю, какими я тебя люблю любовями».
В следующем письме от 4 декабря Толстой, вспоминая время своего жениховства, писал, что тогда он любил «совсем иначе, чем теперь», и прибавлял: «Этим-то и премудро устроено, а любить всё одинаким образом надоело бы». Но тут же, через несколько слов, опасение: «Ведь как, кажется, теперь я был бы счастлив с тобою; а приедешь, пожалуй, будем ссориться из-за какого-нибудь горошку».
Из письма от 6 декабря видно, что мелкие неудовольствия со стороны жены Толстой старался погашать, объясняя их всегда физическими причинами, хотя жена и сердилась на него за такие объяснения ее дурного настроения.
Толстой считает, что он больше любит жену, чем жена любит его. Письмо от 4 декабря он заканчивает словами: «Прощай, милая моя, друг. Как я тебя люблю и как целую. Всё будет хорошо, и нет для нас несчастья, коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю». То же повторяется и в заключении письма от 7 декабря: «Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем и все прекрасно».
Отношения Толстого к жене не чужды некоторого педагогического
638
оттенка, он считает нужным указывать ей на ее недостатки. В том же письме от 7 декабря Толстой пишет жене, что она очень похожа на свою мать, и прибавляет: «Даже нехорошие черты у вас одинаковы. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает, и утверждать положительно и преувеличивать, и узнаю тебя. Но ты мне всячески хороша», — тут же прибавляет он, чтобы смягчить суровость своего суждения.
Далее Толстой, обращаясь к жене, говорит: «Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать».
Толстой находит, что у Софьи Андреевны так же, как и у ее матери, «ум спит», у нее «равнодушие к умственным интересам», но при этом «не только не ограниченность, а ум, и большой ум». Толстой разумел, очевидно, ум практический.
Это «равнодушие к умственным интересам» приводило иногда Софью Андреезну к неправильным суждениям о произведениях мужа. Не интересуясь военно-исторической частью «1805 года»41, Софья Андреевна уверяла Льва Николаевича, что у него «всё военное и историческое выйдет плохо, а хорошо будет другое — семейное, характеры, психологическое». «Это так правда, как нельзя больше», — писал Толстой жене 7 декабря, подавленный изобилием новых исторических материалов, которые он нашел для своего романа в Москве. Но, разумеется, вернувшись в Ясную Поляну и расположив в голове по своим местам все новые материалы, Толстой уже никогда больше не вспоминал об этом ошибочном мнении своей жены.
Софья Андреевна бывала иногда недовольна и тем продолжительным процессом переработки написанного, который сделался уже необходимостью для Толстого. Об этом недовольстве упоминает Толстой в письме к жене от 29 ноября, сообщая о передаче рукописи «1805 года» в редакцию «Русского вестника»; то же подтверждает и сама Софья Андреевна в своем письме от 3 декабря: «То бранила, бранила, зачем поправляешь, а теперь самой жаль стало, что продал».
Последнее письмо в Москву, написанное Софьей Андреевной 7 декабря, интересно тем, что дает некоторые материалы для ее характеристики. Софья Андреевна писала, что под влиянием игры на рояли сестры Толстого она вдруг перенеслась из своего детского мира в иной мир, «где всё другое». «Мне даже страшно стало, — писала Софья Андреевна, — я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, чего ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно... Я всегда раскаивалась, что
639
мало во мне понимания всего хорошего... Шуберта мелодии, к которым я бывала так равнодушна, теперь переворачивают всю мою душу...».
Из этого письма видно, что Толстой стремился внушить своей жене любовь к красотам природы и к занятиям музыкой. Это подтверждается и следующими строками из письма Софьи Андреевны к сестре Тане от 12 октября 1863 года: «Я теперь все собираюсь серьезно музыкой заняться... Так мне хочется во всем решительно быть ему приятной, да плохо удается. Он все хочет, чтобы я гуляла, а мне лень. Да это легко, сегодня я уж много ходила, а музыка — это трудно»42.
VIII
12 декабря Толстой уехал из Москвы.
По возвращении в Ясную Поляну он усиленно занялся окончательной отделкой глав своего романа, предназначенных для печатания.
«Лева очень спешит с своим романом», — писала Софья Андреевна сестре Тане 20 декабря43.
3 января 1865 года Толстой послал Каткову дальнейшие главы романа, предназначенные для помещения в «Русском вестнике». В письме, посланном одновременно, он просил извинения за то, что рукопись сильно измарана, делая при этом характерную для него оговорку: «До тех пор, пока она у меня в руках, я столько переделываю, что она не может иметь другого вида».
В первой и второй книжках «Русского вестника» за 1865 год появилась первая часть нового произведения Толстого, озаглавленного «Тысяча восемьсот пятый год». Эта часть соответствует первой части первого тома «Войны и мира».
С появлением в печати начала «Тысяча восемьсот пятого года» Толстой еще больше, чем прежде, почувствовал себя писателем. Фету 23 января 1865 года он писал в шутливом тоне, но серьезно по мысли: «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я — литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор». Словами, что он считает себя литератором, но литератором «уединенным, потихонечку», Толстой, очевидно, хотел сказать, что он не стоит и не намерен встать близко к литературным кругам и к редакциям журналов, что, однако, не мешает ему сознавать себя писателем.
Толстому хочется узнать суждение о первой части его романа тех лиц, мнением которых он особенно дорожит. К числу таких
640
лиц он относит Фета, к которому обращается с такими словами: «Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева». Но Толстому хочется узнать мнение также и рядовых читателей: «Напишите, — просит он Фета, — что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, — говорит Толстой далее, — а то ругательства расстраивают» трудный процесс работы.
Покончив с чтением корректур первой части романа, Толстой принимается за работу над второй частью. Эта часть была уже написана в предыдущем году; нужно было еще раз переработать ее перед сдачей в печать.
Сначала Толстой был занят главным образом обдумыванием того нового, что он намерен был внести в эту и в дальнейшие части своего романа. 20 февраля он писал свояченице Татьяне Андреевне: «Теперь не пишется, слишком много думается».
Затем наступил период пристальной работы над переделкой второй части. 7 марта Толстой записывает в дневнике: «Пишу, переделываю. Всё ясно, но количество предстоящей работы ужасает». Тут же записывается следующее соображение, назначение которого — урегулировать и облегчить творческий процесс: «Хорошо определить будущую работу. Тогда, ввиду предстоящих сильных вещей, не настаиваешь и не переделываешь мелочей до бесконечности». Другое соображение относительно порядка работы записано 23 марта: «Надо непременно каждый день писать не столько для успеха работы, сколько для того, чтобы не выходить из колеи». Здесь же Толстой напоминает себе о своем излюбленном приеме отделки текста — сокращении: «Больше пропускать». 28 марта то же напоминание: «Надо выпускать».
Март, апрель и часть мая прошли в напряженной работе.
Степень напряженности работы Толстого в то время характеризует запись его дневника от 11 марта о приезде в Ясную Поляну его старого друга Д. А. Дьякова. Хотя Толстой и «был рад» Дьякову, он все-таки сожалеет и считает нужным отметить в дневнике, что «день пропал» (для работы).
IX
Условия внутренней и внешней жизни Толстого в период создания «Войны и мира» очень благоприятствовали работе. Уединенная деревенская жизнь, не говоря о чистом воздухе, здоровой пище и физическом труде, избавляла от ненужных знакомств и лишних разговоров и встреч, давала необходимый досуг для упорного систематического труда. Тому же способствовала и спокойная семейная жизнь, доставлявшая Толстому полное
641
удовлетворение. В отношениях с женой не было ничего похожего на ту рознь и отчуждение, которые отравляли первый год его семейной жизни.
10 апреля 1865 года Толстой записывает в дневнике: «Соню очень люблю, и нам так хорошо!» Затем 26 сентября, по возвращении от Д. А. Дьякова из его имения Черемошня: «Мне очень хорошо. Вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как, верно, счастливы один из мильона людей».
Из писем, которые Софья Андреевна писала мужу в июле 1865 года, когда она на несколько дней уезжала к сестре Толстого в ее имение Покровское, видно, что она признавала его нравственный авторитет и пыталась следовать его советам. В одном из писем она писала: «Завтра поеду к баронам44 — они очень звали, и буду помнить все время твои родительские наставления. А насчет полосканья во время сердца45 я нынче утром уже употребила это средство и очень рада». В последнем письме из Покровского Софья Андреевна называет себя «старшей дочерью» Льва Николаевича и рассказывает: «Ты мне только завещал не сердиться, ну так на этот счет будь покоен... как будто нарочно без тебя стараешься быть лучше».
В письме к сестре Тане от 28 декабря 1865 года Софья Андреевна писала: «Левочка более, чем когда-либо, нравственно хорош, пишет, и такой он мудрец, никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен, и так чувствуешь, что он вся поддержка моя, и что только с ним я и могу быть счастлива».
Нормальную семейную жизнь Толстой не представлял себе без детей46. И с этой стороны он был удовлетворен. 4 октября 1864 года у Толстых родилась дочь Татьяна, а 22 мая 1866 года — второй сын, Илья.
По мере проявления в детях первых признаков сознания, у Толстого развивалось и крепло новое для него чувство любви к маленьким детям. 23 января 1865 года Толстой писал тетушке Александре Андреевне: «Сережа только начал ходить один, и только теперь вся та игра жизни, которая до сих пор еще была не видна для моих грубых мужских глаз, начинает мне быть понятна и интересна». 7 марта того же года Толстой записывает в дневнике: «Сережа очень болен, кашляет. Я его начинаю очень любить. Совсем новое чувство». 5 июля Лев Николаевич пишет
642
той же А. А. Толстой: «с каждым днем у меня растет новое для меня, неожиданное, спокойное и гордое чувство любви [к сыну]». 28 декабря Софья Андреевна пишет сестре Тане: «Сережа бегает, пляшет, начинает говорить. Левочка к нему стал очень нежен и всё с ним занимается... На Таню он даже никогда не глядит, мне и обидно и странно», — с грустью сообщает далее Софья Андреевна. Но уже 21 марта следующего 1866 года Софья Андреевна писала сестре: «Левочка просто по ней [по Танечке] с ума сходит». И 5 апреля того же года: «Таня в ужасной дружбе с отцом».
Наконец, третье обстоятельство, создавшее благоприятную обстановку для работы над «Войной и миром» и находившееся в тесной связи со вторым, состояло в той внутренней перемене, которая произошла с Толстым после женитьбы. Тот Толстой, у которого, по образному выражению Тургенева, всегда «гончие под черепом гоняли до изнеможения», которого Боткин считал самым неудобным сожителем из-за того, что «весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися», — этот Толстой временно уступил место другому Толстому, спокойному, уравновешенному, свободному от мучительных исканий и сомнений.
О перемене, происшедшей в нем после женитьбы, Толстой несколько раз писал тетушке Александре Андреевне. Так, 23 января 1865 года, вспоминая свое старое письмо к ней 1857 года, Толстой писал: «Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастия, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а всё идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нем живу третий год. И с каждым днем оно делается ровнее и глубже».
«Я страшно переменился с тех пор, как женился, — пишет Толстой в конце этого письма, — и многое из того, что я не признавал, стало мне понятно, и наоборот».
«А как переменяешься от женатой жизни, — писал Толстой 5 июля того же года, — я никогда бы не поверил. Я чувствую себя яблоней, которая росла с сучками от земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол. Так я и расту; не знаю, будет ли плод и хорош ли, или вовсе засохну, но знаю, что расту правильно».
«Я вошел в ту колею семейной жизни, — писал Толстой 14 ноября, — которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности, <втиснет в одну глубоко пробитую колею> ведет по одной битой дороге умеренности, долга и нравственного спокойствия. И прекрасно делает! Никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы и страсти знают свой предел».
643
Слово «порывы», как это видно из дальнейшего содержания письма, следует в данном случае понимать очень широко.
Далее в том же письме Толстой опровергает слух о том, будто бы он поссорился с редактором «Русского вестника» Катковым, с которым, по его словам, у него нет ничего общего, и тут же поясняет, что он совершенно не интересуется никакими общественными вопросами и не сочувствует ни реакционному направлению катковского журнала, ни противоположным этому направлению политическим теориям. «Я и не сочувствую, — пишет Толстой, — тому, что запрещают полякам говорить по-польски, и не сержусь на них за это, и не обвиняю Муравьевых47 и Черкасских48, а мне совершенно все равно, кто бы ни душил поляков, или ни взял Шлезвиг-Гольштейн, или произнес речь в собрании земских учреждений. И мясники бьют быков, которых мы едим, и я не обязан обвинять их или сочувствовать».
Как видим, Толстой соединяет здесь в одно самые различные, далеко не одинаковой важности общественно-политические вопросы: кровавое подавление польского восстания правительством Александра II, для которого он сам находит достаточно сильные выражения («кто бы ни душил поляков»), с одной стороны, и робкое выступление какого-нибудь умеренного представителя земских учреждений по вопросу о починке дорог, — с другой. Совершенно понятно равнодушное отношение к работе земских учреждений с их мелкими задачами узко местного характера, но быть безучастным к варварской расправе самодержавного правительства с народом, виновным только в том, что он отстаивал свою национальную независимость, можно было, лишь сознательно отмежевавшись от окружающей жизни искусственными перегородками и замкнувшись в круг своих личных интересов и интересов своей семьи. И здесь опять следует напомнить, что до женитьбы Толстой, как было указано в своем месте, не только не относился равнодушно к угнетению покоренных народов, но угнетение это вызывало в нем чувство негодования49.
Лишь изредка то или другое общественное событие привлекало внимание Толстого. В 1866 году Толстой возмущался теми
644
нелепыми почестями, которые воздавались Комиссарову, будто бы спасшему жизнь Александру II. Как известно, дело происходило следующим образом. Костромской крестьянин Комиссаров, по профессии картузник, находившийся случайно вблизи царя в момент покушения Каракозова 4 апреля 1866 года, испуганный выстрелом, совершенно не зная, кто в кого стреляет, сделал рукой невольно движение вверх. Лица из свиты Александра II с целью укрепления в народе престижа царской власти создали легенду, будто бы русский крестьянин сознательно толкнул руку покушавшегося и тем предотвратил убийство царя. После этого Комиссарова произвели в потомственные дворяне, многие ученые общества избрали его своим почетным членом; повсюду служили благодарственные молебны за избавление царя от смертельной опасности (в том числе представители московского студенчества служили молебен на площади у считавшейся чудотворной иверской иконы) и т. д. По поводу всех этих неистовств Толстой писал Фету в мае 1866 года:
«Что вы говорите о 4-м апреле? Для меня это был coup de grâce [смертельный удар]. Последнее уважение или робость внутреннего суда над толпой исчезла. Ведь это всенародно, с важностью, при звоне колоколов вся Россия, которая слышна, делает глупости с какой-то радостью и гордостью, и ведь какие глупости! Глупости, которыми я стыдил бы трехлетнего Сережу. Осип Иван. Комиссаров — член разных обществ, молебствие о том, что в царя стреляли, студенты у Иверской — сапоги в смятку, жолуди говели».
Бросается в глаза, что Толстой в своем письме ни одним словом не выражает сочувствия Александру II или радости по поводу его спасения от смерти, но говорит только о нелепости чествования Комиссарова50.
Была одна область общественной жизни, к которой Толстой никак не мог оставаться равнодушным. Это — жизнь народа, «жизнь мужиков».
В мае 1865 года в Тульской губернии стояла сильная засуха. 19 мая Толстой, отправившись в свое имение Никольское, с дороги писал жене: «До Сергиевского ехал я по ужасной погоде. Об этом жарком удушающем ветре вы не можете себе представить. Мне сделалось страшно, что я задохнусь». В конце письма
645
Толстой пишет о тяжелом душевном состоянии свояченицы Татьяны Андреевны (по причинам личного характера) и заканчивает письмо словами: «Засуха и она у меня не выходят из головы».
16 мая Толстой о том же писал Фету:
«Последнее время я своими делами доволен51, но общий ход дел, то есть предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой чорт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта скотины и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде — достанется. Право, страшная у нас погода, хлеба и луга. Как у вас? Напишите повернее и поподробнее».
Чувствуется, что, рисуя рукою художника эту контрастную картину — дам в кисейных платьях, расположившихся в тени под липами, которым подают розовую редиску и подрумяненный хлеб с свежим маслом, — с одной стороны и босых мужиков и баб с огрубевшими пятками, которым предстоит питаться хлебом с лебедой — с другой, Толстой не только видел угрожающую помещикам опасность, но и сознавал нравственную незаконность своего положения обеспеченного землевладельца среди окружающей бедноты.
Эти мысли так угнетали Толстого, что он около того же времени (быть может, в тот же день) писал о том же и своему тестю А. Е. Берсу. Письмо не сохранилось, но содержание его ясно из ответного письма Берса от 31 мая. Берс писал Толстому: «У нас около Москвы хлеба изрядны, но плохи очень травы. Ты очень напугал меня твоим письмом. Не дай бог такой катастрофы, которой ты опасаешься. Она будет ужасна, хуже пугачевщины. Но мне кажется, что не с чего ей быть, а могут быть только какие-нибудь местные неудовольствия и разные бедствия от неурожая, при которых может выразиться также незаслуженное озлобление на дворян»52.
Берс, как видим, понял только одну сторону опасений Толстого и не обратил никакого внимания на то сочувствие голодающему крестьянству, какое испытывал в то время Толстой.
Что эти грустные размышления о положении народа не были случайным явлением, а появлялись у Толстого и позднее, показывает
646
следующая замечательная запись в его записной книжке от 13 августа 1865 года:
«Всемирно народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности.
«La proprieté c’est le vol»53 останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. — Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт — выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери, что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. — (Все это видел во сне 13 августа)».
С течением времени Толстой, разумеется, совершенно забыл эту свою запись. Когда он в 1908 году перечитал ее во втором томе его «Биографии», написанной П. И. Бирюковым, он был поражен и взволнован сходством мыслей, изложенных в этой записи, с его позднейшими воззрениями на земельную собственность. Прочитав эту запись, Толстой взволнованно обратился к своим домашним и гостям со словами:
«Что за чудо случилось со мной! Пойдите, пойдемте все (он повел всех присутствующих в свой кабинет). Я вам прочитаю сон, какой был у меня сорок три года тому назад. Я не поверил бы, если бы это не со мной случилось. Я тогда занимался охотой, хозяйством, был глуп до невозможности, всякие забавы, и вдруг такой сон!...»
Когда один из гостей, по просьбе Толстого, прочитал вслух его запись, Лев Николаевич, как рассказывает Д. П. Маковицкий,
647
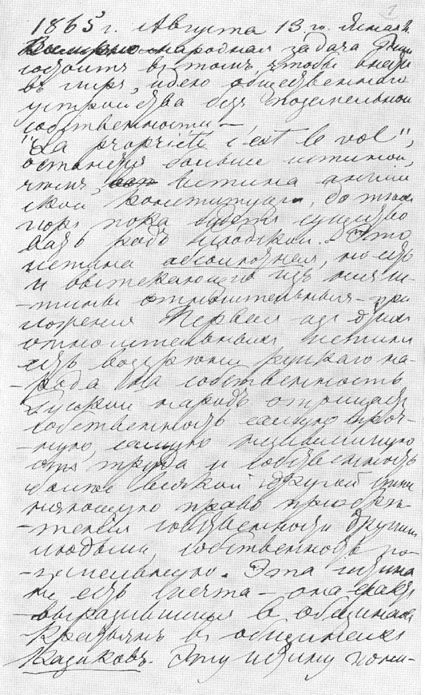
Запись Л. Н. Толстого в записной книжке
13 августа 1865 г.
648
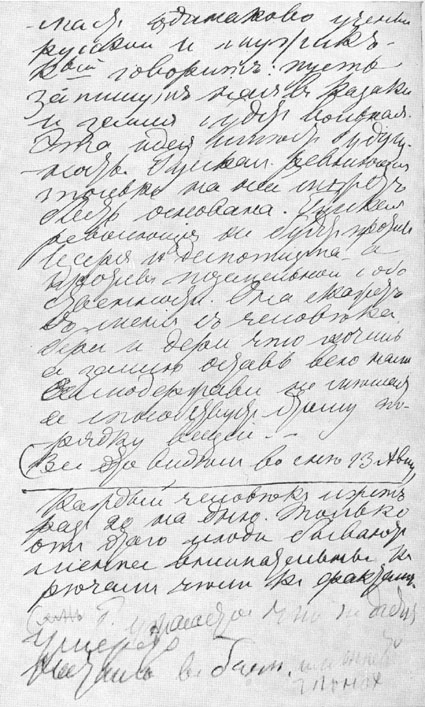
Продолжение записи Л. Н. Толстого в записной книжке
13 августа 1865 г.
649
«все еще как бы не веря и удивляясь тому, что он написал, это в 1865 году, сказал:
— Это — то же, что я пишу теперь, даже тут тот же самый язык, каким теперь пишу...»54.
X
Оптимистическое отношение к жизни, радостное, спокойное восприятие мира — наиболее характерное настроение Толстого в первые годы работы над «Войной и миром». Ему удавалось отгонять все мучившие его ранее сомнения и колебания в разрешении главных вопросов жизни и современной ему действительности. Его умственные силы направлялись по одному единственно открытому для них руслу: они целиком уходили на художественную деятельность.
В августе 1865 года Толстой написал начинающему тогда беллетристу П. Д. Боборыкину письмо, дающее представление о том, какие требования он в то время предъявлял к художественным произведениям.
В последнем романе Боборыкина «Земские силы», по словам Толстого, «полемически выступают на Первый план» «вопросы земства, литературы, эмансипации женщин и т. п.». Толстой считает, что «в мире искусства» всех этих вопросов не существует.. «Цели художества несоизмеримы (как говорят математики) с целями социальными». По мнению Толстого, цель художника должна состоять «не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда неистощимых всех ее проявлениях». Применяя развиваемые им взгляды к себе самому, Толстой далее пишет: «Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман; но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через двадцать и будут над, ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы».
Временами, однако, Толстой испытывал некоторое недовольство своей жизнью. Он смутно сознавал, что исключительная замкнутость в интересах личной и семейной жизни не может дать ему полного удовлетворения.
20 февраля 1865 года Толстой пишет свояченице Татьяне Андреевне необычное письмо. Зная, что беспокоившие его мысли и чувства не поймет никто из его родных и знакомых, он сообщает
650
их восемнадцатилетней девушке, в которой он, по его словам, «всегда чувствовал прекрасную душу». Он начал письмо без всякого обращения прямо с таких слов:
«Да, вот я и рассуждаю уж второй день, что очень грустно оттого, что на свете все эгоисты, из которых первый я сам. Я не упрекаю никого, но думаю, что это очень скверно, и что нет эгоизма только между мужем и женою, когда они любят друг друга. Мы живем теперь два месяца одни одинешеньки с детьми, которые первые эгоисты, и никому до нас дела нет. В Пирогове55 нас забыли и в Москве56, думаешь, тоже. И сам понемножку забываешь.
Я не могу рассказать, что я хочу, но ты очень молода и потому, может быть, поймешь, а мне два дня все это одно в голове. И особенно Феты57 навели меня на эту мысль. Как хорошо тому жить и с тем жить, кто умеет любить. Ты, пожалуйста, напиши (все равно, правда ли, неправда ли), что ты нас любишь для нас. Я Дорку58 полюбил очень за то, что она не эгоистка. Как бы это выучиться так жить, чтоб всегда радоваться другому счастью.
Ты никому не читай, что я пишу, а то подумают, что я с ума сошел.
Я только проснулся, и в голове сумбур и раздраженье59, как будто мне лет пятнадцать, и все хочется понять, чего нельзя понять, и ко всем чувствуешь и нежность и раздражение».
Вполне возможно, что ближайшим поводом к этому письму послужила какая-то временная размолвка с женой (иначе зачем было упоминать о чужом счастье и ничего не сказать о своем?), но под влиянием этой размолвки Толстой высказал свои самые задушевные мысли, глубоко волновавшие его в то время.
Несомненно, имея в виду прежде всего самого себя, Толстой 27 ноября 1866 года пишет в записной книжке: «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна»60.
Софья Андреевна в разное время давала два различные объяснения этой записи. В автобиографии «Моя жизнь», не предназначавшейся к печати при жизни автора, она писала: «Жизнь Льва Николаевича не была дурна, но ее совсем не было; проявлялась она разве только в охоте, которую он любил, главное, потому, что с нею связана всегда любовь к природе, и в прогулках
651
в одиночестве, необходимых для новых мыслей и обсуждения будущего писания»61. В своей «Краткой автобиографии», написанной в 1913 году для печати по просьбе С. А. Венгерова, Софья Андреевна, приведя эту запись, дала ей иное освещение: «Но жизнь его в ту пору не была дурна, а так же хороша и чиста, как его произведение»62.
Несомненно, что когда Толстой, имея в виду себя самого, писал, что жизнь поэта дурна, он не имел в виду каких-либо общепризнанных грубых пороков. В предисловии к своим «Воспоминаниям», написанном в 1903 году, Толстой о среднем периоде своей жизни, продолжавшемся с 34 до 50 лет, писал: «...потом третий восемнадцатилетний период, от женитьбы до моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, так как в эти восемнадцать лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями...».
В черновой редакции «Воспоминаний» тому же периоду дается следующая характеристика: «Хотя в этот период моя жизнь была не только не распутная и не развращенная, но, напротив, с мирской точки зрения вполне хорошая, жизнь эта, наполненная только заботами о себе, семье, увеличении состояния, приобретении литературного успеха и так называемыми невинными удовольствиями: охоты, всякого рода музыки, разведения пород животных, в особенности лошадей, насаждениями и т. п., была только эгоистическая жизнь. Несмотря на приличие этого периода, едва ли то не был тот глубокий сон, сон душевный, от которого особенно трудно пробуждение»63.
Само собой разумеется, категоричность этого утверждения Толстого, любившего себя обвинять и сводившего весь восемнадцатилетний период своей жизни к чисто эгоистическим побуждениям и эгоистической жизни, должна быть значительно смягчена. Но если принять во внимание всю категоричность отрицания частной земельной собственности, выраженную в записи от 13 августа 1865 года, то неизбежно следует прийти к выводу, что, называя позднее свою жизнь того времени дурною, Толстой имел в виду также и то, что материально его жизнь основывалась на той самой земельной собственности, мысль о безнравственности которой уже тогда совершенно ясно приходила ему в голову.
652
XI
С наступлением лета 1865 года работа над романом прекратилась. Толстой, как это бывало с ним в 60-е и 70-е годы, усиленно занялся хозяйством. Однако эти занятия хозяйством теперь уже не стояли для него на первом плане, как это было в первый год после женитьбы. Как писал он Фету 16 мая 1865 года, он «перепряг свою колесницу» — в корень запряг «мысль » художество», а хозяйство — на пристяжку, и тогда «гораздо покойнее поехал».
В июле Толстой съездил в славившееся своим образцовым хозяйством имение И. Н. Шатилова Моховое Тульской губернии Новосильцевского уезда, в котором он в первый раз был еще в 1857 году, остался очень доволен поездкой и по возвращении писал А. Е. Берсу 24 июля: «Это наверное самое замечательное хозяйство в России... Эта поездка еще более разогрела меня: в моих хозяйственных предприятиях».
Как и прежде, главное, что привлекало Толстого в занятиях хозяйством, был интерес наблюдений над жизнью и процессом роста растений и животных. Через несколько дней по возвращении от Шатилова Толстой писал тому же А. Е. Берсу: «Великая к тебе просьба, Андрей Евстафьевич. Есть в Москве некто барон Шепинг. У этого барона есть удивительные японские свиньи, поросят от которых он продает по пятнадцати рублей. Я на днях видел у Шатилова пару таких свиней и чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни, пока не буду иметь таких же».
А. Е. Берс исполнил просьбу Толстого только в октябре, и в том же месяце Толстой отвечал ему: «Не могу тебя достаточно-возблагодарить за японцев, любезный друг. Что за рожи, что за эксцентричность породы! Они совершенно такие, каких я видел у Шатилова и желал иметь. Мои, надеюсь, будут лучше выкормлены. Кроме многих радостей жизни, которыми я пользуюсь, есть еще большая радость следить за распложением и улучшением растений и животных моих... Куплено мною около трехсот мериносов, а теперь их у меня шестьсот, и весь приплод, рожденный и воспитанный у меня, без всякого сравнения лучше купленных... Когда летом пройдет вся белая отара маток с бубенчиками за овчаром и Шумкой64, а сзади пройдут моей выводки ярки с другими овчарками и шумкиными детьми, — сердце веселится!...»
Сообщив, что кроме мериносов он разводит в своем имении-Никольском еще улучшенную породу русских и крымских овец, Толстой прибавляет: «Все это, может быть, смешно и наверное скучно, но для меня это чрезвычайно интересно и привлекательно.
653
Все это живое, все это растет и множится. Забудешь как-нибудь на неделю за писанием или приедешь из Никольского, пройдешь по дворам и садам — смотришь: там выросло, там расплодилось...»
Охота так же, как и прежде, продолжала увлекать Толстого. «Он говорил, что только охотник и земледелец чувствуют красоту природы»64а. В конце июля 1865 года он поехал к славившемуся своей охотой страстному старому охотнику Н. В. Киреевскому в его имение Шаблыкино Орловской губернии Карачевского уезда. Автор книги «Поездка в Карачевские болота» (1867) Прокудин-Горский характеризует Киреевского как охотника «старинного закала, понимающего охоту не как промысел, а как наслаждение, выше которого нет другого».
Толстой пробыл у Киреевского четыре дня. Вместе с четырьмя другими охотниками он ездил на охоту за сорок верст, на границу Брянского уезда, «лесного дикого места», как писал он жене 31 июля, причем выезд на охоту был обставлен «с такой важностью и степенством», как будто бы «мы ехали на важнейшее дело в мире», — иронически писал Толстой. Дороже охоты был для Толстого «этот охотничий мир и стариковский». «Я не жалею, что приехал», — писал он жене в том же письме.
При всех хлопотах по хозяйству и увлечении охотой Толстой не забывал о начатом романе. Приехав к Шатилову, он справлялся у хозяина, не найдется ли в его библиотеке газет 1812 года65. По дороге к Киреевскому Толстой заехал к бывшему рязанскому губернатору П. П. Новосильцеву в его имение Воин. «Старик, — писал Толстой жене 27 июля, — заговорил меня своими анекдотами и рассказами из моего доброго старого времени 12 года».
XII
С наступлением осени усиленная работа над «Тысяча восемьсот пятым годом» возобновилась. Занимали в то время Толстого и некоторые другие художественные замыслы.
30 сентября он делает в дневнике следующую запись, дающую классификацию художественных произведений по их содержанию: «Есть поэзия романиста:
1) в интересе сочетания событий — Braddon66, мои «Казаки» будущие;
654
2) в картине нравов, построенной на историческом событии — «Одиссея», «Илиада», «1805 год»;
3) в красоте и веселости положений — «Пиквик»67, «Отъезжее поле», и
4) в характерах людей — «Гамлет», мои будущие; Аполлон Григорьев — распущенность, Чичерин — тупой ум, Сухотин68 — ограниченность успеха, Николенька69 — лень и Столыпин70, Ланской, Строганов71 — честность тупоумия».
Мысль о продолжении «Казаков», не покидавшая Толстого, как видим, и через три года после напечатания повести, так и не была осуществлена. Остался в мечтах и тот роман, в котором Толстой намеревался изобразить типические характеры тех семи знакомых ему лиц, которых он назвал в записи дневника. Однако Чичерина, как представителя «тупого ума», Толстой отчасти изобразил в лице Кознышева в «Анне Карениной», а представителем «честности тупоумия» можно считать Каренина, как в «Анне Карениной», так и в «Живом трупе».
5 октября Толстой записывает в дневнике: «Писать хочется и мечтать». 5 ноября в дневнике записано: «Думаю о комедии».
В письме к А. А. Толстой от 14 ноября Лев Николаевич писал: «Я много пишу и много вперед обдумываю будущих работ, которым, вероятно, никогда не придется осуществиться, и все это с верой в себя и убеждением, что я делаю дело».
Попробовал было Толстой продолжать повесть «Отъезжее поле», начатую еще в 1856 году, но работал над ней только один день 9 октября. Он был доволен своей работой, так как в дневнике в этот день записано: «Писал «Отъезжее поле». Выходит неожиданно». Но к дальнейшему продолжению повести Толстой так и не приступил.
Это обдумывание будущих работ, эти «мечтания» в то время особенно часто возникали у Толстого под влиянием чтения чужих произведений, как например, романов Диккенса, Троллопа. Иногда Толстой чувствовал даже, что эти мечты отвлекают его от работы. 3 октября он записывает в дневнике: «Надо ограничивать свою volupté читанья с мечтами. Эти силы надо употреблять на писанье, переменяя с физической работой».
Его творческие усилия попрежнему сосредоточивались главным образом на продолжении романа.
655
Толстого не покидало чувство бодрости и уверенности в своих, силах и глубокой удовлетворенности своей работой. Во второй половине декабря 1865 года он писал Фету: «Я довольно много написал нанешнюю осень — своего романа. Ars longa, vita brevis. [искусство продолжительно, жизнь коротка], думаю я всякий день. Коли бы можно бы было успеть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10000 часть. Все-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю».
21 декабря 1865 года Толстой закончил «третью часть» «1805 года» (или вторую часть первого тома «Войны и мира»).
XIII
В двадцатых числах января 1866 года Толстые всей семьей приехали в Москву. Они поселились сначала у Берсов, а с 3 февраля — на отдельной квартире на Большой Дмитровке в доме Хлудова (ныне Пушкинская улица, д. № 7).
В Москве Толстые прожили до 7 марта.
Главной целью поездки было дать Софье Андреевне возможность повидаться с родными. Толстой же, как писал он тетушке Александре Андреевне в Петербург (письмо от 4 февраля), «воспользовался этим случаем», чтобы «оживить в себе» необходимое ему для романа «воспоминание о свете и о людях», которое становилось у него «слишком отвлеченным». Кроме того, Толстой находил, что его уединенный образ жизни в Ясной Поляне в некоторых отношениях не вполне благоприятствует творческой работе. «В уединении, — писал он в том же письме, — делаешься слишком строг, в свете слишком tolérant [терпимым]. А мне нужно уметь более или менее верно судить людей, потому что я их стараюсь описывать», — прибавил он. И другие лишения в своей уединенной яснополянской жизни испытывал Толстой. В начале ноября 1865 года он писал А. Е. Берсу: «Вы, весь ваш мир, театр, музыка, книги, библиотеки (это — главное для меня последнее время) и иногда возбуждающая беседа с новым и умным человеком — вот наши лишения в Ясном».
Разумеется, работа над «Тысяча восемьсот пятым годом» в Москве продолжалась.
Повидимому, вскоре после приезда в Москву к Толстому приходил Катков и уговорил его отдать в «Русский вестник» следующую часть «Тысяча восемьсот пятого года». Толстой согласился, и в номерах 2—4 «Русского вестника» за 1866 год появилась вторая часть его романа, озаглавленная «Война». Эти главы составили впоследствии вторую часть первого тома отдельного издания «Войны и мира».
656
В этот свой приезд в Москву Толстой познакомился с родственником Берсов, художником М. С. Башиловым, известным своими иллюстрациями к «Горю от ума» Грибоедова и к «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина. Под впечатлением разговоров с Башиловым у Толстого явилась мысль — издать свой роман с иллюстрациями. Он предложил Башилову иллюстрировать его роман; Башилов ответил согласием.
Также под влиянием разговоров с Башиловым, который был не только художником, но и скульптором, у Толстого возникла мысль учиться скульптуре71а. Уже из Ясной Поляны Толстой уведомлял Башилова, что он делает бюст жены, «но до сих пор ничего не выходит». «Художником я не буду, — писал Толстой Фету в мае 1866 года, — но занятие это уже дало мне много приятного и поучительного». По воспоминаниям Софьи Андреевны, Толстой удачно вылепил лошадь. Однако занятия скульптурой продолжались, видимо, не долго.
27 февраля Толстой прочел вслух близким знакомым несколько глав из той части «Тысяча восемьсот пятого года», которая была предоставлена «Русскому вестнику». В числе слушателей был старый генерал Перфильев, отец приятеля Толстого В. С. Перфильева, хорошо помнивший 1812 год. Он сделал несколько замечаний, касающихся военного устава того времени, которыми Толстой сейчас же воспользовался72.
Перемена условий жизни и отдых от напряженной творческой работы благотворно подействовали на Толстого. Перед отъездом из Москвы он говорил М. С. Башилову, что чувствует себя «очень беременным».
И действительно, возвратившись в Ясную Поляну, Толстой усиленно принялся за работу. 4 апреля он извещал Башилова, что по возвращении из Москвы он написал всю следующую часть романа и надеется к осени написать еще три части, в октябре выпустить отдельное издание первого тома размером в тридцать печатных листов, а к новому году — выпустить и второй том такого же размера.
В мае, в письме к Фету, Толстой повторил, что надеется кончить свой роман к новому году и издать все отдельной книгой, прибавляя, что работой своей («особенно до яркого тепла») он «доволен чрезвычайно». Вновь просит Толстой Фета высказать свое мнение о его романе, но теперь уже с такой характерной оговоркой: «Я очень дорожу вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда, времени и того безумного авторского
657

С. А. Толстая со старшими детьми — Сережей и Таней.
1866 г.
С фотографии.
658
усилия (которое вы знаете), так люблю свое писание, особенно будущее — 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад осуждению. Например, мнение Тургенева о том, что нельзя на десяти страницах описывать, как NN положила руку, мне очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем». (Повидимому, упоминаемый здесь отзыв Тургенева был высказан им или устно или в каком-либо неизвестном нам письме; в опубликованных письмах Тургенева такого отзыва нет.)
С апреля 1866 года у Толстого началась оживленная переписка с Башиловым. Башилов присылал ему на суд свои иллюстрации к напечатанным частям «Тысяча восемьсот пятого года», а Толстой в ответных письмах делал подробные замечания о каждом рисунке. Эти замечания интересны тем, что дают понятие о том, как Толстой представлял себе и внешний облик и характеры своих персонажей. Рисунки Башилова, за немногими исключениями, удовлетворяли Толстого. «Вообще я не нарадуюсь нашему предприятию», — писал он Башилову 4 апреля.
Рисунки Башилова не только нравились Толстому, но и подбадривали его к работе, как это видно из следующих строк его письма от 4 июня 1866 года: «Ожидаю ваши рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают во мне».
С наступлением лета, как и в предыдущем году, работа Толстого над романом приостановилась.
XIV
Летом 1866 года спокойное течение яснополянской жизни было нарушено случившимся поблизости необычайным происшествием.
6 июня в 65 Московском пехотном полку, расположенном неподалеку от Ясной Поляны в деревне Новая Колпна, ротный писарь Василий Шабунин73 ударил по лицу своего ротного командира капитана Яцевича. Дело произошло так. Придя в пять часов в ротную канцелярию, Яцевич нашел писаря в нетрезвом виде. Он велел посадить Шабунина в карцер и приготовить розог, чтобы после ученья наказать его. Но Шабунин, выйдя вслед за офицером из избы в сени, обращаясь к нему, проговорил: «За что же меня в карцер, поляцкая морда? Вот я тебе дам!»
659
С этими словами он ударил офицера по лицу так сильно, что из носа потекла кровь.
Шабунин был сейчас же схвачен и посажен под арест.
На следствии Шабунин объяснил свой поступок тем, что ротный командир утруждал его перепиской бумаг, часто требовал к себе, приказывал ходить на ученье, вообще обращался с ним жестоко; ни разу не слыхал он от командира ни одного ласкового слова.
По окончании следствия дело было представлено на рассмотрение командующего войсками Московского военного округа генерал-адъютанта Гильденштуббе, который направил дело Шабунина военному министру Милютину. Милютин доложил о поступке Шабунина царю. Так как это был уже второй за короткое время случай нанесения солдатом удара офицеру, было решено применить строгие меры. Александр II приказал судить писаря по полевым военным законам.
Один из офицеров Московского полка Г. А. Колокольцов, знакомый Берсов, бывавший в Ясной Поляне, рассказал Льву Николаевичу о деле Шабунина. Толстой настолько заинтересовался этим делом, что пожелал выступить на военном суде защитником солдата. Ему предоставили возможность лично поговорить с Шабуниным.
О своем участии в деле Шабунина Толстой впоследствии рассказал в письме к своему биографу П. И. Бирюкову74. Как рассказывает Толстой в этом письме, Шабунин в разговоре с ним «от себя говорил мало» и только на его вопросы «неохотно отвечал: «Так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было, и что ротный был требователен к нему. «Уж очень на меня налегал», — сказал он. Как рассказал Толстой на суде, на его вопрос, за что он ударил своего командира, Шабунин ответил: «По здравому рассудку я решил, потому что они делов не знают, а требуют. Мне и обидно показалось».
«Как я понял причину его поступка, — рассказывает далее Толстой в письме к Бирюкову, — она была в том, что ротный командир, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно исполненными, довел его до последней степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку — отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывает антипатию к подсудимому, усиленную
660
еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни сделал писарь, и заставлять его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, с своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорбляет его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие, и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе исхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высокой степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом».
Суд был назначен на 16 июля в квартире полкового командира, занимавшего помещичий дом в деревне Ясенки. Судьями были полковой командир и два офицера. Толстой был знаком со всеми судьями, которые изредка приезжали к нему в Ясную Поляну. Председателя суда, полкового командира Юно̀шу, Толстой в письме к Бирюкову характеризовал такими словами: «Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель; но каким он был человеком, нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим».
В противоположность Юно̀ше, другой член суда А. М. Стасюлевич, знакомый Толстого, был «живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он как честолюбивый и самолюбивый человек тяжело переживал... Общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения».
Толстой познакомился со Стасюлевичем еще в 1853 году на Кавказе. Стасюлевич был тогда разжалован из офицеров в рядовые за то, что в его дежурство из тифлисской тюрьмы бежало несколько арестантов. Незадолго до случая с Шабуниным он был произведен из солдат в прапорщики.
Третьим членом суда был поручик Колокольцов, о котором Толстой говорит: «Это был веселый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой казачьей лошадкой, на которой он любил гарцовать».
На суде Шабунин объяснил свой поступок тем, что ротный командир часто заставлял его переписывать бумаги, в которых он меньше понимал толку, чем Шабунин.
Толстой в своей речи, построенной юридически очень искусно, старался доказать невменяемость подсудимого и вследствие этого невозможность применения к нему статьи военно-уголовного законодательства, карающей смертью. Для доказательства своего мнения о невменяемости Шабунина в момент совершения им поступка, Толстой указывал, между прочим, и на то, что всего
661
за несколько дней до этого Шабунин собственноручно переписал приказ по корпусу о расстрелянии рядового, поднявшего руку против офицера. Речь свою Толстой произнес «робея, как всегда»75.
Повидимому, речь Толстого была предварительно им написана. По этой записи она была тогда же напечатана в местной газете76. Толстой говорил впоследствии, что эта речь была напечатана по записи, сделанной кем-то из лиц, присутствовавших на суде; однако чрезвычайная подробность текста речи и некоторые свойственные ему выражения заставляют думать, что публикация «Тульского справочного листка» воспроизводила подлинный текст Толстого, а не запись, сделанную посторонним лицом.
«Хорошо было то, что я во время этой речи расплакался», — говорил впоследствии Толстой77.
На суде один только Стасюлевич принял сторону Толстого. Полковник Юно̀ша, делавший карьеру, высказался за обвинение; «Колокольцов же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, — писал Толстой Бирюкову, — все-таки подчинился Юно̀ше, и его голос решил вопрос».
Шабунин был приговорен к смертной казни через расстреляние.
Лев Николаевич сейчас же написал письмо А. А. Толстой, прося ее через военного министра Милютина ходатайствовать перед царем о помиловании Шабунина. Но чрезвычайно взволнованный приговором суда, Толстой в своем письме упустил указать, какого полка был Шабунин. Милютин придрался к этой оплошности и сказал, что невозможно просить государя, не указав, какого полка был осужденный. Толстая написала об этом Льву Николаевичу, Лев Николаевич поторопился ей ответить, но было уже поздно: командующий войсками Московского военного округа утвердил приговор военно-полевого суда.
Едва только стало известно о приговоре над Шабуниным, женщины из окрестных деревень стали приходить к той избе, в которой он был заперт, и просили караульного передать ему принесенные с собою молоко, яйца, сдобные лепешки, деньги и даже холст.
Казнь Шабунина была назначена на утро 9 августа. Место казни было определено вблизи деревни Новая Колпна, в 22 верстах от Тулы. К назначенному времени был выведен в полном
662
составе весь первый батальон второй роты, а из других батальонов — сводные команды, составленные преимущественно из штрафованных солдат.
Шабунин в сопровождении священника, одетого в черную ризу, под конвоем был проведен мимо всего строя и остановлен в середине для выслушивания приговора. Он был совершенно спокоен и шел твердым шагом. При начале чтения приговора он несколько раз перекрестился; выслушав приговор, спокойно приложился к кресту. Ему связали руки, завязали глаза, надели саван (белую рубашку), подвели под руки и привязали к черному столбу, сзади которого была вырыта глубокая яма.
Раздался бой барабанов. Заранее назначенные двенадцать стрелков подошли на 15 шагов и сделали залп. Две пули попали в голову и четыре в сердце. Доктор констатировал мгновенную смерть.
Некоторые женщины безутешно рыдали, другие падали в обморок.
Веревки быстро обрубили и еще теплый труп столкнули в яму, которую тут же засыпали землей. Через десять минут убрали столб. Войска, перестроившиеся к церемониальному маршу, по отвратительному ритуалу того времени, с музыкой прошли мимо ямы и были распущены по квартирам.
Как передавали, один из стрелявших, молодой солдат, побледнел, как полотно, и руки у него тряслись78.
Как рассказывает очевидец Н. П. Овсянников, служивший юнкером в том же полку, через час на могилу явился кем-то приглашенный священник, «и началось почти непрерывное служение панихид.
— И мне бы, батюшка, и мне по мученичке-то, по праведном отслужить панихидку, — взапуски кричали бабы, стараясь всунуть в руки священнику кто гривенник, кто пятак. Далеко за полдень закончилось это служение панихид, а к вечеру на могилу были накиданы кем-то принесенные восковые свечи, куски холста и медные гроши»79.
На другой день служение панихид возобновилось; приезжали даже из дальних деревень.
Узнав об этом, становой пристав приказал сравнять могилу с землей и поставил караул, чтобы отгонять приходящих, и строго запретил служение панихид80.
663

Могила солдата Шабунина близ деревни Ясенки.
С фотографии.
Читая в рукописи статью Овсянникова, Толстой 9 апреля 1889 года записал в дневнике: «Читал эпизод о защите казненного солдата. Написано дурно, но эпизод ужасен в простоте описания — контраста развращенных полковников и офицеров, командующих и завязывающих глаза, и баб и народа, служащего панихиды и кладущего деньги»81.
На Толстого суд над Шабуниным и казнь его произвели огромное впечатление. В деле Шабунина он — как раньше в Париже при виде смертной казни — столкнулся с той дикой, страшной, беспощадной силой, которую представляло собою государство, основанное на насилии.
«Случай этот, — писал Толстой Бирюкову, — имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей».
XV
Работа над романом все больше и больше захватывала Толстого.
664
В 1866 году он возобновил свою работу уже в августе, не дожидаясь наступления осени, как это бывало в предшествующие годы. 7 августа он писал М. С. Башилову: «Мое писанье опять стало подвигаться, и ежели буду жив и здоров, то в сентябре кончу первую часть всего романа и привезу в Москву и отдам печатать. А вторую кончу до нового года». Здесь под словами «первая и вторая части» следует разуметь первый и второй томы романа.
Осенью Толстой на самое короткое время отвлекся работой над шуточной комедией «Нигилист», написанной для домашнего спектакля в Ясной Поляне.
Все содержание этой небольшой комедии, действие которой происходит в деревне, состояло в том, что муж по недоразумению ревнует жену к живущему у них учителю — студенту-нигилисту. Из-за этого возникают различные комические положения, но дело вскоре разъясняется, студента выпроваживают, и в семье опять воцаряется мир.
Весь тон комедии, смешное положение, которое занимает в ней нигилист, указывает на то, что Толстой в то время уже не считал нигилизм серьезным общественным явлением, как это было во время его работы над «Зараженным семейством».
В постановке «Нигилиста» участвовали семейные Толстого: его сестра, жена, свояченица, племянницы, а также гувернантка детей; все роли исполнялись исключительно женщинами. М. Н. Толстая вложила много комизма в исполнение роли странницы, открещивающейся и отплевывающейся от безбожных речей нигилиста.
Спектакль прошел очень оживленно и доставил большое удовольствие и зрителям, и исполнителям. Толстой принимал живейшее участие в постановке комедии. На репетициях он делал многочисленные вставки и исправления в текстах ролей сообразно игре исполнителей и говорил: «Как приятно писать для сцены! Слова на крыльях летят!»82.
Комедия «Нигилист» сохранилась только в своей первоначальной редакции83. Возможно, что Толстой делал свои поправки и вставки на списках ролей отдельных исполнителей, так что полного списка последней редакции комедии, быть может, и не существовало. Роль странницы, возможно, и вовсе не была написана, так как, по словам Т. А. Кузминской, М. Н. Толстая импровизировала свою роль.
10 ноября Толстой приехал в Москву с целью познакомиться с необходимыми историческими материалами, а также переговорить
665
с типографией о печатании романа отдельным изданием.
Переговоры с типографией на этот раз ни к чему не привели — соглашение не состоялось.
Толстой пробыл в Москве неделю. Как и раньше, он с женой почти ежедневно обменивался письмами. Уже на другой день после его отъезда Софья Андреевна писала ему: «Пиши, Левочка, мне побольше. Я так тебя, милый, люблю, и такое я ничтожное существо без тебя. Как мы вчера с тобой прощались, я всё вспоминаю и всё думаю, как радостно будет увидаться».
Несколько раз Софья Андреевна сообщала о своей работе — по переписке романа. Так, в первом письме она писала: «Я нынче весь день почти списывала... А списывать так же приятно, как когда в комнате сидит близкий друг, и не надо его занимать, а только хорошо, что он тут».
На другой день Софья Андреевна писала: «А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне покажется, что это не роман твой так хорош (конечно, инстинктивно покажется), а я так умна».
В тот же день Софья Андреевна писала в дневнике: «Теперь я все время и нынче переписываю (не читая прежде) роман Левы. Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей, переписывая роман Левы. Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно»84.
14 ноября Софья Андреевна писала Льву Николаевичу: «Как решил с нашей святыней — твоим романом? Я теперь стала чувствовать, что это — твое, стало быть, и мое детище, и, отпуская эту пачку листиков твоего романа в Москву, точно отпустила ребенка и боюсь, чтоб ему не причинили какой-нибудь вред. Я очень полюбила твое сочинение. Вряд ли полюблю еще другое какое-нибудь так, как этот роман».
666
Попрежнему Софья Андреевна признает авторитет мужа и старается руководствоваться в жизни его советами. В письме от 12 ноября, рассказав о недоразумениях с англичанкой-воспитательницей, она прибавляла: «Вспомнила твое правило, что надо подумать, как все это покажется через год легко и ничтожно». И, далее, в том же письме Софья Андреевна писала: «Тебя я как-то всей душой считаю как свою опору... Напиши мне письмо encourageant [подбадривающее]... Когда-то кончится мое нравственное заключение, то есть жизнь без тебя».
Особый интерес в письмах Толстого к жене данного времени представляют подробности, касающиеся воспитания его маленьких детей. Письмо от 14 ноября Толстой закончил словами: «Прочти им [детям] что-нибудь из письма или выдумай, но чтоб они знали, что такое значит писать». Отправив это письмо, Толстой, очевидно, стал думать над тем, какие же слова из его письма жена должна прочесть детям. Во втором письме от того же числа он написал: «Прочти им: «Сережа милый, и Таня милая, и Илюша милый, я их люблю. Сережа теперь большой, он будет писать папаше». И вели ему написать и Тане, т. е. нарисовать что-нибудь мне».
Как видим, Толстой начинает заботиться об умственном воспитании своих детей, когда его старшему сыну только три с половиною года, а дочери два года.
Толстой был противником дорогих игрушек для детей, считая, что дорогие игрушки приучают детей к ненужной роскоши и небережливости. Жена покорялась ему в этом, хотя и не вполне охотно; но дедушка и бабушка иногда не считались с его взглядами на воспитание. 4 февраля 1866 года Софья Андреевна писала Т. А. Ергольской из Москвы: «Вчера дедушка привез им [детям] по колясочке и в каждой по кукле, одна девочка, другая мальчик в красной рубашке. Отец только плечами пожимает, но не решается ссориться с дедушкой и бабушкой, как бывало с нами, милая тетенька, за всякую безделицу он ссорился»85.
Прекратив свои школьные занятия, Толстой не переставал интересоваться педагогическими вопросами. 10 апреля 1865 года Толстой, как отмечено у него в дневнике, «записал кое-что по педагогике». Запись эта, к сожалению, до нас не дошла.
16 мая 1865 года в своем ответе Фету, сообщавшему о работе над какой-то статьей, в которой он имел намерение сказать о яснополянской школе, Толстой ответил: «На ваш вопрос упомянуть о «Ясной Поляне» — школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее [«Ясную Поляну» — журнал] забыли, и мне не хочется напоминать, — не потому, чтобы я отрекался от выраженного там, но напротив, потому,
667
что не перестаю думать об этом, и ежели бог даст жизни, надеюсь еще изо всего этого составить книги с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом».
26 сентября, вернувшись от своего друга Д. А. Дьякова, Толстой записал в дневнике: «По случаю ученья милой Маши [дочери Дьякова] думал много о своих педагогических началах. Я обязан написать всё, что знаю об этом деле»..
2 ноября Толстой, как записано у него в дневнике, «с наслаждением перечитал «Казаков» и «Ясную Поляну».
14 ноября Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Я все много думаю о воспитании, жду с нетерпением времени, когда начну учить своих детей, собираюсь тогда открыть новую школу и собираюсь написать резюме всего того, что я знаю о воспитании и чего никто не знает или с чем никто не согласен».
В письме к ней же от 26 ноября, узнав, что она назначена воспитательницей великой княжны, Толстой излагает свои мысли о принципах разумного воспитания, вполне согласные с тем, что писал он в своей «Ясной Поляне».
Все это убеждает нас в том, что взгляды Толстого на воспитание и обучение, изложенные им в его педагогических статьях 1860—1863 годов, в то время не претерпели никакого изменения. С другой стороны, вопросы воспитания, по мере роста его детей, приобретали в глазах Толстого особенно важное практическое значение.
В архиве Толстого сохранился написанный крупными буквами — очевидно, для детей, только начинающих читать, — юмористический рассказ о молодом человеке, который, по своей застенчивости, делает в обществе ряд смешных поступков86. Сохранился еще также написанный крупными буквами отрывок без начала и продолжения, описывающий рождественскую елку в Ясной Поляне. Рассказывается, что на елке были «Льва Николаевича дети — мальчик Сережа и девочка Таня», потом «садовниковы две девочки, кормилицын мальчик и еще много крестьянских детей». Из крестьянских детей особо названа сиротка Феклушка в прорванной шубе и худых чулках, в грязном и худом сарафанчике. Повидимому, дальше Толстой что-то хотел написать об этой Феклушке, но продолжения рассказа не было, или оно не сохранилось87.
Не подлежит сомнению, что в отрывке описан действительный факт: елка в Ясной Поляне, на которую были приглашены дети слуг и яснополянских крестьян.
668
XVI
18 ноября 1866 года Толстой выехал из Москвы в Ясную Поляну впервые по железной дороге, которая с октября этого года начала функционировать на участке Москва — Серпухов. Движение поездов от Серпухова до Тулы было открыто в следующем 1867 году.
В первый же день по приезде домой Толстой уведомляет Башилова, что решил отложить печатание романа до будущего года на том основании, что если печатать теперь, то «все придется делать второпях, и потому все будет сделано плохо».
И начался самый напряженный период работы над будущей «Войной и миром».
В январе 1867 года Толстой извещал Башилова, что его работа «хорошо и довольно быстро подвигается вперед»: «кончены (начерно) три части и начата четвертая и последняя». (Здесь под словом «части» Толстой разумел томы будущей «Войны и мира».) Он уверен, что к осени будет «готов со всем романом». К осени Толстой и Башилова просит закончить иллюстрирование всего романа. Он желает иметь всего 70 рисунков.
Толстой всегда, употребляя его выражения в письме к Фету от 28 июня 1867 года, писал не «умом ума», а «умом сердца». То «волнение», которое Толстой считал необходимым условием успешности работы писателя, достигло теперь высокой степени напряжения. 12 января Софья Андреевна записывает в дневнике: «Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением, пишет». (Вспомним, что слово «раздражение» на языке Толстого означало в то время то, что на современном языке обозначается словом «возбуждение», «подъем».)
От чрезмерно напряженной работы появились сильные головные боли. В феврале Толстой пишет брату: «У меня недели две как сделались приливы к голове и боль в ней такая странная, что я боюсь удара». О головных болях Толстого 19 февраля 1867 года писала и Софья Андреевна своей племяннице В. В. Нагорновой: «У Левы всё болит голова, такая досада, а всё пишет, так много пишет, думает и утомляется»88.
В самый разгар напряженной работы над «Войной и миром» Толстому случилось прочесть газетное сообщение, которое навело его на ряд серьезных мыслей.
В первых числах января 1867 года Толстой прочел в «Московских ведомостях» подробный отчет о заседании Московского губернского земства 18 декабря 1866 года89, на котором гласный Н. М. Смирнов, бывший калужский и затем петербургский губернатор, а в то время сенатор, муж известной А. О. Россет,
669
внес предложение «о необходимости скорейшего улучшения падающей нравственности крестьянского сословия». В своей речи Смирнов признал «большую сметливость и природный дар подражания» русского крестьянина, но вместе с тем утверждал, что вследствие «недостатка духовного и нравственного образования» в крестьянстве укоренились «некоторые пороки, часто парализующие их природные дарования». Эти пороки: «пьянство, недостаточное уважение к чужой собственности, невнимание к своим обязанностям и малое попечение о будущности своих семейств». Причину распространения этих пороков сенатор видел в том, что «быстрый переход от строгой зависимости к свободе мог дать простор некоторым дурным наклонностям в народе, против которых следует упорно бороться». Бороться должно сельское и волостное начальство, но оно не стоит на должной высоте. В подтверждение своего мнения Смирнов приводил такие примеры: наделы земли распределяются неправильно; содержание мостов и переправ на проселочных дорогах ведется весьма небрежно, «на сельских сходах нет никакого порядка и благочиния», «все сыновья насильственно отделяются от отцов», «в волостных судах большей частью не существует никакого правосудия», «самые нелепые слухи ходят в народе, и крестьяне не перестают надеяться на получение даром своего поземельного надела».
По окончании речи Смирнова слово взял другой гласный Московского земства, известный славянофил Юрий Федорович Самарин. Он заявил, что, подражая своему предшественнику, имеет намерение к следующему заседанию приготовить доклад на тему «о постепенном упадке нравственности в дворянском сословии, о необходимости в нем духовного образования и религиозного смысла, о необходимости принять самые решительные меры для его исправления».
«Я вам представлю, — язвительно говорил Самарин, — не портрет, а отвратительную карикатуру, опять-таки следуя данному мне примеру. В моем сообщении не будет лжи и, однако, все будет фальшиво от первой строки до последней. Я прибегну к тем приемам, к которым прибег почтенный Н. М. Смирнов, то есть какой-нибудь случайно подсмотренный факт я раздую и возведу на степень обычая, припишу его всему дворянскому быту».
Толстой был глубоко возмущен речью Смирнова (с которым он встречался в 1857 году за границей). Несомненно, что особенно возмутило Толстого ответное слово Смирнова, в котором он заявил, что он говорит о недостатках именно крестьянского сословия только потому, что это «самое обширное и требующее большего попечения, чем другие, по недостатку своих экономических средств и образования; поэтому оно более, чем другие, должно быть нами лелеяно».
670
Возмущаясь речью Смирнова, Толстой почувствовал потребность выразить Самарину свое сочувствие и ближе сойтись с ним, о чем он думал и прежде.
Толстой познакомился с Самариным еще в 1856 году в Москве и в первый же день знакомства, 23 мая, как сказано выше, записал в дневнике, что Самарин ему очень нравится, как «холодный, гибкий и образованный ум». После этого он еще несколько раз виделся с Самариным.
В период напряженной работы над «Войной и миром» Толстой иногда страдал от сознания одиночества, от отсутствия близкого друга, с которым он мог бы делиться своими самыми задушевными мыслями и чувствами. В то время он был дружен только с Фетом и А. А. Толстой. Фету Толстой писал в мае 1866 года: «Вы по душе мне один из самых близких». Затем ему же 7 ноября 1866 года: «Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек». Но, разумеется, Фет все-таки не был для Толстого настолько близким другом, чтобы он мог свободно поверять ему те свои мысли и чувства, которые он «со слезами» и волнением выражал в своем произведении, а тем более такие мысли и чувства, которые он таил в себе и не высказывал в произведениях. Еще менее могла быть таким другом жившая при дворе А. А. Толстая — при всей ее искренней и горячей любви к своему племяннику.
Толстой 10 января 1867 года пишет Ю. Ф. Самарину большое письмо, начиная его таким откровенным обращением: «Юрий Федорович! Не знаю, как и отчего это сделалось, но вы мне так близки в мире нравственном — умственном, как ни один человек. Я с вами мало сблизился, мало говорил, но почему-то мне кажется, что вы тот самый человек, которого мне нужно (ежели я не ошибся, то [и] я вам нужен), которого мне недостает, — человек самобытно умный, любящий многое, но более всего — правду и ищущий ее. Я такой же человек. У меня есть мои пристрастия, привычки, мои тщеславия, сердечные связи, но до сих пор — мне скоро 40 — я все-таки больше всего люблю истину и не отчаялся найти ее и ищу и ищу её».
Далее Толстой намекает на особенную напряженность своих исканий за последнее время: «Иногда, и именно никогда больше, как нынешний год, мне не удавалось приподнимать уголки завесы и заглядывать туда — но мне одному и тяжело, и страшно, и кажется, что я заблуждаюсь. И я ищу помощи и почему-то невольно один вы всегда представляетесь мне». И Толстой предлагает Самарину: «Ежели я не ошибаюсь и вы действительно тот человек, каким я воображаю вас, ищущий объяснений всей этой путанице, окружающей нас, и ежели я вам хоть в сотую
671
долю так же интересен и нужен, как вы мне, то сблизимтесь, будем помогать друг другу, работать вместе и любить друг друга, ежели это будет возможно».
Откладывая до более близкого знакомства обсуждение главных волнующих его вопросов, Толстой просит Самарина теперь же ответить ему на два вопроса, лично его [Самарина] касающихся. Это, во-первых, деятельность Самарина как гласного Московского земства. Толстой не может высоко ценить эту деятельность. «Для того, чтобы вам говорить там, — пишет Толстой, — вам надо вашу мысль, выходящую из широких основ мышления, заострить так, чтобы она была прилична». И такая сделанная приличною мысль, произнесенная в земском собрании, для всех присутствующих «весит ровно столько же, сколько благоразумно-пошлое слово какого-нибудь «благородного дворянина» или гнусного старичка Смирнова».
Общественная деятельность в земстве, в судебных и государственных учреждениях, в парламентах, по мнению Толстого, есть не что иное, как «проявление организма общественного — роевого (как у пчел), на это всякая пчела годится, и даже лучше те, которые сами не знают, что и зачем делают, — тогда из общего их труда всегда выходит однообразная, по известным зоологическим законам деятельность. Эта зоологическая деятельность, — утверждает Толстой, — военного, государя, предводителя [дворянства], пахаря, есть низшая ступень деятельности — деятельность, в которой — правы матерьялисты — нет произвола».
По мнению Толстого, Самарин призван не к этой низшей, а к высшей форме деятельности. Очевидно, что высшей деятельностью Толстой считал в то время работу мышления в отвлеченной области познания общих законов жизни как отдельного человека, так и всего человечества.
Далее Толстой просит Самарина объяснить его религиозные воззрения и в заключение письма вновь предлагает Самарину самую искреннюю дружбу:
«Я не вижу между нами никаких условных преград — я прямо сразу чувствую себя совершенно открытым в отношении вас. Ни казаться перед вами я не хочу ничем, ни скрыть от вас ничего не хочу самого задушевного или самого постыдного для меня, ежели вам бы нужно было это узнать».
Но или Толстой сам испугался такого решительного утверждения своей умственной и духовной близости с Самариным, в которой он еще не мог быть уверен, или та откровенность, с которой он рассказывал про себя, показалась ему нескромной и неуместной, — так или иначе, но письмо это не было отправлено по назначению, а осталось в архиве Толстого.
Толстой, однако, не отказался от мысли дружески сблизиться
672
с Самариным. В одну из ближайших поездок в Москву, 20 июня 1867 года, Толстой постарался увидеться с ним, после чего писал жене: «Поехал к Самарину и проговорил с ним часа три и еще более полюбил его и уверен в том же с его стороны». На другой день Самарин приехал к Толстому, и на этот раз их беседа продолжалась около двух часов.
Но не прошло и двух лет, как Толстой, увидевшись с Самариным, уже «несколько разочаровался в нем», как писал он жене 18 января 1869 года. Позднее Толстой причислял Самарина к категории людей «очень холодных, умных и тонких», как писал он Н. Н. Страхову 6 марта 1874 года90.
Таким образом, и эта попытка Толстого в лице Ю. Ф. Самарина найти близкого друга, которого ему в то время так недоставало, закончилась неудачей.
Все же у Толстого осталось приятное воспоминание о его встречах и беседах с Ю. Ф. Самариным. «Самарин Юрий Федорович был выдающийся человек, — говорил Толстой в 1906 году. — Хорошо говорил, был умный, приятный, привлекательный, один из приятнейших людей, которых я знал»91.
XVII
К концу марта 1867 года работа над романом уже настолько продвинулась вперед, что, будучи в Москве на похоронах жены своего друга Дьякова, Толстой ведет переговоры с типографией Каткова об условиях печатания. Но соглашение с типографией опять не состоялось, и сдача романа в печать отсрочилась.
В Москве Толстой виделся с издателем «Русского архива» П. И. Бартеневым и в разговоре с ним высказал намерение написать для его журнала статью с изложением тех выводов, к которым его привело изучение исторических материалов, касающихся эпохи наполеоновских войн. По возвращении в Ясную Поляну, в письме к Бартеневу от 31 марта, Толстой подтвердил это намерение, но оговорился, что исполнит его позднее. «Теперь я ничего не могу делать, — писал Толстой, — кроме окончания моего романа». В тот же день Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Работа поглощает все мое время».
Головные боли от напряженной работы все время продолжались. Брату Толстой в тот же день писал: «Я много пишу, оканчивая, и голова все болит, но я не боюсь теперь этой боли».
Любопытно, что в том же письме к Бартеневу Толстой делится с ним замыслом нового исторического романа — романа
673
из эпохи царствования Павла, на который навело его чтение исторических материалов. Толстой пишет, что те статьи о Павле, которые он прочел в «Русском архиве», привели его, как художника, «в восторг» и что в лице Павла он «нашел своего исторического героя». Он просит Бартенева указать ему другие материалы, касающиеся царствования Павла. Ответное письмо Бартенева не сохранилось, но Толстой и не думал приступать к осуществлению этого случайного, промелькнувшего у него замысла.
В июне Толстой вновь поехал в Москву, чтобы договориться с какой-нибудь типографией относительно печатания своего романа отдельным изданием. Это ему удалось — он заключил договор с типографией Ф. Ф. Риса. Наблюдение за печатанием и чтение корректур после автора взял на себя П. И. Бартенев, которому Толстой разрешил делать в тексте романа поправки «в смысле исправности и даже правильности языка», как писал он жене 22 июня.
Продолжая страдать от головных болей вследствие крайнего напряжения творческой деятельности, Толстой обратился к пользовавшемуся в то время большой известностью терапевту Г. А. Захарьину. «Захарьин, — писал Толстой жене 20 июня, — до смешного был внимателен и педантичен; рассматривая меня, заставлял и ходить с закрытыми глазами, и лежать, и дышать как-то, и ощупал и остукал со всех сторон». Он нашел у Толстого «расстройство сильное нервов» и желчные камни. Принимать какие-либо лекарства Толстой отказался, и Захарьин прописал ему лечение горячими карлсбадскими водами и холодными купаньями, что Толстой обещал выполнять.
К последним дням пребывания Толстого в Москве — 23 или 24 июня 1867 года — относится, как это видно из письма к Толстому Елизаветы Андреевны Берс от 27 июня того же года92, фотографический снимок с Толстого, до сих пор датировавшийся 1868 годом и неоднократно воспроизводившийся в печати. Толстой, одетый в блузу, сидит, одной рукой облокотившись на стол и другую руку положив на колено; выражение лица серьезное, энергическое, взгляд проницательный.
Заключив условие с типографией, Толстой должен был теперь же, несмотря на летнюю пору, усиленно приняться за работу «под страхом штрафа и несвоевременного выхода», как писал он Фету 28 июня.
Что касается иллюстраций к роману, которые готовил Башилов, то, во-первых, возникла задержка в гравировании рисунков для печати; во-вторых, Толстой несколько разочаровался в Башилове
674
как художнике. «Чего-то недостает Башилову как в жизни, так и в искусстве — какого-то жизненного нерва», — писал он жене 14 ноября 1866 года.
31 мая Толстой пишет Башилову письмо, в котором просит его приостановить работу. Но предложение о возобновлении работы так и не было сделано, и работа Башилова по иллюстрированию «Войны и мира» прекратилась. Всего Башиловым был приготовлен 21 рисунок к первым двум частям первого тома романа93.
В средине июля 1867 г. началась присылка корректур. В корректурах Толстой по обыкновению делал много исправлений и сокращений, чем Бартенев был очень недоволен. «Вы бог знает что делаете, — писал он Толстому 12 августа. — Эдак мы никогда не кончим поправок и печатания. Сошлюсь на кого хотите, большая половина Вашего перемарывания вовсе не нужна; а между тем от него цена типографская страшно возрастает. Я велел написать в типографии Вам счет за корректуры».
На другой день Бартенев приписал к своему письму: «Объяснение Безухова с женою и вся глава в Лысых Горах хороши до того, что будут жить вечно: еще лучшего места я не читал во всем романе... Необходимо, чтобы в сентябре были готовы две части. Я, между прочим, в начале сентября пропущу в печати слух о скором выходе... Ради бога, перестаньте колупать!»94 — взывал Бартенев в заключение своего письма.
Тотчас же по получении письма Бартенева Толстой ответил ему: «Не марать так, как я мараю, я не могу, и твердо знаю, что маранье это идет в великую пользу. И не боюсь потому счетов типографии, которые, надеюсь, не будут уж очень придирчивы. То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз пять перемарано».
В следующем письме Толстой просил Бартенева еще раз прислать ему корректуру тех глав, где описывается прием Пьера в масонскую ложу (гл. III—IV второй части второго тома). Желание Толстого было исполнено, и присланные ему корректуры этих глав он опять так «измарал», что просил, в случае неясности его поправок, еще раз прислать ему эти корректуры.
В сентябре были отосланы в набор первые листы третьего тома. Толстой в то время еще не представлял себе вполне отчетливо, сколько томов составит его роман.
675

Л. Н. Толстой в 1867 г.
С фотографии.
676
XVIII
Осень 1867 года и зима 1867—1868 года прошли в той же напряженной работе над продолжением романа и чтением корректур печатающихся томов.
2 ноября 1867 года в Москву были посланы последние листы рукописи третьего тома, а 26 ноября были отосланы последние корректуры того же тома.
Через четыре дня, 30 ноября, Толстой писал И. П. Борисову: «А я опять весь погружен в свою работу, которая не дает мне минуты отдыха и досуга, разумеется, кроме порош, которые я не могу пропустить, и травлю».
С нетерпением ожидая выхода первых трех томов романа. Толстой начинает беспокоиться, как бы в последние дни «цензура или типография не сделали какой-нибудь гадости» (письмо к Бартеневу от 8 декабря). Он дает Бартеневу право исключать все то, что тот сочтет опасным в цензурном отношении.
Наконец 17 декабря в «Московских ведомостях» (№ 276) появилось следующее объявление: «Война и мир». Сочинение графа Льва Николаевича Толстого. Четыре тома (до 80 листов). Цена 7 руб.; пересылка за 5 фунтов. Первые три тома выдаются с билетом на четвертый у П. И. Бартенева». Был указан адрес Бартенева.
Толстой дорожил каждым часом для своей работы. Ночью 23 декабря была получена телеграмма от владельца типографии, в которой печаталась «Война и мир». Толстой на другое утро пожаловался на него Бартеневу в таких комически-сердитых выражениях: «Распросукин сын Рис второй раз будит меня в середине ночи. Раз прискакал ночью, а нынче напугал нас с женой ночной телеграммой. Ему нужны деньги для того, чтобы шла его типография, а мне нужен сон для того, чтобы шла моя машина».
13 августа 1867 года П. И. Бартенев, напоминая Толстому в своем письме об обещанной им для «Русского архива» статье, спрашивал его: «Что же Вы мне не присылаете обещанного отрывка о тщете исторических разысканий?»95.
За работу над этой статьей Толстой принялся лишь в первых числах декабря 1867 года, причем представлял себе эту статью в виде предисловия или послесловия к «Войне и миру». 6 декабря он писал Бартеневу: «Немножко задержало меня в работе предисловие, которое я на днях пришлю. Как и куда его поместить? Не назвать ли его послесловием?»
В январе 1868 года «предисловие» было готово и отослано Бартеневу. Статья была напечатана в мартовском номере «Русского
677
архива» за 1868 год под заглавием «Несколько слов по поводу книги «Война и мир». В оглавлении журнала статья была названа так: «Несколько объяснительных слов графа Л. Н. Толстого (по поводу сочинения его: «Война и мир»)». Это заглавие, очевидно, было дано Бартеневым.
В январе были отосланы в набор первые главы пятого тома «Войны и мира».
14 февраля Толстой со всей семьей уехал в Москву. Они сняли квартиру в нижнем этаже дома Секретарева на Средней Кисловке за 250 рублей в месяц.
Фет оставил следующее воспоминание о встречах с Толстым в Москве зимою 1868 года:
«Лев Николаевич был в самом разгаре писания «Войны и мира», и я, знававший его в периоды непосредственного творчества, постоянно любовался им, любовался его чуткостью и впечатлительностью, которую можно бы сравнить с большим и тонким стеклянным колоколом, звучащим при малейшем сотрясении»96.
В первой половине марта вышел четвертый том «Войны и мира». Толстой усиленно работал над пятым томом. «Я по уши в работе», — писал он Т. А. Кузминской в конце апреля97.
М. П. Погодин, у которого Толстой обедал 14 апреля, записал в своем дневнике, что Толстой «хочет писать жизнь Суворова и Кутузова»98. По-видимому, это было одно из многих неосуществленных «мечтаний» Толстого.
10 мая Толстые вернулись в Ясную Поляну.
Весною и летом в Ясной Поляне работа над пятым томом продолжалась не так напряженно, как в Москве, а вскоре и совсем приостановилась. 6 июля Толстой писал Бартеневу: «Я решительно не могу ничего делать, и мои попытки работать в это время довели меня только до тяжелого желчного состояния, в котором я и теперь нахожусь».
Только во второй половине августа Толстой смог по-настоящему приняться за работу. 20 августа он извещал Бартенева: «Я, кажется, опять принимаюсь за работу. Пятый том начал понемногу подвигаться». Но перечитав присланные ему ранее корректуры первых шести листов пятого тома, Толстой остался ими очень недоволен. «Критическое чутье осеннее, — писал он далее в том же письме Бартеневу, — ужасается на то, что я пропустил и напечатал весною. Ужасно плохи эти первые 6 листов»99.
678
Работа над пятым томом затягивалась. П. И. Бартенев начинал терять терпение и говорил, что «пятый том никогда не кончится»100.
В январе 1869 года работа, уже близкая к окончанию, приостановилась вследствие болезни детей. «Дело мое плохо, любезный Петр Иваныч, — с грустью извещал Толстой Бартенева в конце января. — Несмотря на все усилия, не могу ни на шаг подвинуть вперед работу — что досаднее всего — почти конченную... Досаднее всего то, что мне нужно два часа хорошего расположения для того, чтобы поправить одно место, и тогда более 22 листов готовы на пятый том, но этих двух часов нет».
Только 6 февраля были отправлены последние листы рукописи и корректуры пятого тома «Войны и мира». В последних числах февраля том уже вышел из печати.
Первые четыре тома «Войны и мира» имели шумный успех и быстро разошлись. Понадобилось второе издание, которое и было выпущено в октябре 1868 года. Пятый и шестой томы романа вышли в одном издании, отпечатанном увеличенным тиражом.
XIX
Работа над шестым томом «Войны и мира» пошла гораздо быстрее, чем над пятым.
Уже в апреле 1869 года Толстой работает над второй частью эпилога, в которой пытается подробно изложить свои философско-исторические воззрения. Но именно работа над эпилогом и задержала выход в свет последнего тома «Войны и мира». Стремясь довести изложение тех мыслей, которыми он так дорожил, до наибольшей ясности и точности, Толстой вновь и вновь исправлял рукописи и корректуры. «Шестой том, — писал он Фету 30 августа, — который я думал кончить четыре месяца тому назад, до сих пор, хотя весь давно набран, не кончен».
Напряженные размышления о судьбах человечества, о роли личности в истории, о значении разума в человеческой жизни, изложенные Толстым в эпилоге к «Войне и миру», вызвали в нем желание заняться изучением философских систем разных мыслителей. Летом 1869 года Толстой, по словам его жены, «читал и занимался философией, восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз»101.
Начало чтения Толстым Шопенгауэра относится к 1868 году. Американский консул Евгений Скайлер, пробывший в Ясной
679
Поляне с 14 по 21 сентября 1868 года, рассказывает в своих воспоминаниях, что Толстой в то время «очень восхищался» Шопенгауэром102. Фета, который посетил Ясную Поляну в первые месяцы 1869 года, Толстой расспрашивал о Шопенгауэре. Фет, в то время очевидно недостаточно знакомый с работами этого философа, сказал Толстому, что Шопенгауэр «так себе кое-что писал о философских предметах»103.
Летом 1869 года Толстой пристально занялся изучением философии Шопенгауэра. 30 августа он писал Фету:
«Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? — Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето.
Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей... Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении.
Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его?
Мы бы издали вместе»104.
Толстой достал портрет Шопенгауэра и повесил его в своем кабинете.
Не входя в подробное рассмотрение сложного вопроса об отношении между философией Шопенгауэра и философскими воззрениями Толстого105, можно считать несомненным, что основное начало философии Шопенгауэра — пессимизм — не оказало никакого влияния на миросозерцание Толстого. Если Толстой в то время испытывал временами мрачное настроение, то оно вызывалось частными причинами и отнюдь не носило характера отрицания жизни или признания зла основным началом человеческого существования. Позднее Толстой неоднократно высказывался отрицательно о пессимизме Шопенгауэра. Такие высказывания находим в его «Исповеди» (1882); о том
680
же он 22 февраля 1889 года писал Э. Роду в следующих выражениях:
«Пессимизм, в особенности, например, Шопенгауэра, всегда казался мне не только софизмом, но глупостью и вдобавок глупостью дурного тона... Мне всегда хочется сказать пессимисту: «Если мир не по тебе, не щеголяй своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим»106.
XX
Лев Николаевич, писала далее Софья Андреевна в той же записи 14 февраля 1870 года, вспоминая лето 1869 года, «много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа».
Иногда напряженное душевное состояние переходило в мрачное настроение, и Толстой говорил, как пишет его жена, что «для него все кончено, умирать пора и пр.». Об ожидании смерти Толстой в августе написал единственному из своих друзей, который мог понять это его настроение — А. А. Толстой. К сожалению, ни его письмо, ни ответное письмо А. А. Толстой до нас не дошли, и содержание их известно только из письма Софьи Андреевны к Толстому от 4 сентября: «Получила письмо к тебе от Александрии из Ливадии, писанное в день твоего рождения, — писала Софья Андреевна. — Она тебе много нежностей пишет, и мне досадно. Поет на мотив твоего последнего к ней письма и твоего последнего настроения — приготовления к смерти»107.
Это мрачное настроение явилось у Толстого, надо полагать, вследствие крайнего умственного переутомления, после напряженнейшей творческой работы многих лет. Ему было необходимо отвлечься от беспокоивших и волновавших его мыслей.
Он прочел в газете объявление о продаже в Пензенской губернии имения, которое его заинтересовало, и решил съездить осмотреть это имение и узнать условия продажи. У него были свободные деньги, полученные за «Войну и мир».
31 августа Толстой выехал по железной дороге в Москву и оттуда в Нижний Новгород, куда приехал 2 сентября. Отсюда предстояло проехать до места на лошадях 331 версту. Толстого сопровождал молодой слуга С. П. Арбузов, который оставил свои воспоминания об этой поездке108.
681
2 сентября Толстой ночевал в гостинице в городе Арзамасе, Здесь он пережил необыкновенно тревожное и мучительное душевное состояние, о котором через два дня писал жене:
«Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи».
В середине 1880-х годов Толстой описал пережитое им в Арзамасе душевное состояние в незаконченном автобиографическом рассказе «Записки сумасшедшего». Вот что читаем в этом рассказе:
«...Мы решили ехать, не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» пришло мне вдруг в голову. Не то, чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся; я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Всё ему было хорошо и весело, а мне всё было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но, кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидать людей, напиться чаю, а главное, заснуть — легче будет.
Мы подъезжали к городу Арзамасу.
— А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?
— Что ж, отлично.
— Что, далеко еще до города?
— От той версты — семь...
Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там всё пройдет. Ехали-ехали
682
в темноте, ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие, белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха — лечь. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку.
Сергей бойко, живо вытаскивал, что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел, был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке, — пятно это мне показалось ужасным, — показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, еще жутче мне стало.
— Нет ли комнатки, отдохнуть бы?
— Есть нумерок. Он самый.
Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что, когда я очнулся, никого в комнате не было, и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? — Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться — и не могу. Не могу уйти от себя.
Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило всё. Мне так же, еще больше страшно было.
— Да что это за глупость? — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь?
— Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут.
Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь — и, вместе с тем, совершающуюся смерть. И это
683
внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, — всё говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть.
Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но всё это стало ничто. Всё заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, — такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части, и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть, всё тот же ужас — красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало.
Что меня сделало? Бог, говорят. Бог... Молиться, вспомнил я... Я стал молиться: «Господи, помилуй», «Отче наш», «Богородицу». Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, — развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше».
Возможно, что это описание не является вполне точным воспоминанием пережитого, что в известной степени оно окрашено настроением Толстого середины 1880-х годов, что некоторые подробности внесены ради художественных целей. Однако написанное незадолго до «арзамасского ужаса» письмо к А. А. Толстой с мыслями о смерти и совпадение подробностей поездки дают основание полагать, что нечто общее между душевным состоянием Толстого в арзамасской гостинице в ночь на 3 сентября 1869 года и рассказом героя «Записок сумасшедшего», несомненно, было. У Толстого надолго осталось в памяти все пережитое им в эту тревожную ночь. Больной, отправившись на кумыс в Самарскую губернию с шурином С. А. Берсом, он 14 июня 1871 года писал жене: «Степа мне полезен, и я чувствую, что с ним арзамасской тоски не сделается».
4 сентября Толстой приехал в Саранск, откуда писал жене: «Одно хорошо: что мыслей о романе и философии совсем нет».
В том же письме Толстой писал, что, начиная от Нижнего
684
Новгорода на расстоянии двух третей всего пути, — «песчаный грунт, прекрасные мужицкие постройки вроде подмосковных». Такой характер местности был Толстому не по душе. Но ближе к Саранску начался чернозем, «похожее все на Тулу, и очень живописно».
Вероятно, в тот же день Толстой доехал до усадьбы, где жил управляющий имением. Имение находилось в селе Ильмине Городищенского уезда (ныне Большевьясский район). Толстой пробыл в Ильмине сутки, осматривал землю и лес.
Из Ильмина Толстой проехал в имение Николо-Пестравку, расположенное в тридцати верстах и принадлежавшее его дальней родственнице А. П. Бахметьевой, урожденной графине Толстой. Здесь Толстой осмотрел хрустальный завод.
Покупка имения почему-то не состоялась. Обратно Толстой поехал другой дорогой — через Моршанск. У него осталось приятное воспоминание о поездке по Пензенскому краю. «Сосновые леса, старые сосны с длинными стволами и короткими макушками, — вспоминал он в 1906 году. — Земля черная с камушками, — та самая, которую Микула Селянинович пахал сохой («по камушкам поскребывал»). И народ такой селяниновский. Глушь. Там река Сура, лучшая стерлядь»109.
В Ясную Поляну Толстой вернулся около 14 сентября. Его ожидали корректуры (уже не первые) второй части эпилога.
В октябре работа была закончена. 21 октября Толстой извещал Фета: «Шестой том я окончательно отдал, и к первому ноября, верно, выйдет».
Наступило время отдыха после многолетней трудной работы: «Для меня теперь самое мертвое время, — писал Толстой Фету в том же письме: — не думаю и не пишу и чувствую себя приятно глупым».
В начале декабря 1869 года шестой том «Войны и мира» вышел из печати.
Великое творение было закончено110.
XXI
Вспоминая время своей работы над «Войной и миром» больше чем через три года по окончании романа, Толстой писал, что своей работой он увлекался «от всей души и думал, что кроме этого нет ничего»111.
685
Силой и продолжительностью увлечения этой одной работой объясняется то, что Толстой в этот период перестает вести дневник (последняя запись была сделана 10 ноября 1865 года) и письма пишет главным образом деловые (о печатании «Войны и мира», о семейных и хозяйственных делах и т. п.). Вследствие этого мы очень мало знаем об интеллектуальной жизни Толстого за это время, помимо того, что рассказано им самим в «Войне и мире». Некоторое представление о чтении Толстого за этот период и его мнениях о прочитанных книгах дают только скудные записи его дневника за 1863—1865 годы и некоторые письма.
Из писем Толстого к Фету мы узнаем, что Толстой следил за новыми произведениями Тургенева, но относился к ним отрицательно. Так, 7 октября 1865 года Толстой писал Фету: «Довольно» мне не понравилось. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания». Также не понравился Толстому и «Дым», о котором он высказался в письме к Фету от 28 июня 1867 года, служащем ответом на письмо Фета от 15 июня того же года, в котором Фет писал:
«Читали вы пресловутый «Дым»? У меня одна мерка. Не художественно, не спокойно, — дрянь. Форма. Сам с ноготь, борода с локоть. Борода состоит из брани всего русского, в минуту, когда в России всё старается быть русским. А тут и труженик честный посредник представлен жалким дураком, потому что не знает города Нанси. В России де всё гадко и глупо и всё надо гнуть насильно на иностранный манер. На этом основании и дурак Литвинов изучил иностранную агрономию, чтобы ему, дураку, применять ее в своем имении. — Ясно, осел. Не всё ли это равно, что под русскую брыкуху запрягать паровоз? Этого мало. Между всеми русскими негодяями и дураками — оказывается порядочный герой, истосковавшийся по аристократическому кругу, который будто бы презирает, и бросающий женщину, которую будто бы уважает и любит, только из-за того, что нанюхался волос женщины, которую с детства знает и признал окончательно для себя непригодной. Мало того — этому краеугольному камню русских порядочных людей (в глазах автора) ни разу и на ум не пришло, что женщина, которую он сманывает — жена другого, имя которого она носит, и т. д. Неужели это прогресс? Мужики за это оглоблей бьют. Порядочные люди борются насколько сил хватает, а жулики-прогрессисты об этом не думают. В чем же, спрашивается, гражданский подвиг рассказа — (литературный в уродстве и несообразности целого)? Очевидно, что главная цель умилостивить героев «Русского слова» и т. п., которые так взъелись на автора за «Отцов и детей». Эта цель достигнута, к стыду
686
автора. — Вот почему мне грустно — и я не пишу к Тургеневу. Что я буду писать? И в том, и в другом случае я вижу один и тот же мотив — эгоистическое чесание (извините за выражение) — избалованного пупка. — Но по-моему так не должен жить человек, кто бы он ни был. Этим не растет ни народ, ни государство, ни общество. — А наша дура критика сидит, разиня рот, и не понимает, в чем дело... Всё сказанное о «Дыме» — я не говорил бы, если бы не было внушительного тона. Если бы автор просто рассказывал, я бы сказал: «Да! и это бывает». Мало ли что бывает на свете! Но когда мне бессовестного глупца рекомендуют в идеалы для подражания, тогда я низко кланяюсь и говорю: «Что ж! дай бог вам — но только не мне». Человек только потому не зверь, что он человек — и эгоизма проповедывать нечего, когда его ежедневно трубой легионов архангелов проповедует природа»112.
Толстой отвечал Фету:
«Я про Дым думаю то, что сила поэзии лежит в любви — направление этой силы зависит от характера. — Без силы любви нет поэзии; ложно направленная сила — неприятный, слабый характер поэта — претит. В Дыме нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна. Вы видите, это то же, что вы пишете».
Судя по «Дыму», Толстому казалось даже, что Тургенев «кончил» свою литературную деятельность. Относительно себя Толстой уверен, что его «черед» перестать быть писателем «никогда не придет». В том же он уверен и относительно Фета, несмотря на то, что поэтический поток, которым владеет Фет, «ушел в землю». (Фет в те годы писал очень мало).
Отношение Толстого к Фету как к поэту ярко выразилось в письме к нему, написанном в мае 1866 года. Здесь Толстой говорит, что с наступлением весны он много раз вспоминал стихотворения Фета, посвященные весне. «И «кругами обвело», и «верба пушистая», и «незримые усилья» — несколько раз прочлись мне, который не помнит стихов», — писал Толстой. (Он имел в виду стихотворения Фета: «Опять незримые усилья...» и «Уж верба вся пушистая...».)
Высоко ценя Фета как поэта, Толстой в то же время продолжал считать его близким себе по натуре человеком, во многих письмах выражал желание видеться с ним и приглашал его к себе. «Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопившееся», — писал Толстой Фету 30 августа 1869 года.
Одно из ярких проявлений этой родственности натур своей
687
и Фета Толстой видел в следующем рассуждении Фета, написанном им в письме от 28 февраля 1867 года, вскоре после посещения Ясной Поляны:
«Как жаль, что я не узнал от вас, умно ли ваше сердце или нет? У вас умная голова, но мне вы человек дорогой и мне этого мало. — Все доказательства, умные и глупые, только орудия ума сердца, то есть внутренней суммы убеждений — аксиом — а ум головной только к услугам сердца, чтобы наилучшим образом отстоять то, чего желает сердце. Бывает сердце тупое, а голова отличная — Руссо. Бывает сердце умное, а голова дура — легион — «их же имена ты веси, господи». Бывает сердце орел — голова орел — Гёте. Или книга, которую я читаю: «Blücher, Seine Zeit und sein Leben» von d-r Johannes Scherr [«Блюхер, его время и жизнь» Иоганна Шерра] — голова отличная — умница — сердце — и подлец — и тупица»113.
На это письмо Толстой с большим опозданием ответил 28 июня: «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. Ум ума и ум сердца — это мне многое объяснило)».
Мысль, выраженная Фетом в этих словах, действительно была вполне родственна Толстому. Еще в первой редакции «Детства», написанной в 1851 году, Толстой различал то, что пишется «из сердца», и то, что пишется «из головы»114. Много лет спустя Толстой повторил ту же мысль в записи дневника 14 апреля 1895 года: «Есть сердечная духовная работа, облеченная в мысли. Эта настоящая, и эту любит Сережа [брат] и я, и все понимающие. И есть работа мысли без сердца, а с чучелой вместо сердца, это то, чем полны журналы и книги»115.
Можно думать, однако, что «родственность натур» его и Фета представлялась Толстому более близкой, чем она была в действительности. Его встречи с Фетом были очень редки и непродолжительны. Если бы эти встречи происходили чаще к были более продолжительны, то, вероятно, и Толстой и Фет убедились бы, что в основных взглядах на жизнь между ними уже в то время существовало большое различие и что настоящими друзьями они быть не могут.
Из произведений иностранных писателей Толстой, как это видно из его дневника 1865 года, читал роман Диккенса «Наш: общий друг» и роман Троллопа «The Rertrams». Диккенс всегда вызывал восхищение в Толстом. Что же касается Троллопа, то относительно него в дневнике записаны два, не вполне согласные
688
между собой, отзыва. «Троллоп убивает меня своим мастерством, — писал Толстой 2 октября. — Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое». На следующий день: «Кончил Троллопа. Условного слишком много». Впоследствии, однако, Толстой отметил, что романы Троллопа произвели на него «большое» впечатление116.
Роман Жорж Санд «Consuélo» вызывает со стороны Толстого следующее резко отрицательное суждение: «Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали. Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами» (дневник 23 сентября 1865 года).
В 1866 году Толстой перечитывал «Дон-Кихота» Сервантеса, читал Гёте и прочел «всего» Виктора Гюго, как писал он Фету в мае того же года. Гюго, по мнению Толстого, это не то, что «Байроны и Вальтер-Скотты», «он всегда и у всех останется». Особенно понравились Толстому критические статьи Гюго. «Все, что у нас об искусстве лет десять тому назад, — писал он, — да и теперь, пожалуй, пересуживается à tort et à travers [вдоль и поперек], тридцать лет тому назад высказано им, да так, что нельзя слова прибавить и слова выкинуть».
Толстой еще в 1863 году читал «Les misérables» [«Отверженные»] Гюго и нашел, что написано «сильно» (запись в дневнике 23 февраля 1863 года). Согласно позднейшему свидетельству Толстого, роман этот произвел на него «огромное» впечатление. «Очень большое» впечатление произвел на него другой роман Гюго — «Notre Dame de Paris» [«Собор парижской богоматери»], прочитанный им еще ранее117.
Толстой не следил и не считал нужным следить за текущей литературой. Об этом он определенно заявил в письме к М. П. Погодину от 7 ноября 1868 года в ответ на письмо Погодина с приглашением участвовать в его газете «Русь». Отказавшись за неимением времени участвовать в газете, Толстой делится с Погодиным появившимся у него в последнее время фантастическим проектом непериодического издания, озаглавленного «Несовременник», характер и содержание которого определялись его названием.
Это издание, если бы оно осуществилось, как полагал Толстой, было бы прямо рассчитано на неуспех не только в год его выхода в свет, но и на протяжении всего девятнадцатого столетия; оно могло бы рассчитывать «на хотя не успех, но на читателей» лишь «в двадцатом и дальнейших столетиях». В издании были бы следующие отделы: «История, философия истории и грубые
689
матерьялы истории. Философия естественных наук и грубые матерьялы этих наук, — не тех наук, которые могли бы служить для практической цели, но тех, которые служили бы к уяснению философских вопросов. Математика и ее прикладные науки — астрономия, механика. Искусство — несовременное. И всё». Исключены были бы из издания «критика, полемика, компиляция, то есть непроизводительный задор и дешевый и гнилой товар для бедных умом потребителей».
Непоследовательность этого проекта бросается в глаза. Ни «грубые матерьялы истории», ни математика, ни астрономия, ни механика, ни «грубые матерьялы естественных наук» не могли быть причислены к тем научным дисциплинам, которые были обречены на неуспех в девятнадцатом столетии и должны были дожидаться двадцатого столетия для своего признания. Напротив, естественные науки, как известно, именно в 1860-х годах были особенно популярны.
Ясно, что эти «мечтания» Толстого не имели серьезного значения в его собственных глазах.
XXII
В архиве Толстого сохранилось несколько набросков философского содержания, относящихся к периоду создания «Войны и мира».
Один из этих набросков первоначально был озаглавлен «Можно ли доказывать религию»; затем это заглавие было зачеркнуто, и отрывок был назван просто «О религии»118.
Время написания отрывка совершенно точно определяется записью дневника Толстого от 16 октября 1865 года: «Читал Гизо-Витт119 — доказательства религии и написал первую статейку по мысли, данной мне Montaigne». Из записи дневника видно, что Толстой перечитывал в то время «Опыты» знаменитого Мишеля Монтеня, которого всегда ставил очень высоко.
Этот набросок интересен тем, что выражает скептическое отношение Толстого к религии в первую половину 1860-х годов.
Приверженцы религии, говорит Толстой, утверждают, что вовсе века всему человечеству представлялся вопрос: «Что я? Зачем я живу? Что будет после смерти? Сам ли независимо явился я и живу или кто меня сделал и управляет мной? Случайность ли управляет событиями или есть в них мысль и власть высшая, и есть ли связь между мною и этой высшей властью, и могу ли я просить ее — молиться?»
690
На это, говорит Толстой, можно возразить, что ссылка на всё человечество неосновательна, потому что всё человечество есть нечто «совершенно непостижимое»; что не все люди и не всегда ставили и ставят себе такие вопросы, и многие, если и ставят их, то «вопросы эти успокаиваются страстью, увлечением, трудом и привычкой удалять их». Кроме того, участь и верующих и неверующих одинакова: верующие испытывают «темное чувство сомнения» в своей вере, неверующие «взамен успокоительных ответов» религии обладают «гордым сознанием того, что человек сам себя не обманывает». «Религия сама по себе не есть истина, так как религий много есть, было и будет». Религия это только «произведение человеческого ума, отвечающее на известную склонность».
Небольшая заметка, озаглавленная «Прогресс»120, имеющая на одной странице две различные даты — 2 ноября 1868 года и 9 ноября 1869 года, была вызвана чтением книги В. Прескотта «Завоевание Перу». Толстой еще в первой молодости, как было указано в своем месте, читал книгу того же автора — «Завоевание Мексики». Замечательно это постоянство интереса Толстого на протяжении всей его жизни к истории порабощения колониальных народов европейскими и американскими государствами.
В своей заметке Толстой останавливается на замечании Прескотта, что перуанцы «не знали главного двигателя: личного интереса обогащения». Толстой на это возражает: «Да награда труда в труде, а не в богатстве... Они были впереди Северо-Американских Штатов».
Далее Толстой вкратце касается вопроса об отношении власти и свободы. Написав и зачеркнув: «Власть и свобода граждан — две несовместимые силы», — Толстой говорит: «То, что называют свободой, есть только разветвление власти». Здесь под словами «свобода» и «разветвление власти» Толстой, очевидно, понимал западноевропейские формы политического строя — конституционный и республиканский образы правления. «Для успеха рода человеческого, — говорит Толстой, — та же преграда в деспотизме, как и в так называемой свободе», то есть в «разветвлении власти (собственность есть власть)». Здесь под собственностью, дающей власть, Толстой разумел, конечно, крупную частную собственность и прежде всего — крупную земельную собственность.
«Настоящая свобода неотъемлема» — такими словами заканчивает Толстой этот пункт своих рассуждений, разумея под «неотъемлемой свободой» свободу внутреннюю — по его позднейшей терминологии.
691
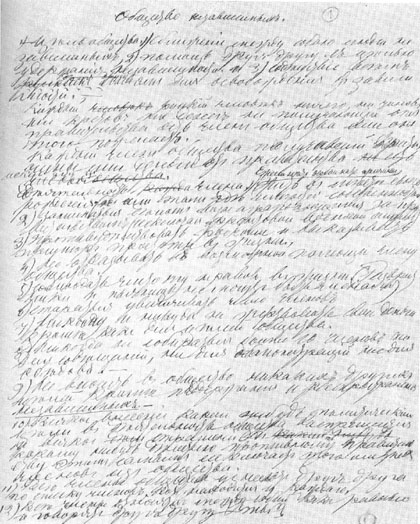
Проект устава «Общества независимых».
1868 г.
692
Далее Толстой конспективно излагает свои взгляды на прогресс в области техники и политического устройства, повторяя в общих чертах то, что было сказано им в 1862—1863 годах в статье «Прогресс и определение образования». По его мнению, прогресс в виде «свободы граждан», развития кредита и путей сообщения «есть эксплуатация бедных и будущих». Все это «ни на волос не прибавляет настоящего блага». «Книгопечатание — непроизводительная работа». «Идеал настоящий — есть жизнь — занятия — продолжение рода, увеличение искусства, рода человеческого, знания, труда людей».
В архиве Толстого сохранился также черновик проекта устава «Общества независимых», набросанный им в 1868 году121. Целью этого общества Толстой предполагал сделать «сближение между собой людей независимых, помощь их друг другу с целью удержания независимости и содействие всем русским людям для освобождения от зависимости». Членом общества мог быть, «если он того пожелает», «каждый русский человек, ничего — ни чинов, ни крестов, ни денег — не получающий от правительства». Общество не должно было преследовать «какой-нибудь политической цели», предписывая своим членам лишь обязательность некоторых правил личного поведения; однако в проекте отразилось резко критическое отношение Толстого в тот период к государству и «власти».
Проект этот не получил и, в условиях царской России, не мог получить осуществления.
Если упомянуть еще о незаконченной заметке на тему о браке и призвании женщины (по поводу предисловия Тургенева к переводу романа Ауэрбаха «Дача на Рейне»122, тесно примыкающей по своему содержанию к взглядам Толстого, изложенным в «Войне и мире», а также письме в редакцию газеты (не названной) о бесчинствах тульской полиции, написанном 14 апреля 1867 года, но оставшемся не посланным и не напечатанным123, то этим будет исчерпано содержание всех сохранившихся в архиве Толстого рукописей, несомненно относящихся к периоду создания «Войны и мира».
693
Глава тринадцатая
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
«ВОЙНЫ И МИРА»
I
История происхождения «Войны и мира» рассказана Толстым в черновом предисловии к «Тысяча восемьсот пятому году»1.
По словам Толстого, еще в 1856 году, в год возвращения декабристов из ссылки, он начал писать повесть о декабристе. Повесть была начата с описания возвращения декабриста из Сибири в Москву. В процессе работы, обдумывая историю молодости своего героя, Толстой увидел необходимость начать повесть с изображения восстания декабристов, и написанное начало было оставлено.
Потом хронологические рамки начала повести были отодвинуты еще дальше — ко времени первой молодости героя, которая «совпадала с славной для России эпохой 1812 года». «Я другой раз бросил начатое, — рассказывает Толстой, — и стал писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно».
Но и это начало было оставлено уже по совершенно особой причине. «Мне совестно было, — говорит Толстой, — писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о двенадцатом годе? Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений».
И произведение было начато с описания первой неудачной войны с Наполеоном в 1805 году.
694
Этот рассказ Толстого возбуждает большое сомнение.
Во второй половине 1856 года (манифест о возвращении декабристов был издан 30 августа 1856 года) Толстой почти ежедневно вел подробный дневник, в котором отмечал и замыслы и начатые работы. Ни малейшего намека на повесть о декабристе ни в дневнике Толстого, ни в письмах его за этот год мы не находим. Начало романа о декабристе, как это сказано было выше, совершенно точно датируется последними месяцами 1860 года. К 1856 году может относиться только замысел романа (или повести) о декабристе, но не начало работы.
Равным образом слова Толстого о том, что во второй раз он начал свое произведение с описания восстания 1825 года, нельзя понимать в буквальном смысле. Крайне сомнительно, чтобы такое начало было когда-либо написано Толстым. Никаких ни планов, ни рукописей этого начала не сохранилось. По-видимому, все дело ограничилось усердным обдумыванием нового замысла.
Все имеющиеся данные говорят совершенно определенно о том, что к роману о декабристе, начатому в 1860 году, Толстой больше не возвращался, и что будущая «Война и мир» была начата в 1863 году. Выше была приведена выдержка из письма С. А. Толстой к Т. А. Берс от 25 февраля 1863 года о том, что «Лева начал новый роман», и сообщение самого Толстого в письме к тетушке Александре Андреевне от конца октября того же года о том, что «с осени» он поглощен работой над «романом из времени 1810-х и 20-х годов». Первое упоминание, при всей его неопределенности, вряд ли может относиться к какому-либо другому произведению, кроме будущей «Войны и мира».
Определение Толстым в письме к А. А. Толстой хронологических рамок его романа временем 1810—1820-х годов говорит, во-первых, о том, что замысел романа о декабристе еще не оставлен, и, во-вторых, о том, что у автора еще нет мысли начать роман с описания событий 1805 года.
II
В первой хронологически из сохранившихся в архиве Толстого рукописей, относящихся к «Войне и миру»2, роман начинается словами: «В 11 году у старого князя Волхонского гостит молодой Зубцов». Но это начало было тут же зачеркнуто автором и заменено другим: «Были два брата и две сестры Мосальских. Старший брат Аркадий умер, оставив вдову умную, чопорную и одного сына Бориса, чистого, глуповатого рыцаря красавца. Другой брат в 11 году был министром и имел двух сыновей:
695
Ивана гордеца (mordant), дипломата, и Петра кутилу, сильного, дерзкого, решительного, непостоянного, нетвердого, но честного».
Далее это сжатое начало превращается уже в краткий конспект задуманного Толстым произведения. В конспекте упоминаются умершая дочь министра, бывшая замужем за князем Волконским, и старый князь Волконский, «гордый, дельный, разумный и богач». У него дочь — «старая дева, спасающаяся самоотвержением, даровита, музыкантша, поэтическая, умная и аристократка, недоступная пошлости житейской». Далее — «глупый, добрый» граф Толстой, кузен и друг детства вдовы князя Аркадия Мосальского. У него «даровитый, ограниченный» сын Николай и три дочери: «старшая, блондинка, Лиза, умна, хороша, дисграциозна, заботлива; вторая — Александра, веселая, беззаботная, любящая, и третья — Наталья, грациозный, поэтический бесенок». Затем сестра графа Толстого (имя не названо) и ее сын Анатоль, «молодой пройдоха». Наконец Илья (фамилия не названа), «единственный сын, богач, кроткий, умница», женатый на развратной женщине, брат его жены, «дурак» светский», нечаянно делающий карьеру, и Берг, «ловкий немец», особенно успешно продвигающийся по службе.
По ходу романа Берг женится на Александре, Борис — на Наталье, Иван — на Лизе, Петр — на кузине.
Как видим, в этом конспекте намечается ряд лиц, позднее действительно изображенных в «Войне и мире». Таковы министр — будущий князь Василий, старый князь Болконский и его дочь, старый граф Ростов (в конспекте — Толстой) и его две дочери (в конспекте — три), Анатоль Курагин, Берг, Пьер Безухов (в конспекте — Илья) и Элен. «Грациозный, поэтический бесенок» — это, конечно, будущая Наташа Ростова.
III
Через некоторое время Толстой на нескольких страницах пишет подробные характеристики главных действующих лиц задуманного романа3. Характеристики даются по определенной схеме: «имущественное, общественное [положение], любовное, поэтическое, умственное [отношение], семейство». Затем следует перечисление событий, случившихся в жизни каждого героя в промежуток времени с 1811 по 1813 год.
Первой дается характеристика Бориса Мосальского, многими чертами напоминающего князя Андрея окончательного текста. Он честолюбив, тверд в исполнении долга, постоянен в любви, много читает, отлично говорит на иностранных языках, «либерал»,
696
обожает Наполеона. В войне 1812 года он, отличившийся еще раньше в войне с Турцией, получает важное назначение. Он влюблен в свою невесту Наталью, но, отправляясь в поход, прощается с нею, как с чужой. Во время отступления от Вильны Борис, теперь уже полковой командир, «все забывает под влиянием чувства долга». Тут же автор намечает изобразить особый вид храбрости «французскую храбрость». Незадолго до Бородина Борис узнает об измене невесты. В ночь накануне сражения он встречается с двоюродным братом Петром. «Петр весь раскрылся и говорит, что он простил бы, и плачет. Он влюблен в Наталью и чернил себя». Под Бородиным Борис, потрясенный изменой невесты, «без фраз уже хочет умереть». «Он все забывает — блеск, славу сражения и вдруг — пуля, и несут в мир гноя, пыли, грабежа». В госпитале он «всем и всё прощает». «Его везут в Москву и на их подводах в Нижний». Наталья его избегает, но он «притащился» к ней и, хотя она не хочет его слушать, со слезами говорит, что прощает. «Он другой человек». Но Борис не умирает, как князь Андрей в окончательном тексте, он выздоравливает, и в Нижнем-Новгороде происходит его свадьба с Натальей.
Возможно, что впоследствии Борис, по замыслу автора, должен был вступить в ряды декабристов и сделаться одним из главных героев романа.
Далее следует характеристика Петра Мосальского, который во многом напоминает Долохова, хотя его психология гораздо сложнее, чем психология Долохова. Он «жесток и добр до бесконечности», не знает чувства долга, «умеет обманывать легко и смеется», «связи презирает, всё сам», «презирает женщин» и не любит женского общества, «любит быстро, страстно и тотчас же ненавидит, кого любил»; когда бывает влюблен, то все забывает ради успеха; «в дружбе тверд». Он «не признает [существующего] порядка вещей» и «страстно любит Россию». «Все быстро понимает, красноречив во всех родах, видит далеко, философ такой, что себя пугается, о бессмертии говорит часто и мучим [этим] вопросом».
В обзоре жизни Петра с 1811 по 1813 годы сказано, что он дрался на дуэлях, проиграл все свое состояние, пытался покончить с собой, вступал в связи с женщинами, делал предложение княжне Волконской, которая вызвала его уважение («вы одни не поддались мне»), вновь играл в карты и «шулерничал». С начала войны идет в ополчение, становится партизаном и «делает чудеса». Накануне Бородинского сражения получает письмо от княжны Волконской с согласием на его предложение, но отказывает ей. «Отдает все и имеет цель революцию и работает, как вол, за солдат». «Строгость к себе. Он и она самоотверженно вместе».
697
Далее дается характеристика Аркадия (которого нет в первом кратком конспекте); образ его во многом совпадает с образом Пьера Безухова. Это человек «тактичный, добродушный», со всеми в дружеских отношениях, «честолюбия и тщеславия никакого», «крайний либерал в мысли и в жизни», «не знает любви к женщине», «литературу любит и понимает», «любит забыться, выпить, поздно сидеть и болтать», «очень тонко умен», «Наполеона презирает». Семейное положение Аркадия почти такое же, как Пьера — у него развратная жена. В 1812 году Аркадий вступает в ополчение, «не знает, зачем». «Храбр, но бестолков, и никому никакой пользы».
Характеристика Берга вполне соответствует облику этого персонажа в «Войне и мире». Берг «скуп, расчетлив, не понимает другого порядка, как настоящий, достойно пролазлив», выше всего ставит формальное исполнение долга, не испытывает любви к женщине и женится только потому, что «жена и в физическом и в общественном смысле нужна», не понимает никакой поэзии, «кроме поэзии правильности и порядка», «логично очень умен, образован в том, что нужно для успеха», «не пропускает ни одного случая», чтобы продвинуться по службе, «хороший отец».
Затем — муж и жена Толстые. Как сказано в главе о предках Л. Н. Толстого4, это точные портреты его деда графа Ильи Андреевича и бабки Пелагеи Николаевны. Их сын Николай во многом напоминает отца автора. Николаю Толстому свойственны «такт, веселость, всегдашняя любезность», у него «все таланты понемножку». Он «ограничен, отлично говорит пошло» (то есть так, как принято в обществе), «страстен по моде» (то есть выражает свои чувства по общепринятому шаблону), «никого не любит крепко, маленькая интрига, маленькая дружба». На войне Николай «ведет себя не слишком хорошо, тщеславно, говорит фразы пленному и отдает ему хлеб, нужный его денщику».
При дальнейшей работе над романом Толстой в образах старого графа и графини Ростовых и их сына Николая значительно отступил от их прототипов.
Далее даются характеристики двух дочерей графа Толстого, но это не дочери графа Ильи Андреевича, Пелагея Ильинична и Александра Ильинична, тетки Льва Николаевича, а это две сестры Берс, старшая и младшая. Старшая сестра фигурирует под своим именем Лизы (в окончательном тексте романа ее зовут Вера). Она «корыстолюбива, чопорна, горда, в душе робка, нелюбима, тщеславна», не понимает никакой поэзии, кроме нарядов, «умна логично, много знает и читала, любит судить и удивляется,
698
что ее умное не выходит умным5. Никого не любит, но расчувствоваться умеет при всяком случае». В восемнадцать лет «начинает изнывать в девичестве, кидает сети напрасно, завидует сестре. Ловит Берга почти обманом».
Ее сестра Наташа пятнадцати лет «капризна, и всё удается, и всех тормошит, и всеми любима, честолюбива», «до безумия чувствует» музыку, «вдруг грустна, вдруг безумно радостна», «глупа, но мила, необразована, ничего не знает», но всегда умеет скрыть это, чувствует потребность в замужестве, «ей нужно детей и любовь». Черты будущей Наташи Ростовой совершенно отчетливо выступают в этом портрете.
Кроме двух дочерей, у Толстых живет их воспитанница Соня, в которой легко узнать черты воспитанницы графа И. А. Толстого, Т. А. Ергольской. Соня «щедра и скупа, застенчива, жива, всегда весела, любима», «ясна, кротка, но недалека и не судит, молчалива», «восторженность то музыки, то театра, то писатель», любит своего кузена Николая, «радуется его успехам на бале». За Соней следуют Саша, меньшой брат, тринадцати лет, «добрый, пузан», в окончательном тексте Петя Ростов, и гордый аристократ Иван Куракин, отсутствующий в окончательном тексте романа. Далее Анатоль — будущий Борис Друбецкой. Он «беден, в долгу, но умеет тянуться за аристократией кости, низкопоклонен, умея скрыть низкопоклонство в виде развязности», «бездарен, ничтожен, как по уму, так и по жизни».
Старый князь Волконский отличается от старого князя Болконского только неприязненным отношением к сыну. Дочь старого князя в основном та же княжна Марья окончательного текста. Старый князь, екатерининский вельможа «в немилости, переносит гордо и достойно, любит одну дочь», понимает только одну поэзию — «порядка, гармонии». Он умен, любит строиться, под старость («бес в ребро») увлекается компаньонкой дочери. В 1812 году «ничего не хочет делать, разорять, и вдруг делает больше всех». Его дочь «презирает все вещественное, всеми любима и vénérée [уважаема], нежна и ласкова, все и всех любит христиански, отлично играет и любит музыку мистически, умна, тонкий поэтический ум», «лелеет отца, играет, поэтизирует», любит Петра, хотя и отказывает ему сначала. В войну ухаживает за ранеными и дает согласие Петру.
Конспект заканчивается характеристиками трех женских образов. Это, во-первых, жена Аркадия — будущая Элен Безухова, но еще более резко очерченная. Она тактична, всем улыбается,
699
«ничего не любит, одна чувственность», «глупа совершенно», выйдя замуж, «ищет любовника», «всегда побеждает мужа цинизмом глупости», «заманивает Бориса и Петра», вступает в связь с царем, с Бергом. Муж бросает ее, но она «считает себя чистой». После вступления французов в Москву вступает в связь с французским генералом.
За женой Аркадия (имя ее не названо) следуют жена Берга, очень напоминающая маленькую княгиню окончательного текста и также умирающая родами, и мать Бориса, напоминающая княгиню Друбецкую «Войны и мира».
На этом первый подробный конспект будущей «Войны и мира» заканчивается.
Рассмотрение содержания конспекта приводит к следующим выводам:
1. По этому конспекту действие задуманного романа было приурочено к 1811—1813 годам. Описание войн Александра I с Наполеоном 1805—1807 годов первоначально не входило в намерения автора.
2. Конспект содержит подробные характеристики действующих лиц и перечисление событий их жизни за указанный период, но не дает последовательного и полного развития сюжета. Очевидно, Толстому на этой предварительной стадии работы всего важнее было выяснить для самого себя облик действующих лиц задуманного романа и их отношение к войне 1812 года. Что же касается до развития фабулы, то оно в этот период, по-видимому, было еще не вполне ясно автору.
3. Исторический замысел присутствовал с самого начала в планах романа. Почти все мужские персонажи участвуют в войне 1812 года, причем в конспекте указывается и отношение многих из них к Наполеону («обожает», «ненавидит», «не знает, хвалить или ругать», «презирает», «уважает»). Большинство женщин также в той или иной степени захвачены круговоротом военных событий.
4. Сравнение конспекта с окончательным текстом романа показывает, что данные в конспекте характеристики действующих лиц оказались очень устойчивыми. В большинстве случаев персонажи вошли в окончательную редакцию с теми же самыми основными чертами характера, какие даны им в конспекте, хотя некоторые из них переменили свои имена.
IV
В архиве Толстого сохранился целый ряд рукописей отброшенных начал будущей «Войны и мира», причем не может быть уверенности в том, что до нас дошли все. Ни одна рукопись не датирована; каких-либо других данных, определяющих время
700
написания того или другого отрывка, также почти не существует. Вследствие этого не представляется возможным расположить в точной хронологической последовательности не удовлетворившие автора начала его знаменитого творения. Их можно расположить только приблизительно на основании приведенных выше высказываний автора о ходе его работы над романом — о постепенном отодвигании хронологических рамок романа от 1812 к 1805 году.
Одним из первых следует считать начало, озаглавленное «Три поры6. Часть 1-я. 1812 год»7. Повидимому, это начало еще тесно связано с замыслом романа о декабристе, и «три поры» и соответствующие им три части романа — это 1812, 1825 и 1856 годы.
Вслед за указанием части дано обозначение главы: «Глава 1-я. Генерал-аншеф».
Написанное начало содержит рассказ о екатерининском вельможе князе Волхонском, его оригинальной личности и образе жизни. Время действия — 1811 год. У князя Волхонского только одна дочь; компаньонку дочери зовут Генисьен, как в действительности звали компаньонку матери Толстого М. Н. Волконской. В образе старого князя много общего с дедом Толстого князем Н. С. Волконским, а в образе его дочери — с матерью Толстого Марией Николаевной, хотя, разумеется, нельзя говорить о полном тожестве этих образов с действительными лицами, послужившими для них прототипами. Имение князя Волхонского Лысые Горы во многом напоминает Ясную Поляну: оранжерея, пруд, липовая аллея, широкая въездная аллея («прешпект»)8.
Давая характеристику князя Волхонского, Толстой не удержался от полемики с современной литературой. Он писал: «Как бы мне ни не хотелось расстроивать читателя необыкновенным для него описанием, как бы ни не хотелось описать противуположное всем описаниям того времени, я должен предупредить, что князь Волхонский вовсе не был злодей, никого не засекал, не закладывал жен в стены, не ел за четверых, не имел сералей, не был озабочен одним пороньем людей, охотой и распутством, а напротив, всего этого терпеть не мог и был умный, образованный и столь порядочный человек, что, введя его в гостиную теперь, никто бы не постыдился за него».
Уверяя читателя, что его герой, помещик начала девятнадцатого века, никогда «не закладывал жен в стены», Толстой намекал
701
на нашумевшую в свое время повесть П. И. Мельникова «Старые годы», печатавшуюся в «Русском вестнике» в 1857 году. Герой этой повести, действие которой происходит в 1753 году, князь Заболовский, безжалостно навсегда запирает в павильоне жену своего сына, которая отвергла его притязания. Мельников в то время был одним из самых популярных писателей обличительного направления. Толстой в письме к Боткину от 1 ноября 1857 года писал, что редакторы журналов «сыплют золото Мельникову».
Далее, рассказывая о крестьянских работах в Лысых Горах, Толстой прямо утверждает, что в описываемое им время у таких помещиков, как его герой, крестьянам жилось лучше, чем они жили после реформы 1861 года. «Крестьяне Лысых Гор, не в обиду будь сказано 19 февраля, работали весело на хороших лошадях и имели вид благосостояния больший, чем какой теперь встретить можно»9.
Это начало было оставлено, надо думать, потому, что Толстой решил начать роман такой главой, которая бы сразу вводила читателя в историческую обстановку того времени.
Написанным рассказом о князе Волхонском Толстой впоследствии воспользовался как материалом для последних глав первой части «Тысяча восемьсот пятого года», причем характеристика князя была несколько сокращена, а полемика с шестидесятыми годами исключена совершенно. При этом фигура старого князя Николая Андреевича Болконского оказалась нарисованной такими типическими штрихами, что в литературе неоднократно указывалось на сходство этого образа с действительными лицами. Так, П. И. Бартенев в предисловии к письмам фельдмаршала графа Каменского писал: «Если позволительно лиц исторических сравнивать с лицами, созданными художественным творчеством, то нам кажется, что граф М. Ф. Каменский напоминает чрезвычайно старика князя Болконского в книге «Война и мир». Даже и внешняя физиономия, как описывают ее люди, знавшие графа Каменского, удивительно похожа»10. Сотрудник «Отечественных записок» А. М. Скабичевский в своей биографии Писарева, рассказывая об одном из товарищей безвременно погибшего критика, писал, что отец этого юноши был «сильный и суровый старик, живое подобие старого Болконского в романе Толстого»11.
Один из критиков, писавший о «Войне и мире», был до того
702
восхищен образом старого князя, что не побоялся утверждать, что «фигура старого князя Николая Андреевича Болконского по силе изображения превосходит всё, что автор когда-нибудь создавал. Этот тип русского барина старых времен до того жив, что мы видим его перед собой как бы без посредства рассказа, рамка которого исчезает в целости впечатления»12.
V
Другое отброшенное начало13, действие которого также относится к 1811 году, открывается большим резко написанным публицистическим вступлением, направленным против Наполеона и преклонявшейся перед ним толпы. Но вступление это зачеркивается автором, и дается картина бала у екатерининского вельможи Льва Кирилловича Вереева. В числе участников бала узнаем будущего Пьера Безухова (здесь Кушнев), уже женатого, князя Василия (Курагина) и его сына, будущего Анатоля Курагина (здесь Петр Курагин), будущую Элен (жена Берга). На бале присутствует и Александр I, чем-то озабоченный. Из зачеркнутого вступления видно, что озабочен был Александр I тем, что Наполеон захватил владения его родственника принца Ольденбургского. Это событие должно было служить тем политическим стержнем, который скреплял действие первых глав, романа.
Недовольный написанным, Толстой не исправляет, но совершенно оставляет его и пишет новое начало14 по тому же плану, описывая бал у екатерининского вельможи, который теперь называется князь N. На этот раз роман был начат с описания съезда гостей и впечатлений зрителей, столпившихся около подъезда. В этой толпе находится молодой Анатоль Шимко. Он сам принадлежит к высшему свету, но почему-то (один лист рукописи утрачен) не может присутствовать на этом бале. В следующей главе Шимко отправляется к своему приятелю, князю
703
Петру Криницкому, сыну известного сановника, только что вернувшемуся из-за границы. Анатоль застает его уезжающим на бал.
Это начало второй главы тут же зачеркивается автором, а затем и весь отрывок был оставлен, и Толстой больше к нему не возвращался.
Начало романа отодвигается от 1811 года к 1808 году, и действие переносится из Петербурга в Москву.
Новое начало, озаглавленное «Именины у графа Простого в Москве 1808 года»15, открывается небольшим вступлением16. Из этого вступления мы узнаем, что уже тогда для Толстого в центре произведения стояла «история из двенадцатого года», что он испытывал настоятельную потребность написать эту историю в живых образах, которые были для него «ясны и определенны», что «именины у графа Простого в 1808 году» и все другие главы, действие которых происходит ранее 1812 года, являлись в его глазах как бы вводной частью к роману. Толстой говорит:
«Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту историю из 12-го года, которая все яснее, яснее становилась для меня и которая все настоятельнее и настоятельнее просилась в ясных и определенных образах на бумагу». Далее излагаются те затруднения, которые испытывал Толстой в своей работе. Затруднения эти появлялись с разных сторон. «То мне казался ничтожным прием, которым я начинал, то хотелось захватить все, что я знаю и чувствую из того времени, и я сознавал невозможность этого, то простой, пошлый литературный язык и литературные приемы романа казались мне столь несообразными с величественным, глубоким и всесторонним содержанием, то необходимость выдумкою связывать те образы, картины и мысли, которые сами собою родились во мне, так мне становились противны, что я бросал начатое и отчаивался в возможности высказать все то, что мне хотелось и нужно высказать».
Как видим, Толстой говорит о «величественном, глубоком и всестороннем содержании» задуманного произведения, явно разумея под этими словами события двенадцатого года.
Далее Толстой признается, что он «боялся писать не тем языком, которым пишут все», то есть, очевидно, не тем искусственным, напыщенным слогом, каким в то время принято было писать о войне 1812 года. Смущало его и то, что написанное им «не подойдет ни под какую форму — ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории», и опасение того, что «необходимость описывать значительных лиц двенадцатого года» заставит его
704
«руководиться историческими документами, а не истиной». Толстой, следовательно, считал, что не всегда исторические документы отражают истину. Но потребность высказать то, чего, как он полагал, никто другой не скажет, кроме него, была в нем настолько сильна, что, «помучившись долгое время», он принимает решение: «писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет из всего этого, и не давая моему труду никакого наименования».
За этим вступлением следует очень живое описание именинного обеда у графа Простого, начинающееся горячим выступлением молодого графа Безухова в защиту Наполеона, которого он считает «великим человеком» и «самым великим полководцем мира». Но и это начало романа оборвалось на описании вечера в доме графа.
Новый вариант того же начала, первоначально озаглавленный «Именины в Москве 1808 года», получает затем название «День в Москве»17. Это — день именин старого графа Плохова (как теперь называется граф Илья Андреевич Простой). Описывается приезд гостей с поздравлениями, появление дочерей графа Наташи и Лизы (она же Вера), сына Николая и племянницы Сони, приезд княгини Анны Алексеевны Щетининой (будущая княгиня Друбецкая) с сыном Борисом и проделки Наташи. Затем действие переносится в покои умирающего екатерининского вельможи графа Безухова. Его навещает княгиня Щетинина; ее сын Борис разговаривает с его сыном Аркадием (будущий Пьер). Аркадий характеризуется как мистик, «крайний либерал 1794 года» и поклонник Бонапарта.
После этого действие возвращается в дом именинника, который к концу отрывка вновь называется граф Простой. Рассказ обрывается на приезде княгини Щетининой к жене графа, инициалы имени и отчества которой (П. Н.) здесь совпадают с инициалами бабки Льва Николаевича, Пелагеи Николаевны Толстой. Автор и здесь не удерживается от полемики с современностью. Описывая появление в гостиной детей графа вместе с Борисом Щетининым, Толстой мимоходом делает замечание, которое, впрочем, тут же и зачеркивает: «Все это молодое поколение было очень мило, несмотря на то, что всё это были князья, графы и графини»18.
Время написания этого отрывка определяется ноябрем 1863 года на основании записи дневника С. А. Толстой от 13 ноября того же года («Он пишет про графиню такую-то, которая разговаривала с княгиней такой-то»)19.
705
Всеми этими главами Толстой впоследствии воспользовался как материалом для первой части романа, но как начало всего произведения эти главы его не удовлетворили.
VI
Наибольшее количество отброшенных начал осталось от того периода работы, когда роман стал открываться описанием войны 1805 года.
Одно из этих начал Толстой счел нужным предварить большим авторским вступлением20.
«Пишу о том времени, — писал Толстой, — которое еще цепью живых воспоминаний связано с нашим, которого запах и звук еще слышны нам. Это время первых годов царствования Александра в России и первых годов могущества Наполеона во Франции».
Далее, изложив свой взгляд на Наполеона и на его роль в истории, Толстой определенно заявляет:
«Но не Наполеон и не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду писать историю людей более <человечных> свободных, чем государственные люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни <для борьбы и выбора между добром и злом, людей, изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний, людей, таких же, как мы, могших выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между славой и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между любовью и ненавистью>, людей, свободных от бедности, от <предрассудков и имевших право считать себя равными всякому. В таком положении находилось в начале нашего века русское дворянство> невежества и независимых, людей, не имевших тех недостатков, которые нужны для <славы, живших, страдавших не как герои, а как люди> того, чтобы оставить следы на страницах летописей».
Эти строки дают совершенно ясное понятие о содержании задуманного исторического романа, каким он представлялся Толстому на данной стадии работы. Не только изображение Александра I и Наполеона, но и изображение Кутузова, вообще изображение государственных деятелей не входило первоначально в планы Толстого. Героями должны были быть представители русского дворянства того времени, но не рядового дворянства, а наиболее умственно развитого, — того, которое волновали вопросы о добре и зле, о рабстве и свободе, которое изведало «все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний».
706
Следовательно, в то время раскрытие в задуманном произведении сложной душевной жизни героев, в связи с их участием в исторических событиях, стояло для Толстого на первом плане.
Толстой не считает ни Наполеона, ни Кутузова великими людьми. Он говорит далее: «Люциан Бонапарт был не менее хороший человек, чем его брат Наполеон, а он почти не имеет места в истории. Сотни жирондистов, имена которых забыты, были еще более хорошие люди. Сотни и тысячи не жирондистов, а простых людей Франции того времени были еще лучшими людьми. И никто их не знает. Разве не было тысяч офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых, честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов?»
Эта отрицательная характеристика Кутузова показывает, что Толстому в то время были еще неясны ни личность Кутузова, ни его роль в войне 1812 года21.
Толстой убежден, что политические события не затрагивают главных интересов жизни миллионов простых людей всех народов. Он говорит: «Разве присоединение или неприсоединение папской области к французской империи на сколько-нибудь могло изменить, увеличить или уменьшить любовь к прекрасному работающего в Риме художника? Или изменить любовь его к отцу и к жене? Или изменить его любовь к труду и к славе? Когда с простреленной грудью офицер упал под Бородиным и понял, что он умирает, не думайте, чтоб он радовался спасению отечества и славе русского оружия и унижению Наполеона. Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил, о всех радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои верованья и убеждения; он думал о том, что будет там и что было здесь. А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян, — все это ему казалось жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими интересами жизни, которыми мы живем прежде и больше всего и которые в последнюю минуту живо предстали ему».
707
Такие переживания Толстой, как известно, позднее приписал князю Андрею на Аустерлицком поле.
VII
Толстой берет начатый им ранее отрывок «Три поры» и изменяет в нем время действия с 1811 на 1805 год. Князь Андрей, оставив беременную жену, едет в армию. Далее следует описание Аустерлицкого сражения 20 ноября 1805 года и подготовки к нему22. Даются картины воинского походного быта; описывается смотр войск в Ольмюце, военный совет накануне сражения и конспективно само сражение и поражение русских войск. В романе уже действуют князь Андрей, князь Волхонский (действительное лицо), Николай Простой, который иногда называется также Ростовым, иногда Толстым, Борис Горчаков (впоследствии Друбецкой), Берг; упоминаются Жюли Охросимова и сестры Николая — Наташа и Лиза.
Вспоминая годы своей военной службы, Толстой с одушевлением говорит о том особенном чувстве, которое охватывает каждого человека, когда он находится в строю. Это чувство своей неразрывной спаянности с огромным целым Толстой считает сильнейшим и притом естественным чувством, вложенным в человека природой. В строю человек чувствует одновременно и свое ничтожество и свое могущество. «Каждый член этих громад помнит все и вполне забывает себя. В этом, должно быть, и лежит наслажденье... Одно слово — и вся эта громада пойдет и поскачет в воду, в огонь. И нельзя, невозможно не пойти. Громада связана, один влечет другого»23.
Подойдя к описанию самого сражения, Толстой находит яркие краски для изображения настроения армии перед сражением:
«Выстрелы отозвались в душе каждого человека русской армии. Все ближе и ближе подходила та торжественная, страшная и желанная минута, для которой перенесено было столько трудов, лишений, для которой по пятнадцати лет вымуштровывались солдаты, оставлена была семья и дом и из мужика сделан воин... Душа армии раздражалась больше и больше, становилась сосредоточеннее, звучнее, стекляннее. Надо драться! Больно будет. Надо забывать! Надо спасаться от чувства вечности в чувствах товарищества, молодечества и славы. Не надо оглядываться на себя, на жизнь, на любовь»24.
Переживая событие, происходившее шестьдесят лет назад, так же живо, как если бы оно произошло вчера, Толстой дает
708
полную волю своему негодованию против тех, кого он считает виновниками гибели тысяч русских людей и поражения русской армии под Аустерлицем — австрийских генералов: «Те, которые были причиною этого — австрийские колонновожатые — на другой день чистили себе ногти и отпускали немецкие вицы [остроты] и умерли в почестях и своей смертью, и никто не позаботился вытянуть из них кишки за то, что по их оплошности погибло двадцать тысяч русских людей и русская армия надолго не только потеряла свою прежнюю славу, но была опозорена».
Толстой бранит и военных историков за то, что они, подробно рассказывая детали сражения, не давали ответа на вопрос, «щемящий тогда, теперь, и вопрос, который всегда щемит сердце, пока будут русские, — вопрос, почему так постыдно разбито русское войско»25.
В Аустерлицком сражении князь Андрей, согласно первоначальному плану, бросается со знаменем вперед, получает смертельную рану и истекает кровью. На полях рукописи сделана относящаяся к данному эпизоду заметка: «Князь Андрей истекает кровью, добр и примирился и всех жалеет. Я — ничтожество. Бог»26.
В центре внимания Толстого — созданные его творческой фантазией лица, а не исторические деятели и не объяснение причин исторических событий. Он определенно заявляет: «Мы пишем выдумки, роман, а не военную историю. Мы только хотим рассказать, что случилось 20 ноября 1805 года с нашими выдуманными лицами»27.
Впоследствии Толстой ввел в свой роман многие из набросанных здесь сцен, но как начало романа этот отрывок его не удовлетворил. Он счел необходимым отодвинуть начало романа еще на несколько месяцев назад, чтобы изобразить события, непосредственно предшествовавшие войне 1805 года, и то настроение, в котором находилось тогда петербургское и московское общество. Таких начал будущей «Войны и мира», также не удовлетворивших автора, в архиве Толстого сохранилось несколько.
Думал Толстой начать роман относящейся к 1805 году перепиской двух светских барышень — дочери министра Катиш В. и Мари Волконской28. Но едва только он уведомил читателей о том, что сообщит им эту интересную переписку, как тут же зачеркнул всё написанное, отказавшись от промелькнувшего в его сознании замысла нового начала. Впоследствии, как
709
известно, Толстой ввел в первую часть «Тысяча восемьсот пятого года» переписку княжны Марии Болконской с Жюли Карагиной.
Другой отрывок29 был начат словами: «Летом 1805 года, в то самое время, когда только объявлялась Россией первая война еще не признанному тогда императором Наполеону, в Петербурге, во всех гостиных только и было речи, что про Буонапарте, его поступки и намеренья». Действие происходит в доме только что женившегося князя Андрея Волконского, о котором сказано, что он «вел жизнь безупречной нравственной чистоты в противность обычаям тогдашней молодежи». Упомянув, что за обеденным столом у князя «собралось небольшое и разнообразное общество», Толстой, не дав картины обеда, зачеркивает весь отрывок.
Но новый подход к задуманной теме продолжает интересовать Толстого, и он пишет вторую редакцию того же начала30. Однако и на этот раз, упомянув о том, что на обеде у Волконского присутствовал «известный изгнанник», аббат Пиатоли (историческая личность, воспитатель близкого к Александру I Адама Чарторыжского, автор проекта вечного мира), и что ждали молодого друга князя, обожавшего его, Петрушу Медынского, автор обрывает начатый рассказ.
Тот же Петруша Медынский фигурирует и в другом отрывке31, из которого читатель узнает, что Медынский — незаконный сын знаменитого князя Кирила Владимировича Безухого, «богача, чудака и масона», что он только что вернулся из-за границы и летом 1805 года живет без всякого дела в Петербурге. На этом отрывок обрывается. Отрывку предшествует вступление, в котором автор с сочувствием говорит о первых годах царствования Александра I. Он сравнивает это время с периодом «счастливой и исполненной надежд красивой молодости» в жизни отдельного человека и со временем весны в природе. «Пускай не исполняется и одна сотая из надежд молодости, надежды эти всё так же необходимы. Пускай из тысячи цветов один только оплодотворяется — природа каждый год воспроизводит их новые тысячи». «Великие идеи революции» проникли невольно «во все благородные души». Толстой заканчивает вступление фразой: «Эти-то люди и будут героями этой истории», — которую, однако, тут же и зачеркивает.
Но мысль начать роман рассказом о Пьере Безухове упорно держалась в творческом сознании Толстого. Он пишет новое начало, которому дает название: «С 1805 по 1814 год. Роман
710
графа Л. Н. Толстого»32. За этим общим названием всего произведения следует заглавие первой части: «1805-й год».
Первая глава нового начала открывалась следующими строками, ясно указывающими на связь начатого романа с задуманным романом о декабристе: «Тем, кто знали князя Петра Кириловича Б. в начале царствования Александра II в 1850-х годах, когда Петр Кирилыч был возвращен из Сибири белым, как лунь, стариком, трудно было вообразить себе его беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра I, вскоре после приезда своего из-за границы, где он, по желанию отца, оканчивал свое воспитание».
После первых вступительных строк дается краткая характеристика князя Петра Кириловича в молодости, «постоянно увлеченного либо каким-нибудь пристрастием, либо какою-нибудь отвлеченною мыслью». Действие начинается 20 июля 1805 года в доме молодого князя Андрея Болконского. Пьер имел к нему «то страстное обожание, которое так часто бывает в первой молодости». За обедом заходит разговор о Наполеоне и о последних преобразованиях в России. В разговоре, кроме князя и Петра Кириловича, принимают участие еще эмигрант аббат и молодой чиновник, принадлежащий к числу сторонников Сперанского (эти два лица без фамилий). У каждого из собеседников свой взгляд на Наполеона и на современные политические события в России. Князь считает Наполеона военным гением и самым великим человеком как древней, так и новой истории; аббат выказывает себя пропагандистом идеи вечного мира путем установления европейского равновесия; чиновник, «благоразумный либерал, умеющий прилагать мысли к жизни», ожидает многого от преобразований Александра I; Пьер — сторонник принципов Французской революции. Он заявляет, что «большая степень свободы народа не может быть дана народу, но должна быть взята, завоевана им», так как «конституция, данная по прихоти монарха, может быть и отнята по той же прихоти», что «в государстве, где миллионы рабов, не может быть мысли об ответственных министрах и представительной каморе депутатов» и что «свобода невыгодна деспотам». Но, не давши собеседникам закончить этот интересный для них и для нас разговор, Толстой обрывает начатый рассказ.
Последней попыткой Толстого было — начать роман с описания вечера у фрейлины Анет Б.33 Картине вечера предшествует вступление, выдержки из которого приведены выше33а. Фрейлина Анет Б. характеризуется как женщина умная, насмешливая,
711
чувствительная, сравнительно с другими придворными прямая и правдивая. При дворе не только ценили ее за ум и любезность, но не могли обходиться без нее. Всем этим Анет Б. очень напоминает Александру Андреевну Толстую, которую автор, очевидно, и намечал первоначально в качестве одного из прототипов своего романа. У Анет Б. собрались ее приятели, приехавшие из Москвы: ее дядя князь В. (в зачеркнутом тексте — Болконский), попавший в немилость императора Павла «за дерзкий ответ» (так он характеризуется в зачеркнутых строках), его дочь, сухой камергер Basile, княгиня Анна Алексеевна Горчакова (подлинное имя, отчество и фамилия троюродной тетки Толстого, выведенной в «Детстве» под именем княгини Корнаковой). Ожидается граф де Мортемар, бывший при герцоге Энгиенском, убитом Наполеоном. Одной из целей вечера, которую ставила хозяйка, было «потолковать о войне». Написанный Толстым текст обрывается на вопросе о Наполеоне, который она делает князю и княжне В.
Попыткой начать роман с описания вечера в высшем петербургском свете, на котором обсуждались бы последние политические события, закончились продолжительные поиски Толстым такого начала произведения, которое удовлетворяло бы его требованиям. Он остановился на том, чтобы начать роман с описания званого вечера у фрейлины летом 1805 года.
VIII
Первая часть «1805 года» была начата Толстым, вероятно, вскоре после возвращения из Москвы, куда он ездил в феврале 1864 года с целью (неудавшейся) постановки на сцене своей комедии «Зараженное семейство» и откуда вернулся 20 февраля.
Для многих глав первой части Толстой воспользовался теми черновыми набросками, которые были сделаны им в предыдущем году в поисках удовлетворяющего его начала романа.
В новой редакции вечера у фрейлины Анет Д.34 хозяйке дома приданы совсем другие черты, чем те, которыми отличается Анет Б. первой редакции. Черты сходства с А. А. Толстой изъяты. Анет Д — верный друг императрицы-матери, враг Наполеона и монархистка, страстно желающая войны с Наполеоном. Московские знакомые — князь и княжна В. и Анна Алексеевна Горчакова удалены и заменены важными петербургскими лицами, в том числе придворным сановником князем Василием.
В следующих редакциях35 текст был еще раз исправлен и значительно расширен путем введения новых, лиц.
712
За описанием вечера у фрейлины в последней редакции данного цикла следует, как и в окончательном тексте, сцена задушевного разговора князя Андрея с Пьером, а затем сцена ночного кутежа у Анатоля. Толстой пытается дать объяснение необузданному кутежу Долохова и его товарищей. Он говорит: «Несмотря на пьяное их состояние, все они были разнообразны, но все в своем роде хороши собой и преисполнены силы, которую не знали куда девать, и какой-нибудь государственный человек, полководец или молодая одинокая женщина, ежели бы подсмотрели их в эти минуты, одинаково бы пожалели, что не нашли, этим силам более сообразного с выгодами каждого употребления»36.
К описанию кутежа у Анатоля в черновой редакции присоединена вводная глава, цель которой — объяснить причины, по которым автор выбирает своих героев исключительно из аристократического общества (он полагает, что других героев и не будет в его «истории»).
Объяснение это содержит шесть пунктов.
Первое обоснование вытекает из характера начатого Толстым произведения. «Памятники истории того времени, о котором я пишу, — говорит Толстой, — остались только в переписках и записках людей высшего круга — грамотных; интересные и умные рассказы даже, которые мне удалось слышать, слышал я только от людей того же круга».
Второй довод — личного и отчасти литературного порядка.
«Жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразною, скучною, и все действия этих людей, как мне представляется, вытекающими большей частью из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и матерьяльных страстей. Ежели и не все действия этих людей вытекают из этих пружин, то действия их так застилаются этими побуждениями, что трудно их понимать и потому описывать».
Этот второй пункт совершенно определенно направлен против тематики литературы 1860-х годов; нетрудно назвать тех писателей, которых имел здесь в виду Толстой. Это Островский («жизнь купцов»), Помяловский («жизнь семинаристов»), Достоевский («жизнь каторжников»), Николай и Глеб Успенские («жизнь мужиков»), — те самые Островский и Достоевский, о которых Толстой еще недавно с такой похвалой отзывался в своих письмах, и те самые Глеб и Николай Успенские, рассказы которых он печатал в «Книжках» «Ясной Поляны».
Третья причина опять вытекает из особенностей начатого произведения. Автор не описывает жизнь «низших сословий»,
713
потому, что «жизнь этих людей менее носит на себе отпечатка времени».
Четвертый довод — эстетического порядка: «Жизнь этих людей некрасива».
Пятый довод формулируется Толстым следующим образом: «Я никак не могу понять, что думает будочник, стоя у будки, что думает и чувствует лавочник, зазывая купить помочи, галстуки, что думает семинарист, когда его ведут в сотый раз сечь розгами, и т. п.».
И последний аргумент:
«В-шестых, потому, наконец (и это, я знаю, самая лучшая причина), что я сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его. Я не мещанин, как смело говорил Пушкин, и смело говорю, что я аристократ и по рожденью, и по привычкам, и по положенью. Я аристократ потому, что вспоминать предков — отцов, дедов, прадедов моих, мне не только не совестно, но особенно радостно».
И Толстой подробно объясняет, как он смотрит на свое аристократическое происхождение и какие видит преимущества в своем положении аристократа. Он говорит:
«Я аристократ потому, что воспитан с детства в любви и уважении к высшим сословиям и в любви к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но и во всех мелочах жизни. Я аристократ потому, что был так счастлив, что ни я, ни отец, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждою, не имели необходимости никому никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали потребности образовываться для денег и для положения в свете и т. п. испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это — большое счастье, и благодарю за него бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отрекаться от него и не пользоваться им».
Рассуждение заканчивается следующими, совсем уж вызывающими строками:
«Все это очень глупо, может быть преступно, дерзко, но это так. И я вперед объявляю читателю, какой я человек и чего он может ждать от меня. Еще время закрыть книгу и обличить меня, как идиота, ретрограда и Аскоченского37, которому я, пользуясь этим случаем, спешу заявить давно чувствуемое мною искреннее и глубокое, нешуточное уважение»38.
Какие причины могли вызвать появление, хотя бы в черновой редакции романа, такой странной декларации, в которой мы никак не можем узнать автора Севастопольских рассказов,
714
«Утра помещика», «Поликушки», «Тихона и Маланьи» и «Кому у кого учиться писать»?
Причин было несколько.
Во-первых, Толстой, хорошо знавший направление критики того времени, не сомневался в том, что его роман подвергнется нападкам уже за одно то, что действующие в нем лица взяты из аристократической среды (в этом Толстой не ошибся). Зная это, Толстой поспешил сразу перейти от обороны к нападению — сам ополчился против современной литературы и сделал это в преувеличенных, резких, вызывающих выражениях.
Но не все в этой декларации объясняется одной резкостью и запальчивостью полемики. Выше приводилось написанное в конце 1863 года письмо Толстого к тетушке Александре Андреевне, в котором он признавался в ослаблении любви к народу. Одновременно с этим в нем заговорили еще не изжитые до конца унаследованные им аристократические предрассудки.
Но Толстой в своем объяснении сгустил краски. Даже и в этой черновой редакции романа изображены в числе других и такие представители аристократии, «любить» которых Толстой никак не мог. О министре князе Василии Пьер Безухов (а с ним вместе — чувствуется — и сам автор) говорит: «Вся эта семья, такая comme il faut и grand seigneur [порядочная и барственная], вся эта семья грязнее грязи»39. Уже одно сочетание в этой характеристике светской порядочности и крайней моральной низости показывает, что для Толстого того времени (как и раньше) светский лоск и изысканность манер представителей высшей аристократии отнюдь не совпадали с чистотой нравственной.
Вся эта вдруг загоревшаяся в Толстом вспышка полемического задора в соединении с сословной гордостью, в которой он был воспитан, быстро погасла. Глава была переписана, но в следующую редакцию романа Толстой ее не ввел.
IX
Описание вечера у фрейлины Анны Павловны Шерер служит началом окончательного текста первой части «Тысяча восемьсот пятого года» (или первой части первого тома «Войны и мира»).
На это описание, так же как на всю первую часть «Тысяча восемьсот пятого года», Толстой смотрел как на необходимое «вступление» к дальнейшему. Здесь он прежде всего ставил своей задачей ввести читателя в круг политических событий изображаемой эпохи. Но Толстой не сам выполняет эту задачу, а поручает ее своим героям.
715
На вечере у Анны Павловны Шерер происходит продолжительный разговор на политические темы. Присутствующие оживленно обсуждают такие всем им известные события недавнего прошлого, как казнь Наполеоном родственника Бурбонов принца Энгиенского, жестокое подавление им бунта в Египте, образование военного союза против Наполеона в составе России, Англии, Швеции, Австрии и Неаполя, попытка посредничества России между Наполеоном и Англией и др. В разговоре раскрывается отношение к Наполеону представителей различных общественно-политических групп от закоснелых монархистов — Анны Павловны и министра князя Василия Курагина — до сторонника принципов Французской революции и восторженного почитателя Наполеона Пьера Безухова. Молодой горячий приверженец Наполеона и его идей и преобразований, каким изображен Пьер Безухов в первых главах «1805 года», это, конечно, яркая «черта эпохи» в романе Толстого. Известно, как много таких горячих приверженцев Наполеона было среди образованной русской молодежи начала XIX века.
В этих главах Толстой впервые в русской литературе изобразил характерный для александровского времени дамский придворный кружок, оказывавший влияние на политические дела. Отношение автора к этому кружку явно ироническое. Хозяйка вечера, заботящаяся о правильном, равномерном движении «приличной разговорной машины», сравнивается им с хозяйкой прядильной мастерской, следящей за правильным движением веретен.
Второй разговор на политические темы происходит на именинах в доме графа Ильи Андреевича Ростова 26 августа 1805 года. Манифест о войне с Наполеоном уже подписан; объявления его ждут со дня на день. Молодой граф Ростов, как и многие другие, — характерная черта времени — бросает университет и отправляется в действующую армию.
И, наконец, князь Андрей Болконский перед своим отъездом на войну осенью 1805 года в разговоре с отцом излагает выработанный союзным командованием план войны с Наполеоном.
Так Толстой, не говоря от себя ни одного слова, вводит читателя в круг политических и военных событий изображаемой им эпохи, достигая попутно и другой цели — характеристики самих героев.
Уже в первой части Толстой знакомит читателя почти со всеми главными действующими лицами, проходящими перед глазами читателя на всем протяжении произведения, кончая эпилогом. В дальнейшем некоторые из этих лиц претерпевают сложную умственную и нравственную эволюцию, но свойственные им основные черты характера показаны автором уже при
716
первом появлении их в романе. При этом Толстой нигде не высказывает своего отношения ни к одному из своих героев, но вместе с тем дает такие характеристики изображаемых им лиц, что отношение к ним автора становится читателю совершенна ясно. Читатель чувствует любовь автора к Пьеру Безухову, глубокое уважение к Андрею Болконскому и его отцу, почти благоговейное отношение к княжне Марье с ее «любовным, теплым, кротким взглядом, прекрасными большими лучистыми глазами» и «всеобъемлющей любовью», восхищение живостью и прелестью Наташи, холодность к Вере Ростовой, добродушный юмор в отношении к старому графу Ростову, презрение к насквозь фальшивому интригану и карьеристу князю Василию Курагину, сочувствие к отчаянному храбрецу Долохову, жалость к несчастной Анне Михайловне Друбецкой, интерес к Шиншину с его меткими остротами, любовь и уважение к Марье Дмитриевне Ахросимовой. Автор живет общей жизнью со своими героями и читателя также заставляет жить одной с ними жизнью. 23 января 1865 года, извещая А. А. Толстую о скором выходе январского номера «Русского вестника» с первыми главами «Тысяча восемьсот пятого года», Лев Николаевич писал: «На днях выйдет первая половина первой части романа 1805. Скажите мне свое чистосердечное мнение. Я бы хотел, чтобы вы полюбили моих этих детей. Там есть славные люди. Я их очень люблю».
Кроме знакомства с политическими событиями эпохи и кроме общей характеристики главных героев, первая часть «1805 года» давала еще «картину нравов» придворного общества и картины жизни среднего дворянства в Москве (Ростовы) и знатной аристократии в усадьбе (Болконские). Такое изображение жизни высших классов русского общества в начале XIX века являлось одной из основных задач автора.
Работа над первой частью вчерне была закончена к началу лета 1864 года. 16 сентября Толстой записал в дневнике: «Написал листов десять печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. Мучительно».
Уезжая в Москву 21 ноября 1864 года лечить сломанную при падении руку, Толстой захватил с собой для сдачи в печать первые главы первой части романа, содержание которых составляли: вечер у Анны Павловны Шерер, задушевная беседа князя Андрея с Пьером, ночной кутеж у Долохова, именины, у графа Ростова, смерть графа Безухова. Эти главы были сданы в «Русский вестник» 27 ноября. Рукопись последних глав первой части, содержащих описание жизни семьи Болконских в Лысых Горах, Толстой, уезжая, оставил жене для переписки. 1 декабря он получил эти главы в переписанном виде, но, перечитав их, остался ими недоволен и не отдал их в журнал, а привез
717
обратно в Ясную Поляну для переработки. Лишь 3 января 1865 года в «Русский вестник» была отправлена исправленная редакция этих глав.
В Москве работа над романом, хотя и медленно, но все-таки подвигалась вперед. До операции Толстой писал сам, а после операции понемногу и изредка диктовал сестрам Берс. Какие именно главы романа были продиктованы Толстым, неизвестно, так как рукописи, написанные под его диктовку, не сохранились40.
X
Катков настаивал на том, чтобы Толстой написал для «Русского вестника» предисловие к своему роману. Но Толстой «сколько ни пытался», не мог написать это предисловие так, как ему хотелось, о чем он уведомил Каткова 3 января 1865 года.
В архиве Толстого сохранились две черновые редакции предисловия к «Тысяча восемьсот пятому году»41. В обеих редакциях Толстой пытался объяснить некоторые особенности своего произведения. Прежде всего, как бы предвидя недоумения читателей и критиков, он считал нужным указать на своеобразие формы того, что предлагалось им к печати. Это не повесть, так как в этом сочинении «не проводится никакой одной мысли, ничто не доказывается, не описывается какое-нибудь одно событие»; это не роман с определенной «завязкой, постоянно усложняющимся интересом и счастливой или несчастливой развязкой, с которой уничтожается интерес повествования».
718
«Мы, русские, — говорит Толстой, — вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимается этот род сочинений в Европе. Я не знаю ни одного художественного русского романа, ежели не называть такими подражания иностранным. Русская художественная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя новой». На полях Толстой делает для себя заметку: «Вспомнить Тургенева, Гоголя, Аксакова», — очевидно, как авторов произведений, которые не подходят под традиционные определения повести и романа.
Был ли вопрос еще не вполне ясен ему самому, или он счел неуместным подробное изложение здесь своих мыслей по данному вопросу, но Толстой, не закончив начатого рассуждения, целиком зачеркивает его.
Чтобы дать читателю представление, «что такое есть предлагаемое сочинение», Толстой в немногих словах рассказывает историю его возникновения из замысла повести о декабристе. Из этого рассказа видно, что мысль о декабристе или декабристах, как героях его произведения, еще не оставлена Толстым. Он говорит: «От 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 годов».
В поисках материала для не дававшегося ему предисловия, Толстой вспомнил об отброшенной им вводной главе, где он объяснял причины, побуждающие его выбирать своих героев исключительно из аристократического общества. Ему пришла мысль поместить в предисловии отрывок из этой главы. Все длинное рассуждение он теперь резюмировал с нескрываемой иронией в следующих словах:
«Я согласен, что это неверно и нелиберально и могу сказать один, но неопровержимый ответ. Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне неинтересна и наполовину непонятна, жизнь аристократов того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила».
Здесь в перечислении тех общественных слоев, жизнь которых Толстой отказывается описывать, прибавлены, по сравнению с вводной главой, «чиновники» (намек на Салтыкова-Щедрина), но исключены «каторжники». Очевидно, сильное впечатление, произведенное «Записками из мертвого дома», было так памятно Толстому, что теперь он ясно увидал неуместность иронического намека на это замечательное произведение.
Во второй редакции предисловия Толстой отказывается от рассказа о происхождении «1805 года», но, как и в первой редакции, указывает на особенности формы своего произведения, которое нельзя назвать ни романом, ни повестью. Романом нельзя его назвать потому, что автор не может положить своему
719
сочинению известные границы, как то женитьба или смерть героев и героинь, после чего интерес повествования уничтожался бы и произведение заканчивалось. «Мне невольно представлялось, — писал Толстой, — что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса». Повестью Толстой не может назвать свое произведение потому, что он не задавался целью «доказательства или уяснения какой-нибудь одной мысли или ряда мыслей». Задачу свою автор видит «в описании жизни и столкновений некоторых лиц в период времени от 1805 до 1856 года». Но какие размеры примет его сочинение — он не знает. Задорного заявления о том, что все симпатии автора на стороне представителей аристократии, — во второй редакции предисловия уже нет. После сатирического описания вечера у фрейлины Анны Павловны и резко отрицательного изображения министра князя Василия с его карьеризмом, фальшью и неразборчивостью в средствах, невозможно было читателю поверить, что автору романа так «мила» жизнь аристократического круга. Недаром впоследствии критик консервативного лагеря А. С. Норов писал, что читатели романа Толстого, принадлежащие к светскому обществу, были поражены «грустным впечатлением представленного им в столице пустого и почти безнравственного высшего круга общества, но вместе с тем имеющего влияние на правительство»42.
Итак, в обеих черновых редакциях предисловия к «Тысяча восемьсот пятому году» Толстой определенно говорит, что он описывает жизнь и взаимоотношения некоторых лиц в связи с историческими событиями 1805—1856 годов. Замысла написать «историю народа» у Толстого еще нет. Но Толстой намерен писать свое произведение так, чтобы в историях жизни и взаимоотношений его героев выразился «характер русского народа и войска». Следовательно, элемент эпопеи входил в замысел Толстого уже в период работы над «Тысяча восемьсот пятым годом».
Вторая редакция предисловия удовлетворила Толстого не более, чем первая, и начало произведения появилось в «Русском вестнике» без всякого предисловия.
Из обеих черновых редакций предисловия Толстой удержал только одно: что не следует называть его произведение романом. Об этом он 3 января 1865 года писал Каткову, прося в оглавлении журнала и в объявлениях о нем не называть «Тысяча восемьсот пятый год» романом, прибавляя, что это для него «очень важно». Но Катков, как редактор журнала, счел невозможным не дать произведению Толстого никакого наименования, и в
720
оглавлении январской книжки «Русского вестника» за 1865 год «Тысяча восемьсот пятый год» был назван «романом».
XI
Толстой был очень увлечен своим новым произведением. Уже первую часть, появившуюся в «Русском вестнике», он считал значительнее всего того, что было им напечатано ранее; но самое значительное, частью еще и не написанное к тому времени и только более или менее ясно представлявшееся его творческому сознанию, было еще впереди. «Печатанное мною прежде, — писал он Фету 23 января 1865 года, — я считаю только пробой пера и ореховых чернил43; печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — бяда!!!»44.
3 января 1865 года Толстой извещал Каткова, что вторая часть «1805 года», содержащая описание Шенграбенского и Аустерлицкого сражений45, у него уже написана. Продолжение «1805 года», писал Толстой, переписывается и будет готово в конце января. Но, повидимому, Толстой намеревался еще раз просмотреть переписанный текст, и отсылка рукописи в «Русский вестник» не состоялась. Эта рукопись, переписанная рукою писаря, сохранилась46. Она содержит не только описание Аустерлицкого сражения и предшествовавших ему событий (третья часть первого тома будущей «Войны и мира»), но и первые две части второго тома. Следовательно, в январе — феврале 1865 года была уже переписана первая редакция последней части первого тома и первых двух частей второго тома.
Одновременно с работой над следующей частью «Тысяча восемьсот пятого года» Толстой продолжал изучение исторических материалов по наполеоновским войнам. В марте 1865 года он с большим интересом читал воспоминания маршала Наполеона, Огюста де Мармона47. Чтение воспоминаний Мармона помогло Толстому лучше понять личность Наполеона и навело его на важный художественный замысел. 19 марта он записывает в дневнике:
721
«Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, всё безумие, всё противоречие людей их окружавших и их самих».
Далее перечисляется ряд событий из жизни Наполеона, о которых Толстой читал в воспоминаниях Мармона и которые характеризуют Наполеона с отрицательной стороны. Толстой поражен словами Наполеона, сказанными им морскому министру Декре на другой день после коронации: «В наши дни народы слишком просвещенны, чтобы можно было создать что-нибудь великое». Толстой подчеркивает слово «великое», как выражение уродливого понимания величия со стороны Наполеона48. Египетскую экспедицию, предпринятую французской Директорией в 1798—1799 годах, Толстой считает «тщеславным французским злодейством».
Толстой указывает на сознательную ложь всех военных бюллетеней, составлявшихся Наполеоном, на обман при заключении Наполеоном в 1805 году сепаратного мира с Австрией, на различные выдумки бонапартистской легенды, возвеличивавшей Наполеона, на то, что Наполеон «любит ездить по полю битвы», что для него «трупы и раненые — радость».
Но Толстого интересует не столько сам Наполеон, — Наполеона он разгадал, — его интересуют «толпы, окружающие его, и на которые он действует». Толстой хочет понять причины успехов Наполеона. Причины эти представляются ему в «односторонности» стремлений Наполеона, придававшей ему особую силу, в благоприятном стечении обстоятельств, позднее в «самонадеянности и счастьи» и, наконец, в «сумасшествии» честолюбия. В изгнании на острове святой Елены проявилось «полное сумасшествие, расслабление и ничтожество» Наполеона. Наполеона считали великим только потому, что был «велик объем» его деятельности; «а мало стало поприще — и стало ничтожество. И позорная смерть!»
Далее дается характеристика Александра I, в общем, вероятно, по контрасту с Наполеоном, в сочувственных тонах, хотя и в нем отмечается «одурманение величием» после примирения с Наполеоном в 1807 году.
Запись заканчивается словами: «Надо написать свой роман и работать для этого».
На другой день восторженное состояние, вызванное открывшимся
722
новым значительным художественным замыслом, продолжалось. «Крупные мысли! — записывает Толстой в дневнике. — План истории Наполеона и Александра не ослабел».
Тогда же Толстому случилось прочесть критическую статью его тульского знакомого Е. Л. Маркова о «Казаках»49. Записав о своей неудовлетворенности этой статьей, Толстой обращается к самому себе с укором и вопросом: «Сам-то ты что сделаешь?»
Но он чувствовал себя в состоянии такого художественного подъема, что отвечает на поставленный себе вопрос такими словами: «А силы, силы страшные!»
Всецело захваченный новым замыслом, Толстой спешит поделиться им с близкими людьми. Софья Андреевна записывает в дневнике 23 марта: «Всё у него мысли, мысли, а когда напишутся они?» Толстой записывает 25 марта, что рассказал «Наполеона» брату Сергею Николаевичу.
Приведенные записи не оставляют сомнения в том, что «история Наполеона и Александра» была задумана Толстым не как часть будущей «Войны и мира», а как самостоятельное произведение.
Вопреки господствующей традиции, представлявшей Наполеона героем, великим человеком и гениальным полководцем, в романе Толстого Наполеон должен был выступить как человек самого низкого нравственного уровня, причинивший человечеству неисчислимые бедствия.
Замысел написать «роман Александра и Наполеона» Толстой не осуществил, но тот взгляд на Наполеона, который высказан им в приведенных записях дневника и составлял его твердое убеждение, был последовательно проведен им на протяжении всей «Войны и мира».
Изображение упоминаемой в записи «подлости» лиц, окружавших французского императора и русского царя, Толстой ставил одной из своих задач в работе над романом.
XII
Вероятно, в феврале 1865 года Толстой приступил к переработке второй части «1805 года», посвященной описанию военных действий соединенной русско-австрийской армии.
Описание Аустерлицкого сражения было написано Толстым еще в поисках начала романа, но теперь он решил дать общую картину похода и войны 1805 года и расширить описание Шенграбенского сражения, предшествовавшего Аустерлицкому. Работа оказалась продолжительной. По записям дневника, Толстой
723
был занят этой работой в марте — апреле, а затем в сентябре — октябре 1865 года.
30 сентября Толстой делает в дневнике приведенную выше50 запись о различных формах выражения «поэзии романиста», упоминая в этой связи и о «Тысяча восемьсот пятом годе». Он относит свое произведение к числу тех, в которых, как в «Илиаде» и «Одиссее», дается «картина нравов, построенная на историческом событии». Толстой, следовательно, причисляет свое произведение к категории тех немногочисленных образцов мировой художественной литературы, которым присвоено имя эпопеи. Но та характеристика, которую Толстой дает своему произведению, показывает, что он все еще далек от того, чтобы ставить своей задачей писать «историю народа».
Переработка второй части была закончена лишь 21 декабря 1865 года (эта дата была проставлена Толстым в рукописи, отправленной в «Русский вестник»).
Второй частью «1805 года», соответствующей второй части первого тома «Войны и мира», закончилось печатание романа в «Русском вестнике». Продолжение описания войны 1805 года, в которое входит и описание Аустерлицкого сражения, переработанное автором, составило содержание третьей части первого тома «Войны и мира».
В войне 1805 года участвуют главные герои романа — Андрей Болконский и Николай Ростов; но изображение военных событий не является фоном для рассказа о жизни этих героев и для раскрытия их характеров, а имеет самостоятельное значение. Напротив, раскрытие характеров действующих лиц в этой части замедляется именно вследствие того, что внимание автора направлено, прежде всего, на изображение войны и военной обстановки. Это удостоверено самим Толстым в переписке с Фетом. Фет в письме от 16 июня 1866 года высказал мнение, что образ князя Андрея в напечатанных частях «1805 года» бледен, что он обладает только одним отрицательным достоинством — «порядочностью»; поэтому он не может быть «героем, способным представить нить, на которую поддевают внимание читателя». В ответном письме от 7 ноября Толстой выразил согласие с замечанием Фета, но дал такое объяснение указанному недостатку: «Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу... И от этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется...»
Картины походной жизни и портреты военных Толстой рисует, прежде всего, для того, чтобы раскрыть «характер русского
724
народа и войска». Толстой постиг его за четыре года пребывания на военной службе и особенно за год, проведенный в Севастополе. Превосходное знание русского солдата, приобретенное годами близкого общения с ним, чувствуется во всех массовых сценах «Войны и мира», в солдатских разговорах, в изображении солдатского пения и пляски.
Толстой не перестает любоваться русским солдатом, его силой, выносливостью, умом, остроумием, никогда не покидающим его бодрым и веселым настроением. Таковы все солдатские сцены «Войны и мира».
Подробности военного быта, нравы солдат и офицеров, переживания участников сражения перед лицом ежеминутно угрожающей смерти — все это описывалось Толстым на основании его собственного опыта.
По собственному опыту описал Толстой впечатления князя Андрея от поездки на фронт. «Чем далее подвигался он вперед, ближе к неприятелю, — рассказывает Толстой, — тем порядочнее и веселее становился вид войск». В передней линии солдаты строили балаганчики, разводили костры, ужинали. «Все лица были такие спокойные, как будто все происходило не в виду неприятеля, перед делом, где должна была остаться на месте по крайней мере половина отряда, а как будто где-нибудь на родине в ожидании спокойной стоянки»51. Как это напоминает следующие строки из «Севастополя в декабре месяце»: «Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который... исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия — так же спокойно, самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске».
По собственному опыту Толстой описывает то «чувство оживления», которое вызывалось в войске началом сражения. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера»52.
И вместе с тем по собственному опыту Толстой описывает то сложное чувство страха смерти и страстного желания жить, которое при первом участии в сражении испытал впервые «необстрелянный юнкер» Николай Ростов и которое, по словам Толстого, «было знакомо» каждому участнику боя53.
По собственному опыту описал Толстой ту путаницу, неразбериху, интриганство и несправедливость, которые царили в штабе армии, где выдвигались хвастуны и карьеристы, а подлинные храбрецы, как Тушин, рисковали быть наказанными за
725
проявление инициативы. Князю Андрею, который видел все это, «было грустно и тяжело. Все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся»54.
Видал Толстой под Севастополем и штабных офицеров, подобных изображенному им Жеркову, который, будучи послан к начальнику левого фланга с немедленным приказом отступать, не поехал туда, куда ему было приказано, потому что «на него нашел непреодолимый страх», о чем он, разумеется, не довел до сведения своего начальника55.
Центральными фигурами второй части «Тысяча восемьсот пятого года» являются Багратион — историческая личность — и артиллерийский капитан Тушин — создание творческой фантазии автора, хотя и имевшее определенный прототип.
В лице Багратиона, к которому он относится с нескрываемым чувством глубокой симпатии, Толстой поставил своей задачей изобразить идеального, по его представлению, главнокомандующего. Багратион владеет необходимым для командира уменьем поднимать дух солдат и офицеров и перед началом и во время сражения, чему Толстой придавал решающее значение, а скомандовав наступление, спокойно и мужественно идет впереди войска.
Что касается артиллерийского капитана Тушина с его «геройской стойкостью» (выражение князя Андрея), то мы имеем свидетельство самого Толстого о том, кто вдохновил его на создание этого замечательного образа. В апреле 1908 года, просматривая в корректуре второй том его биографии, составленной П. И. Бирюковым, Толстой во второй главе обратил внимание на выдержку из статьи газеты «Русский инвалид» о прототипе Тушина56. Против этого места на полях корректурной гранки Толстой
726
сделал помету: «Брат Николай»57. Чрезвычайное присутствие духа в опасности в соединении с физической слабостью и невзрачной внешностью — таковы общие черты Тушина и Николая Николаевича Толстого.
Кроме того, существовал и литературный прототип Тушина — это капитан Хлопов в «Набеге», человек беззаветной храбрости и величайшей скромности, который даже не понимал, зачем нужно чем-нибудь «казаться». (О своем брате Толстой также писал, что «почти не понимает, что такое тщеславие».)
Во второй части в числе действующих лиц появляется Кутузов, а в третьей части — Наполеон. Кутузов изображен здесь как деятельный и искусный стратег58.
Замысел Толстого к этому времени существенно изменился. В первой редакции описания Аустерлицкого сражения главная задача автора, по его собственному признанию, состояла в том, чтобы рассказать, что случилось в этот день с его «выдуманными лицами». Теперь исторические деятели привлекают его внимание не менее, чем герои, созданные его творческой фантазией, и Толстой стремится изображать этих деятелей в полном согласии с историческими данными.
Главным источником для описания военных действий русской армии в войну 1805 года служила Толстому книга А. И. Михайловского-Данилевского «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году». Так как задача Толстого состояла не в том, чтобы написать историческую хронику, то он не дает подробного описания всего хода кампании 1805 года. Его главная задача — изображение двух больших сражений, имевших наибольшее влияние на ход войны: того, в котором русские войска одержали победу (Шенграбенское), и того, где союзная русско-австрийская армия понесла большое поражение (Аустерлицкое). Но и эти два сражения не даны у Толстого во всех подробностях — изображены только главные моменты обоих сражений. (Некоторые частные моменты Аустерлицкого сражения, которые находим в черновой редакции, были удалены автором из окончательного текста.)
Здесь Толстой впервые воспользовался тем приемом, который позднее был многократно применен им в следующих частях романа, — на основе сообщаемых историками кратких и сухих
727

«У костра». Рисунок для «Войны и мира» М. С. Башилова.
728
фактических данных рисовать яркие художественные картины. Так, глава о капитане Тушине, по своей инициативе начавшем обстрел Шенграбена и тем способствовавшем успеху сражения, возникла из следующего рассказа Михайловского-Данилевского: «Наши артиллеристы, отвечая на первые неприятельские выстрелы, зажгли Шенграбен, центр расположения Мюрата. Пожар быстро распространился; пламя и дым понеслись в лицо французам; головни и искры угрожали взрывом зарядных ящиков. Неприятель начал спасать их. Пожар замедлил движение войск, бывших ближе к князю Багратиону, то есть в центре, на столбовой дороге»59.
Описание Аустерлицкого сражения дано в полном соответствии с историческими фактами. Разговор Александра I с Кутузовым, весь ход сражения, блестящая, хотя и не имевшая никаких результатов, атака кавалергардов, «которой удивлялись сами французы», паническое бегство войск, ранение Кутузова и слова, произнесенные им после ранения, переход войск под огнем неприятеля с страшными потерями через плотину Аугеста и по льду озера, объезд Наполеоном поля битвы и разговоры его с князем Репниным и поручиком Сухтеленом — все это взято Толстым из той же книги Михайловского-Данилевского.
Даже геройский поступок князя Андрея, когда он впереди батальона бежит со знаменем в руках и увлекает батальон в атаку, был внушен Толстому прочитанным у того же историка описанием поступка графа Тизенгаузена, который тут же был убит пулей. По первоначальному плану романа князь Андрей также умирает от ран, полученных в Аустерлицком сражении.
Некоторые частные подробности Аустерлицкого сражения под пером Толстого превращаются в целые художественные картины. На основании сообщений Михайловского-Данилевского о том, что к концу сражения «смятение было так велико, что находившиеся при государе лица потеряли его из вида, сбились с дороги и присоединились к нему уже ночью, а иные через день, даже через два. Оттого в продолжение большей части сражения при императоре находились только лейб-медик его Виллие, берейтор Ене, конюший и два казака», что «когда войско побежало, с трудом мог он [Александр I] переехать через болотистый крутоберегий ручей и там отдавал приказания» и что Кутузов и Александр I потеряли друг друга из вида60, Толстой рисует яркую картину, как Николай Ростов отыскивал и долго не мог найти ни царя, ни главнокомандующего и, наконец, увидал Александра I на берегу ручья.
729
В тех случаях, когда сообщение историка или мемуариста представлялось Толстому достоверным, единственное, что он позволял себе как художник, это слегка исправлять стилистически приводимые ими, конечно, не претендовавшими на абсолютную точность, разговоры разных лиц, имея при этом в виду придать этим разговорам больше жизненности. Так, у Михайловского-Данилевского Александр I перед началом Аустерлицкого сражения говорит Кутузову: «Михайло Ларионович! Почему не идете вы вперед?» Отвечает Кутузов: «Я поджидаю, чтобы все войска колонны пособрались». У Толстого Александр I обращается к Кутузову со словами: «Что вы не начинаете, Михайло Ларионович?» Кутузов отвечает: «Поджидаю, ваше величество. Не все колонны еще собрались, ваше величество».
Относительно передачи слов и действий исторических лиц Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» счел нужным сделать следующее заявление: «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, ...на которые [я] всегда могу сослаться».
«Когда я пишу историческое, — писал Толстой в 1902 году в период работы над «Хаджи-Муратом», — я люблю быть до малейших подробностей верным действительности»61.
Таков был принцип Толстого относительно использования исторических материалов в своих произведениях, — принцип, отступления от которого в «Войне и мире» чрезвычайно редки.
Относительно приемов вкрапления исторических материалов в текст его романа один из исследователей «Войны и мира» выразился совершенно справедливо, что какие бы заимствования ни делал Толстой из исторических источников, он всегда настолько тесно связывал их с содержанием своего произведения, что они становились «незаметны для самого внимательного глаза»62.
Передача слов и действий исторических лиц в полном согласии с исторической истиной, несомненно, являлась одним из проявлений замечательного новаторства Толстого как исторического романиста.
XIII
Второй том «Войны и мира»63, как известно, начинается описанием
730
обеда в английском клубе, данного в марте 1806 года московским дворянством в честь Багратиона — победителя Наполеона под Шенграбеном. Для этой главы Толстой воспользовался записками присутствовавшего на обеде С. П. Жихарева64, откуда и были им заимствованы все подробности: меню обеда, тосты, стихотворения и музыкальная кантата в честь Багратиона и пр. Толстому очень удобно было использовать описание Жихарева, так как, по Жихареву, распорядителем обеда был старшина английского клуба граф Илья Андреевич Толстой, и старому графу Ростову оставалось только точно воспроизводить роль своего прототипа во время обеда.
В картину обеда Толстой очень искусно вставляет сцену ссоры Безухова с Долоховым, играющую важную роль в дальнейшем развитии действия романа.
Далее, уже в первой редакции второго тома были написаны главы, описывающие дуэль Пьера с Долоховым, жизнь старого князя Болконского после отъезда сына в армию, роды маленькой княгини, неожиданный приезд князя Андрея, жизнь Ростовых в Москве, предложение Долохова Соне и ее отказ, прощальная пирушка Долохова у него на квартире (а не в гостинице, как в окончательном тексте), проигрыш Николая Ростова и отъезд его в полк.
Для будущей второй части второго тома было написано вступление Пьера в масонскую ложу, причем, в отличие от окончательного текста, он не встречается случайно с влиятельным масоном Баздеевым на почтовой станции, а сам масон, услышав о несчастье Пьера (дуэль и разрыв с женой), приходит к нему в гостиницу с целью утешения и ободрения и вовлечения его в члены масонского братства65.
Направляя одного из своих главных героев в масонскую ложу, Толстой несомненно имел намерение отдать дань «царствующей философии» того времени, так как принадлежность к масонству была характерным явлением среди образованного русского дворянства начала XIX века.
Затем в первой редакции второй части второго тома описывались второй вечер у Анны Павловны Шерер, жизнь князя Андрея в Лысых Горах, поездка его в Отрадное, возвращение Николая Ростова в полк. Далее — голод в армии, захват Денисовым продовольственного транспорта, предназначенного пехотному полку, приезд Николая Ростова к Денисову в лазарет и свидание Александра I с Наполеоном в Тильзите.
731
В описании войны 1806—1807 годов Толстой так же, как и в описании войны 1805 года, совершенно точно следует историческим материалам, — главным образом книге Михайловского-Данилевского66. При этом, чтобы не излагать событий в виде сухого перечня фактов, Толстой заставляет дипломата Билибина своим живым, образным языком, с меткими и ядовитыми шутками, рассказать весь ход войны в письме к князю Андрею.
Бедственное положение русской армии, стоявшей весною 1807 года в Германии, отсутствие продовольствия, выкапывание солдатами по огородам оставшегося в земле мерзлого картофеля — все это рассказано Толстым отчасти по той же книге Михайловского-Данилевского, отчасти по «Материалам для истории современных войн» знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова67. Глава о том, как Василий Денисов отбивает транспорт провианта, предназначенный для пехотных войск, создана на основании одной фразы Михайловского-Данилевского: «Иногда генералы почти отбоем брали друг у друга подводы»68.
Далее, на основании другого места той же книги: «Госпитали были в бедственном положении; находившийся в нашей главной квартире английский генерал Вильсон называет их в своем сочинении ужасом человечества — выражение не преувеличенное»69 — Толстым дано описание ужасного состояния лазарета, в который попал Николай Ростов в поисках раненого Денисова.
Но к этим данным фактического характера Толстой прибавляет то, чего не было в исторических материалах, но что он знал несомненно по опыту своей военной службы, — описание настроения солдат во время постигшего их бедствия голода.
Павлоградский гусарский полк от голода и болезней потерял почти половину своего состава. «Несмотря на такое бедствие, — рассказывает Толстой, — солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда: так же и теперь, хотя и с бледными и опухлыми лицами и в оборванных мундирах, гусары строились к расчетам, ходили на уборку, чистили лошадей, амуницию, таскали вместо корма солому с крыш и ходили обедать к котлам, от которых вставали голодные, подшучивая над своею гадкою пищей и своим голодом. Так же, как и всегда, в свободное от службы время солдаты жгли костры, парились голые у огней, курили, отбирали и пекли проросший прелый картофель и рассказывали и слушали рассказы или о Потемкинских и Суворовских походах или сказки об Алеше-пройдохе и о поповом батраке Миколке»70.
732
Во всех подробностях вполне соответствует историческим данным описание свидания Александра I с Наполеоном в Тильзите 13 июня 1807 года. Толстой так же, как и раньше, пользуется краткими сухими данными официальных источников для того, чтобы на основе их нарисовать художественную картину. Михайловский-Данилевский, упоминая о том, что «никому из русских не было дозволено являться в Тильзит, кроме адъютантов, посылаемых туда по случаю сношений армии с императорской главной квартирой», прибавляет: «Любопытство видеть Наполеона превозмогало запрещение: генералы и офицеры ездили в Тильзит во фраках»71. Эту краткую фразу историка Толстой развернул в яркую картину тайной поездки Николая Ростова в Тильзит для подачи царю прошения Денисова о помиловании. Эта поездка нужна была Толстому не только для того, чтобы через восприятие Ростова описать исторический факт свидания двух императоров, но также и для того, чтобы передать затем недоумение Ростова, вызванное примирением двух еще недавно смертельно враждовавших друг против друга властелинов, и его размышления (в которых автор ему сочувствует) о бесцельности тысяч жертв солдатских жизней в совсем недавние годы вражды Александра и Наполеона.
Такое раскрытие психологии действующих лиц (и вместе с тем точки зрения автора на описываемые события, совпадающей с точкой зрения изображаемого лица) в соединении со строгим использованием исторического материала составляет одну из самых существенных особенностей творческого метода автора «Войны и мира».
XIV
Начиная с ноября 1865 года письма Толстого содержат гораздо больше материалов по истории создания «Войны и мира», чем его письма предшествующего периода.
Мы узнаем, что в ноябре 1865 года началась переработка первой и второй части второго тома будущей «Войны и мира».
В начале ноября 1865 года Толстой писал А. Е. Берсу: «Я свеж, весел, голова ясна, я работаю — пишу по 5 и 6 часов в день... Дописываю теперь, т. е. переделываю и опять и опять переделываю свою 3-ю часть. Эта последняя работа отделки очень трудна и требует большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с трудом, уже нельзя остановиться и не останавливаясь катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины
733
и знаю, что теперь хорошо ли дурно ли, но скоро кончу эту 3-ю часть».
12 ноября Толстой записывает в дневнике: «Кончаю третью часть. Многое уясняется хорошо».
Под «третьей частью» Толстой разумел здесь первые две части второго тома будущей «Войны и мира». Это видно из следующего распределения содержания всего романа по «частям», относящегося, очевидно, к тому же ноябрю 1865 года:
«1 ч. что напечатано [в «Русском вестнике» 1865 года].
2 ч. до Аустерлица включительно.
3 ч. до Тильзита включительно.
4 ч. Петербург до объяснения Андрея с Наташей включительно.
5 ч. до эпизода Наташи с Анатолем и объяснения Андрея с Pierr’ом включительно.
6 ч. до Смоленска.
7 ч. до Москвы.
8 ч. Москва.
9 ч. Тамбов».
После девятой части обозначена еще десятая, но содержание ее не указано72.
9 ноября Толстой записал в дневнике, что он «уяснил всё будущее» своего романа. Возможно, что к этому времени относится конспект содержания еще не написанных последних «частей» романа73. По этому конспекту «будущее» романа — главным образом судьба действующих лиц — рисовалось его автору в следующем виде.
Получив от Пьера письмо о том, что Наполеон подходит к Неману и война неизбежна, князь Андрей сначала решает, что он должен принять участие в войне, но затем передумывает и едет в Бухарест. Там он на бале застал Кутузова, завязывающего башмачок молдаванке. Князь Андрей «холодно распростился» и уехал в отпуск.
Старый князь Болконский «вооружает, укрепляет» Лысые Горы, но заболевает горячкой и «в ругательствах умирает». Бурьен уверяет княжну Марью, что Наполеон идет в Лысые Горы «и что одно средство — принять». Княжна Марья «сзывает людей и вооружается», но приезжает брат и увозит ее. (Вариант: княжна Марья вооружает всех и пишет письмо брату.) Ей помогает Тушин, в сражении лишившийся руки и служащий городничим.
В Москве князь Андрей получает письмо Наташи с отказом и сейчас же подает прошение о зачислении в действующую армию: «авось убьют».
734
В Петербурге в салоне Анны Павловны Шерер бранят Кутузова, но после его донесения о Бородинском сражении начинают хвалить.
Николай Ростов приезжает в Москву в отпуск и узнает «историю с Анатолем», «он, озлобленный, скачет». Является Долохов и говорит, «что он готов всё сделать и всё любит» (Соню).
Бородинское сражение. Пьер ездит под огнем. К Ростовым привозят раненых и в их числе князя Андрея. «Он презирал, но теперь задрожал и узнает, что любит. Она не сказала «фразы», а губы задрожали, и, бледная, молча стала целовать его руки. Князь Андрей прощает и Анатоля, но он уже убит».
Долохов, получив записку Сони, после Бородина едет отыскивать Анатоля. Найдя его, ведет в поле и убивает и сам доносит об этом.
Элен захвачена французами и убита.
Ростовы в Тамбове. Туда приезжает Пьер «и вдруг узнает, что может любить». Князь Андрей видит это и «уступает ему Наташу, плачет и уезжает». Николай Ростов и княжна Марья обручены с согласия ее брата.
Эпилог. Под Красным сходятся Николай Ростов и князь Андрей. «Старик Ростов тут же благодарит Андрея». Соня живет вместе с княжной Марьей; она «плачет от горя и счастлива». Князь Андрей говорит Николаю Ростову, что тот «имеет пошлость, чтобы быть предводителем» (дворянства), а ему самому остается только «доживать свой век».
Заканчивается план заявлением князя Андрея: «Нет, я учен Аустерлицем, Турцией, Молдавией, Бородиным. Успех наш — успех солдат, успех мужика — народа, а не Барклая и умирающего Кутузова». Это заявление князя Андрея замечательно не только потому, что в нем выражена мысль автора о том, что народ, а не царь и не генералы победили Наполеона в войну двенадцатого года, но и потому, что им совершенно погашается поспешное заявление Толстого, сделанное почти за год до этого: что жизнь мужиков ему неинтересна и описывать ее он не будет.
XV
14 ноября 1865 года Лев Николаевич сообщил А. А. Толстой, что им написана треть всего романа. Он прибавлял при этом, что не будет печатать ничего из написанного до тех пор, пока не кончит всего романа, что будет, как он рассчитывал, лет через пять. Он не спешит с своим романом потому, что считает его нисколько не связанным с современной жизнью. Он вспоминает, как в прошлом году, когда он написал комедию «Зараженное семейство» и торопился поставить ее на сцене, «потому что комедия очень современна и к будущему году не будет иметь
735
того успеха», Островский иронически заметил ему: «Ты боишься, что очень скоро поумнеют». «Так я этого не боюсь в отношении своего романа», — прибавлял Толстой, объясняя свое решение не печатать роман отдельными частями.
Однако Толстой, как сказано выше, отступил от этого решения и напечатал в «Русском вестнике» за 1866 год вторую часть «1805 года».
В период времени с ноября 1865 года до мая 1866 года была написана первая черновая редакция всего дальнейшего текста «Войны и мира», начиная с третьей части второго и кончая последней частью четвертого тома (до эпилога). Сохранилась большая рукопись в 363 листа, исписанных рукою автора с обеих сторон. Процесс работы Толстого над этой рукописью был для него необычным. «Он не задерживался в работе, не давал по частям в переписку, не возвращался к правке ранее написанного, а двигался вперед, в процессе писания перерабатывая некоторые главы, делая на полях многочисленные записи, как для дополнения уже написанного, так и для будущего, набрасывая, кроме того, на полях и отдельных листах конспекты дальнейшего текста»74.
Очевидно, дальнейшее содержание всего романа до такой степени ясно определилось в сознании автора, что он чувствовал потребность немедленно, хотя бы вкратце, всё до конца запечатлеть на бумаге, откладывая до окончания всего произведения переработку отдельных глав.
Рукопись начинается с описания военно-исторических событий 1809 года. В едко-ироническом тоне описывает Толстой ту перемену в отношении к Наполеону, которая произошла в высших петербургских кругах после свидания императоров в Тильзите. «Никто уже не поминал о Буонапарте — корсиканском выходце и антихристе: не Буонапарте был, а был великий человек — Наполеон. Два года мы были в союзе с этим гением и великим человеком — императором Наполеоном... В 1809 император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с своим новым другом, и только и было речи в высшем обществе, в обществе Анны Павловны, что о величии этого торжественного свидания двух властелинов мира и о гениальности императора Наполеона, бывшего корсиканца Буонапарте, антихриста, которого год тому назад по высочайшему манифеству, как врага рода человеческого, по всем русским церквам предавали анафеме»75.
В этой большой рукописи рассказывается сначала о службе князя Андрея у Сперанского и его любви к Наташе, о речи
736
Пьера на заседании масонской ложи с призывом к преобразованию масонства, в которой выразились его «опасные замыслы», как сказал руководитель ложи. Затем действие переносится в усадьбу Ростовых — рисуются картины их деревенской жизни. Сцена псовой охоты у дядюшки Толстому удалась. С. А. Толстая пишет в своей автобиографии: «Некоторые места из «Войны и мира» приходилось переписывать много и много раз. Иные же, как описание охоты у дядюшки, выливались сразу»76. В другом месте С. А. Толстая рассказывает, что когда она в тот день, когда написана была эта сцена, зачем-то зашла к Льву Николаевичу в кабинет, «он весь сиял счастьем. Видно было, что он вполне был доволен своей работой»77.
Материалом для сцены охоты послужил Толстому как его личный опыт, так и наблюдения над «охотничьим миром» в имении старого страстного охотника И. В. Киреевского, у которого он гостил летом 1865 года.
Так же сразу были написаны Толстым чудесные, каждому памятные сцены пляски Наташи у дядюшки и ночного святочного катания на тройках.
Далее описывается визит Растопчина к старому князю Болконскому, а затем женитьба Бориса на Жюли Курагиной. Те рисунки гробниц, осененных тенью деревьев, и меланхолические стихотворные надписи на французском языке под этими рисунками, которыми Борис, будучи женихом, украшал альбомы Жюли, были найдены Толстым в семейном альбоме Юшковых 1817 года, хранящемся в Ясной Поляне.
И, наконец, рассказано роковое увлечение Наташи Анатолем Курагиным, хотя попытки похищения Наташи здесь еще нет.
1812 год. Одни главы более, другие менее близки к окончательному тексту. Наиболее совпадают с окончательной редакцией главы о генерале Балашове у маршала Даву, затем у Наполеона, о болезни Наташи после увлечения Анатолем, о собрании московского дворянства и купечества в Слободском дворце в начале войны, о смоленском купце Ферапонтове, зажегшем свой дом и лавку, чтобы «не доставались дьяволам», о смерти старого князя, о богучарском бунте, о приезде Николая Ростова в Богучарово, о Наполеоне и Лаврушке, об утреннем туалете Наполеона, о портрете его сына, выставленном перед императорской гвардией, об объезде Пьером вместе с генералом Бенигсеном позиций русских войск накануне Бородинского сражения и некоторые другие. Но описание самого Бородинского сражения пока еще элементарно и бледно. Сражение показано только через восприятие Пьера и отчасти смертельно раненного князя Андрея.
737
Нет ни Наполеона, ни Кутузова, ни мыслей автора о решающем значении Бородинского сражения»78.
Далее описание душевного состояния князя Андрея на перевязочном пункте после операции и после того, как он увидал невдалеке от себя раненого Анатоля Курагина, которому отняли ногу, его размышления о любви, как сущности жизни, близко совпадают с окончательным текстом.
Затем кратко описывается отъезд Ростовых из Москвы, когда по распоряжению старого графа (не Наташи) с нагруженных подвод скидывают вещи; на них располагаются раненые. На другой день к Ростовым привозят других раненых и в их числе князя Андрея и Тимохина. В тот же день к Ростовым приходит Пьер. Чувствуя, что «мы все на краю гроба», и не надеясь больше увидеть Наташу, он признается в любви к ней.
Окончание романа, соответствующее последнему, четвертому тому, дается почти все в конспективной форме79.
Наполеон на Поклонной горе ожидает депутацию «бояр». Пьер после вступления французов в Москву переодевается в мужицкую свитку и отправляется на Девичье поле, занятое французами, с намерением убить Наполеона. Ростовы уезжают из Москвы по Тамбовской дороге. В одной из их повозок едет раненый князь Андрей с Тимохиным. На ночлег остановились на постоялом дворе. Наташа тайком приходит к князю Андрею и просит у него прощения. Он прощает «всё, всё».
Пьер, блуждая по Москве, заходит к старой москвичке княжне Чиргазовой. Она не уехала из Москвы и не собиралась уезжать, будучи уверена, что французы ей ничего не сделают. И «уверенность ее была так сильна, что Pierre, глядя на нее, убеждался, что действительно ничего нельзя ей сделать». (Этого эпизода нет в окончательном тексте.) Выходя от княжны, Пьер встретился с Долоховым. Они забыли, что были врагами, и встретились так, «как будто они всегда были друзья». Долохов рассказывает, что он «запалил уж Каретный ряд», а его «молодцы зажгут везде»; он зажжет и дом матери. Спрашивает Пьера, зажжет ли он свой дом. Пьер отвечает, что это «лучше, чем угощать в нем французов», но сам он зажигать не станет. Долохов берется это сделать и сообщает Пьеру, что если он зачем-нибудь понадобится, то искать его следует «у Данилки под Москворецким мостом». (Толстой в то время, очевидно, верил в то, что Москву зажгли сами русские. Позднее он стал сомневаться в этом.) На другой день дом Пьера сгорел, и он ночует в опустошенной церкви. Здесь он встречается с французским офицером и, подружившись с ним, ведет его в дом Ростовых,
738
где они «пообедали и выпили». Пьер рассказывает французу про свою любовь к Наташе.
Действие переносится в Петербург. Кратко рассказывается о благоприятном впечатлении, произведенном донесением Кутузова о Бородинской победе, далее — о смерти Элен и о тягостном впечатлении от сдачи Москвы. Иронически передается ответ Александра I на донесение генерала Мишо, что он готов отпустить бороду «до сих пор» и есть один картофель «из всех овощей», но не заключит мира с французами.
Снова в Москве. Пьера схватывают и отводят в лагерь пленных на Девичьем поле. Оттуда его ведут к Даву, который велит ему присутствовать при казни поджигателей Москвы. Описание встречи Пьера с Даву и казни мнимых поджигателей близко к окончательной редакции романа (видно, эти сцены сильно волновали Толстого и написались почти сразу).
После возвращения Пьера в лагерь к нему приходит его тайный друг, офицер французской армии, итальянец Пончини, — повидимому, тот самый офицер, которого Пьер угощал в доме Ростовых. Пончини приносит ему продовольствие и сапоги и предлагает ему объявить, кто он такой, и тогда сам Наполеон пожелает его видеть. Но Пьер не соглашается. Он говорит, что если останется жив, то время плена будет для него лучшим воспоминанием. «Сколько добра я узнал и как поверил в него и в людей» (Платона Каратаева здесь еще нет). Вскоре всех пленных, и Пьера в том числе, вывели из лагеря и повели по Смоленской дороге.
Между тем Ростовы в половине сентября приехали в Тамбов и поселились в купеческом доме. С ними находится и князь Андрей. Княжна Марья приезжает туда же по приглашению Николая Ростова. Наташа ухаживает за больным князем Андреем, но продолжает любить Безухова.
Кратко рассказав о смене настроений в Петербурге после сдачи Москвы и опять иронически упомянув о «героических словах» (подразумевается: царя Александра I), Толстой так же кратко делает обзор военных событий после Бородинского сражения. Действие переносится в партизанский отряд Денисова, в котором состоят обожающий его Петя Ростов и «мужик из Покровского» Тихон Щербатый. Обманув Денисова, Долохов один нападает на французский отряд, при котором вели русских пленных, в том числе и Пьера Безухова. Освобожденный Пьер приезжает в Тамбов, но не застает здесь князя Андрея: он поехал в Вильну, чтобы вновь поступить в действующую армию.
В Вильне князь Андрей встречается с Николаем Ростовым, который уже получил согласие от княжны Марьи. Вечером того же дня в Вильну приезжает из партизанского отряда, жив и невредим, Петя Ростов. На другой день утром «оба новые родные»,
739

Наташа и князь Андрей в Мытищах
С рисунка Л. О. Пастернака
740
князь Андрей и Николай Ростов, отправляются к фельдмаршалу просить — Ростов об отпуске на 28 дней, а Болконский — о зачислении в действующую армию (не в штаб). Фельдмаршал соглашается на то и на другое. На другой день состоялся смотр, на котором после церемониального марша Кутузов поздравил войска с победой. Толстой присоединил сюда и эпизод с произнесением Кутузовым стиха из басни Крылова «Волк на псарне», в действительности происходивший в другое время (в окончательном тексте этого эпизода нет).
Далее конспективно рассказываются последние события в жизни героев. Николай Ростов женится на княжне Марье, а Пьер Безухов — на Наташе, причем обе свадьбы сыграны были в один день в имении Ростовых Отрадном, «которое вновь оживилось и зацвело». После свадьбы Ростов и Болконский уехали в действующую армию, потом приняли участие в заграничном походе и во взятии Парижа. В их отсутствие Пьер, Наташа, графиня Марья с племянником, старые граф и графиня Ростовы и Соня «прожили все лето и зиму 13-го года в Отрадном и там дождались возвращения Nicolas и Андрея».
Этот набросок окончания романа был написан, повидимому, в мае 1866 года. В середине мая Толстой писал Фету, что надеется закончить свой роман к будущему году и предполагает издать его отдельной книгой под названием «Все хорошо, что хорошо кончается» (буквальный перевод употребительной английской поговорки). Этому названию вполне соответствует содержание наброска, однако не в том смысле, как это понимается некоторыми исследователями. Неоднократно высказывалось мнение, будто бы «этот вариант окончания романа соответствовал еще первоначальному замыслу писателя воссоздать историю жизни нескольких дворянских семейств начала века»80. Но замысла «воссоздать историю жизни нескольких дворянских семейств» у Толстого никогда не было (был замысел дать «картину нравов, основанную на историческом событии», а это не одно и то же); нет никаких оснований полагать, что и здесь Толстой ставил перед собой задачу, приписываемую ему исследователями. Прежде чем наметить будущую судьбу героев своего романа, Толстой рассказал об окончании той борьбы за национальную независимость, которую с таким напряжением вел русский народ в 1812 году. Только потому и оказалось возможным возвращение действующих в романе лиц к мирной жизни, что была закончена борьба с чужеземным нашествием, что был разрешен «вопрос жизни и смерти отечества». В этом основной смысл предположенного Толстым названия. Совершенно ясно, что семейная тема не только не стоит для автора на первом плане,
741
но тема эта в данный момент очень мало его интересует. В части, касающейся судьбы героев, финал романа получался слишком обыденным: все они — в том числе и участники кровопролитной войны — живы, здоровы и счастливы. Но он совершенно не соответствовал ни гениальному дарованию, ни творческим приемам Толстого. Когда Толстой по-настоящему задумался над вопросом о дальнейшей участи героев своего произведения, он вложил в решение этого вопроса всю силу своего гения и создал в «Войне и мире» ряд сильных, ярких, зачастую драматических картин, принадлежащих к лучшим страницам его творений.
XVI
Уже в начале августа 1866 года Толстой после обычного летнего перерыва вновь приступил к работе.
Решив начать печатание своего романа отдельным изданием, Толстой стал готовить первый том, который должен был заканчиваться Тильзитским миром. Он начал заново редактировать как текст «1805 года», напечатанный в «Русском вестнике», так и его ненапечатанное продолжение. При этом Толстой, как писал он Фету 7 ноября 1866 года, особенное внимание обращал на «движение характеров» («диалектику души») главных героев, что раньше, когда он был занят преимущественно военно-исторической стороной романа, стояло на втором плане.
Предположенное раньше название «Все хорошо, что хорошо кончается» не удовлетворяло Толстого и было оставлено. Появилось новое и окончательное: «Война и мир»81.
В настоящее время утвердилось понимание этого заглавия в том смысле, что в произведении Толстого изображены как картины войн с Наполеоном в 1805—1812 годах, так и картины жизни русского народа за тот же период в условиях мирной обстановки или по крайней мере вдали от театра войны. Такое понимание вполне соответствует содержанию гениального произведения,
742
но Толстой в то время вряд ли имел его в виду. В первый период творчества он имел обыкновение давать своим произведениям самые простые названия, не стараясь при помощи названия раскрывать их смысл. Повидимому, новое название обозначало то же самое, что и прежнее («Все хорошо, что хорошо кончается») и должно было служить лишь указанием на то, что в романе описываются военные события, закончившиеся изгнанием неприятеля и возвращением к мирной жизни, — подчеркивалось, следовательно, прежде всего военно-историческое содержание произведения81а.
Следует сказать, что сочетание понятий «война» и «мир» еще до Толстого неоднократно встречалось в русской литературе. Так, у Ломоносова в его трагедии «Томира и Селим» (1750) находим стих: «Война и мир против моей любви воюет»82. У С. Раича есть стихотворение «Война и мир» (1854); так же называется одно из стихотворенией В. Бенедиктова (1857). В записках С. Глинки, которые Толстой усердно изучал, сказано, что в 1812 году «мир и война шли рядом»83.
Упомянем еще о том, что в 1864 году вышло в русском переводе теоретическое сочинение Прудона под заглавием «Война и мир», по своим основным положениям не имеющее, впрочем, ничего общего с романом Толстого.
Но вероятнее всего заглавие романа появилось у Толстого как реминисценция выражения, употребленного Пушкиным в обращении летописца Пимена к Григорию:
«Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей...»
XVII
11 ноября 1866 года Толстой привез в Москву первый том «Войны и мира» для сдачи в печать.
Он воспользовался своим пребыванием в Москве, которое продолжалось неделю, для того, чтобы дополнить главу о приеме Пьера в масонскую ложу. Для этого он приступил к изучению масонских рукописей, хранившихся в Румянцевском музее. Результат
743
изучения оказался неожиданным. 15 ноября Толстой писал жене: «Пошел в Румянцевский музей и сидел там до трех, читал масонские рукописи, — очень интересные. И не могу тебе описать, почему чтение нагнало на меня тоску, от которой не мог избавиться весь день. Грустно то, что все эти масоны были дураки»84.
В этих словах Толстой имел в виду, конечно, учение о «таинствах» (тайны природы), занимавшее весьма видное место в системе масонства. Это учение излагается в дневнике Пьера Безухова («великий квадрат мироздания», «тройственное и седьмое число», «три начала вещей — сера, меркурий и соль» и т. д.). Но, желая полнее охарактеризовать учение масонов, Толстой не мог не коснуться и их этических воззрений, в которых он нашел много общего со своими взглядами. Особенно близко Толстому было учение масонов о нравственном совершенствовании как первой обязанности человека и как единственном пути действительного изменения общественных отношений. Эти мысли о значении нравственного совершенствования, которые Толстой, вероятно, почерпнул из масонских рукописей, также нашли свое выражение в дневнике Пьера Безухова и особенно в его речи в масонской ложе, где им были произнесены следующие слова: «Всякая насильственная реформа достойна порицания, потому что нимало не исправит зла, пока люди остаются таковы, каковы они есть, и потому что мудрость не имеет нужды в насилии»85.
Эта мысль до такой степени оказалась близка Толстому последнего периода его жизни, что, прочитав ее в 1905 году в слегка измененном виде в сборнике своих мыслей и афоризмов86, Толстой включил ее в составлявшийся им тогда сборник изречений разных мыслителей «Круг чтения»87. Точно так же было включено Толстым в «Круг чтения» и следующее рассуждение масона Иосифа Алексеевича Баздеева, наставника Пьера, высказанное еще при первом знакомстве с ним: «Никто один не может достигнуть до истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем великого бога»88.
Что касается ритуала масонов, Толстой не мог относиться к нему иначе, как иронически. Иронический тон особенно заметен в черновой редакции описания приема Пьера в масонскую
744
ложу. Когда при слабом свете спиртового огня пять-шесть видных членов масонской ложи в фартуках направили шпаги на открытую грудь Пьера, ему было «не страшно, но совестно»; при этом один старичок, державший шпагу, «в это самое время удерживал зевание»89. В окончательном тексте Толстой удалил эти подробности, но усилил упоминание о замешательстве между руководителями церемонии из-за несоблюдения какой-то формальности.
Пьеру сначала было очень отрадно чувствовать себя, по учению масонов, частью «огромной невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах». Но после Пьер, как известно, разочаровался в масонстве и особенно в масонах, хотя к памяти «благодетеля», который ввел его в масонство, всегда относился с благоговением.
В эпилоге, действие которого относится к 1820 году, Пьер изображается уже противником всякого мистицизма, в чем, как кажется, сочувствует ему и автор.
XVIII
Переговоры с типографией о печатании романа в ноябре 1866 года оказались безуспешными, чем Толстой не только не был огорчен, но чему был даже рад. Он сознавал, что произведение в целом еще не до такой степени обработано, чтобы можно было смело пустить его в печать. По возвращении в Ясную Поляну он 19 ноября 1866 года писал Башилову, что издавать роман в текущем году не будет, так как «все придется делать второпях, и потому все будет сделано плохо».
Вся зима 1866—1867 года, а также и весна 1867 года прошли у Толстого в работе над переделкой написанных частей «Войны и мира» с добавлением целых новых глав. Работа протекала страшно напряженно.
Во время работы над тем или другим эпизодом у Толстого являются многочисленные планы дальнейших сцен, разговоров, характеристик, штрихов пейзажа и т. д., которые он тут же бегло заносит на поля рукописи с тем, чтобы развить их позднее. Бывало и так, что одно какое-нибудь слово, написанное автором, тут же им зачеркивалось и заменялось целой сценой или диалогом. Из сотен примеров приведу один. Всем памятное описание встречи (если можно так выразиться) князя Андрея в лесу весною с зеленеющим дубом, в первой редакции включало фразу: «Было жарко, легко». Толстой вычеркивает эту фразу и, закончив пейзаж («Береза вся усеяна зелеными клейкими листьями» и т. д.), дает диалог, в котором лакей Петр сначала говорит что-то
745
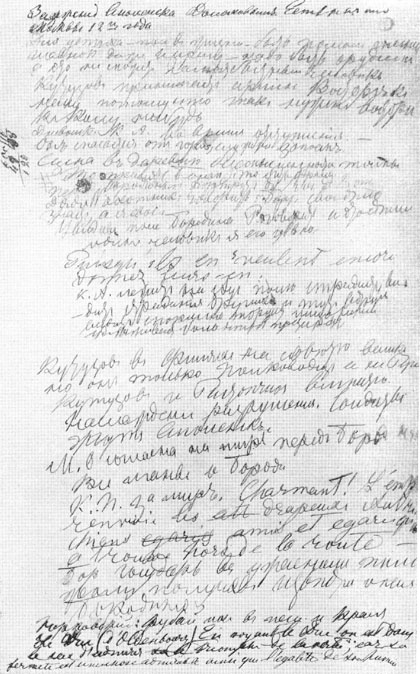
Черновые записи Л. Н. Толстого к роману «Война и мир»
746
кучеру, а затем, обращаясь к барину, произносит: «Ваше сиятельство, лёгко как»90. И эти простые слова простого человека наводят князя Андрея на новые мысли и наблюдения над окружающей природой и вместе с видом зеленеющего дуба способствуют возрождению его к жизни.
Чрезвычайная стремительность в работе приводила к тому, что в романе остался неустраненным ряд мелких противоречий в отдельных подробностях.
Так, княжна Марья надевает отправляющемуся на войну брату образок в серебряной ризе на серебряной цепочке; между тем французские солдаты после Аустерлицкого сражения снимают с тяжело раненного князя Андрея золотой образок. Николай Ростов после проигрыша Долохову, проведя несколько недель в Москве, «в конце ноября» уезжает в полк. Однако проигрышу Долохову предшествовал вечер у Иогеля 27 декабря; самый проигрыш произошел 30 декабря, объяснение с отцом — 31 декабря. Следовательно, Ростов мог уехать из Москвы только в конце января следующего, 1807 года.
Несогласованность осталась и в обозначениях возраста сестер Ростовых. В августе 1805 года Наташе тринадцать лет; в начале 1806 года ей уже пятнадцать. Ошибка в данном случае произошла вследствие того, что автор неправильно определил время пребывания Николая Ростова на войне в полтора года, в то время как по действию романа он пробыл на войне в этот раз только полгода. В 1809 году Наташе только шестнадцать лет. Напротив, Вере Ростовой в 1805 году семнадцать лет, в 1806 году — уже двадцать, а в 1809 году — двадцать четыре91.
Можно указать также несколько случаев, когда в окончательном тексте «Войны и мира» остались отдельные слова из предыдущих редакций, не соответствующие тем изменениям, которые были произведены автором в новой редакции. Так, князь Андрей перед тем, как рассказать про свою любовь к Наташе, обращается к Пьеру со словами: «Ты знаешь наши женские перчатки», — после чего автор в скобках делает пояснение: «Он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине»92. Это упоминание о «наших женских перчатках» было уместно в предыдущей редакции, где князь Андрей был изображен принадлежащим к масонской ложе, но в окончательном тексте князь Андрей уже
747
не делается масоном, и здесь его упоминание о «наших женских перчатках» непонятно.
Другой пример. Пьер после Бородинского сражения, 30 августа, возвратившись от Растопчина, к которому он был вызван, ложась спать, смутно припоминает события последних дней: «Они — солдаты на батарее, князь Андрей убит... старик...»93. Читателю остается непонятным, о каком старике вспоминает здесь Пьер. Но это упоминание объясняется тем, что в наборную рукопись третьего тома первоначально входила глава, в которой описывался приезд Пьера после Бородинского сражения по дороге в Можайск в деревню, покинутую жителями. Здесь он увидал столетнего старика, который не поехал со всеми. На вопрос Пьера, отчего он не уехал, старик отвечает: «Куда же я от бога уеду? Он, родимый, везде найдет». В войне старик видел наказанье божье, но в то же время надеялся, что «бог наказал — он и помилует»94. В окончательном тексте вся эта глава была выпущена, а упоминание о старике по ошибке осталось.
Показательно, что ни сам Толстой, ни Н. Н. Страхов, подготовлявший издание «Войны и мира» 1873 года, ни С. А. Толстая, переписывавшая роман и позднее державшая корректуру нескольких изданий, не заметили этих оплошностей. Не замечали их и сотни тысяч читателей в течение десятилетий со дня выхода романа вплоть до наших дней. Читателей так захватывала необычайная художественная мощь произведения, с таким интересом следили они за ходом событий и за изображением разнообразных характеров многочисленных героев романа и их переменчивых судеб, что на детали не обращалось внимания. Но сам Толстой не относился безучастно к мелким погрешностям своего любимого творения и исправлял их, когда ему на них указывали. После того, как историк П. К. Щебальский в рецензии на первое издание «Войны и мира»95 обратил внимание на то, что в двух главах романа различно обозначен день открытия Государственного совета в 1810 году, Толстой во втором издании исправил эту неточность.
XIX
Напряженность творческой работы еще более возросла, после того как 22 июня 1867 года Толстой заключил условие с московской типографией Риса о печатании «Войны и мира». С этого времени в продолжение двух с половиной лет, вплоть до октября
748
1869 года, Толстой усиленно занят только одной работой. Даже летние месяцы, которые раньше уходили у него на занятия хозяйством, теперь проходят в работе над романом. Толстой одновременно и правит корректуры печатающихся томов и подготовляет к печати следующие части.
Подготовка к печати первого тома «Войны и мира», заканчивавшегося Аустерлицким сражением, не потребовала от автора большого труда. Девятнадцать глав первой части в исправленном виде были вручены владельцу типографии через два дня после заключения условия. Остальной исправленный текст напечатанного в «Русском вестнике» «1805 года» был отправлен в типографию из Ясной Поляны в первых числах июля. Исправления двух первых частей, напечатанных в «Русском вестнике», сводились главным образом к сокращениям текста, к изменениям характеристик действующих лиц, к усилению точности и образности языка.
Во втором томе значительной переработке в корректурах подверглись глава о приеме Пьера в масонскую ложу и французское письмо Билибина о характере кампании 1806 года. Последние главы второго тома (в первом издании третьего) — рассказ об увлечении Наташи Анатолем и о попытке ее похищения — стоили Толстому очень большого труда. Отправляя их Бартеневу 1 ноября 1867 года, Толстой писал: «Рукопись третьего тома готова наконец. Я говорю наконец потому, что конец третьего тома было самое трудное место и узел всего романа». Толстой называл эти главы «узлом» именно романа (а не эпопеи) по тому влиянию, какое оказало увлечение Наташи на дальнейшую жизнь и ее и князя Андрея.
Получив в конце ноября корректуру всего тома, Толстой заново переработал последние главы. Отсылая исправленные корректуры, он писал Бартеневу 26 ноября: «Посылаю последние корректуры третьего тома. Я измучился за ними... Они ужасно измараны... Эти все гранки самое важное место романа — узел. Ради бога, просмотрите повнимательнее и при малейшем сомнении пришлите мне другой раз. У меня в голове страшный дурман — я четвертый день не разгибаясь работаю, и теперь второй час ночи».
XX
Приступив к описанию войны 1812 года, Толстой спешит сообщить читателю свое отрицательное отношение к войне вообще.
«Началась война, — читаем на первой странице третьего тома «Войны и мира», — то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей
749
совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления».
Еще более определенно отрицание войны выражено в «Войне и мире» устами князя Болконского, которого Толстой нередко заставлял высказывать мнения автора.
«Что такое война, — говорит Андрей Болконский в беседе с Пьером Безуховым накануне Бородинского сражения, — что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то — это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга»96.
В первой редакции «Войны и мира» рассуждение о войне произносит не Андрей Болконский, а Тушин. Он говорит: «Война, по-моему, есть крайняя степень неразумности человеческой, есть проявление самой бессмысленной стороны человеческой природы: люди, не имея на то никакой причины, убивают друг друга. Нарядятся большие, взрослые люди97 кто в гренадера — мохнатую шапку наденет, кто в гусара, снурками разошьются, наберут пушек, ружей, лошадей и начнут бить друг друга и сами не знают, зачем. Ведь это значит все сумасшедшие... Надо как можно людей приблизить к животному, тогда только они будут годны для войны»98.
Война означает распадение нормальных условий человеческой жизни — этой мыслью проникнута вся эпопея «Война и мир». Ярче всего распадение нормальных условий жизни, как результат войны, изображено в следующем отрывке из черновой
750
редакции «Войны и мира», содержащей описание состояния русского войска накануне Аустерлицкого сражения:
«Для всех этих людей дорога сделалась не путем к семье, к удовольствию или к труду, а путем обхода, атаки; забор, закрывавший виноградник от грабежа, — защитой от пуль; лошадь — не другом и слугой, а орудием передвиженья пушек и ядер; дома — не очагами семей, а местом засады. Леса, сады — не тенью и матерьялом и весельем, а выгодной позицией для застрельщиков; горы и лощины — не красотами, а позициями; реки и пруды не для мельниц и рыбы, а прикрытиями флангов; пища — поддержкой силы для борьбы; люди — не братьями, а орудиями и необходимыми жертвами смерти»99.
Война — «страшное дело»100. На войне люди находятся в «противучеловеческом состоянии»101. «Труднее всего в сраженьи — начать. Перейти из обыкновенного человеческого положения в положение убийцы»102. После того, как Николай Ростов в сражении при Островне ударил саблей французского офицера, он «испытывал какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце»; ему; «было неловко и чего-то совестно»103. К концу Бородинского сражения «люди чувствовали весь ужас своего поступка» и «рады бы были перестать»104.
«Хорошему полководцу, — по словам Толстого, — нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен... Избави бог, коли он, человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет...»105.
Война противоречит сознанию братства народов, инстинктивно свойственному простым, неиспорченным людям. Ни русский народ против французского, ни французский народ против русского не имели и не могли иметь никаких враждебных чувств. Вот сцена еще из войны 1805 года, когда до начала сражения близко подходят друг к другу русские и французские отряды. Офицеры русские и французские разговаривают между собой на французском языке; а после того как русский солдат, обращаясь к французским, стал лопотать разные бессмысленные звуки, представляя, что он говорит по-французски, «раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно
751
через цепь сообщившегося и французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорей всем по домам»106.
Отсутствие национальной вражды сказывалось на отношении русских солдат к французским пленным. Русские солдаты кормят и обогревают голодного и обмерзшего французского офицера Рамбаля. Денисов оставляет при себе взятого в плен французского барабанщика, молодого парня Vincent (Толстой нашел его в «Дневнике партизанских действий» Дениса Давыдова). Этого барабанщика казаки прозвали Весенним, а мужики и солдаты — Висеней. «В обеих переделках, — пишет Толстой, признававший смысл в такого рода своеобразной народной этимологии, — это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике»107.
Художественно контраст войны и мирной жизни наиболее ярко изображен в той сцене «Войны и мира», когда Пьер в ночь после Бородинского сражения, только что заснув на постоялом дворе, вдруг слышит во сне звуки выстрелов и падающих снарядов, крики, стоны и с ужасом просыпается. Проснувшись, он увидел над собой «чистое звездное небо», услыхал разговор дворника с денщиком и звуки полета голубей, которых он спугнул своими движениями, почувствовал «мирный, радостный» для него в эту минуту «крепкий запах постоялого двора» и с неописуемым облегчением подумал: «Слава богу, что этого нет больше»108.
XXI
При всем ужасе перед войной Толстой в «Войне и мире» признает, что могут быть такие условия, при которых война становится «страшной необходимостью»109. Это бывает тогда, когда народ, занятый мирным трудом, подвергается ничем не вызванному нападению, когда этот нападающий истребляет и калечит тысячи людей мирного народа, разграбляет и уничтожает плоды его труда и угрожает ему порабощением. В таком случае народ, подвергшийся нападению, не только имеет право, но и должен
752
мужествено отстаивать свою независимость и не прекращать борьбы до тех пор, пока нападающий не будет окончательно изгнан из родной земли.
Такою «страшною необходимостью» Толстой считает войну русского народа против наполеоновского нашествия в 1812 году, когда «решался вопрос жизни и смерти отечества»110. «Для всех русских людей тогда было общим желанием» — «изгнание французов из России и истребление их армий»111. Война 1812 года имела «свое дорогое русскому сердцу народное значение»112.
Андрей Болконский в ночном разговоре с Пьером накануне Бородинского сражения говорит: «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить». Князь Андрей считает даже, что не следовало бы брать пленных: «это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокою... Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча» — люди не пошли бы на такую войну, зная, что они идут на верную смерть. Вестфальцы и гессенцы не пошли бы за Наполеоном в Россию. На возражение, что такой образ действий по отношению к пленным противоречит правилам войны, Болконский отвечает: «Нам толкуют о правилах112а войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и т. д. Всё вздор... Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего — убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!»113.
Толстой — это его мысли выражает Андрей Болконский — так возмущен и оскорблен вторжением наполеоновской армии в русскую землю, грабежом и бесчисленными насилиями над русским народом, что он не винит русских крестьян за то, что они поступали с французами-«миродерами», фуражирами, отсталыми так же, как поступили бы с «забеглой бешеной собакой»114.
Смешны и бессмысленны кажутся Толстому сетования Наполеона в письмах к Александру I и Кутузову на то, что партизанская война есть война не по правилам. Несмотря на жалобы Наполеона о неисполнении правил, говорит Толстой, «дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил,
753
с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».
И в заключение своих рассуждений о партизанской войне писатель-патриот, в то время еще далекий от проповеди непротивления злу насилием, с воодушевлением провозглашает:
«И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит115 ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью»116.
XXII
В третьем (первом издании — четвертом) томе, где Толстой переходит к войне 1812 года, характер произведения существенным образом изменяется. Элементы эпопеи становятся преобладающими над элементами романа; Толстой пишет теперь «историю народа». Пока действие романа происходило на протяжении 1805—1811 годов, многие важные события в жизни героев не имели никакого отношения к военным действиям; но когда описывается народная война, нет ни одного действующего лица, главного, второстепенного или эпизодического, действует ли это лицо с начала произведения или появляется только теперь, для того чтобы произнести несколько слов и исчезнуть со страниц эпопеи, — нет ни одного лица, жизнь которого так или иначе не была бы связана с народной войной. Герои положительные, как Пьер, князь Андрей, княжна Марья, Наташа, думают и чувствуют заодно с народом; в них усиливается способность к жертве своим личным благополучием, даже и жизнью ради общего дела. Герои отрицательные, придворные и штабные карьеристы, в то время, когда «решался вопрос жизни и смерти отечества», еще больше, чем обычно, обнаруживают свой эгоизм и душевное ничтожество.
Изменяется самый стиль произведения. «Для многообъемлющего, анализирующего и связывающего мышления автора «Войны и мира» существенными и выразительными являются осложненные синтаксические формы его речи»117. Эта особенность
754
стиля «Войны и мира», вытекающая из желания автора в своем произведении «захватить все», наиболее заметна в двух последних томах.
Существенным отличием композиции двух последних томов «Войны и мира» от двух первых является то, что в этих томах целые главы посвящены изложению философских и философско-исторических воззрений автора. Уже в первой главе третьего тома, как мы видим, излагаются взгляды автора на войну 1812 года и причины ее. В дальнейшем ряд глав третьего и четвертого томов трактует о свободе и необходимости, о роли личности в истории, о значении народных масс в ходе исторического процесса, о власти и ее происхождении, об исторических законах, о задачах и методах науки истории и других аналогичных вопросах. Изучая сложные события 1812 года, Толстой стремился понять их причины и последствия и результатами своих размышлений делился с читателями.
Творческий метод Толстого, ярко проявившийся при создании первых томов романа-эпопеи, с еще бо̀льшим мастерством был им применен в изображении народной войны и связанных с нею событий. Еще больше внимания обращает теперь Толстой на то, чтобы придать наибольшую типичность изображаемым им лицам. В этом отношении характерна работа Толстого над образом генерала Пфуля, немца на русской службе, эмигрировавшего из Пруссии после завоевания ее Наполеоном, приближенного к Александру I. В книге адъютанта Пфуля К. Клаузевица «1812 год» Толстой прочитал следующую характеристику Пфуля: «Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Он давно уже вел настолько замкнутую умственную жизнь, что решительно ничего не знал о мире повседневных явлений. Юлий Цезарь и Фридрих II были его любимыми авторами и героями... Таким образом, он составил себе крайне одностороннюю и скудную систему представлений о военном искусстве, которая не могла бы выдержать ни философской критики, ни исторических сопоставлений... В 1806 году он состоял офицером генерального штаба при короле... После постигшей Пруссию катастрофы [т. е. завоевания Пруссии Наполеоном] он с иронией внезапно начал нападать на все случившееся; он смеялся как безумный над поражением наших армий...»
Клаузевиц рассказывает, как держал себя Пфуль на военном совете в главной квартире в 1812 году, когда было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным), что французы обошли русскую армию с левого фланга. Пфуль «с одной стороны, был приведен в явное замешательство неожиданными событиями, с другой стороны, сдерживаемые огорчения толкали его к иронии, к которой он всегда был склонен. Он и теперь
755
откровенно стал на этот путь и с видимым удовольствием заявил, что так как его совету не последовали, то он не может взять на себя и указания выхода из создавшегося положения. Он говорил это, быстро бегая взад и вперед по комнате».
Клаузевиц оговаривается, что «давая не вполне лестную оценку ума и душевных качеств» Пфуля, он вместе с тем «в интересах справедливости» должен сказать, что «трудно было найти более доброе сердце и более благородный и бескорыстный характер»118.
Можно себе представить, как доволен был Толстой, прочитав у Клаузевица эту характеристику Пфуля. Такой тип немецкого военного теоретика, чуждого явлениям окружающей действительности, был ему очень нужен. И Толстой не только придал образу Пфуля все те черты, которыми он характеризуется у Клаузевица, но внес еще некоторые добавочные штрихи, вытекающие из этой характеристики. На том совете в главной квартире, о котором говорит Клаузевиц и который описан Толстым, «озлобленный, решительный и бестолково самоуверенный» Пфуль возбуждал в князе Андрее некоторое участие как тем, что, отстаивая свои мнения, он не искал для себя никаких выгод и «внушал невольное уважение своею беспредельною преданностью идее», так и тем, что в то время как все другие генералы, участники военного совета, чувствовали «хотя и скрываемый, но панический страх перед Наполеоном», Пфуль был свободен от этого страха, считая Наполеона «таким же варваром», как и всех противников его теории.
Для Толстого характер Пфуля был драгоценен своей типичностью. Князь Андрей, говорит Толстой, и раньше видал немецких теоретиков-генералов, но Пфуль «был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединившего в себе все, что было в тех немцах, еще не видал никогда князь Андрей»119.
Отсюда видно, как Толстой понимал типичность характера. Наибольшей типичностью, по его представлению, отличается тот характер, который соединяет в себе многие отдельные черты, свойственные той или иной социальной или психологической категории, но имеющиеся в разрозненном виде у различных представителей данной категории120.
XXIII
Пребывание Александра I в действующей армии в первые месяцы войны 1812 года дало Толстому повод остановиться на
756
характеристике окружавшего царя придворного общества, выполняя этим поставленное им перед собою еще в 1865 году задание — обличить «всю подлость, всю фразу» высшего придворного круга.
Представителей императорской главной квартиры Толстой разделяет на восемь групп соответственно их взглядам на задачи и способы ведения начавшейся войны; каждая из этих групп приводила те или другие основания в пользу своего мнения. Самую большую партию — 99% — составляли, по словам Толстого, люди, которые желали только одного: «наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время». «Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости»121.
Даже мимолетное соприкосновение с царским двором производит развращающее действие. В одном из отброшенных начал «Войны и мира» Андрей Болконский, называемый здесь Волховским, находясь в кутузовской армии (действие происходит в 1805 году), говорит Борису Друбецкому про одного их общего знакомого: «Ты знаешь, что с ним, отчего он так тебя третирует en dessous jambes [уничтожающе]? Государь ему сказал нынче несколько слов. Я это люблю наблюдать. Человек как человек. Вдруг — смотришь, совсем испортился. Я всегда уж и добираюсь, кто из царской фамилии с ним говорил»122.
Члены главного штаба армии в большинстве своем такие же карьеристы и интриганы, как и члены главной императорской квартиры. По словам князя Андрея, «это все подлецы, шакалы, или льстецы, или трутни»123. Они «заняты только тем, чтобы притворяться делающими»124. Накануне Бородинского сражения «они заняты только своими маленькими интересами»; «для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку» (то есть орден или чин)125.
Работая над изображением войны 1812 года, Толстой строго критически относился к тем историческим источникам, которыми ему приходилось пользоваться. Очень характерно в этом отношении описание собрания московского дворянства и купечества в Слободском дворце 15 июля 1812 года в присутствии
757
Александра I, приехавшего, как говорили, воодушевлять народ по случаю начавшейся войны.
Речь царя, Растопчина, речи представителей дворянства и купечества — все это заимствовано Толстым из исторических сочинений (главным образом из книги С. Глинки «Записки о 1812 годе»). Но какая разница в характеристике собравшихся и в освещении их речей! Глинка приводит патриотическую речь дворянина, «статного, благовидного, речистого в русском слове», провозгласившего, что «теперь не время рассуждать, надобно действовать. Кипит война необычная, война внутренняя. Она изроет могилы и городам и народу. Россия должна выдержать сильную борьбу; а эта борьба требует и небывалой доселе меры. Двинемся сотнями тысяч, вооружимся, чем можем... Будем везде тревожить Наполеона; отрежем его от Европы и покажем Европе, что Россия восстанет за Россию»126.
Толстой почти полностью, с некоторыми стилистическими изменениями, приводит речь дворянина, но дает этому оратору совершенно иную характеристику, чем Глинка. Пьер, сказано в романе, был знаком с этим дворянином и знал его «за нехорошего игрока в карты». Одной этой добавленной Толстым чертой вскрывается вся фальшь показного патриотизма красноречивого оратора, который выкрикивает свою речь, ударяя себя в грудь и с налитыми кровью глазами.
Толстой рассказывает, что одни из собравшихся дворян громко произносили патриотические речи, другие «в этой жаре и тесноте шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее». Знакомые Пьеру «семидесятилетние вельможи старики», «в мундирах, в лентах», сидели за большим столом, и «выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко».
Собрание постановило каждому дворянину выставить по одному рекруту с десяти человек крепостных с полным обмундированием. Толстой сообщает об этом постановлении с таким добавлением: «На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и покряхтывая отдавали приказания управляющим об ополчении и удивлялись тому, что они сделали»127.
Толстой хорошо знал современное ему московское «благородное дворянство». Он был уверен, что и отцы и деды этих дворян, собравшиеся в 1812 году в Слободском дворце, были такие же, как они. Он очень дорожил сценой в Слободском дворце, как писал он Бартеневу 23 декабря 1867 года. Именно эта сцена
758
послужила одним из главных поводов для нападок на него со стороны критиков консервативного лагеря.
Не менее значителен и другой пример критического отношения Толстого к материалам о войне 1812 года.
Еще Жуковский в своем «Певце во стане русских воинов» восхвалял подвиг генерала Н. Н. Раевского, который будто бы в одно из сражений вывел двух своих малолетних сыновей и с ними вместе пошел впереди отряда на французов. Эта легенда потом была повторена в официозной «Истории Отечественной войны» генерала Богдановича и в других исторических работах о 1812 годе. Но Толстой не поверил этой легенде. В «Войне и мире» ее передает Николаю Ростову штабной офицер Здржинский. Он «рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности». Раевский будто бы «вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку». Николай Ростов, имевший уже военный опыт, слушал офицера с видом «человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать». Ростов понимал, что поступок Раевского, если бы он и был совершен в действительности, в пылу сражения мог подействовать только на нескольких человек, бывших вблизи, и был бы совершенно бесцелен, так как от судьбы Салтановской плотины не зависела судьба отечества, как это было при Фермопилах. Не понимал Ростов и того, «зачем тут, на войне, мешать своих детей»128.
За это мнение Толстого, высказанное устами одного из его героев, критики-консерваторы нападали на него не менее, чем за сцену в Слободском дворце. Но уже после того, как появилась «Война и мир», была опубликована записная книжка поэта Батюшкова, адъютанта Раевского, которого он сопровождал и в заграничном походе. Здесь в записи за 1817 год Батюшков приводит свой разговор с Раевским по этому поводу. Он рассказывает:
«Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кое о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии... Кампания 1812 года была предметом нашего болтанья.
— Из меня сделали римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, — из Милорадовича великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа не велики птицы... Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих.
759
— Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес превозносили.
— За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!
— Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, вышли на мост, повторяя: «Вперед, ребята! Я и дети мои откроем вам путь ко славе», или что-то тому подобное?
Раевский засмеялся.
— Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пулей ему прострелило панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель [Жуковский] воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilà comme on écrit l’histoire [Вот как пишется история!]»129.
Как видим, Раевский нисколько не отрицал того, что он «был впереди» и ободрял солдат, которые «пятились»; он отрицал только россказни о его детях, которыми он будто бы совершенно бессмысленно решил пожертвовать ради победы над французами в небольшом сражении. Толстой, ничего не зная о существовании записи Батюшкова, чутьем угадал всю неправдоподобность сочиненного в Петербурге «анекдота», который, кроме офицера Здржинского, передает в своем письме к княжне Марье изломанная, неискренняя, любящая громкие трескучие фразы Жюли Карагина130.
XXIV
Подобно тому, как описание увлечения Наташи Анатолем — узел, кульминационная точка «Войны и мира» как романа, точно так же описание Бородинского сражения — узел, кульминационная точка «Войны и мира» как эпопеи.
Толстой изучил все бывшие в его распоряжении исторические материалы и мемуары о Бородинском сражении, но этого ему было мало. Ему необходимо было ясно представить себе, где и как происходило сражение. Для этого ему было нужно своими глазами увидать место сражения.
22 сентября 1867 года Толстой поехал в Москву, а 25 сентября вместе со своим шурином, двенадцатилетним Степой Берсом, выехал из Москвы в Бородино. Дорогой Толстой записал
760
названия всех почтовых станций и расстояния между ними от Москвы до Бородина. Некоторые из этих деревень упомянуты в описании поездки Пьера на Бородинское поле и в Можайск.
День 26 сентября Толстой употребил на изучение поля сражения. На большом листе бумаги он начертил для себя общий план поля, обозначил расположение окрестных деревень и русла рек, записал, в каком положении находились русские и французские войска по направлению к восходящему солнцу (как известно, Бородинское сражение началось в 6 часов утра). Ночевали в монастырской гостинице, вблизи поля сражения. На другой день, 27 сентября, Толстой, как писал он жене, «встал на заре, объехал еще раз поле»131.
В тот же день, вернувшись в Москву, Толстой писал жене: «Я очень доволен, очень — своей поездкой... Только бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было...»132
Надо думать, что к переработке глав о Бородинском сражении Толстой приступил сейчас же по возвращении из Москвы, под свежим впечатлением осмотра Бородинского поля. Главы были переработаны Толстым дважды; рукопись отправлялась в Москву частями в декабре 1867 — январе 1868 года.
Художественному изображению Бородинского сражения Толстой счел нужным предпослать главу военно-исторического содержания, которая в издании «Войны и мира» 1873 года получила название «Как действительно произошло Бородинское сражение»133. В этой главе, написанной, вероятно, на основании осмотра Бородинского поля, Толстой утверждает, что Бородинское сражение произошло совсем не так, как его описывают историки, — оно произошло не на том месте, на котором первоначально предполагалось. Историки говорят, «будто бы Бородинское сражение было принято нами на укрепленной и наперед избранной позиции»; в действительности же «оно произошло на совершенно неожиданном и почти неукрепленном месте». Для уяснения своих соображений по этому вопросу Толстой приложил к этой главе составленный им план, на котором было обозначено «предполагаемое» и «действительное» расположение русских и французских войск во время Бородинского сражения.
По утверждению Толстого, Наполеон вечером 24 августа атаковал левый фланг русских войск, вследствие чего русские войска были вынуждены отступить и заняли новую позицию, «которая была не предвидена и не укреплена». Укрепление новой
761
позиции было начато только на другой день, 25 августа и не было закончено ко дню сражения — 26 августа. И получилось то, что Бородинское сражение «принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов».
Обстоятельство это, по мнению Толстого, имеет не только историческое значение. В том, что сражение было принято и выиграно в таких невыгодных условиях, Толстой видит проявление силы русского народа. Между тем историки, «стараясь скрыть ошибки наших военачальников», умалчивают об этом и тем умаляют «славу русского войска и народа», так как для другой армии в таких условиях «не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства».
Описывая день 25 августа, Толстой главное внимание обращает на то, чтобы изобразить настроение офицеров, солдат и ополченцев накануне сражения.
Пьер, отправляющийся на место сражения, за Можайском встречает подводу с ранеными. Один из раненых, старый солдат, обращаясь к незнакомому ему Пьеру, говорит: «Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят... Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят». Пьер понимает, что хочет сказать солдат, и одобрительно кивает головой.
У деревни Горки Пьер видит мужиков-ополченцев, укрепляющих курган. Видя этих работающих мужиков, Пьер понял, что хотел сказать раненый солдат словами: «всем народом навалиться хотят». Вид этих мужиков «подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты».
Пьер расспрашивает встретившегося офицера о позиции русских и французских войск. Офицер стал ему объяснять со «строгим и серьезным» выражением лица. «То же выражение сознания торжественности наступающей минуты» увидал Пьер на лицах солдат и ополченцев во время молебна перед иконой.
Но в главной квартире, в кругу штабных офицеров и придворных, Пьер не заметил того подъема настроения, которое он видел у солдат и ополченцев. Там тоже царило оживление и возбуждение, но вызывалось оно не сознанием участия в общем деле, а ожиданием наград и повышений по службе за завтрашнее большое сражение.
И, наконец, ночной разговор Пьера с князем Андреем и Тимохиным, в котором князь Андрей высказывает твердую уверенность в том, что «что бы ни путали там, вверху, мы выиграем сражение завтра», а Тимохин рассказывает, как в его батальоне
762
солдаты отказались пить водку: «не такой день, говорят»134, — разговор, после которого Пьер вполне «понял ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел», — этот разговор завершает описание дня 25 августа 1812 года.
XXV
Сравнивая величественное изображение Бородинского сражения в окончательном тексте «Войны и мира» с бледным и односторонним описанием того же сражения в первой редакции, мы не найдем между этими двумя редакциями почти ничего общего. Общей является только фигура Пьера, в качестве постороннего зрителя наблюдающего сражение с самого центрального его пункта (батарея Раевского)135. Но и наблюдения и переживания Пьера представлены в окончательном тексте гораздо глубже и разностороннее, чем в первой редакции.
Не ставя своей задачей описание сражения во всех его подробностях, Толстой изображает лишь основные его моменты136. Главное внимание автора направлено на раскрытие душевного состояния («духа») войск русских и французских и их руководителей.
Кутузов «был доволен успехом дня сверх ожидания». Он был уверен в победе и очень резко напал на генерала Вольцогена, присланного Барклаем де Толли с донесением о том, что «все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их»137, — что было неправда. После отъезда Вольцогена Кутузов посылает адъютанта объявить по линии приказ об атаке на французов на завтрашний день. И «смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека».
763
Наполеон, как и все генералы и солдаты французской армии, был поражен стойкостью русских войск. Все они «испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв ПОЛОВИНУ войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения»138.
В 1860-е годы в русской официальной военной литературе господствовало преклонение перед Наполеоном, пренебрежительное отношение к Кутузову и взгляд на Бородинское сражение как на победу французов.
Вопреки господствующему мнению Толстой смело заявил, что Бородинское сражение было победой русских войск. Победа, одержанная русскими, состояла не в продвижении вперед, не в захвате трофеев — такая победа могла бы смениться неудачей; была одержана «победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии»139. «Нравственное сознание превосходства — главная артерия войны, — та, которая нетронутая прошла в борьбе со всей Европой, была перебита»140. Французское нашествие получило смертельную рану, от которой оно должно было погибнуть, истекая кровью.
Последствия морального поражения, понесенного французами под Бородиным, были громадны. «Прямым следствием Бородинского сражения было» не только «бегство Наполеона из Москвы» и погибель всей его армии, — следствием Бородинского сражения, сказавшимся через несколько лет, была «погибель» самой «наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника»141.
764
XXVI
Одновременно с выходом четвертого тома первого издания «Войны и мира» в мартовской книжке «Русского архива» за 1868 год Толстой напечатал статью «Несколько слов по поводу книги «Война и мир». Статья была вызвана различными толками о романе в печати и в читательских кругах; целью статьи было — «изложить взгляд автора на свое произведение» и рассеять некоторые недоразумения, возникшие по поводу него.
Прежде всего Толстой хочет ответить на неоднократно высказывавшееся в печати недоумение относительно того, к какому роду литературных произведений следует отнести «Войну и мир», — он, следовательно, вновь поднимает тот вопрос, которого он пытался коснуться в неудавшемся предисловии к «1805 году». Толстой решительно заявляет, что «Война и мир» не подходит ни под один из установившихся родов литературных произведений. «Это не роман, еще менее поэма, еще менее — историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось», — говорит Толстой, прямо отказываясь от какого-либо определения жанра своего произведения. Это свое отступление от признанных литературных форм Толстой объясняет тем, что, во-первых, оно было не умышленное (поэтому Толстой и употребил выражение «выразилось»), и, во-вторых, тем, что это — не первый случай в русской литературе. По мнению Толстого, в русской литературе, начиная с «Мертвых душ» и кончая «Записками из мертвого дома», «нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».
Мысль, высказанную в этих строках, Толстой впоследствии в устной беседе формулировал словами: «Каждый большой художник должен создавать и свои формы». Он вспомнил при этом свой давнишний, еще в 1857 году, разговор с Тургеневым на эту тему, где он высказывал такие же взгляды, и Тургенев вполне согласился с ним142.
В приведенных строках так же, как и в письме к Каткову от 3 января 1865 года, Толстой возражает против названия его произведения романом. Он и по выходе в свет «Войны и мира» считал, что «Война и мир» — не роман. В начале работы над «Анной Карениной» Толстой 11 мая 1873 года писал Н. Н. Страхову: «Я пишу роман... Роман этот — именно роман, первый в моей жизни»143. Тем не менее во время работы Толстой в письмах к Фету, Башилову, Бартеневу нередко и «1805 год» и «Войну
765
и мир» называл романом. Происходило это частью оттого, что надо же было как-нибудь называть печатающееся произведение, частью же оттого, что Толстой не мог не видеть, что его произведение, конечно, можно назвать не только эпопеей, но и романом, и романом самым увлекательным по обилию действующих лиц, по сложности пересекающихся сюжетных линий, по яркости и разнообразию характеров.
Во втором пункте своей статьи Толстой отвечает на упрек, который делали ему некоторые читатели и критики, в том, что он будто бы недостаточно отразил в своем произведении «характер времени». Толстой догадывается, в чем состоит этот «характер времени», изображения которого не находят в его романе: «это — ужасы крепостного права, закладыванье жен в стены, сеченье взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.». Толстой не отрицает того, что именно такое представление о крепостном праве в то время «составилось в понятии нашем» благодаря тому, что «в преданиях, записках, повестях и романах до нас наиболее доходили выступающие случаи насилия и буйства». Но такое представление он считает односторонним. «Изучая письма, дневники, предания, — пишет Толстой, — я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная, чем теперь, в высшем сословии».
«Характер времени» изображаемой им эпохи Толстой видит в другом: в «большей отчужденности высшего круга от других сословий», в «царствовавшей философии», в «особенностях воспитания», в «привычке употреблять французский язык и т. п.» «И этот характер, — говорит Толстой, — я старался, сколько умел, выразить» в своем произведении.
Высказанное здесь мнение Толстого о преувеличенном изображении ужасов крепостного права было направлено прежде всего против тех либеральных публицистов, которые видели в реформе 19 февраля «великое благодеяние для народа». Выше уже было приведено утверждение Толстого в статье «Прогресс и определение образования» (1862) о том, что он не считает отношения фабриканта к рабочим человечнее отношений помещика к крепостным. То же мнение в более общей форме высказано Толстым и в приведенной цитате, смысл которой в том, что при новом строе, пришедшем на смену крепостному праву, проявлений «буйства и своеволия» не меньше, чем при крепостном праве144.
766
Вместе с тем, однако, в «Войне и мире» мы находим прямое осуждение крепостного права, и осуждение с той точки зрения, на которой уже тогда стоял Толстой при решении общественно-политических вопросов, — с точки зрения моральной. Андрей Болконский объясняет Пьеру Безухову, почему он желает уничтожения крепостного права. Уничтожение крепостного права, по утверждению князя Андрея, «нужно для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавливают это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо». Намекая на своего отца, князь Андрей говорит, что ему приходилось видеть, «как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться и всё делаются несчастнее и несчастнее»145. Конечно, это очень сильный аргумент против крепостного права, хотя он касается только одной стороны — помещиков.
О бедственном положении крестьян при крепостном праве Толстой в «Войне и мире» упоминает мимоходом, рассказывая о филантропических начинаниях Пьера, искренно желавшего улучшить положение своих крепостных. Читатель узнает, что в большом торговом селе, принадлежавшем Пьеру, девять десятых крестьян «были в величайшем разорении», барщина была непосильно трудна, попы отягчали мужиков поборами и т. д.146
767
Но художественного изображения жизни крепостных крестьян в «Войне и мире», к сожалению, не дано. Только в черновой редакции второго тома находим небольшую сцену, не вошедшую в окончательный текст, где описывается, как к Митеньке, управляющему старого графа, приходят с разными просьбами мужики — «оборванцы», «растерзанные». Митенька их прогоняет. В это время подъезжает запряженная шестеркой серых огромная карета графа, с двумя гладкими лакеями на запятках и с «толстым, красным, с помаженной бородой» кучером. Но мужики уже прогнаны Митенькой147.
XXVII
В третьем пункте статьи «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой касается вопроса о частом употреблении французского языка в его романе. Хотя он и считает, что свойственная представителям аристократии того времени «привычка употреблять французский язык» является одним из признаков «характера времени» изображаемой им эпохи, Толстой допускает, что он «невольно увлекся формой выражения того французского склада мысли больше, чем это было нужно».
Четвертый пункт посвящен вопросу о «первообразах» действующих лиц романа. Появление в его романе фамилий Болконских, Друбецких, Билибиных, Курагиных и т. п. Толстой объясняет требованиями исторического правдоподобия. Он говорит, что «чувствовал неловкость для уха» заставлять исторических лиц например графа Растопчина, разговаривать с лицами, носящими фамилии, не употребительные в высшем свете. «Болконский или Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой, звучат чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу». «Я бы очень сожалел, — говорит Толстой, — ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо».
Только в двух случаях, по словам Толстого, изображенные им герои не только по фамилиям, но и по характеру подходят «к двум особенно характерным и милым действительным лицам тогдашнего общества», — это Марья Дмитриевна Ахросимова и Василий Денисов.
Упоминаемые здесь Толстым два действительные лица, имеющие сходство с двумя изображенными в «Войне и мире» героями, это, конечно, поэт партизан Денис Васильевич Давыдов и жительница Москвы первой четверти XIX века Настасья Дмитриевна
768
Афросимова148. Но и в этом случае Толстой оговаривается, что сходство его героев с действительными лицами ограничивается сходством их характеров, но события их жизни совершенно отличны от событий жизни героев «Войны и мира».
«Все же остальные лица, — говорит далее Толстой, — совершенно вымышленные и не имеют даже для меня определенных первообразов в предании или действительности».
Вопроса о «первообразах» его романа Толстой касался еще раньше в письме княгине Л. И. Волконской от 3 мая 1865 года. Л. И. Волконская, жена троюродного брата Толстого А. А. Волконского, обратилась к нему с вопросом (письмо ее до нас не дошло), кто изображен в лице князя Андрея Болконского, предполагая, очевидно, что под этим именем выведено какое-нибудь действительное лицо из рода князей Волконских. На этот вопрос Толстой ответил: «Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить».
Следует сказать, что уже при появлении первых частей «1805 года» в печати высказывались предположения, что автор под фамилией Болконских, Друбецких и т. д. описывает действительных лиц, слегка изменив их фамилии и пользуясь их мемуарами. Так, А. С. Суворин, прочитав статью «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», писал: «Под именем Болконского, Друбецкого, Курагина и других читатель, как нам положительно известно, подозревал Волконского, Трубецкого, Куракина»149. То же подтверждал и провинциальный журналист А. Вощинников: «Тотчас по появлении первого тома «Войны и мира» в столичных кружках ходили слухи, что для своего романа автор пользовался какими-то семейными воспоминаниями, что все выведенные им лица — не плод его фантазии, а действительно существовавшие, и что фамилии их слегка замаскированы переменой некоторых букв»150.
Источник этих слухов лежал, конечно, в необычайной жизненности типов «Войны и мира». С трудом верилось, что образы «Войны и мира» созданы художником, а не являются точными
769
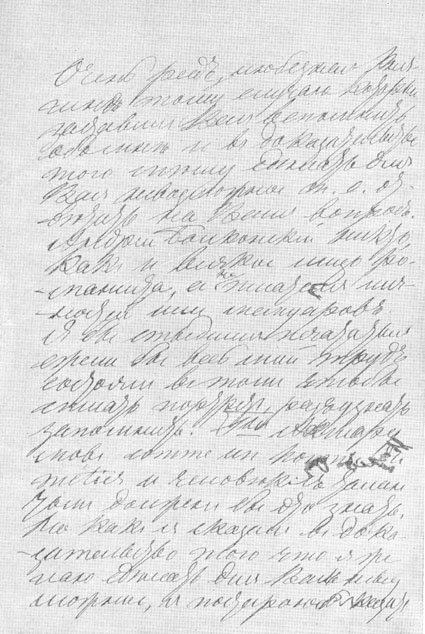
Первая страница письма Л. Н. Толстого к Л. И. Волконской
от 3 мая 1865 г.
770
портретами действительных лиц. Четвертый пункт статьи «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» так же, как и письмо к Л. И. Волконской, очевидно, имели целью, во-первых, положить конец этим лично Толстому неприятным толкам и слухам и, во-вторых, рассеять оскорбительное для него как художника предположение о том, что его герои не более, как фотографические снимки с действительных лиц, живых или умерших. Только этим и возможно объяснить явно преувеличенное утверждение Толстого о том, что у него не было даже никаких «первообразов» для его героев, за исключением двух названных лиц.
«Первообразов» действительно не было для двух главных мужских фигур — князя Андрея и Пьера Безухова, но для целого ряда героев «Войны и мира» первообразы установлены совершенно бесспорно. В свое время уже было сказано о том, что в числе «первообразов» «Войны и мира» следует считать дедов автора — Илью Андреевича Толстого и Николая Сергеевича Волконского, бабку Пелагею Николаевну, отца Николая Ильича и мать Марью Николаевну. Соня с ее несчастной любовью к Николаю Ростову и привязанностью к семье Ростовых очень напоминает Т. А. Ергольскую. О брате Толстого Николае Николаевиче как прототипе капитана Тушина было сказано выше.
В семействе Берсов и их друзей уже при появлении первой части «1805 года» начали узнавать в романе Толстого знакомые черты родных и близких. Друг детства Т. А. Берс М. А. Поливанов писал ей 2 марта 1865 года: «Верно вы прочли «1805 год». Много вы нашли знакомого там? Нашли и себя: Наташа так ведь напоминает вас? А в Борисе есть кусочек меня; в княжне Вере — кусочек Елизаветы Андреевны, и Софьи Андреевны есть кусочек, и Пети есть кусочек. Всех по кусочку. А свадьба-то моя с Мимишкой тоже не забыта. Я с удовольствием прочел все, но особенно сцену, когда дети вбегают в гостиную. Тут очень много знакомого мне».
На это Т. А. Берс отвечала 26 марта: «Вы спрашиваете про Бориса. Да, в нем есть ваша наружность и ваша manière d’être. Лиза — это Вера. Сони нет. Это он описывает тетеньку Татьяну Александровну и ее наружность с большой косой. Наташу — он прямо говорит мне: «Я тебя всю записываю»151.
Что в Вере Ростовой есть не только «кусочек» Е. А. Берс, но что основные черты ее характера навеяны личностью Елизаветы Андреевны, доказывается уже тем, что в черновиках романа Толстой несколько раз называет свою героиню Лизой, а затем зачеркивает это имя и пишет «Вера».
771
Совершенно бесспорно, что прототипом Наташи Ростовой послужила родная сестра С. А. Толстой Татьяна Андреевна Берс, впоследствии по мужу Кузминская. Толстой близко узнал ее в первые годы работы над «Войной и миром» и всегда любовался и ее наружностью и свойствами ее характера. Для Толстого Таня Берс была «прелесть наивности эгоизма и чутья» (дневник 15 января 1863 года); «милая, беснующаяся, энергическая натура» (письмо к ней от 1 января 1864 года); «прелестная натура и сердце» (письмо к ее матери от 30 июня 1865 года). Он всегда «не только любовался ее веселостью, но и чувствовал в ней прекрасную душу» (письмо к ее родителям от 25 июля 1865 года). Такова же и Наташа Ростова. Что внешний облик Наташи отражает наружность Т. А. Берс, подтверждается следующими словами из письма Толстого к художнику М. С. Башилову от 8 декабря 1866 года: «В поцелуе [с Борисом] нельзя ли Наташе придать тип Танечки Берс».
Имя Наташи дано было Толстым его героине, может быть, потому, что под таким именем Татьяна Андреевна была изображена в повести Софьи Андреевны, уничтоженной ею перед свадьбой.
Еще в 1916 году племянница Толстого В. В. Нагорнова напечатала статью под заглавием «Оригинал Наташи Ростовой в романе «Война и мир»152. Здесь были приведены выдержки из писем и воспоминаний современников, подтверждающих близость образа Наташи Ростовой к личности Т. А. Берс. Позднее сама Т. А. Кузминская рассказала о тех фактах ее жизни, которыми воспользовался Толстой, рисуя Наташу Ростову153.
Сохранившиеся письма членов семьи Берсов также содержат материал, подтверждающий близость образа Наташи Ростовой к некоторым особенностям характера Т. А. Берс. Так, в мае 1863 года ее мать Л. А. Берс писала С. А. Толстой в Ясную Поляну. «Тане сказали накануне отъезда [в Петербург], что ее берут. Она начала прыгать, кувыркаться по дивану и объявлять пошла всему дому, чуть что не к коменданту [Кремля] побежала. При прощаньи стала рыдать и смеяться всё вместе»154.
Разумеется, нельзя не сказать, что при всей несомненной близости к оригиналу образ Наташи Ростовой гораздо богаче своего прототипа.
По словам самого Толстого, некоторые черты Наташи Ростовой (очевидно, уже в замужестве) были им заимствованы от его жены, Софьи Андреевны.
772
Некоторые образы «Войны и мира» созданы по принципу отбора характерных психологических черт нескольких известных Толстому действительных лиц и соединения их в одном образе. По этому принципу создан образ Долохова (о котором Толстой забыл упомянуть, перечисляя фамилии его героев, близкие к фамилиям действительных лиц). В нем есть черты приятеля Пушкина и Лермонтова Р. И. Дорохова (отсюда фамилия)155; есть черты Ф. И. Толстого-Американца (отсюда имя, отчество), которого в своих «Воспоминаниях» Толстой называет «привлекательным и преступным человеком»; есть черты партизана А. С. Фигнера, который так же, как и герой Толстого, с целью разведки ездил во французском мундире в неприятельский лагерь. То, что «основанием рассказа о партизанском набеге Долохова послужили графу Толстому рассказы о подвигах известного капитана Фигнера во время Отечественной войны», было отмечено уже современной Толстому военной критикой его романа156. Критик приводит рассказ одного из участников отряда Фигнера о поездке его во французский лагерь, тем самым указывая, «из какого материала автор «Войны и мира» создал свой тип партизана», и затем дает выдержки из «мастерски очерченного партизанского набега» в романе Толстого, для того чтобы читатели могли видеть, «что сделал автор из этого, хотя не безынтересного, но сухого рассказа»157.
В некоторых случаях Толстой, рисуя портреты исторических личностей, придавал им черты характера хорошо ему известных лиц, с которыми, как он полагал, исторические лица, им изображаемые, имели нечто общее.
Описывая Сперанского, в преобразовательных работах которого участвовал князь Андрей, Толстой внешние подробности его жизни и личности заимствует из его биографии, составленной бароном Корфом158. Внешность Сперанского: большой рост, лысая голова, особенности взгляда, манера говорить, описание обстановки дома Сперанского, а также внешность его гостей, заикание Столыпина, — всё это взято из книги Корфа.
Вероятно, отмеченная Корфом манера Сперанского закупоривать недопитую бутылку вина со словами: «Нынче хорошее винцо в сапожках ходит», — наводит Толстого на мысль об «умеренности и аккуратности», как главных чертах характера Сперанского.
773
Но, не довольствуясь всем тем, что он прочел о Сперанском у его биографа, Толстой стремится яснее представить себе личность этого исторического лица. По всему тому, что Толстой узнал о Сперанском, он представлял его себе похожим на своего давнишнего знакомого А. В. Дружинина, с которым так часто встречался в Петербурге в 1855—1857 годах. И Толстой изобразил Сперанского в некоторых чертах его характера похожим на Дружинина.
Сперанский в «Войне и мире» характеризуется словами: «Видно было, что никогда Сперанскому... не приходило сомнение в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?»159. То же самое записывает Толстой о Дружинине в дневнике 7 декабря 1856 года: «Прочел вторую статью Дружинина. Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это всё».
В «Войне и мире» рассказывается, как Сперанский «после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке». Князь Андрей в новый год нечаянно попадает на такой дружеский вечер к Сперанскому и застает у него Магницкого, Столыпина, Жерве. Все рассказывают смешные анекдоты; «всем было, казалось, очень весело». Но смех Сперанского показался князю Андрею «аккуратным, невеселым», «фальшивым», и веселье было невеселое160.
Дружинин точно так же, как Сперанский в «Войне и мире», любил устраивать искусственное веселье как отдых после трудов161.
Очевидно, для Толстого и Дружинин и Сперанский были представителями людей одного и того же умственного склада — далеких от жизни кабинетных теоретиков, слепо верящих в ими самими созданные теоретические построения.
Впоследствии Толстой в устных беседах дважды высказался
774
по вопросу о том, пользовался ли он в «Войне и мире» и других произведениях методом «списывания с живых людей». Высказывания эти имеют принципиальное значение.
В 1883 году один из посетителей задал Толстому вопрос, взята ли Наташа Ростова «с действительно существующего лица». Толстой ответил: «Да отчасти взята с натуры». Ответив еще на вопрос об Андрее Болконском, что он «ни с кого не списан», Толстой прибавил: «У меня есть лица списанные и не списанные с живых людей. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры и дает им эту несравненную яркость красок в изображении. Но зато изображение страдает односторонностью»162.
В 1903 году (3 мая) посетивший Толстого в Ясной Поляне второстепенный писатель Алексей Мошин задал ему вопрос, вызванный чтением статьи «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»:
«— Вот по поводу типов с натуры: меня интересует одно... как будто противоречие... Когда читаешь произведения Гоголя, Мопассана, ваши, Лев Николаевич, — поражаешься реальностью типов, правдивостью. Ясно, что написано многое с натуры... И сами вы, кажется, подтверждали, что часто писали с натуры...
Да, — сказал Лев Николаевич, — я часто пишу с натуры. Прежде даже и фамилии героев писал в черновых работах настоящие, чтобы яснее представлять себе то лицо, с которого я писал. И переменял фамилии, уже заканчивая отделку рассказа.
А между тем, вскоре после выхода «Войны и мира», была напечатана ваша статья, — недавно она перепечатывалась, — в которой вы писали: «Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо» и т. д.
Не помню уж теперь, что я писал в той статье... Но я думаю так — что если писать прямо с натуры одного какого-нибудь человека, то это выйдет совсем не типично, — получится нечто единичное, исключительное и неинтересное... А нужно именно взять у кого-нибудь его главные характерные черты и дополнить характерными чертами других людей, которых наблюдал... Тогда это будет типично. Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип»163.
XXVIII
В пятом пункте статьи «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой говорит о своих разногласиях с историками
775
в описании исторических событий. Задача историка, говорит Толстой, состоит в том, чтобы определить историческое значение того или другого лица. Не в этом задача художника. Задача художника в том, чтобы «представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни».
Из приводимых далее Толстым примеров выясняется, с какими историками и по каким вопросам возникали у него разногласия. Он говорит: «Кутузов не всегда, с зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади. Растопчин не всегда с факелом зажигал Вороновский дом164 (он даже никогда этого не делал), и императрица Мария Феодоровна не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись на Свод законов».
Для историка, говорит Толстой, есть герои «в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели»; для художника «не может и не должно быть героев, а должны быть люди».
Толстой отмечает свое разногласие с историками также и относительно описания исторических событий, — прежде всего, сражений. В описании сражений историки основываются на донесениях начальников частей и главнокомандующих, но все эти донесения, по мнению Толстого, не могут быть вполне правдивы, так как невозможно в нескольких словах описать «действия тысяч людей, раскинутых на нескольких верстах, находящихся в самом сильном нравственном раздражении под влиянием страха позора и смерти». Официальные донесения о ходе сражений обыкновенно пишутся так же, как пишутся описания смотров и парадов, и ход сражений представляется обыкновенно в виде исполнения приказаний главнокомандующего. Но «всякий, кто был на войне, знает, насколько это несправедливо». В подтверждение своего мнения Толстой ссылается на переданный ему отзыв Н. Н. Муравьева-Карского об описании Шенграбенского сражения в первом томе «Войны и мира». Муравьев-Карский, сам бывший главнокомандующий, «отозвался, что он никогда не читал более верного описания сражения и что он своим опытом убедился в том, как невозможно исполнение распоряжений главнокомандующего во время сражения». И из своего опыта Толстой рассказывает, как он в Крымскую войну имел случай убедиться в несправедливости официальных донесений, когда ему было поручено после сдачи Севастополя составить общее донесение из всех отдельных донесений начальников бастионов. Читая эти донесения, Толстой убедился в том, что начальники бастионов «по приказанию начальства писали то, чего не могли знать», и получалась «хвастливая ложь».
776
Что же касается сочинений о 1812 годе, то Толстой находит в них «особенный склад выспренной речи, в которой часто ложь и извращение переходит не только на события, но и на понимание значения события». В подтверждение своих слов Толстой приводит выдержку из книги французского историка наполеоновских войн Тьера, поражающую «своей оглушающей, нельзя сказать — безнравственностью, но просто бессмысленностью».
Но относясь критически как к официальным донесениям, так и к сочинениям официозных историков и не принимая того освещения, которое они давали описываемым событиям, Толстой тем не менее признает обязательным для художника так же, как и для историка, «руководствоваться историческими материалами», понимая под «историческими материалами» преимущественно письма и мемуары современников (хотя и к ним Толстой относится критически).
Наконец, последний, шестой пункт статьи «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» посвящен изложению философско-исторических воззрений автора. Не дожидаясь выхода в свет дальнейших томов своего романа, Толстой спешит поделиться с читателями своими взглядами на отношение между свободой и необходимостью, на роль личности в истории, на причины войн и мировых событий вообще, — взглядами, которыми он очень дорожил и которые подробно изложил в следующих томах и в эпилоге «Войны и мира».
XXIX
Все события войны 1812 года, последовавшие за Бородинским сражением вплоть до окончательного изгнания французов из русской земли, описываются Толстым с той же точки зрения, на которой он стоял в описании Бородинского сражения.
Задача, которую ставит перед собой Толстой, состоит в том, чтобы «писать историю народа»165.
«Чтобы произведение было хорошо, — говорил Толстой жене в 1877 году, — надо любить в нем главную, основную мысль. Так в «Войне и мире» я любил мысль народную вследствие войны 12-го года»166.
Оставление Москвы жителями перед вступлением в нее французов, это — «величественное событие, которое навсегда останется лучшею славой русского народа»167. «Все население, как один
777
человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства»168. Совершилось это потому, что «для русских людей не могло быть вопроса, хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего». И не только в 1812 году так было, но «всегда так будет»; сознание этого «лежало и лежит в душе русского человека»169.
Толстой не может не восхищаться поведением русских людей в 1812 году в противоположность поведению немцев, австрийцев и других покоренных Наполеоном народов, хотя последствием оставления столицы жителями был пожар и разорение ее. «Москва, — говорит Толстой, — занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба-соли и ключей французам, а выехали из нее»170.
«Представителем» народной войны 1812 года для Толстого является Кутузов.
Кутузов по многим причинам дорог и близок Толстому: и потому, что он русский человек и что «погибель французов» «было его душевное единственное желание»171, и потому, что он бережет солдатскую кровь и говорит, что «за десять французов он не отдаст одного русского»172, и потому, что Александр I назначил его главнокомандующим против своего желания по общему голосу армии.
Кутузов ставит себе цель, «совпадающую с волею всего народа».
«Трудно себе представить, — говорит Толстой, — историческое лицо, деятельность которого так неизменно и постоянно была бы направлена к одной и той же цели», как это было у Кутузова. «Еще труднее найти другой пример в истории, где цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 12 году».
Кутузов «являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события». Он «один в противность мнению всех мог указать так верно значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему». «Источник этой необычайной силы прозрения
778
в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его»173.
Кутузов не только вызывает восхищение Толстого как исторический деятель, но и как личность вызывает его глубокое уважение. Он прост и естественен в обращении. Его речь лишена всякой напыщенности, театральности и искусственного пафоса. Всякая фальшь и искусственная приподнятость сейчас же чувствуются им и отталкивают его. Для Кутузова ополченцы, бородатые мужики, призванные для помощи действующей армии под Бородиным, — «чудесный, бесподобный народ». Но когда начальник его штаба Бенигсен, немец на русской службе, на военном совете в Филях горячо выставляет свой русский патриотизм, Кутузов не может не морщиться, слушая его фальшивые речи.
Кутузов для Толстого — это «простая, скромная и потому истинно величественная фигура»174.
Следует сказать, что такой взгляд на Кутузова образовался у Толстого не сразу.
Выше уже был приведен отзыв о Кутузове в одном из отброшенных начал романа: «сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов». Было приведено также из конспекта окончания «Войны и мира» заключение Андрея Болконского, выведенное им из его военного опыта, о том, что успех русского войска под Бородиным был «успех солдат, успех мужика — народа, а не Барклая и умирающего Кутузова». Здесь Кутузов не называется представителем народа; народ прямо противопоставляется Кутузову175.
Даже в первой редакции окончания романа в описании Тарутинского сражения читаем, что «Кутузов поручил дело Бенигсену», с которым находился во вражде, и для того, «чтобы подкатить Бенигсена, не дал ему войск»176. Кутузов, следовательно, выставлялся таким же интриганом, как и окружающие его генералы.
Очевидно, дальнейшее изучение исторических материалов, относящихся к деятельности Кутузова, и более глубокое проникновение
779
в психологию фельдмаршала изменили взгляд Толстого на его роль в войне 1812 года и внушили ему ту характеристику Кутузова, которая последовательно проведена во всей окончательной редакции эпопеи.
Только в одном случае Толстой не соглашается с Кутузовым. Кутузов, как известно, был решительным противником перенесения войны с Наполеоном за границы России. Толстой как будто сочувствует ему в этом, но в то же время Толстому импонирует тот факт, что «Россия спасла Европу»177.
Советские военные историки, признавая справедливой общую характеристику Кутузова, данную Толстым178, в то же время находят, что Кутузов в изображении Толстого мало активен, и слишком полагается на «естественный ход вещей», на «неизбежный ход событий», на «терпение и время»179.
В Бородинском сражении Кутузов, по описанию Толстого, «не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему». Он лишь старался руководить «той неуловимой силой, называемой духом войска», которая, по мнению Толстого, в конечном счете решает успех всякого сражения180. Обратившись, однако, к самому описанию Бородинского сражения в «Войне и мире», мы увидим, что Кутузов не только соглашался или не соглашался с теми предложениями, которые ему делали окружающие, но и делал самостоятельные распоряжения. Так, вместо принца Виртембергского он посылает Дохтурова командовать первой армией; выслушав донесение о занятии французами флешей и села Семеновского, он посылает на место боя генерала Ермолова посмотреть, «нельзя ли что сделать».
Анализируя описание Бородинского сражения, данное Толстым, следует иметь в виду, что представление о малой активности Кутузова в этом сражении разделялось большинством военных писателей того времени. Мы увидим, как некоторые военные критики обвиняли Толстого за преувеличение, по их мнению, роли Кутузова в Бородинском сражении. Богданович пишет: «Кутузов, во все продолжение боя находясь у Горок, не
780
мог иметь непосредственного влияния на ход дела»181. Клаузевиц, передавая, как он говорит, то мнение, которое непосредственно после сражения сложилось в армии, сообщает: «Роль Кутузова в отдельных моментах этого великого сражения равняется почти нулю. Казалось, что он лишен внутреннего оживления, ясного взгляда на обстановку, способности энергично вмешаться в дело и оказывать самостоятельное воздействие. Он предоставлял полную свободу частным начальникам и отдельным боевым действиям»182.
Вполне возможно, что такого рода сообщения историков могли оказать известное воздействие на изображение в «Войне и мире» роли Кутузова в Бородинском сражении; но главная причина такого изображения заключалась, несомненно, в философском воззрении автора «Войны и мира», его вере в «естественный ход вещей», все приводящий к благополучному концу. П. И. Бартенев рассказывает, что, помогая Толстому в выпуске первого издания «Войны и мира», он высказывал ему свое несогласие с трактовкой образа Кутузова и давал письма Кутузова к Д. П. Трощинскому, «исполненные забот и попечений». Но Толстой полушутя ответил Бартеневу, что «в письмах все лгут»183.
Спокойная, плодотворная и истинно народная деятельность Кутузова в «Войне и мире» противопоставляется суетливой, тщеславной, крикливой деятельности московского генерал-губернатора графа Растопчина. Особенно Толстой не может простить Растопчину зверского растерзания толпой Верещагина, совершенного по его приказанию ради ложно понимаемого «общественного блага»184.
За границей были известны бюллетени Наполеона, в которых он называл Растопчина организатором пожара Москвы; было известно также и то, что Растопчин сжег свой большой загородный дом с богатой обстановкой, чтобы он не доставался
781
французам. Благодаря этому «имя графа Растопчина получило громкую известность повсюду, и особенно в Англии его произносили с восторгом»185. Американский консул Евгений Скайлер, посетивший Толстого в 1868 году, был удивлен, услышав, как Толстой «говорил о Растопчине с большим презрением»186.
XXX
Насколько близок и дорог Толстому «представитель народа» Кутузов, настолько же ненавистен ему завоеватель Наполеон.
Маркс в Предисловии ко второму изданию «Восемнадцатого Брюмера Луи Бонапарта» (1869) писал: «Полковник Шаррас открыл атаку на наполеоновский культ в своем сочинении о походе 1815 г. С тех пор, особенно в последние годы, французская литература при помощи оружия исторического исследования, критики, сатиры и шутки навсегда покончила с наполеоновской легендой. За пределами Франции этот резкий разрыв с традиционной народной верой, эта колоссальная революция в умах обратила на себя мало внимания и еще меньше была понята»187.
В годы появления «Войны и мира» наполеоновская легенда продолжала прочно держаться в умах представителей либеральных кругов русской интеллигенции. Но Толстой никогда не разделял культа Наполеона. Еще в очерке «Севастополь в мае» находим такие строки: «Да спросите по совести прапорщика Петрушова и поручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг, и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья». В Париже в 1857 году, видя роскошно отделанный саркофаг Наполеона, Толстой записывает в дневнике, что это «обоготворение злодея ужасно». В том же году он в записной книжке осуждает Наполеона за убийство четырех тысяч сдавшихся турок в Яффе. В 1861 году статья Герцена о Роберте Оуэне, где Наполеон признается «гением толпы», вызывает полное одобрение Толстого. Ненасытное честолюбие, «безумие самообожания», непоколебимая уверенность в своей непогрешимости, полное презрение к людям188, театральность в каждом слове и
782
в каждом жесте189 — таковы основные свойства характера Наполеона в изображении Толстого.
Резко отрицательную оценку Наполеона находим уже в первых черновиках романа. В одном из отброшенных начал, где действие происходит в 1811 году, о Наполеоне того времени сказано: «Наполеон уже убедился, что не нужно ума, постоянства и последовательности для успеха, что нужно только твердо верить в глупость людскую, что в сравнении с людской глупостью и ничтожеством всё будет величием, когда верят в него. Он не обдумывал, а делал то, что ему первое приходило в голову, подстраивая под каждый поступок систему и называя сам каждый свой поступок великим... И все бились проникать глубочайший сокрытый смысл его поступков, и никто не думал о том, что, кроме проявления прихотливых желаний человека, смысла никакого не было. Но он верил в себя, и весь мир верил в него»190.
В том безумии самовозвеличения, которым был одержим Наполеон, Толстой винит также окружавших его придворных. «Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния... Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья». Все это способствовало тому, чтобы «лишить его последней силы разума»191.
Полное отсутствие всякого человеческого чувства сказалось в том, что осмотрев Бородинское поле, на котором лежали десятки тысяч убитых и раненых русских и французов, Наполеон писал в бюллетене, что «поле сражения было великолепно», «и ужас совершившегося не поражал его душу». «И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека..., но и никогда до конца жизни своей не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины»192.
Поход Наполеона в Россию — жалкая и преступная авантюра, всю низость которой руководители французской армии сознали только во время бегства из России, под влиянием постигшей катастрофы. Только тогда пробудилось в них спавшее до тех пор сознание нравственной ответственности, — заговорил голос совести, упрекавший их за то неисчислимое зло, которое они причинили русскому народу. «Несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они
783
чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много» зла, за которое теперь приходилось расплачиваться»193.
Толстой считает Наполеона преступником не только перед русским, но и перед французским народом. Это — «человек, опустошивший Францию»194. Приказ, отданный Наполеоном накануне Бородинского сражения, Толстой излагает в следующих словах: «Потом он написал гениальный, как говорят, приказ, в котором сказано, что Наполеон наконец исполняет страстное желание армии быть убитой и раненой на 1/3 часть и, снисходя до их желания, дает сражение»195.
Поспешный отъезд от отступающей по разоренной смоленской дороге голодной, оборванной «великой армии», преследуемой русскими войсками, Толстой называет «последнею степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок»196. Даже в изгнании Наполеон, это «ничтожнейшее орудие истории», не выказал «человеческого достоинства»197.
Толстой отказывается признать Наполеона великим человеком, так как не признает величия вне нравственной оценки поступков. «Когда действие уже явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии», которое «как будто исключает возможность меры хорошего и дурного», и «нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик». Но для Толстого «нет величия там, где нет простоты, добра и правды»198.
По убеждению Толстого, Наполеон не может быть героем художественного произведения. В одном из черновых набросков к эпилогу Толстой писал: «Искусство имеет законы. И если я художник, и если Кутузов изображен мной хорошо, то это не потому, что мне так захотелось (я тут ни при чем), а потому, что фигура эта имеет условия художественные, а другие нет... На
784
что много любителей Наполеона, а ни один поэт еще не сделал из него образа; и никогда не сделает»199.
Впервые во всей мировой художественной литературе Наполеон был представлен реально, таким, каким он действительно был в жизни. Образ Наполеона, нарисованный Толстым, не является плодом вымысла автора. Рисуя Наполеона таким, каким он представлен в «Войне и мире», Толстой основывался на многочисленных исторических материалах. Позднейшие исторические исследования, предпринятые, в частности, советскими историками, подтвердили правоту Толстого. «В нем не было жестокости, как страсти, — пишет о Наполеоне академик Е. В. Тарле, — но было полнейшее равнодушие к людям, в которых он видел лишь средства и орудия... Власть и слава — вот были личные основания его страсти»200.
Толстой и впоследствии не изменил своего мнения о личности Наполеона. 30 июня 1884 года он записал в дневнике: «Читал Эмерсона Наполеона — представитель жадного буржуа эгоиста — прекрасно»201. Писателю А. И. Эртелю, намеревавшемуся написать популярную книжку о Наполеоне, Толстой писал 15 января 1890 года: «Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им. Светлых сторон не найдете, нельзя найти, пока не исчерпаются все темные, страшные, которые представляет это лицо». Особенно много материалов для характеристики личности Наполеона дает, по мнению Толстого, его пребывание в ссылке. «Жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi-величия, поразительно жалка и гадка. Меня страшно волновало всегда это чтение, и я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода жизни». В эти последние годы Наполеон «оказывается совершенным нравственным банкротом». Толстой называет две книги, содержащие особенно ценный материал для характеристики Наполеона в ссылке — это записки Ласказа «Mémorial de St. Hélène» («Дневник на острове св. Елены»), вышедшие в Париже в 1823—1824 годах, и записки доктора Наполеона O’Meapa «Napoléon en exile» («Наполеон в изгнании»), вышедшие в Лондоне в 1822 году202. Книга Ласказа сохранилась в яснополянской библиотеке; в ней многочисленные пометы Толстого. Толстой одно время даже имел намерение перевести на русский язык записки Ласказа, о чем он 14 сентября 1868 года писал П. И. Бартеневу. Это намерение Толстого не осуществилось,
785
но в его архиве сохранилось начало перевода книги Ласказа, сделанное его знакомым Н. М. Струмилиным, державшим корректуру «Войны и мира».
Впоследствии Толстой говорил, что изучение жизни и деятельности Наполеона «дало ему первый толчок в его антипатии к государственности», «когда ему пришлось изучить эту отвратительную личность — как военоначальника, императора и частного человека»203.
XXXI
1812 год — время крутого перелома в жизни всех главных героев «Войны и мира».
Особенно много в этот год передумал и перечувствовал Пьер Безухов.
Солдаты и ополченцы, которых он видел и до и после Бородинского сражения, а в особенности те, с которыми он в день сражения провел несколько часов на курганной батарее, произвели на него глубочайшее впечатление своим спокойствием и твердостью перед лицом ежеминутно угрожающей смерти.
В ночь после сражения, уже находясь в полной безопасности на постоялом дворе, Пьер вспоминает все впечатления пережитого страшного дня, вспоминает и свое малодушное бегство с батареи и думает: «О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они... они всё время до конца были тверды, спокойны... Они в понятии Пьера были солдаты, те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они — эти странные, неведомые ему доселе люди, они ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей». И у Пьера является мысль: «Солдатом быть, просто солдатом. Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека?»204.
Пьер мучительно ищет ответа на этот вопрос.
Здесь Толстой вторично затрагивает тему разрыва представителя привилегированного класса со своей средой и его попытки сближения с народом. В первый раз эта тема была им затронута в «Казаках» в образе Оленина; теперь тот же вопрос ставится им с большей определенностью и резкостью.
Бродя по улицам опустелой Москвы с намерением убить Наполеона, Пьер спасает женщину армянку от насилий французских солдат. Его схватывают и отправляют в лагерь для пленных.
Материалом для описания пребывания Пьера в плену послужил Толстому рассказ бывшего в плену у французов Василия
786
Алексеевича Перовского. Этот рассказ Толстой слышал впервые, как записано у него в дневнике, еще 29 октября 1857 года от Александры Андреевны Толстой, близкой знакомой Перовского. В 1865 году «Записки» Перовского появились в печати205. Толстой заимствовал из них допрос пленника маршалом Даву, расстрел ослабевших пленных, подробности тяжелых условий жизни в плену: голод, стертые ноги.
Описание жестокой расправы над пленными дает Толстому повод высказать свои взгляды на суд и на смертную казнь.
Находящийся в плену Пьер схвачен и приведен вместе с другими пленниками на заседание французского военного суда по обвинению в участии в поджогах Москвы. С иронией говорит Толстой о той «мнимо превышающей человеческие слабости точности и определительности, с которой обыкновенно обращаются к подсудимым». Подсудимым задавались вопросы, которые, «оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению». Пьеру «чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта форма подставляемого желобка», так как обвинение подсудимых было уже предрешено206. Здесь Толстой впервые выступил с изображением той «комедии суда» (выражение В. И. Ленина), разоблачению которой он впоследствии посвятил столько блестящих страниц и в «Смерти Ивана Ильича», и в «Живом трупе», и в «Воскресении».
Через несколько дней Пьера привели к маршалу Даву. У маршала был список, в котором Пьер в числе других значился под особым номером. Но во время допроса «помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения». Они поняли, что «они оба дети человечества, что они братья». Даву отдал распоряжение, чтобы Пьера отвели куда-то, быть может, на казнь. Дорогой Пьера неотступно занимала мысль, кто же приговорил его к казни? Ни судьи, которые его допрашивали, ни Даву, «который так человечески посмотрел на него», не желали сделать ему никакого зла. Пьер чувствовал, что его убивал «никто», «порядок»207.
Точно так же во время казни мнимых поджигателей, при которой Пьера заставили присутствовать, он чувствовал, что все исполнители этого ужасного дела страдали, делали его против
787
своей воли, знали несомненно, что они преступники, — это было видно по их бледным, испуганным лицам208.
В третий раз Пьер столкнулся с той таинственной бездушной силой, которая «заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных», при выходе пленных из Москвы. Присутствие этой темной неумолимой силы, утверждающей существующий «порядок», Пьер видел в холодных, бесстрастных лицах французских офицеров, чувствовал в резком бое барабанов. «Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно»209.
На Пьера зрелище казни производит потрясающее действие. Он утрачивает веру в добро и в человека и впадает в состояние уныния и апатии.
Из этого состояния упадка духа выводит его встреча в лагере для пленных с Платоном Каратаевым.
XXXII
Ни в первой, ни во второй редакции четвертого тома «Войны и мира» Платона Каратаева еще нет. Во второй редакции рассказывается, что после казни мнимых поджигателей Пьер сблизился с товарищами по плену. «Пьер почувствовал в первый раз, что все те условные преграды — рождения, воспитания, нравственных привычек, которые до тех пор отчуждали его от товарищей — были уничтожены. Пьер с этого дня сблизился с своими товарищами — солдатами, крепостными и колодниками. И в этом сближении нашел новые, еще не испытанные им интерес, спокойствие и наслаждение»210.
Платон Каратаев появился только в третьей редакции первой части четвертого тома, причем образ его до такой степени ясно представлялся творческому сознанию автора, что его характеристика и его разговоры с Пьером в окончательном тексте не содержат никаких существенных отличий от первой черновой редакции.
Образ Платона Каратаева противостоит в романе образу Тихона Щербатого, а в известном смысле дополняет его.
В лице Тихона Щербатого, который появляется уже в первом наброске окончания «Войны и мира», Толстой представил идеальный образ крестьянина партизана, олицетворение «дубины народной войны»; он сознавал необходимость дать также идеальный образ крестьянина земледельца в условиях мирной жизни.
788
Такому назначению, прежде всего, должен был удовлетворять образ Каратаева. Поскольку, однако, Каратаев нужен был для показа возрождения Пьера Безухова к жизни после страшного потрясения, пережитого им при виде казни мнимых поджигателей Москвы (возрождение это должно было совершиться под влиянием человека из народа), Толстой изобразил Каратаева не во время его мирной деревенской жизни, а в обстановке французского плена. В этих условиях Платон Каратаев становился, по мысли Толстого, представителем народной мудрости.
Платону Каратаеву за пятьдесят лет. С любовью описывает Толстой его внешность: «приятная улыбка и большие карие нежные глаза»; голос «приятный и певучий»; «круглые, спорые, без замедления следовавшие одно за другим движения»; лицо имеет «выражение невинности и юности».
Как все положительные крестьянские персонажи у Толстого, Каратаев наделен трудолюбием, выносливостью и ловкостью в работе. «Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь». (Почти в этих словах описан и Тихон Щербатый в первой редакции романа.) В полном согласии с поговорками «Положи, боже, камушком, подними калачиком» и «Лег — свернулся, встал — встряхнулся», Каратаев засыпал сразу, как ложился спать, а утром, проснувшись, сейчас же, без минуты промедления, принимался за какую-нибудь работу. Он всегда был занят; «он всё умел делать не очень хорошо, но и не плохо».
Отношение Каратаева к окружающим — спокойное, ровное и одинаковое ко всем. В разговорах он обращается к собеседникам со словами: «братец ты мой», «дружок», «друг ты мой любезный», «милый человек». У него не было никаких исключительных привязанностей к кому бы то ни было, но он любовно жил со всеми, с кем его сводила жизнь.
Патриархально-крестьянское мировоззрение Каратаева выражено главным образом в тех многочисленных русских народных пословицах и поговорках, которыми он «украшал» свою речь. Толстой пользуется случаем высказать свой взгляд на русские народные поговорки. «Поговорки, — говорит он, — которые наполняли его [Каратаева] речь..., были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати»211. (Все поговорки, которые произносит Платон Каратаев, взяты Толстым из книги В. И. Даля «Пословицы русского народа», СПб., 1862.)
В миросозерцание Платона Каратаева Толстой вложил, как об этом можно судить по его письмам периода «Войны и мира»,
789
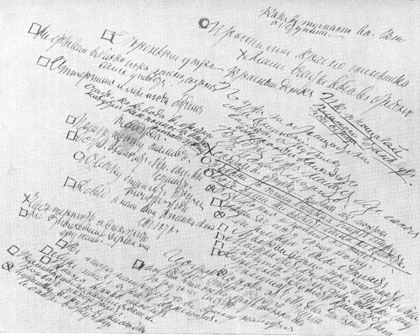
Выписки русских пословиц для четвертого тома «Войны и мира»
790
некоторые существенные черты своего собственного мировоззрения. Так, 1 января 1864 года он писал Т. А. Берс по поводу ее увлечения его братом Сергеем Николаевичем: «Что для вас обоих будет лучше, знает бог». «Чему быть, того не миновать. Жизнь устроивает все по-своему, а не по-нашему, и на это не надо сердиться и ждать терпеливо, умно и честно. Иногда думаешь, что жизнь устроивает противно твоим желаниям, а выходит, что она делает то же самое, только по-своему», — писал Толстой той же Т. А. Берс 20 февраля 1864 года. Своей сестре относительно ее планов замужества с Гектором де Кленом Толстой писал 24 марта 1864 года: «...касательно шансов будущего твоего с ним счастия не имею никаких убеждений. Будет, что богу угодно». Жене Толстой писал 10 ноября 1866 года: «Главное, как можно меньше предпринимать... Всё образуется». В письме к А. А. Толстой от 4 февраля 1866 года, приведя французскую поговорку: «Всё приходит во-время к тому, кто умеет ждать», Толстой прибавляет: «Эта пословица с годами сделалась у меня максимой».
В трактовке автором «Войны и мира» важнейших событий в жизни героев и особенно их смертей также чувствуется каратаевское стремление видеть «благообразие» во всех явлениях жизни. «Представителю русского народа [Кутузову] после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку как русскому делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер»212. Или: «Именно в то время, когда дела графа [Ильи Андреевича] так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер»213.
Потрясенный до глубины души видом казни мнимых поджигателей
791
Москвы, когда «мир завалился в его глазах», Пьер незаметно для самого себя, под влиянием общения с пленными товарищами и в особенности с Каратаевым, возрождается к жизни. Уже в первую ночь после разговора с Каратаевым Пьер почувствовал, что «прежде разрушенный мир теперь с новою красотой на каких-то новых и незыблемых основах двигался в его душе»214. «Вы не можете понять, — говорил Пьер, — чему я научился у этого безграмотного человека дурачка»215.
Для Пьера Каратаев остался навсегда «непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды», «олицетворением всего русского, доброго и круглого»216.
В плену Пьер с особенной силой испытал «радостное чувство» «внутренней свободы, не зависимой от внешних обстоятельств»217.
Еще блуждая по оставленной жителями Москве с целью убить Наполеона, Пьер испытал «неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира». Это было «странное и обаятельное» чувство. Он чувствовал, что «и богатство, и власть, и жизнь, всё то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, всё это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым всё это можно бросить»218.
В плену Пьер вновь переживает то же состояние. Вместе с другими пленными его угоняют из Москвы, и на привале он хочет подойти к товарищам, расположившимся на другой стороне дороги, но французский конвойный солдат преграждает ему путь. Вернувшись на свое место, Пьер уселся на холодную землю и просидел так в раздумье около часа. Он смеется над тем, что его, его «бессмертную душу», заперли и держат в плену. Взглянув на небо, на котором «сиял полный месяц» и «вглубь уходили» «играющие звезды», на далекие леса и поля, Пьер думал: «И всё это мое, и всё это во мне, и всё это я!.. И всё это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками»219.
По поводу этой главы между Толстым и его женой произошел однажды любопытный спор, интересный тем, что в нем Толстой сравнивал душевное состояние Пьера, описанное в этой главе, с душевным состоянием одного из декабристов. Мемуарист рассказывает, что Софья Андреевна, правившая корректуры нового издания «Войны и мира», сказала, что некоторые сцены романа ей не нравились раньше, не нравятся и теперь, в том числе та,
792
«где Безухов, попавший в плен, начинает смеяться». — «Это натяжка. В такие минуты нельзя смеяться», — говорила Софья Андреевна. Толстой на это возразил: «Почему же ты так решительно утверждаешь, что в подобные минуты нельзя смеяться? А еще сегодня я читал в «Архиве»220 о декабристе Батенкове, который, будучи посажен в тюрьму, громко расхохотался и сказал: «Вы запираете меня за мои идеи, но ведь идеи мои не здесь, а там — разгуливают на свободе». Точно так же мог рассмеяться и Пьер»221.
XXXIII
Почти всю третью часть четвертого тома Толстой посвящает народному партизанскому движению, которому он придает большое значение в деле победы над французами. «Такого рода действия, — говорит Толстой, — всегда проявляются в войне, принимающей народный характер». В 1812 году партизанская война была начата не по предписанию правительства; она возникла в среде самого народа. «Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия»222.
Типичным представителем народного партизанского движения является крестьянин Тихон Щербатый, состоявший в партии Денисова, насчитывавшей двести человек. Тихон был «самый полезный и храбрый человек в партии». Ему поручались самые трудные предприятия. Как всегда, Толстой любуется выносливостью человека из народа (Тихон мог проходить пятьдесят верст в день) и его ловкостью в работе (он мог «одинаково верно» со всего размаха расколоть топором бревно и мог, взяв топор за обух, вырезывать им ложки и выстрагивать колышки)223. «Он несколько раз был ранен, но все раны скоро заживали, и он не ходил в лазарет». «Боль он не понимал так же, как не понимал страха»224.
С восхищением перед моральной и физической силой и выносливостью русского солдата описывает Толстой последние месяцы кампании. Несмотря на неимоверно тяжелые условия похода, когда войска без теплых сапог и полушубков, при неполном провианте, по месяцам ночевали в снегу при 15 градусах мороза, «никогда, в самых лучших материальных условиях войско не представляло более веселого, оживленного зрелища». «Всё,
793
что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: остался один цвет войска — по силе духа и тела».
Толстой рисует изумительную картину веселого ночлега Мушкетерского полка в деревне под открытым небом в последний день Красненского сражения 8 ноября225.
«Цель народа была одна: очистить свою землю от нашествия». И «русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели»226.
Претерпевая неслыханные бедствия, народ проявил «необычайно могучую силу жизненности», которая «поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа»227. Эта «сила жизненности» выразилась и в быстром заживании ран, причиненных войной. В Москве в октябре 1812 года «все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого». Это «невещественное и неразрушимое» был могучий созидательный дух русского народа. Восстановление Москвы началось уже в октябре; в январе 1813 года «всё кипело жизнью в разоренной и оживающей столице». Осенью 1813 года население Москвы превысило цифру 1812 года228.
Картиной возрождения к жизни разграбленной и сожженной Москвы заканчивается эпопея «Война и мир»229. Последние главы четвертого тома рассказывают о перемене в жизни Пьера после освобождения из плена и о новых отношениях между ним и Наташей230.
794
Две последние части четвертого тома «Войны и мира» усердно перерабатывались автором в корректурах (печатание происходило в апреле — июне 1869 года). В архиве Толстого сохранилось семь корректур второй части и восемь корректур третьей части. Последняя, заключительная глава третьей части появилась только в корректуре.
XXXIV
Основной текст «Войны и мира» заканчивается эпилогом, состоящим из двух частей.
В эпилоге Толстой ставил перед собой следующие творческие задачи: 1) рассказать о событиях в жизни главных героев через известный промежуток после 1813 года — времени действия последних глав романа; 2) связать сюжет эпопеи — войну 1812 года — с зарождением декабристского движения; 3) высказать свои взгляды на семью и семейную жизнь; 4) подробнее изложить свои философско-исторические воззрения.
Связь начала декабристского движения с войной 1812 года установлена многими декабристами. И. Д. Якушкин говорит в своих записках: «Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании»231. О том же читаем в письме А. Бестужева к Николаю I из крепости: «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России»232.
В эпилоге «Войны и мира» носителями идей политического вольномыслия являются участники войны 1812 года: бывший партизан, отставной генерал Василий Денисов и пассивный участник Пьер Безухов.
Политическое вольномыслие Пьер проявляет еще тогда, когда он в 1805 году в салоне Анны Павловны выступает сторонником принципов Французской революции. Затем через несколько лет в масонской ложе он произносит речь, в которой призывает членов ложи к «распространению правил, сообразных с духом времени», к борьбе с суевериями, к образованию общества «людей, связанных между собою единством цели и имеющих власть и силу»233. Далее в 1812 году в Слободском дворце Пьер высказывает пожелание о предоставлении дворянству совещательного голоса в решении вопросов войны.
795
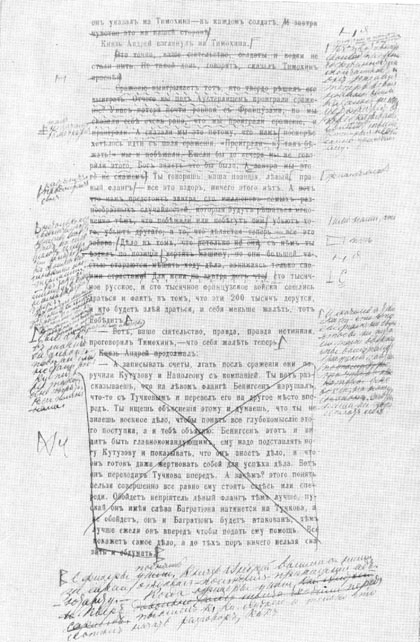
Корректурная гранка третьего тома «Войны и мира» с исправлениями Л. Н. Толстого
796
Теперь — в эпилоге — Пьер «один из главных основателей» «одного общества». По вызову «князя Федора» он едет в Петербург «для обсуждения важных вопросов».
По возвращении из Петербурга Пьер в разговоре с Денисовым и Николаем Ростовым высказывает свой взгляд на положение народа и государства и излагает программу деятельности, намеченную им и его единомышленниками. Общее положение Пьер характеризует такими словами: «Всё гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят». «Аракчеев и Голицын — это теперь всё правительство. И какое! Во всем видят заговоры, всего боятся...»234.
Толстой хвалил Пушкина за то, что в «Евгении Онегине» он выказал «удивительное мастерство двумя-тремя штрихами обрисовать особенности быта того времени»235. Но Толстой сам обладал необычайной способностью давать краткие и меткие характеристики целых периодов общественной жизни (меткость его характеристики пореформенного периода русской жизни, как известно, удостоверена В. И. Лениным). В приведенных словах Пьера дана краткая и выразительная характеристика времени реакции последних лет царствования Александра I.
«Все видят, — говорил далее Пьер, — что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил... Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое... Mot d’ordre [девизом] пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность...»236.
Программа, предлагаемая Пьером, соответствует той первоначальной стадии декабристского движения, когда будущие декабристы еще не ставили своею целью насильственное свержение правительства и мечтали о том, чтобы выступать в роли помощников правительства в борьбе с существующим злом237.
Денисов, также недовольный существующими порядками, идет дальше Пьера. Он говорит: «Всё скве’но и ме’зко, я согласен,
797
только тугендбунд я не понимаю, а не н’авится — так бунт, вот это так!»
Противником взглядов Пьера и Денисова выступает Николай Ростов, откровенно заявляющий Пьеру, что если Пьер, хотя он и его лучший друг, составит тайное общество, которое будет «противодействовать правительству», то он, Николай, ни на секунду не задумываясь, пойдет против него и его сообщников, по приказанию Аракчеева, и будет их рубить.
Так в пределах двух семей Толстой показывает борьбу противоположных общественно-политических группировок в русском дворянстве в начале 1820-х годов.
Нет никакого сомнения, что Пьер с его постоянным исканием правды и готовностью к жертве был бы в 1825 году в числе видных деятелей декабристского движения. И Наташа, его жена, конечно, нашла бы в себе силы, подобно другим женам декабристов, последовать за мужем на каторгу.
В эпилоге «Войны и мира» есть еще один будущий декабрист — это 14-летний Николенька Болконский. Воспитанный на чтении Плутарха (характерный штрих в истории умственного развития многих декабристов)238, он мечтает о подвигах, о славе. Он с восхищением слушает горячие речи дяди Пьера и потом видит во сне, как он с дядей Пьером идет впереди огромного войска и как Пьер превращается в его отца, перед которым он благоговеет. Проснувшись, он мечтает, как он сделает то, чем даже его отец был бы доволен.
В 1883 году один из посетителей задал Толстому вопрос, должен ли был Николенька Болконский действовать в романе из эпохи декабристов. «С улыбкой, осветившей его лицо», Толстой ответил: «О да, непременно»239.
Так Толстой, хотя в общих чертах, осуществил свой первоначальный замысел романа о декабристах.
XXXV
Свои взгляды на брак и семью Толстой изложил не только в эпилоге «Войны и мира», но и в написанной тогда же (в 1868 году) заметке по поводу предисловия Тургенева к русскому переводу романа Б. Ауэрбаха «Дача на Рейне»240.
Цель брака, по Толстому, семья; отсюда единобрачие.
798
Для иллюстрации своих взглядов на брак Толстой употребляет сравнение: «Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи»241.
В нормальном браке между мужем и женой образуются совершенно особые отношения близости, о которых Николай Ростов рассуждает следующим образом: «Жену разве я люблю?... Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй отрежь его»242.
Нет оснований полагать, что изображая Наташу всецело погрузившейся в семейную жизнь и оставившей все свои девические очарования, Толстой имел в виду полемику с Чернышевским и с «Современником»243, но он, конечно, предвидел, что такое изображение им его любимой героини вызовет резкое осуждение критики, как и случилось.
Изображение в эпилоге Наташи-матери, так же, как и княжны Марьи, вытекало из того культа материнства, который в то время с такой убежденностью проповедовал Толстой. Он признавал, что призвание матери есть высшее призвание женщины, или, как выразился он в письме к Фету от 18 ноября 1873 года, что «материнское сердце» есть «удивительное, высшее проявление божества на земле»244.
Чем больше женщина-мать будет «вникать» в свое призвание, писал Толстой, «тем более это призвание будет захватывать ее всю и представляться ей бесконечным». «Женщина тем лучше, чем больше она отбросила личных стремлений для положения себя в материнское призвание». И «чем больше любила — деятельно любила — мать, тем дитя лучше. Я не знаю примера из биографии великих людей — великого человека не любимца матери»245.
В эпилоге «Войны и мира» идеалу женщины-матери и воспитательницы, каким он представлялся Толстому, больше соответствует княжна Марья, чем Наташа. Она ведет дневник поведения своих детей, и уже одна эта подробность, заимствованная из биографии матери Толстого, показывает, насколько близок ему был этот образ.
799
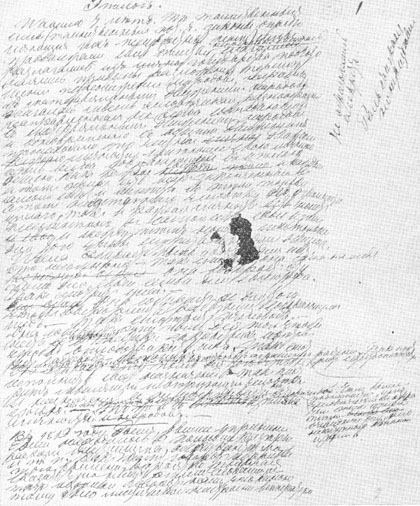
Первая страница первой редакции эпилога к «Войне и миру»
800
Преклонению перед материнством вполне соответствует торжественное описание состояния беременности, а затем родов маленькой княгини Лизы Болконской. Во время беременности на ее лице было заметно «то особенное выражение внутреннего и счастливо-спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам». Она смотрит «вглубь — в себя — во что-то счастливое и таинственное совершающееся в ней»246. Во время ее родов, происходящих ночью, «во всех людях... в доме князя видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в ту минуту... Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться... И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось...»247
Чувственные отношения без душевной близости, хотя бы и в браке, не создают, по мнению Толстого, того особого единения между мужем и женою, которое бывает в нормальном браке. Когда Пьер Безухов до женитьбы впервые почувствовал всю притягательную силу «пластической красоты форм тела» Элен Безуховой, он смутно сознавал: «Что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное». «Что-то гадкое, противуестественное, как ему казалось, нечестное, было бы в этом браке»248. Несмотря на этот предостерегающий внутренний голос, Пьер женится на Элен и падает в пучину больших страданий и бедствий.
XXXVI
Изучая события одной из самых крупных войн в истории человечества, Толстой был приведен к размышлениям над вопросами философии истории и, прежде всего, над вопросом о роли личности и народных масс в историческом процессе.
Вопрос о роли личности в истории оживленно обсуждался в передовой русской литературе 1850—1860-х годов. Н. А. Добролюбов в одной из своих статей 1858 года писал: «Конечно, ход развития человечества не меняется от личностей. В истории прогресса целого человечества не имеют особенного значения не только Станкевичи, но и Белинские, и не только Белинские, но и Байроны и Гете; не будь их, то, что сделано ими, сделали бы другие. Не потому известное направление является в известную эпоху, что такой-то гений принес его откуда-то с другой планеты; а потому гений выражает известное направление,
801
что элементы его уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других»249.
В другой статье Н. А. Добролюбов писал «...Не хотят понять, что ведь историческая личность, даже и великая, составляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камня, а сама тотчас потухнет, если не встретит материала скоро загорающегося. Не хотят понять, что этот материал всегда подготавливается обстоятельствами исторического развития народа и что вследствие исторических обстоятельств являются личности, выражающие в себе потребности общества и времени»250.
Толстого давно занимал вопрос о роли личности в истории. Еще 11 мая 1857 года, читая записки Ласказа о Наполеоне, Толстой записал в своем дневнике, что Наполеон «забыл, что цари растут из народа», и что он ошибался, ожидая «переворотов в Европе от личностей, владык».
Намеченная в этих словах мысль о роли личности и народных масс в истории получает полное развитие в «Войне и мире».
Уже в одном из отброшенных начал «Войны и мира» было сказано о Наполеоне, что он «вообразил себе, что он делает историю», в то время как в действительности он был только «самый покорный и забитый раб ее»251.
В двух первых томах «Войны и мира» нет никаких историко-философских рассуждений, но в третьем и четвертом томах и в эпилоге романа, а также в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой много раз возвращается к вопросу о роли личности в истории. Точка зрения автора «Войны и мира» по данному вопросу может быть сведена к следующим основным положениям.
1. «Ход мировых событий... зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях»252.
2. «Так называемые великие люди» имеют «малое значение в исторических событиях»253.
3. «Воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима»254.
«В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые так же, как ярлыки, менее всего имеют связи с самим событием»255.
802
4. «Так называемая власть», в которой проявляется «самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с другими людьми», «в своем истинном значении» есть не что иное, как «наибольшая зависимость от них»256.
«Царь есть раб истории»257.
Полководцы «из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями»258.
5. «Влияние Наполеонов на ход таких [мировых] событий есть только внешнее и фиктивное»259.
«Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиной волю одного человека: как один человек не мог один подкопать гору, так не может один человек заставить умирать пятьсот тысяч»260.
6. «Человеческое достоинство» говорит мне, «что всякий из нас, ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон»261.
«Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким фигура, вырезанная на носу корабля, представлялась силою, руководящею корабль), Наполеон во все время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит»262.
«Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила»263.
7. «Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров, генералов, а изучать однородные бесконечно малые элементы, которые руководят массами».
«Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории, но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов»264.
8. «Такой же причиной [войны], как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы
803
он не захотел идти на службу, и не захотел бы другой и третий и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть... Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин»265.
Все эти положения могут быть сведены к одному.
Сила, движущая народами, лежит не в исторических личностях, а в самих народах. На войне действительная сила в руках солдат.
«Война и мир» написана в полном соответствии с этим взглядом автора на роль народных масс в истории. Вся эпопея проникнута мыслью о том, что не Александр I, не министры и не генералы решили судьбу кампании 1812 года — судьбу кампании решил русский народ. Роль Кутузова была велика только потому, что он слил свою волю с волей народа и поставил своей целью исполнение народных требований.
XXXVII
С вопросом о роли личности и народных масс в истории связан вопрос о значении в сражениях духа войска. Этому вопросу Толстой уделил в своей эпопее большое внимание.
«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть», — говорит князь Андрей Пьеру накануне Бородинского сражения. Успех сражения зависит «от того чувства, которое есть... в каждом солдате».
Эта точка зрения последовательно проводится Толстым во всех военных сценах его эпопеи.
Еще в черновой редакции описания Аустерлицкого сражения Толстой писал: «Я всегда по рассуждению и по опыту был и останусь того убеждения, что вопросы военных успехов решаются... не столько предусмотрительностью и силою всех возможных соображений, сколько умением обращаться с духом войска, искусством поднимать его в ту минуту, когда высота его более всего нужна». Толстой сомневается в том, чтобы можно было руководить этой силой, но, по его мнению, возможно определить «условия, в которых орудие это употребляется самым выгодным образом, и наоборот». Бывают походы трудные, но веселые; бывают легкие, но скучные. Много разнообразных условий влияет на настроение армии: «и климат, и толки в армии, и провиант, и
804
больше всего отношения начальников к подчиненным. Чем больше связи между тем и другим, чем ближе, непосредственнее эта связь, ...тем больше силы и высоты приобретает дух войска»266.
Сила, от которой зависит успех сражения, это «дух войска, то-есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или в двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки»267.
«Высшая степень настроенности духа войска» — вот «то, что нельзя свесить, счесть и определить, но то, что всегда и везде, при всех возможных условиях неравенства, решало, решает и будет решать участь сражений»268.
Толстой вскоре отказался от мысли о том, что главнокомандующий не может руководить духом войска. Руководит духом войска в Шенграбенском сражении Багратион, о котором Толстой говорит: «Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, ...присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростью»269.
Руководил духом войска в Бородинском сражении Кутузов, который «знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этою силой и руководил ею, насколько это было в его власти»270.
Мысль о решающем значении духа войска Толстой через тридцать лет после окончания «Войны и мира» повторил в статье «Голод или не голод?» (1898), описывающей положение русского крестьянства. Здесь Толстой писал: «Военные люди знают, что такое значит дух войска; знают, что этот неосязаемый элемент есть первое, главное условие успеха, что при отсутствии этого элемента делаются недействительными все другие. Пускай будут солдаты прекрасно одеты, накормлены, вооружены, пускай будет сильнейшая позиция, — сражение будет проиграно,
805
если не будет того неосязаемого элемента, который называется духом войска»271.
Советская военная наука вполне признает значение морального фактора для успеха войн. В. И. Ленин говорил: «Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести»272.
В 1812 году «одушевление народа», по мнению Толстого, «было главной причиной торжества России»273. «Исход войны решил характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе»274.
XXXVIII
Изучая эпоху 1812 года, Толстой обратил внимание на то, что большинство писавших о войне этого года «видели в этом событии что-то особенное и роковое»275.
Весь ход военных событий 1812 года, по мнению Толстого, протекал совершенно неожиданно для участников этих событий, и конечные результаты войны никем не были предвидены. Толстой объясняет это тем, что существуют не зависящие от воли человека законы, которым неизбежно подчиняется деятельность исторических лиц.
«Рассматривая историю с общей точки зрения, мы несомненно убеждаемся в предвечном законе, по которому совершаются события»276. «Ход мировых событий предопределен свыше»277. «Закон предопределения» «особенно выпукло» выступает в событиях 1812 года278.
Считая, что в ходе войны 1812 года и верные шаги, и ошибки исторических деятелей вели к последствиям, которых они не предвидели, — к завлечению французов в глубь России, сожжению городов и разжиганию народной ненависти к завоевателям, Толстой приходит к выводу о существовании «невидимого машиниста», направляющего все события к «предназначенной им цели»279. Этого «невидимого машиниста» Толстой называет Провидением. Провидение в представлении Толстого не тождественно
806
с церковным понятием о всемогущем личном боге, принимающем «непосредственное участие в делах человечества». Такое представление Толстой считает отжившим280.
Представление Толстого о Провидении близко к воззрениям французских деистов XVIII века — Вольтера и Руссо. Провидение, по Толстому, «неопределенная281, непостижимая сила», которую нельзя «выразить словом», «великое всё или ничего»282.
Провидение раз навсегда установило законы, которым подчинена человеческая жизнь. Законы эти частью нам совершенно неизвестны, частью «нащупываемы нами»283.
Так как законы, управляющие человеческой жизнью, полностью нам не известны, то человек не может устраивать жизнь по своим соображениям. «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни»284. «Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»285.
Однако в оценке деятельности Кутузова Толстой, сам того не замечая, исходит из противоположного положения, допуская возможность понимания историческим лицом «общего хода дела» и значения тех исторических событий, в которых он принимает непосредственное участие. Кутузов, по мнению Толстого, «один понимал значение совершавшихся событий». Он «являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события»286.
Когда мы обращаемся к историческим событиям прошедшего, говорит Толстой, то не все исторические события нам понятны. Поэтому «фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то-есть тех, разумности которых мы не понимаем)»287.
Люди, по мысли Толстого, живут сознательно каждый для своих целей, но в то же время бессознательно служат целям Провидения.
«Всё для исполнения предназначенной цели употребляется невидимым машинистом и берется во внимание: и пороки и добродетели, и страсти и слабости, и сила и нерешительность — всё, как будто стремясь к одной своей ближайшей цели, ведет
807
только к цели общей»288. Цели Провидения нам неизвестны, но в некоторых случаях, как полагает Толстой, мы можем догадываться об этих целях. Так, миссию Наполеона в истории Толстой видит в том, что судьба предназначила ему «быть бичом, карою и орудием унижения этих устарелых и гордых династических владык»; или, как говорит Толстой устами одного из своих героев, «он призван для того, может быть, чтобы уничтожить те царства, которые неугодны были богу, и показать нам яснее, как тщетно величие мира сего»289. Ему предназначена была «жестокая, печальная и тяжелая, нечеловеческая роль», «печальная, несвободная роль палача народов»290.
Толстой пытается уяснить сокровенный смысл даже такого ненавистного ему явления, как война. Он полагает, что так как война противна самому существу человека, то она «не может происходить по его воле»291. Война, это «страшное дело», «совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами»292. «Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога»293. Это означает: человеческому разуму и совести труднее всего примириться с признанием необходимости войны, но примириться необходимо, потому что это — воля бога.
Толстой задает вопрос: «Зачем миллионы людей [в войне 1812 года] убивали друг друга, тогда как с сотворения мира известно, что это и физически и нравственно дурно?» И отвечает на этот вопрос так: «Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли тот стихийный зоологический закон, который исполняют пчелы, истребляя друг друга к осени, по которому самцы животных истребляют друг друга»294.
Этим же соображением Толстой склонен объяснять и все исторические события, сопровождавшиеся массовыми убийствами. Варфоломеевская ночь, по мнению Толстого, «есть одно из тех жизненных явлений, которое совершается неизбежно по предвечным законам, свойственным человечеству, — убивать в среде своей лишнее число людей и подводить под это совпадающие с этим убийством свои страсти»295.
Неосновательность такого признания неизбежности войны очевидна.
808
Бесспорную истину высказал Герцен, когда писал, что если массы смотрят на войну, как на нечто роковое, как на чуму или холеру, то это происходит только от «отсутствия сознания внизу». Война, писал Герцен, «только и сильна отсутствием сознания внизу и отсутствием совести и правды наверху»296.
Впоследствии Толстой решительно отверг взгляд на войну, как на стихийное явление. В 1904 году он писал: «Война не стихийное явление, а чисто человеческое. Нет тех ужасов, которые не совершил бы человек, решивший в своей душе, что то, что он делает, есть стихийное, не зависящее от его воли, явление»297.
XXXIX
По выходе в свет последнего тома «Войны и мира» либеральная газета «Голос» писала: «Сухой, безотрадный фатализм — вот последнее слово философии графа Л. Н. Толстого»298.
Быть может, по поводу этой статьи или другой ей подобной Толстой 24 февраля 1870 года говорил жене:
«Меня упрекают в фатализме, а никто не может быть более верующим, чем я. Фатализм есть отговорка, чтобы делать дурное, а я верю в бога, в выражение Евангелия, что ни один волос не спадет без воли божьей, оттого и говорю, что всё предопределено»299.
Признание необходимости фатализма для объяснения исторических явлений не приводило Толстого к признанию несвободы человека, к пассивности, к отказу от нравственной ответственности за свои поступки. Еще в черновой редакции статьи «О народном образовании» (1861) Толстой писал, что закон «разумности всего существовавшего» мы можем допустить «только как оправдание прошедшего, но не как руководство для будущего»300. «Фатализм для человека такой же вздор, как произвол в исторических событиях»301. «Фатализм в истории столь разумен, как неразумен в отдельном человеке»302. Это означает, что человек никогда не может отрешиться от сознания своей свободы и вытекающего из этого сознания нравственной ответственности за свои поступки.
Вопрос об отношении свободы и необходимости в действиях человека очень волновал автора «Войны и мира».
809
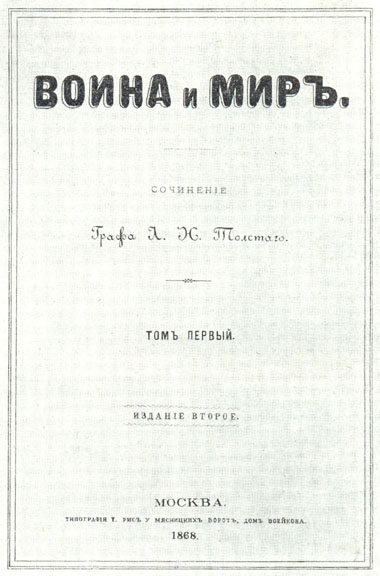
Обложка второго издания первого тома «Войны и мира».
810
По мнению Толстого, «определить границу области свободы и зависимости весьма трудно»; «определение этой границы составляет существенную и единственную задачу психологии»303.
Существуют, как полагает Толстой, две категории поступков, в одной из которых человек свободен, а в другой не свободен. Свободен человек в тех поступках, в которых он не связан с другими людьми; не свободен — в тех, в которых его деятельность связана с деятельностью других. «Я несомненно могу, что бы ни говорили материалисты, совершить действие или воздержаться от него, как скоро действие это касается одного меня»304. Но в жизни общей, которую Толстой называет жизнью стихийной, роевой, зоологической, «человек неизбежно исполняет предписанные ему законы»305.
Поступки, совершаемые человеком «в совокупности с другими людьми», зависят «от совпадения других произволов с моим». Толстой приводит такой пример несвободной деятельности человека: «Я не могу в сражении не идти с своим полком в атаку и не бежать, когда все бегут вокруг меня»306. Против такого примера само собой напрашивается возражение, основанное на тексте «Войны и мира». В Аустерлицком сражении князь Андрей не побежал, когда все бежали вокруг него, а, выхватив у солдата знамя, бросился вперед. Следовательно, и в поступках, связанных с деятельностью других людей, человек может проявлять свою свободу.
О так называемой «зоологической» деятельности Толстой писал Ю. Ф. Самарину 10 января 1867 года: «Земство, мировые суды, война или не война и т. п. — все это проявления организма общественного — роевого (как у пчел), на это всякая пчела годится и даже лучше те, которые сами не знают, что и зачем делают — тогда из общего их труда всегда выходит однообразная, по известным зоологическим законам деятельность». Такова «зоологическая деятельность военного, государя, предводителя [дворянства], пахаря». Это несвободную (зоологическую) деятельность Толстой считает «низшей ступенью деятельности», «в которой — правы матерьялисты — нет произвола».
«Чем отвлеченнее и потому чем менее наша деятельность связана с деятельностью других людей, тем она свободнее; и наоборот, чем больше деятельность наша связана с другими людьми, тем она несвободнее»307. «Действуя над самим собой, ученый, художник, мыслитель — свободен; действуя над людьми,
811
полководец, царь, министр, муж, отец — несвободен, подлежит стихийным законам»308.
Но поскольку человек не может быть оторван от связи с другими людьми, постольку он не может никогда быть вполне свободен. «Как нет на свете положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был вполне несчастлив и несвободен»309.
XL
Толстой очень дорожил философскими взглядами, изложенными им в «Войне и мире» и в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
Как всегда, когда Толстой был увлечен каким-нибудь замыслом, ему казалось, что предмет его увлечения данного времени важнее всего того, что им было написано когда-либо раньше.
Погодин в письме от 21 марта 1868 года сочувственно отозвался о статье Толстого; этого было достаточно, чтобы Толстой в ближайшие дни написал ему: «Мысли мои о границах свободы и зависимости и мой взгляд на историю — не случайный парадокс, который на минутку занял меня. Мысли эти — плод всей умственной работы моей жизни и составляют нераздельную часть того миросозерцания, которое бог один знает какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье. А вместе с тем я знаю и знал, что в моей книге будут хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над Сперанским и тому подобную дребедень, которая им по силам, а главное-то никто не заметит».
Усиленно работая над философско-историческими главами, входящими в состав последнего тома и эпилога «Войны и мира», Толстой испытывал потребность поделиться волновавшими его мыслями с людьми, которые, как он надеялся, поймут его и будут ему сочувствовать. Приехав в Москву 17 января 1869 года, он в тот же день вечером отправился к Сергею Семеновичу Урусову, у которого встретил Ю. Ф. Самарина и близкого к славянофильству писателя и переводчика Сергея Андреевича Юрьева. «Вчетвером договорили до третьего часа», — писал Толстой жене на другой день. «Исторические мысли мои, — писал Толстой далее, — поразили очень Юрьева и Урусова и очень оценены ими; но с Самариным, вовлекшись в другой философский спор, и не успели поговорить об этом».
Беседа с Самариным состоялась, вероятно, 18 или 19 января; был приглашен также философ-идеалист П. Д. Юркевич, с которым
812
Толстой познакомился у Аксакова в 1863 году. Но Юркевич не оправдал надежд, которые возлагал на него Толстой: в ответ на прочитанные Толстым главы эпилога он ничего не сказал, а только прочел отрывок из своей лекции.
В мае 1869 года Фет отправил Толстому не дошедшее до нас сочувственное письмо по поводу философско-исторических глав «Войны и мира». В ответ Толстой писал ему 10 мая: «Участие ваше к моему эпилогу меня тронуло... То, что я написал, особенно в эпилоге, не выдумано мной, а выворочено с болью из моей утробы».
Полного единомышленника Толстой нашел в лице своего верного друга С. С. Урусова. В 1868 году Урусов напечатал книгу «Обзор кампании 1812 и 1813 годов, военно-математические задачи и о железных дорогах», написанную под влиянием «Войны и мира». В предисловии Урусов сообщает, что суждения Толстого о причинах войны 1812 года и взгляды его на военные события внушили ему мысль «отыскивать исторические законы, преимущественно же законы войны, с помощью математического анализа». Далее Урусов высказывает согласие с взглядами Толстого на причины, побудившие Наполеона вторгнуться в пределы России, и приводит большую выдержку из четвертого тома «Войны и мира» о начале второго периода кампании 1812 года.
Доверяя Урусову, Толстой просил его читать корректуры последнего тома «Войны и мира». Урусов, как видно из его писем к Толстому от 1—2, 8 и 12 мая 1869 года310, сделал небольшие сокращения в историко-философских главах и советовал Толстому сократить полемическую часть и избегать «решительного приговора историкам, ибо вам, — писал Урусов, — прямо укажут на его несправедливость».
Философские и философско-исторические вопросы, которым посвящены эпилог и отдельные главы «Войны и мира», и позднее так же продолжали занимать и волновать Толстого, но решались им во многом иначе, чем в «Войне и мире». Понятие «предопределения» совершенно не встречается в его работах последнего периода жизни; понятие «свободы» формулируется шире и определеннее»; не отрицается совершенно роль личности; решительно отвергается представление о войнах и других исторических событиях как о стихийных явлениях, не зависящих от воли людей.
Философские и философско-исторические воззрения, изложенные в «Войне и мире», — только этап в сложной и трудной эволюции миросозерцания Толстого, продолжавшейся еще в течение долгого периода.
813
Глава четырнадцатая
ОТЗЫВЫ СОВРЕМЕННИКОВ
О «ВОЙНЕ И МИРЕ»
I
Все газеты и журналы, без различия направлений, отмечали необыкновенный успех, которым встречен был роман Толстого при его появлении в отдельном издании.
«Книга графа Толстого, сколько известно, имеет в настоящую минуту огромный успех; быть может, это наиболее читаемая книга из всех, что порождали в последнее время русские беллетристические таланты. И этот успех имеет свое полное основание»1.
«О новом произведении графа Л. Н. Толстого говорят повсюду; и даже в тех кружках, где редко появляется русская книга, роман этот читается с необыкновенной жадностью»2.
«Четвертый том сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир» получен в Петербурге на прошлой неделе и просто расхватывается в книжных магазинах. Успех этого сочинения все растет»3.
«Мы не запомним, когда бы с таким живым интересом принималось в нашем обществе появление какого-нибудь художественного произведения, как ныне принимается появление романа графа Толстого. Четвертый том его все ожидали не просто с нетерпением, а с каким-то болезненным волнением. Книга раскупается с невероятной быстротой»4.
«Во всех уголках Петербурга, во всех сферах общества, даже там, где ничего не читалось, появились желтые книжки «Войны и мира» и читались положительно нарасхват»5.
814
«Вышедшее в настоящем году сочинение графа Толстого «Война и мир» было прочитано, можно сказать, всею читающей русской публикой. Высокая художественность этого произведения и объективность взгляда автора на жизнь произвели обаятельное впечатление. Художник автор сумел совершенно овладеть умом и вниманием своих читателей и заставил их интересоваться глубоко всем тем, что он изобразил в своем произведении»6.
«На дворе весна... Книгопродавцы приуныли. Их магазины почти целый день пусты: публике не до книг. Только разве иногда отворится дверь книжного магазина, и посетитель, высунув из-за двери одну лишь голову, спросит: «Вышел пятый том «Войны и мира»?» Затем он скроется, получив отрицательный ответ»7.
«Роман нельзя не прочесть. Он имеет успех, он читается всеми, хвалится большинством, составляет «вопрос времени»8.
«Едва ли какой-нибудь роман имел у нас такой блистательный успех, как сочинение графа Л. Н. Толстого «Война и мир». Можно сказать смело, что его прочла вся Россия; в короткое время потребовалось второе издание, которое уже и вышло»9.
«Ни одно литературное произведение последнего времени не производило на русское общество такого сильного впечатления не читалось с таким интересом, не приобретало столько поклонников, как «Война и мир» графа Л. Н. Толстого»10.
«Давно уже ни одна книга не читалась с такою жадностью... Ни одно из наших классических произведений не расходилось так быстро и в таком количестве экземпляров, как «Война и мир»11.
«Романом графа Толстого в данное время занята чуть ли не вся русская публика»12.
В. П. Боткин в письме к Фету из Петербурга от 26 марта 1868 года писал: «Успех романа Толстого действительно необыкновенный: здесь все читают его, и не только просто читают, но приходят в восторг»13.
815
Некоторые книгопродавцы, чтобы спустить залежавшуюся у них «Войну и мир» Прудона, предлагали покупателям эту книгу по удешевленной цене в придачу к «Войне и миру» Толстого14, а другие, пользуясь необычайным спросом на роман Толстого, продавали его по повышенным ценам15.
Своеобразие и новизна художественного метода Толстого в его гениальном романе-эпопее не могли быть оценены по достоинству большинством современных критиков так же, как не могли быть вполне поняты особенности его идейного содержания. Большинство статей, появившихся по выходе «Войны и мира», интересны не столько своей оценкой произведения Толстого, сколько характеристикой той литературно-общественной атмосферы, в которой ему приходилось работать. Прав был Н. Н. Страхов, когда писал, что не о «Войне и мире» будет потомство судить на основании критических статей, а об авторах этих статей будут судить по тому, что ими было сказано о «Войне и мире».
Количество журнальных и газетных статей, посвященных критике «Войны и мира» при появлении романа, исчисляется сотнями. Мы рассмотрим только наиболее характерные из них, принадлежащие представителям различных направлений16.
II
Уже появление первых частей романа в «Русском вестнике» под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год» вызвало в современной печати ряд критических статей и заметок, принадлежащих представителям различных общественно-литературных направлений.
Анонимный критик либеральной газеты «Голос», после напечатания в «Русском вестнике» первых глав «1805 года», недоумевал: «Что это такое? К какому разряду литературных произведений отнести его? Полагать надо, что и сам граф Толстой не решит этого вопроса, судя по тому, по крайней мере, что он не отнес своего произведения ни к какому разряду, не назвав его ни повестью, ни романом, ни записками, ни воспоминаниями... Что же это всё? Вымысел, чистое творчество или действительные события? Читатель остается совершенно в недоумении, как
816
ему смотреть на рассказ обо всех этих лицах. Если это просто произведение творчества, то зачем же тут фамилии и знакомые нам характеры? Если это записки или воспоминания, то зачем этому придана форма, подразумевающая творчество?»17
Сомнение в том, не подлинные ли мемуары печатает Толстой под названием «1805 год», было выражено и в других отзывах о романе.
Известный в то время критик В. Зайцев в радикальном журнале «Русское слово» заявил, что роман Толстого, как и многое другое, напечатанное в «Русском вестнике», не заслуживает критического разбора, так как в нем изображены только представители аристократии. «Что касается «Русского вестника», — писал Зайцев, — то читатель поймет, почему я не говорю о нем так подробно, как о прочих, просмотрев одни заглавия статей хотя бы январской книжки этого журнала. Здесь господин Иловайский пишет о графе Сиверсе, граф Л. Н. Толстой (на французском языке) о князьях и княгинях Болконских, Друбецких, Курагиных, фрейлинах Шерер, виконтах Монтемар, графах и графинях Ростовых, Безухих, батардах Пьерах и т. п. именитых великосветских лицах, Ф. Ф. Вигель вспоминает о графах Прованском и Артуа, Орловых и прочих и об обер-архитекторах»18.
В таком же духе высказался тогда же и другой радикальный журнал — сатирический журнал «Будильник», выразивший презрительное отношение к «Русскому вестнику» за то, что он «обязался поставлять в публику романы из великосветского мира»19.
В противоположность этим близоруким отзывам Н. Ф. Щербина, подписавшийся псевдонимом «Омега», автор статьи в газете военного ведомства «Русский инвалид», отметил обличительный характер романа. «Первая часть романа, — писал этот критик, — несмотря на свой очень почтенный объем, служит пока только экспозицией дальнейшего действия, и в этой экспозиции развертывается превосходное изображение высшего светского общества того времени... Чрезмерная гордость, высокомерное пренебрежение ко всему обедневшему, ко всему тому, что не принадлежит к самому высшему аристократическому кругу, типично выставлены в князе Курагине... Характер этого Курагина очерчен чрезвычайно рельефно и, как живой, мечется в глаза читателю... В Петербурге все придворные надменны, всё основано
817
на интриге и взаимном обмане; ни одного живого, чистосердечного слова»20.
А. С. Суворин (в то время либерал) писал в той же газете: «Он [Толстой] смотрит на своих действующих лиц как художник, отделывает их с тем умением и тонкостью, которые так отличают все произведения нашего замечательного писателя. Ни одной пошлой или обыденной черты вы не встретите у него, оттого лицо крепко запечатлевается в вашем воображении, и вы не смешиваете его с другими. Анна Шерер, влиятельная придворная дама, князь Василий, влиятельный придворный, очерчены мастерски... Всё общество... представляется цельно и характеристично. Особенно рельефно выступает Пьер... Проникнутый благородством, честностью и добродушием, он способен на страстную привязанность и меньше всего думает о себе... Этот характер оригинальный, верный, выхваченный из жизни и бросается в глаза своими русскими чертами. Таких юношей много, но никто из писателей не обрисовал их с таким мастерством, как граф Лев Толстой. Мы считаем это новое произведение Льва Толстого заслуживающим самого полного внимания»21.
Наиболее обстоятельный отзыв о художественной стороне «1805 года» был дан Н. Ахшарумовым, принадлежавшим к школе «чистого искусства»22. Автор относит «1805 год» к числу самых редких явлений нашей литературы. Критик не может определенно отнести произведение Толстого «ни к одной из известных рубрик изящной словесности». Это не «хроника» и не «исторический роман», однако ценность произведения от этого нисколько не уменьшается. Задачей автора было дать «очерк русского общества шестьдесят лет назад», и Толстой успешно справился с этой задачей, поставив выше всего соблюдение требований «исторической правды». Исторический элемент несомненно вошел в произведение Толстого, но «элемент этот не залёг мертвым пластом в основе постройки, а как здоровая крепкая пища переработан был творческой силой в живую ткань, в плоть и кровь поэтического создания». «Читая рассказы графа Толстого о прошлом, мы до такой степени уходим за шестьдесят лет назад, до такой степени понимаем людей, им описанных, что не чувствуем к ним ни ненависти, ни отвращения». «Мы говорим: всё это были добрые люди, ничуть не хуже нас с вами».
Критик восхищается образом князя Андрея, считая, что «характер этот не выдуман, что это истинно русский коренной самородный
818
тип». По мнению критика, «порода людей такого закала, если б она сохранилась до наших времен, могла бы нам оказать услугу неоцененную».
Вторая часть «1805 года», посвященная описанию заграничного похода русской армии, характеризуется критиком такими словами: «Рассказ живой, краски яркие, сцены военного быта очерчены тем же бойким пером, которое познакомило нас с осадою Севастополя, и дышат такою же правдою». Исторические лица, как Багратион, Кутузов, Мак, а также такие военные «старого времени», как гусар Денисов, «сообщают рассказу черты исторической правды». «Дар верного выбора из несчетной массы подробностей только того, что действительно интересно и что очерчивает событие с его типической стороны, принадлежит автору в такой степени, что он мог смело выбрать предметом рассказа всё, что угодно, хотя бы сюжет давно забытой реляции, и быть уверенным, что он никогда не наскучит». Дочитав рассказ до конца и отдавая себе отчет в прочитанном, «мы не находим нигде фальшивой ноты».
Мы видим, что представитель теории «чистого искусства», правильно указав некоторые художественные особенности «Войны и мира», совершенно обошел молчанием обличительную сторону романа.
III
Выход одновременно в декабре 1867 года первых трех томов первого шеститомного издания «Войны и мира» сразу вызвал обширную критическую литературу о романе.
«Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова откликнулись на выход романа двумя статьями — Д. И. Писарева и М. К. Цебриковой.
Писарев свою статью «Старое барство»23 начал с такой характеристики романа: «Новый еще не оконченный роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым произведением по части патологии русского общества». По мнению критика, роман Толстого «ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии и без труда». Писарев отмечает «правду» в изображении Толстым представителей высшего общества: «Эта правда, бьющая ключом из самих фактов, эта правда, прорывающаяся помимо личных симпатий и убеждений рассказчика, особенно драгоценна по своей неотразимой убедительности».
819
Ненавидя барство, Писарев резко критикует типы Николая Ростова и Бориса Друбецкого.
Статья Писарева осталась незаконченной: 4 июля 1868 года критик погиб.
Цебрикова свою прочувствованную, прекрасно написанную, статью24 посвятила анализу женских типов «Войны и мира».
Автор вспоминает неудавшиеся, по ее мнению, образы идеальных женщин у современных русских писателей: Юленьку Гоголя, Ольгу Гончарова, Елену Тургенева. В противоположность этим писателям, Толстой «не пытается создавать идеалы; он, берет жизнь, как она есть, и в новом романе своем выводит несколько характеров русской женщины в начале нынешнего столетия, замечательных по глубине и верности психологического анализа и жизненной правде, которою они дышат». Автор анализирует три главных женских характера «Войны и мира» — Наташу Ростову, маленькую княгиню и княжну Марью.
Анализ образа Наташи Ростовой, сделанный М. К. Цебриковой, бесспорно является лучшим во всей критической литературе о Толстом.
«Наташа Ростова, — пишет автор, — сила не маленькая; это богиня, энергическая, даровитая натура, из которой в другое время и в другой среде могла бы выйти женщина далеко недюжинная». «Автор с особенной любовью рисует нам образ этой живой, прелестной девочки в том возрасте, когда девочка уже не дитя, но еще и не девушка, с ее резвыми детскими выходками, в которых высказывается будущая женщина». Наташа взрослая — «прелестная девушка, жизнь молодая, счастливая так и бьется в ее смехе, взгляде, в каждом слове, движении; в ней нет ничего искусственного, рассчитанного... Каждая мысль, каждое впечатление отражаются в светлых глазах ее; она вся — порыв и увлечение... Наташа в высшей степени обладает чуткостью сердца, которую считает отличительным свойством женской природы».
Перейдя к анализу подавленного состояния Наташи после отъезда ее жениха, когда она страдала от мысли, «что у ней даром, ни для кого, пропадает время, которое ушло бы на любовь к нему», автор находит, что здесь Толстой «очень метко определил женскую любовь».
Анализ образа княжны Марьи, сделанный Цебриковой, также очень удачен. В ее характеристике этого образа заслуживает особенного внимания суждение по поводу желания смерти отца, которое иногда испытывала княжна. По этому поводу М. К. Цебрикова говорит: «Напиши эти строки другой кто, а не писатель,
820
так глубоко проникнутый семейным началом, как Л. Толстой, какая поднялась бы буря криков, намеков, обвинений в разрушении семьи и подрываньи общественного порядка. А между тем нельзя ничего сильнее сказать против порядка, закрепляющего женщину, что сказано этим примером любящей, безответной, религиозной княжны Марьи, привыкшей всю жизнь свою отдавать другим и доведенной до противоестественного желания смерти родному отцу. Не Л. Толстой учит нас, но сама жизнь, которую он передает, не отступая ни перед какими проявлениями ее, не нагибая ее ни под какую рамку».
Заслугу Толстого М. К. Цебрикова видит также и в изображении Элен Безуховой, так как «ни у одного романиста не встречался еще этот тип развратницы большого света».
IV
Обстоятельный отзыв о «Войне и мире» по выходе первых трех томов сделал П. В. Анненков в либеральном «Вестнике Европы»25.
По определению Анненкова, произведение Толстого является романом и в то же время «историей культуры по отношению к одной части нашего общества, политической и социальной нашей историей в начале текущего столетия». В романе Толстого находим «любопытное и редкое соединение олицетворенных и драматизированных документов с поэзией и фантазией свободного вымысла». «Мы имеем перед собою громадную композицию, изображающую состояние умов и нравов в передовом сословии «новой России», передающую в главных чертах великие события, потрясавшие тогдашний европейский мир, рисующую физиономии русских и иностранных государственных людей той эпохи и связанную с частными, домашними делами двух-трех аристократических наших семей». Своеобразие произведения Толстого видно уже из того, что только с половины третьего тома «завязывается нечто похожее на узел романической интриги» (критик разумел, очевидно, сватовство князя Андрея и дальнейшие события в жизни Наташи).
Мастерство автора в изображении сцен военного быта в «Войне и мире», по мнению Анненкова, достигло своего апогея. «Ни с чем не может сравниться» описание атаки Багратиона в Шенграбенском сражении, так же как и описание сражения при Аустерлице. Критик отмечает изумительное раскрытие автором «Войны и мира» различных душевных состояний
821
его героев во время сражения. Пересказав главные события первых томов романа, критик останавливается и задает вопрос: «Не великолепное ли зрелище все это, в самом деле, от начала до конца?»
Но Анненков вместе с тем находит, что «во всяком романе великие исторические факты должны стоять на втором плане»; на первом плане должно стоять «романическое развитие». В недостатке «романического развития» заключается «существенный недостаток всего создания, несмотря на его сложность, обилие картин, блеск и изящество». Этим замечанием Анненков обнаружил полное непонимание произведения Толстого как эпопеи.
Перейдя далее к рассмотрению движения характеров «Войны и мира», Анненков видит второй недостаток романа в том, что автор будто бы не раскрывает процесса развития своих героев. «Мы видим, — говорит критик, — лица и образы, когда процесс превращения над ними уже закончен, — самого процесса мы не знаем». Упрек этот явно несправедлив, хотя, разумеется, процесс развития всех многочисленных персонажей «Войны и мира» раскрыт автором не в равной мере. Анненков находит, что и события показываются Толстым только тогда, когда они уже вполне определились, «а работа, которую они свершили при изменении своего течения, одолевая препятствия и уничтожая препоны, по большей части произошла, имея свидетелем опять одно безгласное время». В подтверждение своего мнения Анненков ссылается на пример Элен Безуховой. «Чем другим, — писал он, — можно объяснить, например, что распутная жена Пьера Безухова из заведомо пустой и глупой женщины приобретает репутацию необычайного ума и является вдруг средоточием светской интеллигенции, председательницей салона, куда съезжаются слушать, учиться и блестеть развитием?»
Этот пример, приводимый Анненковым, нельзя не признать совершенно неудачным. Из текста романа видно, что никакого «развития» у Элен не происходило, что, сделавшись хозяйкой салона, она осталась такою же «глупой женщиной», какой была и раньше.
Военные сцены романа, по мнению Анненкова, представляют собою «картины безусловного мастерства, обличающие в авторе необычайный талант военного писателя и художника-историка». «Таковы изображения военных масс, представляемых нам как единое, громадное существо, живущее своей особенной жизнью»; «таковы все изображения канцелярий, штабов», таковы в особенности картины сражений.
Бытовая часть романа, заключающая в себе «олицетворение нравов, понятий и вообще культуры высшего нашего общества в начале текущего столетия, развивается довольно полно, широко и свободно благодаря нескольким типам, бросающим, несмотря
822
на свой характер силуэтов и эскизов, несколько ярких лучей на всё сословие, к которому они принадлежат».
Несправедливое замечание Анненкова, что характеры «Войны и мира» представляют собою «силуэты и эскизы», объясняется тем, что Анненков привык к типу романов Тургенева, где каждому действующему лицу дается в определенной главе подробная характеристика. Толстой, как известно, не следовал :этому приему и предпочитал давать характеристики своим героям последовательно, черта за чертой, в самом процессе действия романа; таким образом выведенные им лица постепенно приобретают в глазах читателя яркие очертания.
В высшем обществе, говорит Анненков, автор «Войны и мира» раскрывает перед читателями «под всеми формами светскости бездну легкомыслия, ничтожества, коварства, иногда совершенно грубых, диких и свирепых поползновений». Но Анненков выражает сожаление, что Толстой не показал рядом с высшим обществом элемента разночинцев, получавших в то время все большее и большее значение в общественной жизни. Толстой, правда, изобразил двух «великих» (!) разночинцев — Сперанского и Аракчеева, но критику этого недостаточно. Из разночинцев в то время назначались уже губернаторы, судьи, секретари правительственных учреждений, пользовавшиеся большим влиянием. Критик считает, что даже по чисто художественным соображениям следовало бы ввести в роман «некоторую примесь» этого «сравнительно грубого, жесткого и оригинального элемента», чтобы «растворить несколько эту атмосферу исключительно графских и княжеских интересов».
Анненков сомневается, соответствует ли образ князя Андрея характеру изображаемой эпохи. Он склонен думать, что суждения князя Андрея о событиях и исторических деятелях передают «идеи и представления, составившиеся о них в наше время», и не могли прийти в голову «современнику эпохи Александра I».
Статья Анненкова была прочтена Толстым. В 1883 году в беседе с одним из посетителей по поводу критических статей о «Войне и мире» Толстой сказал:
«— Помните ли вы статью Анненкова? Статья эта во многом была неблагоприятна для меня, и что ж? После всего, что было писано обо мне другими, я с умилением читал ее тогда»26.
V
Многие либеральные органы печати дали высокую оценку художественных достоинств первых трех томов «Войны и мира».
А. С. Суворин в газете «Русский инвалид» дал такую характеристику романа: «Интрига романа крайне проста. Развивается
823
она с тою естественною логикою или, пожалуй, естественною нелогичностью, которая существует в жизни. Ничего необыкновенного, ничего натянутого, ни малейших фокусов, употребляемых даже талантливыми романистами. Это спокойная эпопея, написанная поэтом-художником. Автор захватил в своем изображении самые разнообразные типы и воспроизвел их по большей части мастерски. Особенно ярко представлен старик Болконский, тип деспота с душою любящей, но испорченною привычкою властвовать. Необыкновенно тонко подмечены и развиты автором малейшие черты этого характера, до сих пор не являвшегося в такой законченной художественной форме».
Критик подробно останавливается на образе Наташи. Эту «привлекательную личность автор окружил всем обаянием поэзии. Где она является, там является близко и жизнь, и внимание читателя приковывается к ней. Сколько нам помнится, ни в одном из прежних произведений автора не было женского характера, столь оригинального, столь ярко определенного».
Касаясь, в частности, эпизода увлечения Наташи Анатолем, Суворин находит, что психологический анализ борьбы, которая происходит в Наташе между прежним ее чувством и новым, развит автором «с той полнотою и правдою, которые редко встречаешь у других писателей наших».
Перейдя к военным сценам романа, критик отмечает, что «искусство» Толстого «достигает высшей степени в описании Аустерлицкой битвы».
Вообще, по мнению критика, эпоха в романе Толстого «рисуется перед нами довольно полно»27.
«В русской литературе давно не появлялось произведения, в такой степени обильного художественными достоинствами, как новое сочинение графа Л. Н. Толстого «Война и мир», — писал В. П. Буренин (в то время либерал). — В новом произведении графа Толстого каждое описание, начиная, положим, от мастерски набросанных очерков Аустерлицкого сражения и кончая картинами псовой охоты, каждое лицо, начиная от первых административных и военных деятелей Александровского времени и кончая каким-нибудь русским ямщиком Балагой, дышит живою правдой и реализмом изображения. От графа Толстого, впрочем, иной рисовки картин и лиц и ожидать нельзя. Автор по общему признанию принадлежит к числу первостепенных писателей художников»28.
Критик «Русского вестника» историк П. Щебальский относит «Войну и мир» к числу «замечательнейших произведений
824
русской литературы». Автор не согласен с замечанием, которое ему приходилось слышать, будто бы «в романе недостаточно веет эпохой». Он считает, что такие типы, как Денисов, граф Ростов с его охотой, масоны, свойственны именно тому времени, которое описано в романе. Критик отмечает мастерское изображение в «Войне и мире» не только основных действующих лиц, но и второстепенных, таких, как австрийский генерал Мак, «произносящий не больше десяти слов и остающийся на сцене не более десяти минут». «Граф Толстой, — говорит критик, — находит возможным положить печать особенности даже на первенствующих борзых собак в охотах Ростовых и их соседей». Психологический анализ Андрея Болконского и Наташи Ростовой критик находит «доведенным до совершенства». Далее он указывает также на «необычайную искренность и правдивость» автора «Войны и мира» и на «чувство высокой нравственности, которое носится над всеми сочинениями этого писателя»29.
«Самый талант автора, — писал журнал «Современное обозрение», — имеет в себе симпатичную сторону, и содержание его нового произведения затрагивает любопытство до последней степени. Мы не колеблемся сказать, что «Война и мир» обещает быть лучшим историческим романом нашей литературы». Новаторство Толстого критик видит в том, что «эта форма исторического романа из ближайшего времени обставлена подробностями чисто историческими в гораздо большей степени, чем это делалось прежде. В книге графа Толстого исторические события рассказываются наряду с такими подробностями, которые читатель всего скорее принимает за действительную историю; исторические лица рисуются так определенно, что читатель ожидает здесь настоящих фактов, какие, без сомнения, тут и есть... Рассказ ведется вообще с обычным мастерством графа Толстого, и мы затруднились бы выбрать лучшие образчики — таких образчиков можно было бы выбрать очень много».
Сделав большую выписку из описания Аустерлицкого сражения, критик говорит: «Читатель узнает здесь ту свежесть и простоту рассказа, которые производили такое впечатление в Севастопольских очерках графа Толстого... Конечно, он пишет не историю, но почти историю»30.
Газета «Одесский вестник» так определила место Толстого среди современных русских писателей: «Меткость, определенность, поэтичность в изображении характеров и целых сцен ставят его неизмеримо выше над другими современными деятелями нашей литературы»31.
825
VI
Появление последних томов «Войны и мира» — четвертого, пятого и шестого — не вызвало таких сочувственных отзывов критики, как появление первых томов. Правдивое описание военных событий и исторических деятелей 1812 года консерваторы приняли за оскорбление патриотического чувства; либералы и радикалы напали на Толстого за его философско-исторические воззрения, — главным образом с точки зрения позитивной философии Огюста Конта.
Из консерваторов первым выступил против «Войны и мира» А. С. Норов, бывший ранее министром народного просвещения32.
Норов еще очень молодым участвовал в Бородинском сражении, где ему ядром оторвало руку. Придерживаясь официальной точки зрения, по которой весь успех войны 1812 года приписывался военачальникам, а народу не отводилось никакой роли, Норов ропщет на то, что в «Войне и мире» будто бы «громкий славою 1812 год, как в военном, так и в гражданском быту, представлен нам милым пустяком», что будто бы в изображении Толстого «целая фаланга наших генералов, которых боевая слава прикована к нашим военным летописям и которых имена переходят доселе из уст в уста нового военного поколения, составлена была из бездарных, слепых орудий случая». В романе Толстого даже «об их удачах говорится только мельком и часто с ирониею». Поэтому Норов «не мог без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть историческим». В романе Толстого будто бы «собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи, взятые безусловно из некоторых рассказов». Сам Норов слепо верит всем невероятным легендам, распространявшимся в то время о событиях 1812 года, как например, легенде об орле, будто бы пролетевшем над головой Кутузова в то время, как он уезжал от армии в Царево-Займище, что́ будто бы послужило «победным предзнаменованием»; верит Норов также и легенде о всеобщем, без всяких исключений, патриотическом увлечении помещиков и купцов в 1812 году. Его возмущает описание Толстым собрания дворянства и купечества в Слободском дворце, когда эти сословия, по рассказу Толстого, «поддакивали всему тому, что им укажут».
Однако Норов, как участник Бородинского сражения, не может не признать, что Толстой «прекрасно и верно изобразил общие фазисы Бородинской битвы». Норов ставит в упрек Толстому
826
в его описании Бородинского сражения только то, что это — «картина без действующих лиц». Народ, главное действующее лицо Бородинского сражения, Норов действующим лицом не считает. Норов не считается также с мнением Толстого о том, что в разгар сражения трудно бывает разобраться в действиях и распоряжениях отдельных начальников. Поэтому Толстой мог употребить такое выражение, за которое упрекает его Норов: «Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов».
Большая часть статьи Норова посвящена его личным воспоминаниям о Бородинском сражении, которые во многом подтверждают описание Бородинского сражения в «Войне и мире».
Точку зрения Норова вполне поддержала консервативная «экономическая, политическая и литературная» газета «Деятельность»33. А. С. Норов, писала газета, «уличает графа Толстого в недобросовестных суждениях не только о некоторых исторических лицах, но даже о целых сословиях, принимавших горячее участие в незабвенную эпоху 1812 года» — дворянстве и купечестве. Рецензент не может понять, «как могло придти в голову автору романа, человеку, как видно по фамилии, русскому, отнестись таким образом к историческим фактам, лицам и сословиям эпохи, столь от нас отдаленной по времени и столь дорогой истинно русскому сердцу». Некоторые объясняют это «влиянием той среды, в которой вырос автор романа: вероятно, в детском или юношеском возрасте он был окружен гувернантками француженками и гувернерами французами, пропитанными иезуитизмом католическим, суждения которых о 1812 годе успели так глубоко залечь в детски впечатлительный ум ребенка или юноши, что граф Л. Н. Толстой не смог выбиться из-под этой нелепой путаницы католического суждения о 1812 годе и в самые лета зрелости». Но есть и другое объяснение: «другие, напротив, подозревают, что автор романа «Мир и война» умышленно относился недобросовестно к историческим фактам и лицам 1812 года с целью придать своему роману ту пикантную тенденциозность, которая нравится известному кругу общества». Рецензент больше склоняется к этому последнему мнению.
Толстой, по утверждению рецензента, «подлаживается под направление некоторого кружка», — какого кружка, автор не называет, но, конечно, он разумел кружок радикальный33а.
Престарелый князь П. А. Вяземский, в молодости — друг Пушкина и Гоголя, после появления четвертого тома «Войны и мира» выступил со своими воспоминаниями о 1812 годе34.
827
Вяземский отдавал «полную справедливость живости рассказа в художественном отношении»; вместе с тем он осуждал тенденцию «Войны и мира», в которой увидел «протест против 1812 года», «апелляцию на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям и на авторитете русских историков этой эпохи». По мнению Вяземского, «Война и мир» вышла из «школы отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее, разуверения в народных верованиях». И Вяземский произносит такую тираду: «Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей». «Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм».
Вяземский возмущается описанием собрания московских дворян в Слободском дворце и тем разоблачением их показного патриотизма, который с такой силой дан в романе Толстого. Изображение Александра I также вызывает протест Вяземского тем, что сделано без благоговейного отношения к императору.
В заключение Вяземский касается сцены растерзания Верещагина по приказанию графа Растопчина и высказывает предположение, что приказание это было вызвано желанием Растопчина «озадачить и напугать неприятеля», что Верещагин был Растопчиным принесен «в жертву для усиления народного негодования». Но, говоря так, Вяземский упускает из вида, что и Толстой считал, что, отдавая Верещагина на растерзание толпы, Растопчин руководствовался ложно понятым представлением об «общественном благе», и именно это Толстой ставит ему в вину.
Из позднейшего письма Вяземского к П. И. Бартеневу от 2 февраля 1875 года35 узнаем, что он отвергал не только описание собрания дворян и купечества в Слободском дворце и изображение Александра I, но и изображения Наполеона, Кутузова, Растопчина и «всех олимпийцев 12-го года».
Вяземский, несомненно, не возражал против реалистического портрета Пугачева в «Капитанской дочке», но реалистическое изображение Толстым «олимпийцев» пришлось консерватору Вяземскому не по душе.
В то же время, несмотря на свое непонимание и неприятие точки зрения автора «Войны и мира» на исторические события, Вяземский высоко ценил художественные достоинства романа Толстого; доказательством этому служит упоминание о «Войне и мире» в написанном Вяземским в том же 1869 году шуточном стихотворении «Ильинские сплетни». Это стихотворение состоит из ряда куплетов, заканчивающихся одной и той же строкой:
828
«Благодарю, не ожидал». «Война и мир» упоминается в следующем куплете, посвященном Александре Андреевне Толстой и ее знакомому, члену Государственного совета — князю Н. И. Трубецкому:
«Над Трубецким трунит Толстая,
В ней виден родственный закал36:
«Войны и мира» часть седьмая.
Благодарю, не ожидал»37.
Это стихотворение Вяземского получило большое распространение в Москве и в Петербурге.
Толстой, хотя и задетый статьей Вяземского, добродушно выписывает куплет о «Войне и мире» в письме к жене из Москвы от 1 сентября 1869 года38. Тот же куплет сообщала в своем не дошедшем до нас письме к Толстому, полученном в Ясной Поляне 3 сентября того же года, и сама упоминаемая в нем А. А. Толстая, о чем с неудовольствием писала Толстому его жена в письме от 4 сентября39.
Недоброжелательство к Толстому за «Войну и мир» держалось у Вяземского довольно долго, вплоть до появления «Анны Карениной». Только 2 февраля 1875 года Вяземский написал П. И. Бартеневу, что он хочет «мириться» с Толстым, а в письме к тому же Бартеневу от 6 февраля 1877 года дал Толстому такую характеристику: «Толстой прикрывает все свои парадоксальные понятия и чувства свежим блеском таланта своего, читаешь и увлекаешься, следовательно, прощаешь, по крайней мере, часто»40.
VII
Статьи Норова и Вяземского вызвали сочувствие в среде представителей консервативных и умеренно либеральных политических взглядов.
А. В. Никитенко, прочитав присланную ему автором в рукописи статью Норова, записал в своем дневнике: «Итак, Толстой встретил нападение с двух сторон: с одной стороны — князь Вяземский, с другой — Норов... И впрямь, какой бы великий художник вы ни были, каким бы великим философом вы себя ни
829
мнили, а всё же нельзя безнаказанно презирать свое отечество и лучшие страницы его славы»41.
М. П. Погодин сначала восторженно приветствовал выход первых четырех томов «Войны и мира». 3 апреля 1868 года он писал Толстому: «Читаю, читаю — изменяю и Мстиславу, и Всеволоду, и Ярополку, вижу, как они морщатся на меня, досадно мне, — а вот сию минуту дочитал до 149 страницы третьего тома и просто растаял, плачу, радуюсь». Перефразируя то, что Толстой писал про Наташу Ростову, Погодин далее пишет о самом Толстом: «Где, как, когда всосал он в себя из этого воздуха, которым дышал в разных гостиных и холостых военных компаниях, этот дух и проч. Славный вы человек, прекрасный талант!..»
На другой день 4 апреля:
«Послушайте — да что же это такое! Вы меня измучили. Принялся опять читать... и дошел... И что же я за дурак! Вы из меня сделали Наташу на старости лет, и прощай все Ярополки! Присылайте же, по крайней мере, скорее Марью Дмитриевну какую-нибудь, которая отняла бы у меня ваши книги, посадила бы меня за мою работу...
Ах — нет Пушкина! Как бы он был весел, как бы он был счастлив, и как бы стал потирать себе руки. — Целую вас за него я за всех наших стариков. Пушкин — и его я понял теперь из вашей книги яснее, его смерть, его жизнь. Он из той же среды — и что это за лаборатория, что за мельница — святая Русь, которая всё перемалывает. Кстати — любимое его выражение: всё перемелется, мука будет...»42
Но после статей Норова и Вяземского Погодин в газетке «Русский», единственным сотрудником и редактором которой он был, писал о «Войне и мире» уже по-другому. Приведя сцену пляски Наташи и выразив свое восхищение этой сценой, Погодин далее говорит: «Я хотел при всем почтении к высокому и прекрасному таланту указать также на односторонности в мастерской картине графа Толстого, что исполнили отчасти наши заслуженные литераторы А. С. Норов и князь Вяземский. Соглашаясь с ними в основном, я должен, однако ж, решительно не согласиться с ними касательно причисления графа Толстого к петербургской школе отрицателей. Нет, это лицо sui generis [своеобразное]. ...А вот чего простить уж никак нельзя романисту, это своевольное обращение с такими личностями, как Багратион, Сперанский, Растопчин, Ермолов. Они принадлежат истории. ...Исследуйте жизнь того или другого лица, докажите ваше мнение, а
830
представлять его ни с того ни с сего каким-нибудь пошлым или даже отвратительным профилем или силуэтом, по-моему, есть опрометчивость и самонадеянность, непростительная и великому таланту»43.
Статья Вяземского вызвала благодарственное письмо в редакцию «Русского архива» сына Растопчина44. «Как русский, — писал граф А. Ф. Растопчин, — благодарю его за то, что он заступился за память осмеянных и оскорбленных отцов наших, изъявляя ему сердечную признательность за его старание восстановить истину о моем отце, характер которого так искажен у графа Толстого».
Сторонником Толстого в его разоблачении московского генерал-губернатора выступил неизвестный рецензент газеты «Одесский вестник». По выходе пятого тома «Войны и мира» эта газета писала:
«Каждому из нас, конечно, знаком тот ореол, которым окружен в нашей детской памяти образ графа Растопчина, известного» защитника Москвы в памятный 1812 год. Но годы прошли, история сбросила с него фальшивую маску государственного деятеля; события показались в истинном их свете, и обаяние исчезло. В числе других квазигероев этой критической эпохи история сбросила с незаслуженного пьедестала и графа Растопчина. Последний и вполне заслуженный удар нанес ему граф Л. Н. Толстой в своей поэме «Война и мир». Эпизод с Верещагиным подробно уже разобран в «Русском архиве», но автор умел ему придать ту краткость и рельефность, какие не даются сухому историческому рассказу»45.
Противником Вяземского выступил в либеральных «Петербургских ведомостях» А. С. Суворин, где им было заявлено: «Война и мир» при всех своих недостатках внесла в русское общество немалую долю самосознания, разбив несколько пустых и вздорных иллюзий: недаром же некоторые старцы, в двадцатых годах запружавшие общество рифмованными либеральными эпиграммами, теперь восстают против нее»46 (явный намек на Вяземского).
Против Вяземского выступила и либеральная газета «Северная пчела», которая следующим образом отозвалась на его статью:
«Дело в том, что на князя Вяземского, как и на многих из современников той эпохи, произвело не совсем приятное впечатление,
831
что граф Л. Н. Толстой, касаясь этого в своем произведении «Война и мир», старается поставить геройство масс выше геройства личностей. Князь Вяземский, как современник и очевидец событий, думает, повидимому, что он в некотором роде авторитет в суждении об этом времени. Но это едва ли так... Очевидцы и современники давно прошедших событий скорее способны их идеализировать сообразно первым юношеским впечатлениям. Стараясь защитить Растопчина и других лиц, выведенных автором «Войны и мира», от ложного освещения, князь Вяземский, впрочем, противореча себе, точнее подтверждает многое из высказанного графом Толстым. Так, он говорит, что-когда очутился под Бородиным, то он «был как бы в темном или воспламененном лесу» и никак не мог разобрать, мы ли это бьем неприятеля или он нас. Кроме того, его свои же приняли было за француза, и он подвергся даже чрез это серьезной опасности. Лучшего доказательства проводимой графом Толстым мысли о сумятице сражения привести, конечно, нельзя. Интересно также в воспоминаниях Вяземского подтверждение того, что даже герой патриот Милорадович и тот, сражаясь с французами, не мог обойтись без французских фраз, при помощи которых так легко рисоваться. Даже пресловутое «огненное крещение» и то не было забыто почтенным автором ветераном, почувствовавшим радость, когда ранена была его лошадь. Народ, сражавшийся в своих предсмертных рубашках, едва ли о чем подобном думал; он умирал за свою землю молча, не заявляя себя никакими историческими фразами»47.
Тютчев по поводу статьи Вяземского писал: «Это довольно любопытно, как воспоминания и личные впечатления, и весьма неудовлетворительно, как литературная и философская оценка. Но натуры столь резкие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем являются для мало исследованной страны предубежденные и враждебно настроенные посетители»48.
VIII
Радикальный журнал «Дело» во всех статьях и заметках о «Войне и мире» неизменно называл Толстого, как и других писателей его поколения, писателем отжившим. Так, Д. Д. Минаев, заговорив о «Войне и мире» и упомянув о том, что «до сих пор граф Лев Толстой был известен как даровитый писатель, как замечательный поэт подробностей, тонких, неуловимых для
832
обыкновенного анализа ощущений и впечатлений», упрекает автора «Войны и мира» за отсутствие обличения крепостного права. Далее Д. Д. Минаев критикует описание Бородинского сражения, причем упреки его были направлены лишь против того, что сражение описано не по тому шаблону, как оно описывается в учебниках, и заканчивает статью словами: «Старые, отживающие писатели досказывают нам свои прекрасные сказки. Пока нет новых, лучших деятелей, послушаем и их на безлюдье»49.
Известный в то время публицист-народник В. В. Берви, писавший под псевдонимом Н. Флеровский, автор очень популярных в 1860—1870-е годы книг: «Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук», под псевдонимом С. Навалихин напечатал в «Деле» статью под язвительным названием «Изящный романист и его изящные критики»50.
В. В. Берви уверяет читателя, что для Толстого и его критика Анненкова «все то изящно и гуманно, что знатно и богато, и эту внешнюю вылощенность они принимают за настоящее человеческое достоинство».
Все действующие лица романа, по уверению Берви, «грубы и грязны». «Умственная окаменелость и нравственное безобразие этих фигур, выведенных графом Толстым, так и бьют в глаза». Князь Андрей не кто иной, как «грязный, грубый, бездушный автомат, которому неизвестно ни одно истинно-человеческое чувство и стремление». Он находится «в состоянии полудикого человека»; он будто бы «казнит людей», за которых будто бы «молился, клал земные поклоны и выпрашивал им прощение и вечное блаженство». В романе Толстого будто бы «предстает ряд возмутительных, грязных сцен». Толстой будто бы «не заботится ни о чем, кроме изящной отделки избранных им уродов». Весь роман «составляет беспорядочную груду наваленного материала».
Перейдя к военным сценам романа, Берви утверждает, что «с начала до конца у графа Толстого восхваляются буйство, грубость и глупость». «Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне... Нужно стоять на степени развития армейского унтер-офицера, да и то еще по природе умственно ограниченного, чтобы быть в состоянии восхищаться дикой храбростью и стойкостью»» Здесь имелось в виду, как сказано далее, описание Бородинского сражения, данное в романе. По словам автора, «роман смотрит на
833
военное дело постоянно так, как смотрят на него пьяные мародеры»51.
Статья Берви оказала воздействие на статьи о «Войне и мире» в некоторых других журналах и газетах. Такая же исступленная статья, за подписью М. М-н, появилась в «Иллюстрированной газете» 1868 года52. В статье было сказано, что роман Толстого «сшит на живую нитку», что историческая часть — «или плохой конспект или фаталистические и мистические умозаключения», что в романе «нет главного героя». «Соня и Наташа — пустые головки; Марья — старая девка сплетница»53. «Все это — продукты гнусной памяти крепостного права», «людишки жалкие и ничтожные», которые «с каждым томом все больше и больше теряют право на существование, потому что они, собственно говоря, никогда и не имели этого права». Заметка заканчивается торжественным и безапелляционным заявлением: «Считаем обязанностью сказать, что по нашему мнению в романе Л. Толстого можно найти апологию сытого барства, ханжества, лицемерия и разврата».
Точку зрения «Дела» разделял и сатирический журнал «Искра» демократического направления, напечатавший в 1868—1869 годах ряд статей и карикатур на «Войну и мир».
«Искра» ставила своей задачей преследовать остатки крепостничества, проявления деспотизма и произвола во всех их видах, военщину. Но журнал не заметил обличительного характера произведения Толстого. «Война и мир» представилась «Искре» апологией крепостничества и монархизма.
Ошибочно считая «Войну и мир» апологией самодержавия, «Искра» писала в ироническом тоне, что описанием сражений Толстой, «кажется, хотел произвести самое приятное впечатление. Это впечатление прямо говорит, что «умирать за отечество вовсе не трудно, а даже приятно». Если, с одной стороны, такое впечатление лишено художественной правды, зато, с другой стороны, полезно в смысле поддержания патриотизма и любви к драгоценной отчизне»54.
834
Кроме того, исходя из теории «разрушения эстетики», «Искра» подвергла осмеянию самые яркие и совершенные художественные образы «Войны и мира». Так, пародируя переживания князя Андрея при встрече с Наташей, «Искра» поместила карикатуру с подписью: «Едва лишь он обнял стан ее гибкий, как вино ее прелестей треснуло по лбу его». Восхитительная, незабываемая картина разговора князя Андрея с дубом вызвала карикатуру с издевательской подписью: «С князем Болконским дуб говорил в том костюме, в каком мать природа его породила. При следующем свидании дуб, преображенный, млел... Князь Андрей скачет и прыгает через веревочку»55.
Через полтора года после появления статьи Берви журнал «Дело» поместил статью о «Войне и мире» другого известного публициста того времени — Н. В. Шелгунова, озаглавленную «Философия застоя»56. Статья написана в более сдержанном тоне, чем статья Берви. Отрицая философские воззрения автора «Войны и мира», Шелгунов в то же время отмечает и достоинства романа.
Шелгунов порицает Толстого за то, что его философия не может привести «ни к каким европейским результатам»; что он проповедует «фатализм Востока, а не разум Запада»; что та «безропотная, умиротворяющая философия, на путь которой он выступил, есть философия безнадежного, безвыходного отчаяния и упадка сил», «философия застоя, убийственной несправедливости, притеснений и эксплуатации»; что он «запутался в своих собственных размышлениях»; что «результат, к которому он приходит, конечно, социально-вредный», хотя «в том пути, которым он его достигает, попадаются верные положения»; что он «убивает всякую мысль, всякую энергию, всякий порыв к активности и к сознательному стремлению улучшить свое единоличное положение и достигнуть своего единоличного счастия»; что он проповедует «учение, совершенно обратное тому, с чем мы познакомились из трудов новейших мыслителей», — главным образом О. Конта. «Еще счастие, — писал Шелгунов в заключение своей статьи, — что гр. Толстой не обладает могучим талантом, что
835
он живописец военных пейзажей и солдатских сцен. Если бы к слабой опытной мудрости гр. Толстого придать ему таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обрушить».
Шелгунов тем не менее признает в романе Толстого и нечто ценное, это — его «демократическую струйку». Он говорит:
«Жизнь среди народа научила графа Толстого понимать, насколько его практические, действительные нужды выше избалованных требований князей Волконских и разных кривляющихся барынь, вроде г-жи Шерер, погибающих от праздности и избытка. Граф Толстой рисует сельский мир и крестьянский быт, как одно из спасительных влияний, превращающих барина из великосветского пустоцвета в практически-полезную общественную силу. Таким, например, у него выходит граф Николай Ростов».
Шелгунов чувствует всю силу изображения народа, как движущей силы истории, в эпопее Толстого. Он говорит:
«Если из романа графа Толстого повыбрать все то, чем он хочет убедить в силе и безошибочности коллективного проявления единоличных произволов, то пред вами действительно возникает какая-то несокрушимая стена величественной стихийной силы, пред которой отдельные попытки людей, воображающих себя руководителями человеческих судеб, являются жалким ничтожеством». С этой точки зрения, Шелгунову удалось дать превосходную характеристику образа Кутузова, созданного Толстым: «Гениальность Кутузова выражается в том, что он умеет понять народную душу, народное стремление, народное желание... Кутузов всегда друг народа; он всегда слуга своего долга, а долг, по его мнению, в том, чтобы выполнить стремление и желание большинства... Кутузов велик потому, что он отрешается от своего «я» и пользуется своей властью как точкой силы, концентрирующей народную волю».
Шелгунов заканчивает статью утверждением, что «Война и мир» — «в сущности славянофильский роман», что Толстой «три магические слова» славянофилов (православие, самодержавие, народность) «выдает за единственный якорь спасения русского человечества», чего в произведении Толстого, конечно, совершенно нет.
В других статьях 1870 года Шелгунов решительно заявил, что «ни «Обрыв» ни «Война и мир» не имеют для нас никакого значения, несмотря на всю гениальность их творцов»57. Или: «Мы уже подвели итог десятилетию и даже поставили памятники
836
на могилах Тургенева, Гончарова, Писемского, Толстого. Нам нужны теперь снова идеалы и типы, но людей настоящего и будущего»58.
Сдержанное отношение к «Войне и миру» демократически настроенных читательских кругов 1860—1870-х годов отчасти объясняется следующими воспоминаниями Н. Лысцева, бывшего секретарем журнала «Беседа» в начале 1870-х годов:
«Толстой не был еще тогда всемирным властителем дум, да и в русской литературе занимал в то время бесспорно высокое, почетное место как автор «Войны и мира», но не первое... Первый его роман «Война и мир» хотя все прочли с удовольствием, как высокохудожественное произведение, но, сказать правду, без особенного энтузиазма, тем более, что воспроизводимая великим романистом эпоха стояла далеко от тех злоб дня, которые волновали в те годы русское общество; Например, «Обрыв» Гончарова произвел гораздо большую сенсацию в обществе, не говоря уже о романах Достоевского... Каждый новый роман Достоевского вызывал и в обществе и в молодежи бесконечные споры и толки. Настоящими же властителями дум читающей русской публики оставались в то время два писателя — Салтыков-Щедрин и Некрасов. Выход каждой новой книжки «Отечественных записок» ожидался с напряженным нетерпением, чтобы узнать, кого и что хлещет своим сатирическим бичом Салтыков, или кого и что воспоет Некрасов. Граф Л. Н. Толстой стоял вне тогдашних общественных течений, чем и объясняется некоторый индиферентизм к нему русского общества той эпохи»59.
IX
По выходе каждого из трех последних томов «Войны и мира» либеральная пресса, отмечая свое несогласие с философско-историческими воззрениями автора, попрежнему высоко оценивала художественную сторону произведения.
По поводу выхода четвертого тома «Войны и мира» «Вестник Европы» писал в апреле 1868 года: «Истекший месяц ознаменовался появлением четвертого, но, к удовольствию читателей, всё еще не последнего тома романа графа Л. Н. Толстого «Война и мир»... Роман, очевидно, все больше и больше хочет обратиться в историю; нынешний раз автор присоединяет даже и карту к своему роману... Автор доводит нынешний раз свое искусство возвращать душу отжившему до такой высокой степени, что мы готовы бы назвать его роман мемуарами современника, если бы нас не поражало одно, а именно, что этот
837
воображаемый нами «современник» оказывается вездесущим, всезнающим и даже местами видно, что рассказав, например, событие, случившееся в марте, он дает ему такую тень, какая возможна для того человека, который знает, чем это событие кончится в августе. Только это и напоминает читателю, что перед ним не современник, не очевидец: так велико очарование, наводимое на читателя высокохудожественным талантом автора!»60
Н. Ахшарумов по выходе первых четырех томов «Войны и мира» напечатал вторую статью о произведении Толстого61. Автор начинает статью с воспоминания о том «поэтическом очерке», который носил название «1805 год». Теперь этот поэтический очерк вырос из маленькой книжки «в обширное многотомное сочинение и является перед нами уже не очерком, а большою историческою картиною». Содержание этой картины, по мнению критика, «полно красоты поразительной».
Исторический элемент «чувствуется везде и проникает собою всё. Отголоски минувшего звучат в каждой сцене, характер общества того времени, тип русского человека в эпоху его перерождения очерчен явственно в каждом действующем лице, как бы ни было оно незначительно». Толстой «видит всю правду, всю мелочь и низость нравственного характера и всё умственное ничтожество в большинстве людей, им изображаемых, и не скрывает от нас ничего... Если мы вглядимся внимательно в характер бар, им изображаемых, то мы скоро придем к убеждению, что автор им далеко не польстил. Никакой цеховой обличитель барства не мог бы сказать об нем таких горьких истин, какие высказал граф Толстой».
Разделяя произведение Толстого, согласно его заглавию, на часть, касающуюся мира, и часть, касающуюся войны, критик говорит: «Картина Войны у него так хороша, что мы не находим слов, способных выразить хоть отчасти ее ни с чем несравненную красоту. Это множество лиц, метко очерченных и озаренных таким горячим солнечным освещением; эта простая, ясная, стройная группировка событий; это неисчерпаемое богатство красок в подробностях и эта правда, эта могучая поэзия общего колорита, — всё заставляет нас с полной уверенностью поставить Войну графа Толстого выше всего, что когда-нибудь в этом роде производило искусство».
Переходя к рассмотрению отдельных типов «Войны и мира», автор отмечает в Пьере Безухове самое полное индивидуальное
838
воплощение характера переходной эпохи. «Характер Пьера, — утверждает критик, — принадлежит к числу самых блестящих созданий автора».
Рассмотрев далее характер князя Андрея Болконского, критик подробно останавливается на «фигурке» Наташи. По его мнению, Наташа — «русская женщина до конца ногтей». «Она из бар, но она не барыня. Эта графиня, воспитанная француженкой-эмигранткой и блестящая на бале у Нарышкиных, в главных чертах своего характера ближе к простому народу, чем к своим светским сестрам и современницам. Она воспитывалась по-барски, но барское воспитание не привилось к ней». Безумное увлечение Анатолем роняет Наташу в глазах критика, но он не ставит этого в упрек автору. «Наоборт, мы высоко ценим в нем эту искренность и отсутствие всякой наклонности идеализировать созданные им лица. В этом смысле он реалист и даже из самых крайних. Никакие условные требования искусства, никакие художественные или другие приличия не способны зажать ему рот там, где мы ждем от него, чтобы он обнаружил голую истину».
Из военных типов «Войны и мира» критик более подробно останавливается на изображении Наполеона. Он находит, что в портрете Наполеона, данном Толстым, есть некоторые черты, «отлично схваченные»; таковы его «наивное и даже несколько глуповатое самолюбие, с которым он уверовал в собственную непогрешимость», «потребность в лакейской угодливости со стороны самых близких людей», «сплошная фальшь», «отсутствие, говоря словами князя Андрея, высших и лучших человеческих качеств: любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения». Но критик находит взгляд Толстого на Наполеона не вполне правильным. Успех Наполеона нельзя объяснять одним стечением обстоятельств. Этот успех объясняется тем, что Наполеон «угадал дух нации и усвоил его себе в таком совершенстве, что стал в глазах миллионов людей живым его воплощением». Наполеон — порождение французской революции, которая, «окончив свое дело внутри страны, вырвалась с неудержимой силой наружу. Она обратилась против внешнего гнета европейской политики, ей враждебной, и опрокинула дряхлое здание этой политики. Но после того, как это дело было выполнено, народный дух стал все менее принимать участие в ходе событий, все силы сосредоточились в войске, и опьяненный победами и личным честолюбием, Наполеон выдвинулся на первый план»62.
839
Последняя часть статьи Ахшарумова посвящена критике историко-философских воззрений Толстого. По мнению автора, Толстой — фаталист, «но не в том целом, восточном значении этого слова, которое усвоено вере слепой, чуждой всякого рассуждения». Толстой скептик, его фатализм есть «чадо нашего времени», «итог несчетного множества сомнений, недоумений и отрицаний».
Философия Толстого представляется критику «отвратительной», но так как Толстой «поэт и художник в десять тысяч раз более, чем философ», то «никакой скептицизм не мешает ему, как художнику, видеть жизнь во всей полноте ее содержания, со всеми ее роскошными красками, и никакой фатализм не мешает ему, как поэту, чувствовать энергический пульс истории в теплом, живом человеке, в лице, а не в скелете философического итога». И благодаря этому его «ясному взгляду и этому теплому чувству» «мы имеем теперь историческую картину, полную правды и красоты, картину, которая перейдет в потомство, как памятник славной эпохи».
Выход пятого тома романа Толстого вызвал рецензию В. П. Буренина. «Надо сказать правду, — писал В. П. Буренин, — что там, где талант автора «Войны и мира» направляется не теоретически-мистическими соображениями, а почерпает свою силу из документов, из преданий, где он может вполне опираться на эту почву, там в изображении исторических событий автор становится на высоту поистине поразительную. Чрезвычайно тонко разъясняет граф Толстой растерянное состояние Растопчина в роковое утро... Сравнение опустевшего города с обезматочившим ульем сделано графом Толстым так хорошо, что я не нахожу слов похвалы для этого художественного сравнения».
«Надо читать в самом романе, — говорит критик далее, — сцены пожара и расстреливания поджигателей, чтоб оценить всё мастерство автора. Особенно в последней необыкновенно поразителен эпизод расстреливания молодого фабричного. Никакой французский романист всеми ужасами бойкого воображения не произведет на вас такого сильного впечатления, какое производит граф Толстой несколькими простыми чертами»63.
В той же газете историк литературы М. Де-Пуле писал: «Талантливая смелость графа Толстого сделала то, чего еще не
840
сделала история — дала нам книгу о жизни русского общества в течение целой четверти века, представленной нам в изумительно ярких образах». Критик чувствует в романе Толстого «бодрость и свежесть духа, разлитого по всему произведению, восторженного духа эпохи, нам теперь мало понятного, вымершего, но несомненно существовавшего и превосходно схваченного гр. Толстым»64.
В газете «Одесский вестник» по поводу пятого тома «Войны и мира» было сказано: «Этот том так же интересен, как и предыдущие. Умением одухотворить события, внести драматический элемент в рассказ, передать любой эпизод военных действий не в виде сухой реляции, а в том именно виде, как он происходил в жизни, — таким уменьем никто из наших известных писателей не превосходит графа Л. Н. Толстого»65.
Ряд верных замечаний о художественной структуре «Войны и мира» находим в статье Н. Соловьева в газете «Северная пчела». Автор вполне понимает ту важную роль, которую придает Толстой простым людям в ходе исторических событий. До сих пор, говорит критик, в исторических романах «побочные лица не принимали существенного участия в событиях». Эти «побочные лица» давали романистам только материал для изображения «духа века, нравов и обычаев», «в самые исторические события романисты их не впутывали, считая эти события делом только избранных личностей». Так поступал Вальтер Скотт и другие исторические романисты. У Толстого, напротив, эти люди «оказываются теснейшим образом связанными с самыми крупными событиями вследствие неразрывности всех звеньев жизни». У Толстого «переплетаются все героические и обыкновенные явления жизни; при этом нередко героические низводятся на степень самых обыденных явлений, а обыденные возводятся на степень героических». У Толстого «ряд исторических и жизненных картин поставлен в таком изумительном равенстве, какому еще и примера не было в литературах. Дерзость его при совлечении с высоты пьедесталов разных героев тоже поистине изумительна». Художественный метод Толстого, по мнению критика, характеризуется тем, что «на крупный исторический факт у него смотрит всегда кто-нибудь из самых обыкновенных смертных и по впечатлениям этого простого смертного уже составляется художественный материал и оболочка события».
«Таким образом под пером автора является бесконечная вереница друг за друга цепляющихся изображений, а в целом какая-то картина-роман, форма совершенно новая и столь же
841
соответствующая обыкновенному ходу жизни, сколько и безграничная, как сама жизнь».
«Всё фальшивое, утрированное, являющееся в чертах и образах искривленных, будто бы сильными страстями, словом, всё, что так прельщает посредственные таланты, всё это противно гр. Л. Н. Толстому. Сильные страсти, глубокое душевное движение у него, напротив, являются обведенными такими тонкими очертаниями и нежными штрихами, что невольно подивишься, как такие до крайности простые орудия слова производят такой поразительный эффект»66.
X
По выходе четвертого тома «Войны и мира» с критикой романа выступили некоторые военные писатели.
Внимание Толстого привлекла напечатанная в «Русском инвалиде» статья «По поводу последнего романа графа Толстого», подписанная инициалами Н. Л.67
Автор считает, что роман Толстого, благодаря своим художественным достоинствам, будет иметь сильное влияние на читателей в смысле понимания ими событий и деятелей эпохи наполеоновских войн. Но автор сомневается «в верности некоторых картин, представляемых автором», причем считает, что критическое отношение к такому произведению, каким является роман Толстого, «принесет только хорошие результаты и нисколько не помешает наслаждению художественным талантом графа Толстого».
Автор начинает свою статью с критики историко-философских воззрений Толстого, которые, по его мнению, сводятся «к чистейшему историческому фатализму»: «Всё определено предвечно, и так называемые великие люди суть только ярлыки, привешиваемые к событию и не имеющие с ним никакой связи». По мнению автора, это может быть справедливо только с точки зрения «бесконечно отдаленной», с которой «не только действия какого-нибудь Наполеона, но всё происходящее на земле или даже на солнечной системе, составляющей атом вселенной, немногим больше нуля». Но на земле «никто не усомнится в отличии слона от букашки».
Далее автор переходит к оценке сцен бивачного и боевого быта войск в романе Толстого. Он находит, что эти военные
842
сцены написаны с тем же мастерством, как и подобные сцены в прежних произведениях Толстого. «Никто не умеет полусловом и намеком так рельефно очертить добродушно-сильную фигуру нашего солдата, как граф Толстой... Видно, что автор сроднился и свыкся с нашей армейской жизнью, и симпатический рассказ его не фальшивит ни одною нотою. Громадный организм армии с его симпатиями и антипатиями, с его своеобразною логикою, кажется живым, одухотворенным существом, жизнь которого слышна из-за множества единичных жизней».
Описание Шенграбенского сражения критик характеризует как «верх исторической и художественной правды».
Автор делает несколько замечаний относительно взглядов Толстого на Бородинское сражение. Он соглашается с утверждением Толстого, что Бородинская позиция не была укреплена, но делает оговорку, что никто из историков, за исключением Михайловского-Данилевского, и не придерживается противоположного взгляда. Соглашается автор и с мнением Толстого о том, что «первоначальная позиция (24 августа) при Бородине, следуя по течению Колочи, упиралась левым флангом в Шевардино. Несмотря на всю странность этой позиции в стратегическом смысле, ибо войска, расположенные на ней, стояли флангом к французам, надо признаться, что догадка графа Толстого основывается на документах, и документах довольно веских». Этот факт, по мнению критика «действительно должен быть освещен под тем углом зрения, под коим указывает его граф Толстой».
Автор выражает свое несогласие с мнением Толстого об исключительном значении для успеха сражения «неуловимой силы, называемой духом войска», и с его отрицанием какого бы то ни было значения за распоряжениями главнокомандующего, за позицией, на которой стоят войска, количеством и качеством вооружения. Все эти условия, по мнению автора, имеют большое значение как потому, что от них зависит нравственная сила войска, так и потому, что они оказывают самостоятельное влияние на ход сражения. «В пылу рукопашной схватки, в дыму и пыли» главнокомандующий действительно не может отдавать приказаний, но он может отдавать их тем войскам, которые находятся или совершенно вне выстрелов неприятеля или под слабым огнем.
Споря с Толстым, автор доказывает гениальность Наполеона как полководца, умалчивая, однако, о полном разгроме его армии в России в 1812 году. Не соглашается автор с мнением Андрея Болконского о том, что для того, чтобы сделать войну менее жестокой, не следует брать пленных. Тогда войны, по мнению Болконского, не велись бы из-за пустяков, а происходили бы только в тех случаях, когда каждый солдат сознавал бы себя обязанным идти на верную смерть. Против этого критик возражает,
843
что бывали такие времена, когда не только пленные уводились в неволю, но вырезывались поголовно все мирные жители, женщины и дети, и все-таки, вопреки мнению героя Толстого, в те времена «войны не были ни серьезнее, ни реже».
В конце статьи автор, оставив полемику с теоретическими взглядами Толстого на военное дело, обращается «к многочисленным страницам, составляющим украшение» всего произведения.
«Во всех случаях, — говорит критик, — когда автор освобождается от предвзятой идеи и рисует картины, сродные его таланту, он поражает читателя своею художественною правдою». К таким страницам критик причисляет описание страшной внутренней борьбы, пережитой Наполеоном на Бородинском поле.
«Нигде, — говорит критик далее, — ни в одном сочинении, несмотря на всё желание, не доказана так ясно победа, одержанная нашими войсками под Бородиным, как в немногих страницах в конце последней части романа». Историки обыкновенно брались доказывать победу русских войск под Бородиным «совсем не с той стороны, как граф Толстой». Они не обращали внимания на самую «действительную победу, одержанную нашими войсками, — победу нравственную».
Вся статья Лачинова написана в духе глубокого уважения и самого благожелательного отношения к автору «Войны и мира». Немудрено поэтому, что она вызвала в Толстом чувство живейшей симпатии к ее автору. Без сомнения, Толстой был глубоко удовлетворен высокой оценкой, данной критиком его описанию Бородинского сражения.
11 апреля 1868 года, тотчас по прочтении статьи, Толстой пишет письмо в редакцию «Русского инвалида», прося передать автору «глубокую благодарность за радостное чувство», которое доставила ему статья, и просит его «открыть свое имя и как особенную честь» позволить вступить с ним в переписку. «Признаюсь, — пишет Толстой, — я никогда не смел надеяться со стороны военных людей (автор, наверное, военный специалист) на такую снисходительную критику. Со многими доводами его (разумеется, где он противного моему мнения) я согласен совершенно, со многими нет. Если бы я во время своей работы мог пользоваться советами такого человека, я избежал бы многих ошибок».
Письмо Толстого было доставлено Лачинову; ответного письма Лачинова в архиве Толстого не имеется. Переписка, очевидно, начата не была.
В том же 1868 году Н. А. Лачинов напечатал в журнале «Военный сборник» вторую статью о «Войне и мире»68, в которой
844
перепечатал целиком целый ряд страниц из своей первой статьи, прибавив к ним также и кое-что новое. Так, он находит, что «фигура Пфуля, как фанатика теоретика, очерчена весьма рельефно»; что сцена атаки эскадрона гусаров на отряд французских драгун «мастерски схвачена и ярко обрисована».
Переходя к описанию Бородинского сражения, данному Толстым, автор оговаривается, что хотя это сражение «по громадности участвовавших в нем войск и по обширности боевой сцены, само собою разумеется, не укладывается в узкие рамки романа», тем не менее те «выдержки из великой трагедии, разыгравшейся на Бородинском поле, какие находятся в произведении Толстого, «очерчены автором весьма искусно, с знанием дела и совершенно, охватывают читателя своею боевою атмосферою».
Находя некоторые погрешности в «собственно военно-исторической стороне» романа, автор считает «сильной и мастерски исполненной сторону описательную, в которой, благодаря знакомству автора с русскими солдатами и русским человеком вообще, с поразительною ясностью обрисовываются основные черты нашего народного характера».
Недостаток «Войны и мира» Лачинов видит в том, что «граф» Толстой во что бы то ни стало хочет показать образцовыми действия Кутузова и никуда негодными распоряжения Наполеона». Автор указывает на некоторые, по его мнению, ошибки Кутузова в руководстве Бородинским сражением, но в то же время признает в деятельности Кутузова в этот день «другие стороны, говорящие в его пользу», как приказ Уварову об атаке на левый фланг французов, «имевший существенное влияние на дело». В то же время автор берет под защиту от упреков Толстого диспозицию Бородинского сражения, составленную Наполеоном. Нисколько не возражая против утверждения Толстого о том, что ни один пункт этой диспозиции не был и не мог быть исполнен, автор считает, что в диспозиции была указана «только цель, которой войска должны достигнуть, направление, время и порядок производства первоначальных атак», оправдывая Наполеона весьма странным рассуждением: «Что касается исполнения приказаний Наполеона, то он, как опытный боец, знал, что они не будут исполнены».
В остальном вторая статья Лачинова не давала ничего нового по сравнению с первой статьей.
Совсем с иной позиции с критикой «Войны и мира» выступил профессор генерального штаба полковник А. Витмер69.
845
Витмер преклоняется перед Наполеоном, считая его человеком «громадной силы», «недюжинного ума» и «непреклонной воли»; он «может быть, злодей, но злодей великий». В каждом распоряжении Наполеона Витмер старается отыскать признаки гениальности.
Витмер не верит в силу сопротивления русского народа вторжению Наполеона. Он считает ошибкой Наполеона быстроту его наступления и полагает, что «действуя медленнее, он сохранил бы свои войска и, быть может, избежал бы постигшей его катастрофы».
Витмер не соглашается с Толстым в том значении, которое Толстой придает народной войне с Наполеоном. Он утверждает, что по всем данным «вооруженное восстание народа принесло неприятелю сравнительно весьма мало вреда». Результатом этого было только «несколько вырезанных шаек мародеров» и «несколько зверских поступков (вполне, впрочем, оправдываемых поведением неприятеля) над отсталыми и пленными».
«Отдавая полную справедливость неотъемлемому литературному таланту автора», Витмер оспаривает многие военно-исторические суждения Толстого. Некоторые замечания Витмера по специально военным вопросам, как численность русской и французской армий в разные периоды кампании, подробности сражений и т. п., справедливы; в некоторых случаях он соглашается с Толстым, как, например, в том, что в 1812 году в главной квартире русской армии не существовало заранее принятого плана завлечения Наполеона в глубину России; или в том, что первоначальная позиция при Бородине, как это утверждает Толстой, была иною, чем та, где действительно произошло сражение, о чем Витмер говорит: «Будучи вполне беспристрастны, спешим отдать справедливость автору: указание его, что Бородинская позиция избрана была первоначально непосредственно за рекой Колочей, по нашему мнению, совершенно верно. До последнего времени почти все историки упускали это обстоятельство из вида». Витмер вполне соглашается с Толстым и в том, что при «описании сражений невозможно соблюсти строгую истину», так как «действие происходит так быстро, картина боя так разнообразна и драматична, а действующие лица находятся в таком напряженном состоянии, что это [отклонение от истины в описании сражения] становится совершенно понятным».
Общий тон статьи Витмера — издевательство над автором «Войны и мира», придирки к словам, нежелание и неспособность понять общий смысл рассуждений Толстого и его общее отношение к войне 1812 года.
Вся вторая статья Витмера посвящена исключительно критике описания Бородинского сражения, данного Толстым, и рассуждений Толстого по поводу этого сражения.
846
Полковник, прежде всего, выражает несогласие с мнением Толстого, выраженным словами Болконского, о необходимости патриотического настроения в войске. По его мнению, «скрытая теплота патриотизма», которой Толстой придает решающее значение, «всего менее оказывает влияние на участь боя». «Всё же возможное хорошо воспитанный солдат сделает и без патриотизма в силу чувства долга и дисциплины». Ведь солдат регулярной армии «есть, прежде всего, ремесленник», и дисциплинированная армия есть, прежде всего, «собрание ремесленников». Витмер в данном случае рассуждает, как типичный представитель прусской военщины, как поклонник Фридриха Великого, которому принадлежит многозначительное изречение: «Если бы мои солдаты начали думать, ни один не остался бы в войске».
В противоположность Толстому, Витмер считает Бородинское сражение поражением русского войска. Доказательство этого видит он в том, что «русские были сбиты на всех пунктах, принуждены ночью же начать отступление и понесли громадные потери». Прямым следствием Бородинского сражения было занятие французами Москвы. Фанатический поклонник Наполеона, Витмер сожалеет только о том, что Наполеон в Бородинском сражении не уничтожил целиком всю русскую армию. Причиной этому была нерешительность Наполеона, за что полковник русской службы в почтительных выражениях делает выговор своему герою. Случаев для возможного уничтожения русской армии в Бородинском сражении было два, и Наполеон оба их упустил. Первый случай был, когда маршал Даву еще до начала сражения предложил Наполеону обойти левый фланг русской армии, имея в своем распоряжении пять дивизий. «Подобный обход, — пишет Витмер, — нет сомнения, имел бы самые гибельные для нас последствия: мало того, что мы принуждены были бы отступить, но были бы еще отброшены в угол, образуемый слиянием Колочи с рекою Москвою, и русскую армию, вероятно, постигло бы в таком случае конечное поражение. Но Наполеон не согласился на предложение Даву. Какая была тому причина, — объяснить трудно», — с явным сожалением замечает полковник.
Второй случай был тогда, когда маршалы Ней и Мюрат, «видя полное расстройство левого фланга», предложили Наполеону пустить в дело его молодую гвардию. Наполеон дал было приказ двинуться вперед молодой гвардии, но затем отменил его и не двинул в бой ни старой, ни молодой гвардии. Этим Наполеон, по словам Витмера, «добровольно отнял у своей армии плоды ее несомненной победы». Это досадное упущение Витмер ничем не может извинить. «Где же употреблять было гвардию, как не в таком бою, как Бородинский? — рассуждает он. — Если не пользоваться ею даже и в генеральном сражении, то зачем было и брать ее в поход». Вообще, по мнению Витмера, гениальный
847
Наполеон в Бородинском сражении «не высказал столько решимости и присутствия духа, как в блестящие дни своих славных побед при Риволи, Аустерлице, Иене и Фридланде». Эту нерешительность своего героя полковник отказывается понять. Объяснение Толстого, что Наполеон был потрясен стойким сопротивлением русских войск и испытал так же, как и его маршалы и солдаты, «чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения» — это объяснение кажется Витмеру плодом фантазии художника, а фантазии можно предоставить «разыгрываться, сколько ей угодно».
Кутузова как главнокомандующего Витмер оценивает очень низко. «Насколько Кутузов руководил боем в действительности — вопрос этот мы обойдем молчанием», — пишет Витмер, давая понять, что никакого руководства Бородинским сражением со стороны Кутузова, по его мнению, не было. По мнению Витмера, Толстой изображает Кутузова слишком деятельным в день Бородинского сражения.
Статья заканчивается полемикой с Толстым по поводу его утверждения о погибели наполеоновской Франции. По мнению Витмера, наполеоновская империя и не думала погибать, потому что «была создана и лежала в духе народа». «Республика менее всего была присуща духу французского народа», — с непоколебимой уверенностью в своей правоте заявлял русский бонапартист за год до падения империи и провозглашения республики во Франции.
Третий военный критик М. И. Драгомиров в своем разборе «Войны и мира»70 останавливается не только на военных сценах романа, но и на картинах военного быта в предшествующее военным действиям время. Он находит, что как военные сцены, так и сцены войскового быта «неподражаемы и могут составить одно из самых полезнейших прибавлений к любому курсу теории военного искусства». Критик подробно пересказывает сцену смотра войск Кутузовым в Браунау, по поводу которой делает следующее замечание: «Десять батальных полотен самого лучшего мастера, самого большого размера, можно отдать за нее. Смело говорим, что не один военный, прочитав ее, невольно скажет себе: «Да это он списал с нашего полка!»
Пересказав с таким же восхищением эпизод с кражей Теляниным кошелька у Денисова и столкновение по этому поводу Николая Ростова с командиром полка, затем эпизод нападения Денисова на принадлежавший пехотному полку продовольственный
848
транспорт, Драгомиров переходит к рассмотрению военных сцен «Войны и мира». Он находит, что «боевые сцены гр. Толстого не менее поучительны: вся внутренняя сторона боя, неведомая для большинства военных теоретиков и мирно-военных практиков, а между тем дающая успех или неудачу, выдвигается у него на первый план в великолепно рельефных картинах». Багратион, по мнению Драгомирова, у Толстого «изображен идеально хорошо». Особенно восхищается критик сценой объезда Багратионом войск перед началом Шенграбенского сражения, признавая, что он не знает ничего выше этих страниц на тему об «управлении людьми во время боя». Автор подробно обосновывает свое мнение относительно того, почему такой выдающийся полководец, как Багратион, должен был вести себя перед началом сражения в виду солдатской массы именно так, как это описано у Толстого.
Далее автор отмечает «неподражаемое мастерство», с которым описаны Толстым все моменты Шенграбенского сражения, а по поводу отступления русских войск после сражения замечает: «Перед вами, как живой, стоит тот тысячеголовый организм, который называют войском».
Дальнейшая часть статьи Драгомирова посвящена полемике с Андреем Болконским по поводу его взглядов на военное дело и разбору историко-философских взглядов Толстого.
Высокомерный и недоброжелательный к автору, но совершенно бессодержательный отзыв о «Войне и мире» дал генерал М. И. Богданович, автор напечатанной «по высочайшему повелению» «Истории Отечественной войны 1812 года», которого Толстой обвинял в принижении личности Кутузова и его значения в войне с Наполеоном.
В краткой, написанной в пренебрежительном тоне заметке Богданович упрекал Толстого за мелкие неточности в описании военных и политических событий, вроде того, что атака в Аустерлицком сражении была произведена не кавалергардами, как сказано у Толстого, а конной гвардией, и т. п. Для разрешения вопроса о роли личности в истории Богданович советовал Толстому «внимательно проследить сношения представителей России и Франции, императора Александра I и Наполеона»71.
По поводу статьи Богдановича газета «Русско-славянские отголоски» писала: «Заметка г. М. Б., по нашему мнению, верх совершенства. Это — философия генерального штаба, философия военного артикула; как же требовать, чтобы философствующая свободная мысль и наука придерживались этих утилитарных или служебных философских взглядов. Мы думаем, что г. М. Б. написал
849
в этой статье критику не на сочинение графа Толстого, а на все свои уже написанные и будущие исторические сочинения; он осудил сам себя военным судом»72.
XI
Ряд замечательно верных суждений, касающихся отдельных вопросов, затронутых в «Войне и мире», и всего произведения в целом, находим в статьях Н. С. Лескова, печатавшихся без подписи в 1869—1870 годах в газете «Биржевые ведомости»73.
Об отношении критики к Толстому и Толстого к критике Лесков заметил очень метко и остроумно:
«В последний год вырос и возвысился до незнакомой нам доселе величины автор «Детства» и «Отрочества», и он являет нам в своем последнем, прославившем его сочинении о войне и мире не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век всего реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинения проходят длинные периоды, в течение которых на него, по простонародному выражению, всех собак вешают: его зовут и тем и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей за тем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя самому себе представляет... Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня»74.
Пятый том «Войны и мира» Лесков назвал «прекрасным сочинением». Всё, что составляет содержание тома, «рассказано Толстым опять с огромным мастерством, характеризующим всё сочинение. В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной или неловкой страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестию, художественною правдою и простотой. Есть места, где простота эта достигает необычайной торжественности». «Как на образец красот подобного рода» автор указывает на описание умирания и смерти князя Андрея. «Прощание князя Андрея с сыном Николушкою; мысленный или, лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей и самый
850
переход его в вечность — всё это выше всяких похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения в святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к смерти... Ни в прозе ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию».
Переходя далее к исторической части пятого тома, Лесков находит, что исторические картины нарисованы автором «с большим мастерством и с удивительною чуткостью». По поводу придирчивых статей военных критиков Лесков говорит: «Может быть, военные специалисты найдут в деталях военных описаний графа Толстого много такого, за что они снова найдут возможным сделать автору замечания и укоризны вроде тех, какие ему уже были от них сделаны, но, поистине говоря, нас мало занимают эти детали. Мы ценим в военных картинах Толстого то яркое и правдивое освещение, при котором он нам показывает марши, стычки, движения; нам нравится самый дух этих описаний, в котором волею неволею чувствуется веяние духа правды, дышащего на нас через художника».
Остановившись главным образом на портретах Кутузова и Растопчина, Лесков в заключение своей статьи говорит, что исторические лица в романе Толстого очерчены «не карандашом казенного историка, а свободною рукою правдивого и чуткого художника»75.
По выходе шестого тома Лесков писал, что «Война и мир» это «наилучший русский исторический роман», «прекрасное и многозначащее сочинение»; что «нельзя не признать несомненную пользу правдивых картин графа Толстого»; что «книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разуметь бываемое» и даже «видеть в зеркале гадания грядущее»; что это произведение «составляет гордость современной литературы».
Лесков берет под защиту положение Толстого о решающей роли масс в историческом процессе. «Военные вожди, — пишет он, — как и мирные правительства, состоят в непосредственной зависимости от духа страны и вне пределов, открываемых им для эксплуатации этим духом, ничего совершить не могут... Никто не может предводительствовать тем, что само в себе заключает лишь одну слабость и все элементы падения... Дух народа пал, и никакой вождь ничего не сделает, точно так же, как сильный и сознающий себя народный дух сам неведомыми путями изберет себе пригодного вождя, что и было в России с засыпавшим Кутузовым... Не известно ли критикам, что у падавших народностей в самые крайние минуты их падения являлись очень замечательные
851
военные таланты и не могли сделать ничего капитального для спасения отчизны?»
В качестве примера Лесков указывает на «популярного и сведущего в своем деле» польского революционера Костюшко, который, видя неуспех восстания, в отчаянии воскликнул: «Finis Poloniae!» [Конец Польше!]. «В этом восклике способнейшего вождя народного ополчения поляки напрасно видят нечто легкомысленное, — говорит Лесков, — Костюшко видел, что в низком уровне духа страны было уже нечто невозвратное, изрекшее его любимой родине «Finis Poloniae».
Далее Лесков касается обвинения Толстого «одним философствующим критиком» в том, что будто бы он «просмотрел народ и не дал ему надлежащего значения в своем романе»76. На это Лесков отвечает: «Говоря поистине, мы не знаем ничего смешнее и неумнее этой забавной укоризны писателю, сделавшему более, чем все, для вознесения народного духа на ту высоту, на которую поставил его граф Толстой, указав ему оттуда господствовать над суетой и мелочью деяний отдельных лиц, удерживавших за собою до сих пор всю славу великого дела»77.
Лескову совершенно ясен жанр «Войны и мира» как эпопеи.
В заключительной статье, написанной по выходе в свет последнего тома произведения, Лесков писал:
«Кроме личных характеров — художественное изучение автора, видимо для всех, с замечательною энергиею было направлено на характер всего народа, вся нравственная сила которого сосредоточилась в войске, боровшемся с великим Наполеоном. В этом смысле роман графа Толстого можно было в некотором отношении считать эпопеею великой и народной войны, имеющей своих историков, но далеко не имевшей своего певца. Где слава, там и сила. В славном походе греков на Трою, воспетом неизвестными певцами, чувствуем роковую силу, дающую всему движение и через дух художника вносящую неизъяснимое наслаждение в наш дух, — дух потомков, тысячелетиями отделенных от самого события. Много совершенно подобных ощущений дает автор «Войны и мира» в эпопее 12 года, выдвигая пред нами возвышенно простые характеры и такую величавость общих образов, за которыми чувствуется неисследимая глубина силы, способной к невероятным подвигам. Многими блестящими страницами своего труда автор обнаружил в себе все необходимые качества для истинного эпоса»78.
852
XII
Большое удовлетворение доставили Толстому статьи о «Войне и мире» Н. Н. Страхова, печатавшиеся в журнале «Заря» за 1869—1870 годы79.
О характере впечатления «Войны и мира» на читателей Страхов писал: «Люди, приступавшие к этой книге с предвзятыми взглядами, — с мыслью найти противоречие своей тенденции, или ее подтверждение, — часто недоумевали, не успевали решить, что им делать — негодовать или восторгаться, но все одинаково признавали необыкновенное, мастерство загадочного произведения. Давно уже художество не обнаруживало в такой степени своего всепобедного, неотразимого действия».
На вопрос, в чем именно «художество» в «Войне и мире» проявило свое «неотразимое действие», Страхов дает такой ответ: «Трудно представить себе образы более отчетливые, — краски более яркие. Точно видишь всё то, что описывается, и слышишь все звуки того, что совершается. Автор ничего не рассказывает от себя: он прямо выводит лица и заставляет их говорить, чувствовать и действовать, причем каждое слово и каждое движение верно до изумительной точности, то есть вполне носит характер лица, которому принадлежит. Как будто имеешь дело с живыми людьми и притом видишь их гораздо яснее, чем умеешь видеть в действительной жизни».
В «Войне и мире», по утверждению Страхова, «схвачены ме отдельные черты, а целиком — та жизненная атмосфера, которая бывает различна около различных лиц и в разных слоях общества. Сам автор говорит о «любовной и семейной атмосфере» дома Ростовых; но припомните другие изображения того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанского; атмосфера, господствовавшая около «дядюшки» Ростовых; атмосфера театральной залы, в которую попала Наташа; атмосфера военного госпиталя, зкуда зашел Ростов, и пр. и пр.»
Страхов подчеркивает обличительный характер «Войны и мира». «Можно принять эту книгу за самое яркое обличение александровской эпохи, — за неподкупное разоблачение всех язв, которыми она страдала. Обличены — своекорыстие, пустота, фальшивость, разврат, глупость тогдашнего высшего круга; бессмысленная, ленивая, обжорливая жизнь московского общества И богатых помещиков, вроде Ростовых; затем величайшие беспорядки везде, особенно в армии, во время войн; повсюду показаны люди, которые среди крови и битв руководятся личными
853
выгодами и приносят им в жертву общее благо; ...выведена на сцену целая толпа трусов, подлецов, воров, развратников, шулеров...»
«Перед нами картина той России, которая выдержала нашествие Наполеона и нанесла смертельный удар его могуществу. Картина нарисована не только без прикрас, но и с резкими тенями всех недостатков, — всех уродливых и жалких сторон, которыми страдало тогдашнее общество в умственном, нравственном и правительственном отношении. Но вместе с тем воочию показана та сила, которая спасла Россию».
По поводу описания Бородинского сражения в «Войне и мире» Страхов замечает: «Едва ли была когда-нибудь другая такая битва, и едва ли что-нибудь подобное было рассказано на каком-нибудь другом языке».
«Душа человеческая, — пишет Страхов далее, — изображается в «Войне и мире» с реальностию, еще небывалою в нашей литературе. Мы видим перед собою не отвлеченную жизнь, а существа вполне определенные со всеми ограничениями места, времени, обстоятельства. Мы видим, например, как растут лица гр. Л. Н. Толстого...»
Сущность художественного дарования Толстого Страхов определял следующим образом: «Л. Н. Толстой есть поэт в старинном и наилучшем смысле этого слова; он носит в себе глубочайшие вопросы, к каким только способен человек; он прозревает и открывает нам сокровеннейшие тайны жизни и смерти».
Смысл «Войны и мира», по мнению Страхова, всего яснее выражен в словах автора: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Голос за простое и доброе против ложного и хищного — вот существенный, главнейший смысл «Войны и мира». Это утверждение Страхова справедливо, хотя содержание «Войны и мира» настолько обширно, что свести его к одной какой-нибудь идее невозможно. Но далее Страхов говорит: «Существует на свете как будто два рода героизма: один — деятельный, тревожный, порывающийся, другой — страдательный, спокойный, терпеливый... К категории деятельного героизма относятся не только французы вообще и Наполеон в особенности, но и множество русских лиц... К категории смирного героизма принадлежит прежде всего — сам Кутузов, величайший образец этого типа, потом Тушин, Тимохин, Дохтуров, Коновницын и пр., вообще — вся масса наших военных и вся масса русского народа. Весь рассказ «Войны и мира» как будто имеет целью доказать превосходство смирного героизма над героизмом деятельным, который повсюду оказывается не только побежденным, но и смешным, не только бессильным, но и вредным». Это мнение Страхова несправедливо. Оно было высказано Страховым до выхода
854
последнего тома «Войны и мира» с главами, посвященными партизанскому движению, но уже в четвертом томе (по первому шеститомному изданию) Страхов мог бы найти опровержение своего мнения в разговоре Андрея Болконского (выражающего мнения автора) с Пьером Безуховым накануне Бородинского сражения. Неправ Страхов и тогда, когда причисляет всю «массу русского народа» к представителям «смирного героизма».
С этой ошибкой Страхова связана и другая его серьезная ошибка, касающаяся определения жанра «Войны и мира». Правильно указав, что «Война и мир» «вовсе не есть исторический роман» в общепринятом смысле этого слова, «то есть вовсе не имеет в виду делать из исторических лиц романических героев», Страхов далее сравнивает «Войну и мир» с «Капитанской дочкой» и находит между этими двумя произведениями большое сходство. Сходство это он видит в том, что, как у Пушкина исторические лица — Пугачев, Екатерина — «являются мельком в немногих сценах», так же и в «Войне и мире» «являются Кутузов, Наполеон и пр.». У Пушкина «главное внимание сосредоточено на событиях частной жизни Гриневых и Мироновых, и исторические события описаны лишь в той мере, в какой они прикасались к жизни этих простых людей». «Капитанская дочка», — пишет Страхов, — собственно говоря, есть хроника семейства Гриневых; это тот рассказ, о котором Пушкин мечтал еще в третьей главе «Онегина», — рассказ, изображающий «преданья русского семейства». «Война и мир», по мнению Страхова, «тоже некоторая семейная хроника. Именно, это хроника двух семейств: семейства Ростовых и семейства Болконских. Это воспоминания и рассказы о всех важнейших случаях в жизни этих двух семейств и о том, как действовали на их жизнь современные им исторические события... Центр тяжести «обоих призведений» всегда в семейных отношениях, а не в чем-нибудь другом».
Это мнение Страхова совершенно ошибочно.
В предыдущей главе уже было показано, что никогда у Толстого не было замысла ограничить свое произведение узкими рамками хроники двух дворянских семейств. Уже первые томы романа-эпопеи, с описанием походной и боевой жизни русской армии, никак не укладываются в рамки семейной хроники; начиная с четвертого тома (по первому шеститомному изданию), где автор приступает к описанию войны 1812 года, характер произведения как эпопеи становится совершенно очевидным. Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон, непоколебимая стойкость русской армии, опустошенная Москва, изгнание французов из России, — всё это описывается Толстым никак не в виде придатка к какой-то семейной хронике, а как важнейшие события в жизни русского народа, в чем и видел автор свою главную задачу.
855
Что касается родственных связей героев «Войны и мира», то переписка Толстого показывает, что связи эти не только не стояли для него на первом плане, но определялись в известной мере случайно. В письме к Л. И. Волконской от 3 мая 1865 года Толстой, отвечая на ее вопрос о том, кто такой Андрей Болконский, писал о происхождении этого образа: «В Аустерлицком сражении... мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек; в дальнейшем ходе моего романа мне нужно было только старика Болконского с дочерью; но так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского».
Как видим, Толстой совершенно определенно заявляет, что молодой офицер, убитый (по первоначальному плану) в Аустерлицком сражении, только по чисто композиционным соображениям был сделан им сыном старого князя Болконского.
Данная Страховым ложная характеристика жанра «Войны и мира», принижающая смысл и значение великого произведения, тогда же была подхвачена в печати другими критиками, впоследствии много раз вплоть до наших дней повторялась литературоведами и внесла большую путаницу в понимание эпопеи Толстого. Страхов в данном случае не проявил ни исторического, ни художественного чутья, несомненно проявленного им в общей оценке «Войны и мира». По выходе в свет последнего тома «Войны и мира» Страхов дал заключительный отзыв обо всем произведении.
«Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представляет нам ни одна литература. Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка, до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, — всё есть в этой картине. А между тем, ни одна фигура не заслоняет другой, ни одна сцена, ни одно впечатление не мешает другим сценам и впечатлениям, всё на месте, всё ясно, всё раздельно и всё гармонирует между собою и с целым... Все лица выдержаны, все стороны дела схвачены, и художник до последней сцены не отступил от своего безмерно широкого плана, не опустил ни одного существенного момента, и довел свой труд до конца без всякого признака изменения в тоне, взгляде, в приемах и силе творчества. Дело поистине изумительное!..»
«Война и мир» есть произведение гениальное, равное всему лучшему и истинно великому, что произвела русская литература»...
Значение «Войны и мира» в истории русской литературы, по мнению Страхова, таково:
856
«Совершенно ясно, что с 1868 года, то есть с появления «Войны и мира», состав того, что собственно называется русскою литературою, то есть состав наших художественных писателей, получил иной вид и иной смысл. Гр. Л. Н. Толстой занял первое место в этом составе, место неизмеримо высокое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы. Писатели, бывшие прежде первостепенными, обратились теперь во второстепенных, отошли на задний план. Если мы вглядимся в это перемещение, совершившееся самым безобидным образом, т. е. не в силу чьего-нибудь понижения, а вследствие огромной высоты, на которую взошел раскрывший свои силы талант, то нам невозможно будет не радоваться этому делу от всего сердца... Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного, и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы теперь обладаем».
В печати статьи Страхова о «Войне и мире» вызвали только отрицательную оценку.
«Гением признает графа Толстого один только Страхов», — писала газета «Петербургский листок»80. Буренин в либеральных «Петербургских ведомостях» писал, что над «философами» журнала «Заря» «можно порой посмеяться, когда они измыслят что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления... о мировом значении романов графа Льва Толстого»81. Минаев на статьи Страхова откликнулся следующими насмешливыми стишками:
Поврежденный критик (бредит)
Да, гений он!..
Тень Аполлона Григорьева
Постой, постой!..
Кто — Бенедиктов?
Критик
Лев Толстой!..
Он самый первый гений мира.
В «Заре» пишу я круглый год,
Что с Ахшарумовым Шекспира
Он просто за пояс заткнет.
Некто
Ты покраснел, я вижу... Дело!..
Болтать нельзя, без краски, зря82.
857
С. А. Толстая записала в своем дневнике, что Толстого «радовали» статьи Страхова83.
В своей автобиографии «Моя жизнь» Софья Андреевна приводит следующее мнение Толстого о статьях Страхова по поводу «Войны и мира»: «Лев Николаевич говорил, что Страхов в своей критике придал «Войне и миру» то высокое значение, которое роман этот получил уже много позднее и на котором он остановился навсегда»84.
Н. Н. Страхов имел основание впоследствии (в 1885 году) с чувством глубокого внутреннего удовлетворения заявить печатно: «Задолго до нынешней славы Толстого..., в то время, когда даже еще не была кончена «Война и мир», я почувствовал великое значение этого писателя и старался объяснить его читателям... Я первый, и уже давно, печатно провозгласил Толстого гениальным и причислил его к великим русским писателям»85.
XIII
Из писателей, близких знакомых Толстого, особенный интерес к «Войне и миру» проявили, разумеется, Фет и Боткин.
Сохранились только два письма Фета о «Войне и мире»; вероятно их было больше. Кроме письма от 16 июня 1866 года, приведенного выше, существует еще письмо Фета, написанное по окончании чтения последнего тома «Войны и мира» и датированное 1 января 1870 года. Фет писал:
«Сию минуту кончил 6-ой том «Войны и мира» и рад, что отношусь к нему совершенно свободно, хотя штурмую с вами рядом. Какая милая и умная женщина княг. Черкасская, как я обрадовался, когда она меня спросила: «будет ли он продолжать? Тут всё так и просится в продолжение — этот 15-летний Болконский, очевидно, будущий декабрист». Какая пышная похвала руке мастера, у которого всё выходит живое, чуткое. Но ради бога не думайте о продолжении этого романа. Все они пошли спать во-время и будить их опять будет для этого романа, круглого, уже не продолжение — а канитель. Чувство меры так же необходимо художнику, как и сила. Кстати, даже недоброжелатели,
858
т. е. не понимающие интеллектуальной стороны Вашего дела, говорят: по силе он феномен, он точно слон между нами ходит... У Вас руки мастера, пальцы, которые чувствуют, что тут надо надавить, потому что в искусстве это выйдет лучше, — а это само собой всплывет. Это чувство осязания, которого обсуждать отвлеченно нельзя. Но следы этих пальцев можно указать на созданной фигуре, и то нужен глаз да глаз. Не стану распространяться о тех криках по поводу 6 части: «как это грубо, цинично, неблаговоспитанно» и т. д. Приходилось и это слышать. Это не более, как рабство перед книжками. Такого конца в книжках нет — ну, стало-быть, никуда не годится, потому что свобода требует, чтобы книжки были все похожи и толковали на разных языках одно и то же. А то книжка — и не похоже — на что же это похоже! Так как то, что в этом случае кричат дураки, не ими найдено, а художниками, то в этом крике доля правды. Если бы Вы, подобно всей древности, подобно Шекспиру, Шиллеру, Гете и Пушкину, были певцом героев, Вы бы не должны сметь класть их спать с детьми. Орест, Електра, Гамлет, Офелия, даже Герман и Доротея существуют как герои, и им возиться с детьми невозможно, как невозможно Клеопатре в день пиршества кормить грудью ребенка. Но Вы вырабатывали перед нами будничную изнанку жизни, беспрестанно указывая на органический рост на ней блестящей чешуи героического. На этом основании, на основании правды и полного гражданского права будничной жизни, Вы обязаны были продолжать указывать на нее до конца, независимо от того, что эта жизнь дошла до конца героического Knalleffekt [разительного эффекта]. Эта лишне пройденная дорожка вытекает прямо из того, что Вы с начала пути пошли на гору не по правому обычному ущелью, а по левому. Не этот неизбежный конец — нововведение, а нововведение самая задача. Признавая прекрасным, плодотворным замысел, необходимо признать и его следствие. Но тут является художественное но. Вы пишете подкладку вместо лица, Вы перевернули содержание. Вы вольный художник, и Вы вполне правы. «Ты сам свой высший суд». — Но художественные законы для всяческого содержания неизменны и неизбежны как смерть. И первый закон единство представления. Это единство в искусстве достигается совсем не так, как в жизни. Ах! бумаги мало, а кратко сказать не умею!.. Художник хотел нам показать, как настоящая женская духовная красота отпечатывается под станком брака, и художник вполне прав. Мы поняли, почему Наташа сбросила Knalleffekt, поняли, что ее не тянет петь, а тянет ревновать и напряженно кормить детей. Поняли, что ей не нужно обдумывать пояса, ленты и колечки локонов. Все это не вредит целому представлению о ее духовной красоте. Но зачем было напирать на то, что она стала неряха. Это может быть в действительности,
859
но это нестерпимый натурализм в искусстве. Это шаржа, нарушающая гармонию»86.
Боткин дважды писал Фету по поводу «Войны и мира». В первом письме из Петербурга от 26 марта 1868 года Боткин писал, что, хотя «успех романа Толстого действительно необыкновенный», «но от литературных людей и военных специалистов слышатся критики. Последние говорят, что, напр., Бородинская битва описана совсем неверно, и приложенный Толстым план ее произволен и несогласен с действительностью. Первые находят, что умозрительный элемент романа очень слаб, что философия истории мелка и поверхностна, что отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие; но помимо всего этого художественный талант автора вне всякого спора. Вчера у меня обедали и был также Тютчев, — и я сообщаю отзыв компании»87.
Второе письмо было написано Боткиным 9 июня 1869 года по прочтении пятого тома романа. Здесь он писал:
«Мы только на днях кончили «Войну и мир». Исключая страниц о масонстве, которые мало интересны и как-то скучно изложены, — этот роман во всех отношениях превосходен. Но неужели Толстой остановится на пятой части? Мне кажется, это невозможно. Какая яркость и вместе глубина характеристики! Какой характер Наташи и как выдержан! Да, все в этом превосходном произведении возбуждает глубочайший интерес. Даже его военные соображения полны интереса, и мне в большей части случаев кажется, что он совершенно прав. И потом какое это глубоко-русское произведение»88.
Через сорок лет после смерти В. П. Боткина его младший брат Михаил Петрович писал Толстому 18 ноября 1908 года:
«Когда брат Василий был в Риме больной, почти умирающий, я ему прочел «Войну и мир». Он так наслаждался, как никто. Были места, где он просил остановиться и только говорил: «Лёвушка, Лёвушка, какой гигант! Как хорошо! Погоди, дай посмаковать». Так несколько минут, зажмуря глаза, приговаривал: «Как хорошо!»89
Мнение М. Е. Салтыкова-Щедрина о «Войне и мире» известно только со слов Т. А. Кузминской. В своих воспоминаниях она рассказывает:
860
«Не могу не привести комичный желчный отзыв о «Войне и мире» М. Е. Салтыкова. В 1866—1867 годах Салтыков жил в Туле, равно как и мой муж. Он бывал у Салтыкова и передал мне его мнение насчет двух частей «1805 года». Надо сказать, что Лев Николаевич и Салтыков, несмотря на близкое соседство, никогда не бывали друг у друга. Почему, — не знаю. Я в те времена как-то не интересовалась этим. Салтыков говорил: — Эти военные сцены — одна ложь и суета... Багратион и Кутузов — кукольные генералы90. А вообще — болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше так называемое «высшее общество» граф лихо прохватил.
При последних словах слышался желчный смех Салтыкова»91.
Высокое мнение о «Войне и мире» (правда, со слов других) высказывал Гончаров после появления первых трех томов романа. 10 февраля 1868 года он писал Тургеневу:
«Главное известие берегу pour la bonne bouche [на закуску]: это появление романа Мир и война графа Льва Толстого. Он, т. е. граф, сделался настоящим львом литературы. Я не читал (к сожалению, не могу — потерял всякий вкус и возможность чтения), но все читавшие, и между прочим люди компетентные, говорят, что автор проявляет колоссальную силу и что у нас (эту фразу почти всегда употребляют) «ничего подобного в литературе не было». На этот раз, кажется, судя по общему впечатлению и по тому, что оно проняло людей и не впечатлительных, фраза эта применена с большей основательностью, нежели когда-нибудь»92.
XIV
Первое упоминание Достоевского о Толстом находим в его письме к А. Н. Майкову из Семипалатинска от 18 января 1856 года.
«Л. Т., — писал Достоевский, — мне очень нравится, но по моему мнению много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь)»93.
После этого в письмах Достоевского нет никаких упоминаний о Толстом вплоть до появления «Войны и мира».
861
Восторженные статьи Страхова о «Войне и мире» в журнале «Заря» встретили со стороны Достоевского одобрительную оценку. 26 февраля (10 марта) 1870 года Достоевский писал Страхову относительно его статей о Толстом: «Я буквально со всем согласен теперь (прежде не был) и из всех нескольких тысяч строк этих статей, — я отрицаю всего только две строки, ни более ни менее, с которыми положительно не могу согласиться»94.
На запрос Страхова, какие это две строки нашел Достоевский в его статьях о Толстом, с которыми он не согласен, Достоевский ответил 24 марта (5 апреля) того же года:
«Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это, — когда Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Пушкин, Ломоносов — гении. Явиться с «Арапом Петра Великого» и с «Белкиным» значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с «Войной и миром» значит явиться после этого нового слова, уже высказанного Пушкиным, и это во всяком случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением, нового слова. По-моему, это очень важно»95.
Повидимому, Достоевский не вполне правильно понял мысль Страхова. Страхов не касался вопроса о значении Пушкина в истории русской литературы; разбирая «Войну и мир», он хотел сказать только, что по своим идейным и художественным достоинствам произведение Толстого стоит в ряду лучших образцов русской художественной литературы, в том числе, разумеется, и произведений Пушкина.
Появление «Войны и мира» вызвало у Достоевского желание ближе узнать Толстого как человека. 28 мая (9 июня) 1870 года он пишет Страхову:
«Да вот еще давно хотел Вас спросить: не знакомы ли Вы с Львом Толстым лично? Если знакомы, напишите пожалуйста мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал, как о частном человеке»96.
Вновь касается Достоевский «Войны и мира» в письме к Страхову от 18 (30) мая 1871 года. Заговорив о Тургеневе, Достоевский пишет:
«А знаете — ведь это все помещичья литература. Она сказала всё, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним»97.
862
Это несправедливое, одностороннее суждение о «Войне и мире», основанное только на том, что Толстой сочувственно изображает быт и нравы поместного дворянства (Ростовы, Мелюковы, Болконские), Достоевский сам опровергает в черновом варианте к роману «Подросток». Не называя Толстого, Достоевский вкладывает в уста Версилова следующее обращение к сыну: «У меня, мой милый, есть один любимый русский писатель. Он романист, но для меня он почти историограф вашего дворянства или, лучше сказать, вашего культурного слоя... Историк разворачивает самую широкую историческую картину культурного слоя. Он ведет его и выставляет в самую славную эпоху отечества. Они умирают за родину, они летят в бой пылкими юношами или ведут в бой всё отечество маститыми полководцами. О... Беспристрастность, реальность картин придает изумительную прелесть описанию, тут рядом с представителями талантов, чести и долга — сколько открыто негодяев, смешных ничтожностей, дураков. В высших типах своих историк выставляет с тонкостью и остроумием именно перевоплощение... европейских идей в лицах русского дворянства; тут и масоны, тут и перевоплощение пушкинского Сильвио, взятого из Байрона, тут и зачатки декабристов...»98
Бросается в глаза тот исторический подход вместе с признанием художественных достоинств романа («реальность картин»), какой обнаружил Достоевский в этом отзыве о «Войне и мире». Для него Толстой даже не просто историк, но историограф русского культурного слоя начала XIX века. Он отмечает и беспристрастие «историка», и широту исторической картины, нарисованной в «Войне и мире». В исторической верности этой картины у Достоевского, очевидно, не возникает сомнений.
По выходе последнего тома «Войны и мира» у Достоевского явилась мысль написать роман «Житие великого грешника» «объемом в «Войну и мир», как писал он А. Н. Майкову 25 марта (6 апреля) 1871 года99. Судя, однако, по тому плану этого задуманного романа, какой Достоевский изложил в том же письме, можно думать, что роман этот, если бы он был написан, имел бы сходство с «Войной и миром» не только по своему размеру, но также и по методу построения — многоплановости.
Еще раз вернулся Достоевский к Толстому вообще и к «Войне и миру», в частности, в письме к Х. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 года. Здесь он писал:
863
«Я вывел неотразимое заключение, что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой»100.
Последнее упоминание о «Войне и мире» было сделано Достоевским в его речи на пушкинском празднике в Москве в 1880 году. О Татьяне Пушкина Достоевский сказал: «Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе, кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева и Наташи в «Войне и мире» Толстого». Но упоминание о тургеневской героине вызвало среди присутствующих такие шумные аплодисменты по адресу находившегося тут же Тургенева, что упоминание о Наташе не было расслышано никем, кроме близко стоявших лиц101. В печатный текст речи Достоевского это упоминание также не попало.
XV
Ни один писатель, ни один критик не уделил «Войне и миру» столько внимания, как друг-недруг Толстого И. С. Тургенев.
Отзывы Тургенева о «Войне и мире» в письмах и в печати очень многочисленны, иногда странны и противоречивы, но постепенно противоречия сглаживались, и у Тургенева установилась одна совершенно определенная точка зрения на произведение Толстого.
26 февраля 1865 года общий приятель Тургенева и Толстого И. П. Борисов писал Тургеневу:
«Прочли ли вы «1805 год» Льва Толстого? Не знаю, что именно лишает его всей силы впечатления. Французские ли диалоги или то скрытое презрение и какой-то свой личный, но неопределенный, порой равнодушный, порой с язвинкой взгляд на все выведенные лица. Хотя очевидно, что это только подготовление будущих происшествий. Толстой с ними капризничает и вместе скрывает это даже пером своим. Но зато каково представлены все эти личности, и чего можно ждать впереди, когда начнется самая суть. Я ожидаю великолепных наслаждений. Фету как будто не совсем понравилось — особенно действие в Москве. Но мне в Москве кажется лучшим, чем начало. Молодец Лев Николаевич, и силы его еще всё развертываются»102.
Тургенев отвечал Борисову 16 (28) марта 1865 года:
864
«С тех пор, как пришло ваше письмо, я успел прочесть драму Островского (Воеводу) и начало романа Толстого. К истинному своему огорчению, я должен признаться, что роман этот мне кажется положительно плох, скучен и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь — и все его недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные, мелкие психологические замечания, которые он под предлогом «правды» выковыривает из подмышек и других темных мест своих героев — как это всё мизерно на широком полотне исторического романа! И он ставит этот несчастный продукт выше «Казаков»! Тем хуже для него, если это он говорит искренно. И как это всё холодно, сухо — как чувствуется недостаток воображения и наивности в авторе, — как утомительно работает перед читателем одна память, мелкого, случайного, ненужного. И что это за барышни! Всё какие-то золотушные кривляки. Нет, эдак нельзя; так пропадешь даже с его талантом. Мне это очень больно, и я желал бы обмануться»103.
Трудно понять причины столь несправедливого приговора. Как мог Тургенев утверждать, что вся та обширная галерея действующих лиц, с которой Толстой знакомит читателя в первой части своего романа, создана не творческим воображением, а исключительно «памятью мелкого, случайного»? Почему Тургенев не заметил того, что сложный психологический анализ дается Толстым только относительно тех героев, психология которых действительно отличается сложностью, а такие типы, как всё семейство Ростовых (Наташа еще девочка), князь Василий, княгиня Друбецкая, Анна Павловна Шерер и посетители ее салона наделены весьма простой и несложной психикой? Отчего Тургенев, обратив внимание на изображенных Толстым «барышень» (что всегда его особенно интересовало в художественных произведениях), всех их — и резвую черноглазую Наташу, и Соню с ее «девически страстным обожанием» Николая, и княжну Марью с ее «прекрасными лучистыми глазами», зачислил в разряд «золотушных кривляк», на которых они нисколько не похожи?
Объяснение, повидимому, кроме некоторой предубежденности против автора, с которым Тургенев находился в ссоре (личные отношения у Тургенева часто влияли на его суждения о литературных произведениях), следует искать в том, что та совершенно новая и оригинальная манера, в которой написана «Война и мир», совершенно не свойственная Тургеневу, не сразу была им воспринята и оценена по достоинству104.
865
Вторая часть «1805 года» получила со стороны Тургенева не менее резкую оценку. 25 марта (6 апреля) 1866 года он писал Фету:
«...Вторая часть 1805 года тоже слаба: как это все мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, — трус, мол, я или нет? — Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена; но она была бы хороша как узор на фоне, — а фона-то и нет»105.
Каких именно «исторических красок», «черт эпохи» 1805 года не находил Тургенев в романе Толстого — трудно сказать. Что же касается неудовольствия Тургенева по поводу того, что герои Толстого занимаются рассуждениями о том, «трус, мол, я или нет», то здесь Тургенев разумел, конечно, восьмую главу второй части первого тома «Войны и мира», где Николай Ростов, в первый раз участвующий в сражении, против ожидания испытывает особенное желание жить и боязнь смерти и по окончании сражения думает: «Всё кончилось; но я трус, да, я трус». Но Тургенев не обратил внимания на то, что всего несколькими строками ниже Толстой писал: «Каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер». Толстой, следовательно, в переживаниях Ростова имел в виду описать общее, по его наблюдениям, состояние всех, в первый раз идущих в сражение. Впоследствии Ростов избавился от этого страха. Через семь лет, в 1812 году, отправляясь в дело, Ростов «не испытывал ни малейшего чувства страха». Он «выучился управлять своею душою перед опасностью» — приучил себя, идя в дело, думать о посторонних предметах106.
В следующем письме к Фету от 27 июня (9 июля) 1866 года Тургенев, отвечая на какие-то замечания Фета, писал:
«Роман Толстого плох не потому, что он также заразился «рассудительством»: этой беды ему бояться нечего; он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных современных генеральчиков»107.
Это изумительное по своей несправедливости суждение об образах Кутузова и Багратиона в «Войне и мире» можно объяснить только тем, что Тургенев, так же как и Вяземский, не
866
отрешился еще вполне от представления о том, что исторических личностей нельзя, как это делал Толстой, изображать как простых людей, со всеми их достоинствами и недостатками, в простой, будничной обстановке, а следует изображать как «олимпийцев». Выше уже было приведено мнение военного критика М. И. Драгомирова, что Багратион изображен у Толстого «идеально хорошо». Что Кутузов списан Толстым с какого-то «современного генеральчика» — это замечание, конечно, не нуждается в опровержении.
Итак, как в художественном, так и в историческом отношении новый роман Толстого, по мнению Тургенева, ниже всякой критики. Вскоре, однако, обнаружилось, что это не совсем так, — в сплошном мраке появился некоторый просвет.
28 октября (9 ноября) 1867 года Тургенев пишет И. П. Борисову:
«Перечел я в последнее время всего Л. Н. Толстого: экой сильный и свежий талант — но не в «Семейном счастьи», не в педагогических статьях — и должен прибавить, за исключением некоторых удивительных сцен — не в 1805 годе!»108
Тургенев, разумеется, сейчас же прочел появившиеся в 1867 году три тома «Войны и мира». О своем впечатлении он написал своим друзьям одно за другим три письма, довольно близкие по оценке произведения Толстого.
Свое письмо к Анненкову от 14 (26) февраля 1868 года Тургенев начинает с похвалы его статье о «Войне и мире»109: «Вы ничего умнее и дельнее не писали; вся статья свидетельствует о верном и тонком критическом чувстве автора, и только в двух-трех фразах заметна неясность и как бы спутанность выражений».
Перейдя затем к роману Толстого, Тургенев начинает свою критику с восторженной похвалы:
«Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных — всё бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т. д.)».
Но дальше Тургенев в весьма резких выражениях отзывается о недостатках романа. Таких недостатков Тургенев устанавливает три. Попрежнему он недоволен исторической стороной романа: «Историческая прибавка, от которой читатели в восторге, кукольная комедия и шарлатанство... Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он всё об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только что эти мелочи».
Во-вторых, Тургенев относится скептически и к «так называемой
867
психологии» Толстого. Он находит, что в «Войне и мире» «настоящего развития нет ни в одном характере, и есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положения, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и в сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности ненавижу и т. д. и т. д. ...Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением ее игнорирует».
И, в-третьих, Тургенев находит «мучительными» «эти преднамеренные, упорные повторения одного и того же штриха, — усики на верхней губе княгини Болконской и т. д.». Указав все эти кажущиеся ему недостатки, Тургенев заканчивает свой отзыв восторженной похвалой: «Со всем тем есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга»110.
Отзыв Тургенева о «Войне и мире» в письме к И. П. Борисову от 27 февраля (10 марта) 1868 года почти совпадает с отзывом в письме к Анненкову111. Тургенев опять начинает письмо с восторженной похвалы «Войне и миру»: «Я с великим наслаждением прочел роман Толстого, хотя многим не совсем остался доволен. Вся бытовая сторона (и военная) удивительна: есть тут вещи, которые не умрут, пока будет существовать русская речь».
Далее идет перечисление тех же недостатков, как и в письме к Анненкову: «Вся историческая сторона — извините за выражение — кукольная комедия. Не говоря уже о том, что настоящего воспроизведения эпохи и помину нету, что́ мы узнаем об Александре, Сперанском и пр., как только самые мелочи, капризно выбранные автором и возведенные в характерные черты?.. И настоящего развития характеров нет — все они продвигаются вперед прыжками — а зато есть бездна этой старой психологической возни («что, мол, я думаю? что обо мне думают? люблю ли я или терпеть не могу? и т. д.») — которая составляет положительно мономанию Толстого».
Общее заключение такое же восторженное, как в письме к Анненкову: «Но со всем тем — в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не сознаться, что с появления «Войны и мира» Толстой
868
стал на первое место между всеми нашими современными писателями. С нетерпением ожидаю четвертого тома»112.
Упрек Тургенева в том, что в «Войне и мире» развитие характеров дается «прыжками», повторяет сказанное в статье Анненкова. Далее, Тургеневу не нравится, что об Александре I и Сперанском мы «узнаем только мелочи». Ему, очевидно, хотелось бы, чтобы Толстой посвятил целые главы характеристике государственной деятельности Александра I и особенно Сперанского, которого либералы очень уважали, подробно остановился бы на произведенных Александром I реформах, на законодательных мероприятиях Сперанского, о чем у Толстого сказано очень кратко. Но Толстой не сделал этого просто потому, что не придавал значения ни проведенным Александром I реформам (открытие Государственного совета, новые требования от правительственных чиновников и т. д.), ни работе Сперанского по составлению нового Уложения, что совершенно ясно сказано в романе.
Наконец, что касается последнего упрека, брошенного Тургеневым Толстому, в том, что ему свойственно «преднамеренное, упорное повторение одного и того же штриха», то наблюдение это Толстой признал бы правильным, но, несмотря на недовольство Тургенева, никогда бы не согласился отказаться от этого приема, весьма существенного для его художественной манеры. Такое повторение характерных внешних подробностей в портретах действующих лиц мы находим и в позднейших произведениях Толстого (косящие глаза Катюши Масловой, детская улыбка Хаджи-Мурата и т. д.). В этом приеме Толстой усматривал одно из своих отличий от Пушкина. Шурин Толстого С. А. Берс в своих воспоминаниях приводит замечание Толстого о том, что «Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он же как бы пристанет к читателю с этою художественною подробностью, пока ясно не растолкует ее»113.
6 (18) марта 1868 года в письме к Я. П. Полонскому Тургенев дал следующее краткое резюме своих подробных отзывов о трех первых томах «Войны и мира» в письмах к Анненкову и Борисову:
«Роман Толстого — вещь удивительная; но самое слабое в нем — именно то, чему восторгается публика: историческая сторона — и психология. История его — фокус, битье тонкими мелочами по глазам; психология — капризно-однообразная возня в одних и тех же ощущениях. — Всё бытовое, описательное, военное
869
— это первый сорт, и подобного Толстому мастера у нас не имеется»114.
Вскоре Тургенев прочитал и четвертый том «Войны и мира» и о своем впечатлении поспешил написать тем же своим друзьям. 8(20) апреля Тургенев писал И. П. Борисову: «Четвертый том Толстого получил, но не успел еще прочесть; по отзывам журналов боюсь, что он вдался в философию, и как это тогда с ним водится, закусил удила и понес бить и лягать зря»115.
Уже через четыре дня 12 (24) апреля книга была прочитана, и Тургенев пишет Фету:
«Я только что кончил 4-й том «Войны и мира». Есть вещи невыносимые, и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем; да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й и 1-й том слабее 2-го и особенно 3-го; 3-й том почти весь chef-d’oeuvre»116.
На другой день, 13 (25) апреля, Тургенев пишет Анненкову:
«Доставили мне 4-й том Толстого... Много там прекрасного, но и уродства не оберешься! Беда, коли автодидакт, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь одну систему, которая, повидимому, всё разрешает очень просто, как, например, исторический фатализм, да и пошел писать! Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает все свои силы: смерть старого князя, Алпатыч, бунт в деревне, всё это — удивительно. Наташа, однако, выходит что-то слабо и сбивается на столь любимый Толстым тип нерях»117.
Нельзя не обратить внимания на то, что в этих отзывах о четвертом томе «Войны и мира» мы не находим ни одного отрицательного суждения о художественной стороне романа, за исключением мнения об образе Наташи. Однако в четвертом томе первого издания «Войны и мира», соответствующем первым двум частям третьего тома позднейших изданий, Наташе посвящено только несколько глав, описывающих ее болезнь после увлечения Анатолем, ее религиозное настроение (как Лизы у Тургенева) и затем патриотический подъем при известии о начале войны. Ни одна из этих глав не могла дать Тургеневу материала для его пренебрежительной характеристики любимой героини Толстого.
Перечитав первый том, Тургенев находит его слабее второго и третьего томов, но не повторяет сурового приговора, высказанного
870
ранее в письме к Фету. Не говорит уже Тургенев и того, что Кутузов, действующий под Бородином, похож на «современных генеральчиков».
Тургенев высказывает недовольство признанием исторического фатализма, которое он нашел в «Войне и мире», называя при этом Толстого автодидактом (то есть самоучкой). Нельзя, впрочем, не заметить, что Тургенев в своих произведениях и письмах сам нередко предстает сторонником фатализма, хотя и выраженного в смутной и неопределенной форме и по большей части с пессимистической окраской в духе философии Шопенгауэра. Особенно это сказалось в его «Стихотворениях в прозе», но те же мысли находим и в некоторых более ранних произведениях Тургенева, как «Накануне» и «Довольно» Толстой в «Войне и мире» проводит мысль, что исторические деятели обычно не могут предвидеть последствий своей деятельности; Тургенев в речи «Гамлет и Дон-Кихот», произнесенной в 1860 году, высказывает соображения, очень близкие к этому мнению Толстого: «Нам кажется, что главное дело в искренности и силе самого убеждения... а результат — в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы... Наше дело вооружиться и бороться»118.
С нетерпением ожидал Тургенев выхода пятого тома «Войны и мира». 16 (28) ноября 1868 года он писал Борисову: «Вы мне ничего не пишете о 5-м томе «Войны и мира» — неужели он еще не вышел? И что делает автор?»119.
Читая «Обрыв» Гончарова, Тургенев вспоминает Толстого. «В первом номере «Вестника Европы», — писал он И. П. Борисову 12 (24) января 1869 года, — прочел я начало нового романа Гончарова — и остался им весьма недоволен: многословие невыносимое, старческое — и ужасно много условной рутины, резонерства, риторики. Должно признаться, что после правды Л. Н. Толстого — вся эта старенькая чиновничья литература очень отдает фальшиво, да какой-то кислой неприятной фальшью»120.
В январе или феврале 1869 года Борисов пишет Тургеневу о скором выходе пятого тома романа Толстого. Тургенев отвечает ему 12 (24) февраля 1869 года:
«Очень радуюсь известию о скором выходе 5-го тома «Войны и мира»; при всех своих слабостях и чудачествах, при всем
871
даже своем вранье — Толстой настоящий гигант между остальной литературной братьей — и производит на меня впечатление слона в зверинце: нескладно, даже нелепо — но огромно — и как умно! Дай бог написать ему еще двадцать томов!»121
В том же 1869 году Тургенев впервые высказался о Толстом в печати. В «Воспоминаниях о Белинском», перечисляя лучшие художественные произведения, появившиеся после смерти Белинского, Тургенев прежде всего упомянул о Толстом. «Как бы порадовался он [Белинский], — писал Тургенев, — поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова!»122
Однако в опубликованной одновременно с «Воспоминаниями о Белинском» статье по поводу «Отцов и детей» Тургенев повторил свое двойственное отношение к «Войне и миру». Здесь он писал: «Самый печальный пример отсутствия истинной свободы, проистекающего из отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого («Война и мир»), которое в то же время по силе творческого поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской123 литературе с 1840 года. Нет! без образования, без свободы в обширнейшем смысле — в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, — немыслим истинный художник»124.
Как видно из контекста, под «отсутствием истинного знания», в чем он обвинял Толстого, Тургенев разумел не что иное, как недостаток систематического, в данном случае философского образования, а под «отсутствием истинной свободы» — философско-исторические воззрения Толстого.
Долго не получая пятого тома «Войны и мира», Тургенев составляет о нем представление на основании газетных статей, в том числе статей Буренина в «Петербургских ведомостях». Под впечатлением этих статей Тургенев 12 (24) марта 1869 года пишет Борисову:
«V-го тома «Войны и мира» я еще не получал; но, судя по доходящим отзывам, наш гениальный чудак совсем закусил удила. Можно ли, из вражды к философии и фразам, втемяшиться в такую философию и фразу! То, что всякому мужику понятно, как польза хлеба — а именно польза человеческого ума, рассудка — то-то и нужно искоренить!! То-то и есть чепуха! И нужно же, чтобы эдакая ерунда залезла в голову самого даровитого
872
писателя во всей современной европейской литературе. Но я заранее умиляюсь перед теми прелестями, которыми непременно изобилует этот 5-й том»125.
Доставка Тургеневу пятого тома романа почему-то сильно задержалась, и он еще раз пишет Борисову 14 (26) апреля:
«Мне обещались выслать 5-й том «Войны и мира» — и до сих пор ничего. Мне это очень досадно. Толстой и бесит и тешит — настоящий человек, хоть и сумасброд»126.
Тургенев вновь перечитывает вышедшие томы романа Толстого и 18 (30) июня в письме к Борисову высказывается о романе, в том числе и о его философской части.
«Последнюю часть «Обрыва», — писал Тургенев, — все еще не мог осилить, а «Войну и мир» перечитываю с тою же смесью противоположных чувств. Что хорошо в этом романе — то удивительно, а что плохо или слабо или с претензией — все-таки не скучно и даже в известном смысле интересно — как уродничание гениального человека»127.
13 (25) ноября 1869 года он писал Борисову:
«С нетерпением ожидаю 6-го тома «Войны и мира» — авось автор успел немного разуруситься — и вместо мутного философствования даст нам попить чистой ключевой воды своего великого таланта!»128.
«Разуруситься» значит освободиться от влияния Урусова. Борисов, очевидно, неоднократно писал Тургеневу о дружбе Толстого с С. С. Урусовым и о близости их философско-исторических воззрений. Письма Борисова к Тургеневу неизвестны, и неизвестно поэтому, в какой форме излагал Борисов взгляды Урусова; но Тургенев отнесся к ним неодобрительно. У нас нет решительно никаких оснований полагать, что влияние Урусова на Толстого действительно существовало. Напротив, Урусов, как сказано было выше, сам признавал себя учеником Толстого.
Прежде чем получить последний том «Войны и мира», Тургенев прочел статью о нем Буренина в «Петербургских ведомостях», о чем в следующих выражениях извещал Борисова в письме от 23 декабря 1869 года (4 января 1870 года):
«Шестой том Войны и мира я еще не получал; но в фельетоне С.-Петербургских ведомостей читал отрывки, от которых повесил нос»129.
Буренин в своем фельетоне130 приводил из шестого тома «Войны и мира» не только те выдержки, которые находил высокохудожественными,
873
как картина последнего смотра Кутузова войскам, описание солдатских разговоров в морозную зимнюю ночь, но и те, которым он не сочувствовал, как характеристика автором Наташи после ее замужества и отрывок из философско-исторических рассуждений, помещенных в эпилоге.
Борисов, очевидно, продолжал в своих письмах излагать Тургеневу философско-исторические взгляды Урусова и Толстого, так как Тургенев 31 января (12 февраля) 1870 года писал ему:
«Если мы встретимся с Урусовым — то мы, вероятно, как водится, поспорим — и как водится, каждый останется при своем мнении. Во всяком случае, нельзя так легко разрешать вечный, более чем трехтысячелетний спор между необходимостью вещей и свободной волей — и уничтожение (как то делает Толстой) одной из спорящих сторон — не разрешение задачи. Оно показывает только неустойчивость и незрелость мысли, сопряженные с детским нетерпением и самомнением недоучки»131.
Повидимому, Борисов неточно изложил Тургеневу воззрения Толстого. В эпилоге «Войны и мира» Толстой вовсе не приходит к «уничтожению одной из спорящих сторон» по вопросу о необходимости и свободе воли; и необходимость и свободная воля признаются им в известных пределах.
В марте 1870 года Тургенев получил наконец шестой том «Войны и мира». Повидимому, он остался удовлетворен художественной стороной самого романа, так как все его замечания в письме к Борисову от 15 (27) марта 1870 года направлены только против эпилога. Тургенев писал:
«Прочел я 6-й том «Войны и мира»; конечно, есть вещи первоклассные; но не говоря уже о детской философии — мне неприятно было видеть отражение системы даже на образах, рисуемых Толстым».
Тургенев перечисляет те случаи «отражения системы» в эпилоге «Войны и мира», которыми он остался недоволен. «Отчего это, — недоумевает Тургенев, — у него непременно все хорошие женщины не только самки — даже дуры? И почему он старается уверить читателя, что коли женщина умна и развита, то непременно фразерка и лгунья?» Эти недостатки Тургенев склонен объяснять влиянием на Толстого славянофильства, «к которому он, кажется, попал в руки».
Трудно согласиться с этими замечаниями Тургенева. Наташа и княжна Марья, конечно, не дуры, а княжна Марья, кроме того, и не самка. Да и Наташа не только самка (хотя автор и называет ее этим именем). Она с уважением относится к умственным занятиям своего мужа и защищает перед братом его
874
взгляды132. Уверений в обязательной лживости всякой «умной и развитой» женщины в «Войне и мире» нет. Элен Безухова только представляется умной и развитой, а на самом деле, как это знает Пьер, она не только не умна и не развита, а просто глупа.
«Как это, — писал далее Тургенев, — он упустил из вида весь декабристский элемент, который такую роль играл в 20-х годах?»133 Но Толстой вовсе не «упустил из вида» декабристский элемент. Как было сказано ранее, Пьер Безухов в эпилоге — типичный представитель идей и настроений будущих декабристов в 1820 году. Это понимал Достоевский, это понимал даже Буренин134, который в молодости в эпоху своего радикализма знал вернувшихся из ссылки декабристов — Батенкова, Бобрищева-Пушкина; это понимал критик газеты «Голос», который писал, что в перспективе, открывающейся в эпилоге, «возможность новых бурь и волнений: Пьер недоволен реакционным направлением 20-х годов, громко осуждает правительство и говорит о необходимости образования обществ для противодействия злу; юный Николенька Болконский жадно впивается в речи Пьера»135.
Тургенев, вероятно, в то время имел не вполне ясное представление об эволюции социально-политических воззрений декабристов и считал, что уже в 1820 году декабристы были настроены революционно.
Окончательное суждение о «Войне и мире» и о Толстом вообще, сложившееся у него к тому времени, Тургенев высказал в двух письмах к Фету — от 2 (14) июля и от 16 (28) августа 1871 года. В первом письме, написанном в ответ на письмо Фета о болезни Толстого, Тургенев называет Толстого преемником Пушкина, Лермонтова и Гоголя и признает его «единственной надеждой
875
нашей осиротевшей литературы»136. Во втором письме Тургенев писал: «Это очень плохо, что «о Толстом нет вестей». Вы не можете иметь о нем более высокого мнения, чем я».
И далее Тургенев называет «Войну и мир» «поистине великим романом», хотя так же отрицательно высказывается об изложенных в романе философско-исторических воззрениях автора137.
«Война и мир» становится любимой книгой Тургенева, которую он перечитывает неоднократно. Об этом Тургенев сообщал самому Толстому в письме от 28 декабря 1879 года (9 января 1880 года). Извещая о том, что вышел французский перевод «Войны и мира» и что он роздал экземпляры его влиятельным французским критикам, Тургенев прибавлял: «Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи... Я на днях в пятый и шестой раз с новым наслаждением перечел Ваше поистине великое произведение»138.
Превосходную характеристику «Войны и мира» дал Тургенев в двух заметках, написанных для французских читателей.
В предисловии к французскому переводу «Двух гусаров», напечатанном в Париже в 1875 году, Тургенев, после краткого очерка литературной деятельности Толстого, определяет тот жанр, к которому следует отнести «Войну и мир». Тургенев характеризует Толстого как «самого замечательного» представителя «новой русской литературной школы», ведущей свое начало от Пушкина и Гоголя. «Война и мир» — это «произведение оригинальное и многостороннее, заключающее в себе вместе эпопею, исторический роман и очерк нравов». После появления «Войны и мира», писал Тургенев, Толстой «решительно занимает первое место в расположении публики»139.
Вторая заметка написана в форме письма к редактору газеты «Le XIX-e Siècle» Эдмонду Абу, которому Тургенев послал французский перевод «Войны и мира». Письмо помечено 20 января 1880 года. Здесь Тургенев дает такую характеристику произведения Толстого:
«Лев Толстой — наиболее популярный из современных русских писателей, а «Война и мир», смело можно сказать, — одна из замечательнейших книг нашего времени. Дух эпоса веет в этом обширном произведении, где мастерски обрисован общественный и частный быт России в первые годы нашего века. Целая эпоха, богатая великими событиями и крупными фигурами (рассказ начинается незадолго до Аустерлицкого сражения и доходит
876
до сражения под Москвой), целый мир, множество типов, схваченных живьем, из всех кругов общества, развертываются перед читателем. Способ, каким граф Толстой обрабатывает свой предмет, столь же своеобразен, как и нов; это — не метод Вальтер Скотта и, само собою разумеется, также не метод Александра Дюма. Граф Толстой — русский писатель до мозга костей; и те из французских читателей, кого не оттолкнут немногие длинноты и причудливость некоторых оценок140, будут вправе сказать себе, что «Война и мир» дала им более непосредственное и верное представление о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской жизни, чем если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и истории. Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин и другие), чьи черты установлены навеки; это — непреходящее. Как видите, я смел в выражениях; и однако, мои слова еще далеко не передают моей мысли... Это — великое произведение великого писателя, и это — подлинная Россия»141.
Этой замечательной характеристикой Тургенев погасил все свои предыдущие нападки на художественную сторону «Войны и мира», признав и высокое мастерство Толстого в изображении типических характеров, и своеобразие его художественного метода, и полноту и историческую достоверность картин эпохи, и точность портретов исторических лиц, выведенных в эпопее, и верность представлений о характере русского народа и о русской жизни, данных в «Войне и мире».
Оправдалось, таким образом, предвидение Толстого, высказанное им еще в 1865 году в письме к Фету, что Тургенев поймет и по достоинству оценит его замечательное произведение.
877
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа над «Войной и миром» составила эпоху в жизни Толстого.
Работа эта потребовала от «взыскательного художника» семь лет напряженного и сосредоточенного труда, точнее, семь лет жизни. Это был «период счастливого самоуверенного труда», как вспоминал он по окончании работы1.
Создавая «Войну и мир», Толстой находился в том состоянии высокого душевного подъема, о котором он писал Фету по поводу одного из его стихотворений: «Я знаю то счастие, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно..., что оно — вы»2.
В результате упорного многолетнего труда было создано произведение, огромное по размеру, оригинальное по форме, глубокое и всестороннее по содержанию, — произведение, представляющее собою соединение эпопеи с романом, сочетание строгого эпоса с самым задушевным лиризмом, а также с философскими и отчасти публицистическими рассуждениями.
«Что такое «Война и мир»?
«Война и мир» есть то, что хотел и что мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось».
Так писал Толстой в 1868 году3.
А «хотел и мог выразить» Толстой в «Войне и мире» очень многое, и форма романа-эпопеи давала ему для этого большой простор. О тех возможностях, какие форма романа представляет для изложения основных воззрений автора, Толстой в 1889 году писал одному из своих друзей: «Иногда хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман, широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения входило
878
бы все, что кажется мне понятым мною с новой, необычной и полезной людям стороны»4.
Еще в Севастополе Толстой пришел к убеждению, что героем Восточной войны был русский народ. Теперь, поставив перед собою грандиозную задачу — написать историю русского народа в трудный и решающий период его жизни, Толстой приходит к выводу, что народ есть движущая сила всей истории человечества. Это положение с чрезвычайной силой и убежденностью высказано в эпопее.
И Толстому радостно было, создавая своей роман-эпопею, переживать героическое прошлое своего народа, сливаться в своем сознании с простыми солдатами, с партизанами, с Кутузовым, и радостно было представлять себе созданных его творческим воображением таких представителей русского народа, как Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа, княжна Марья, Платон Каратаев.
«Там русский дух, там Русью пахнет». Этот стих Пушкина как нельзя более применим к «Войне и миру». Когда автор говорит от себя, он часто употребляет эпитет «русский», и употребляет его по большей части в положительном смысле.
В черновой редакции первого тома Толстой в таких выражениях описывает продвижение русских войск через Польшу, а затем через Богемию: «Армия была весела, несмотря на осеннее, ненастное время и скверные, грязные дороги и беспрестанные болезни, которые заставляли оставлять людей в австрийских гошпиталях. Проходили с русскими песнями, русским говором, русскими мыслями и русскими привычками сначала польские деревни, города... Проходили потом, так же с собой пронося везде русский дух, Богемию... и чем дальше уходили, тем плотнее сжимался этот точно кусок России, который оторвался от нее и пошел с штыками и песнями, пешком и верхом ходить по разным землям, и чем дальше, тем беззаботнее и веселее и руссее казался этот оторванный кусок России...»5
Князь Андрей верит Кутузову больше всего потому, что «он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки»; потому, что «голос его задрожал, когда он сказал «до чего довели!» и что он захлипал, говоря о том, что он «заставит их есть лошадиное мясо»6.
Описывая русскую пляску Наташи у дядюшки-«чистое дело марш», автор для ее характеристики находит следующие вдохновенные слова:
879
«Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить?7 Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка... Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке»8.
Письмо Билибина к князю Андрею о ходе войны 1806 года Толстой характеризует словами: Билибин «хотя и на французском языке, с французскими шуточками и оборотами речи, но с исключительно русским бесстрашием перед самоосуждением и самоосмеянием описывал всю кампанию»9.
Глубокая любовь и к русскому человеку и к русскому народу в целом проникает всю гениальную эпопею-роман с первой страницы до последней.
Общий взгляд на жизнь автора «Войны и мира» выражен им главным образом в мыслях и чувствах действующих лиц, особенно Пьера Безухова, а также князя Андрея и княжны Марьи.
«Человек сотворен для счастья». «Счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей»10.
Жизнь есть любовь. «Проснулась любовь, и проснулась жизнь»11.
Чтобы любить людей, нужно делать им добро. «Как говорит Стерн, мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали»12.
«На свете нет ничего страшного»13. «Мы думаем, что как нас выкинет из привычной дорожки, всё пропало; а тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье»14.
«Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит всё»15.
Нужно научиться «радостно созерцать вокруг себя вечно изменяющуюся,
880
вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь», «видеть великое, вечное и бесконечное во всем»16.
Общее отношение к жизни автора «Войны и мира» выражено тем возгласом, который «с счастливым восторгом» повторяет молодой Ростов вместе с немцем крестьянином, у которого он стоит в войну 1806 года:
«Да здравствует весь мир!»17
Многоплановость произведения, бесконечное разнообразие характеров, положений, сюжетных линий, вообще художественное совершенство «Войны и мира» таково, что если Толстой раньше (23 января 1863 года) мог записать в дневнике: «Сюжетов нет, т. е. никакой не просится особо, но — заблужденье или нет — кажется, что всякий сумел бы сделать», — теперь, с созданием «Войны и мира», он имел фактическое доказательство своей изумительной художественной мощи.
Необычайный творческий подъем привел Льва Толстого к созданию произведения высокого мирового значения. Но это не было завершением его творческого пути. Работа над великим романом-эпопеей, способствовавшая росту его могучего дарования, помогла ему в дальнейшем создать целый ряд других замечательных произведений, достойных его гения.
881
ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ
К КНИГЕ «ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ.
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ С 1828 ПО 1855 ГОД»
К стр. 264—265. О цыганском хоровом пении в книге А. Глумова «Музыка в русском драматическом театре» (М., 1955, стр. 248) говорится:
«Цыганский хор, приведенный в Россию в конце XVIII века из Молдавии, положил начало замечательным традициям своеобразного жанра, восхищавшего в свое время Державина, Пушкина, Герцена, Листа и многих других крупных общественных деятелей. Знаменитый московский хор цыган Ильи Соколова, современника Пушкина, исполнял главным образом старые русские песни. С 1848 года после смерти руководителя хор перешел к И. В. Васильеву. Его постоянными слушателями были Островский, Лев Толстой, Тургенев, Фет».
Имя Соколова, руководителя цыганского хора, осталось в памяти Толстого. В черновой редакции драмы Толстого «Живой труп» Федор Протасов, поклонник цыганского пения, заезжает к Соколову. (Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 459.)
К стр. 276. Запись дневника Толстого от 18 января 1851 года: «писать историю м. д.» следует читать: «писать историю моего дня». Чтение «писать историю моего детства» отпадает. Неправильно, однако, видеть в этой записи указание на замысел «Истории вчерашнего дня»: такое указание находится в записи дневника от 24 марта 1851 года (см. стр. 284). В данной записи содержится, очевидно, первое упоминание о замысле повести «Детство», в которой, как известно, рассказывается о двух «днях» из жизни мальчика и повествование ведется от первого лица. И вторая и третья редакции «Детства» в рукописи имеют зачеркнутое название «Первый день». В дневниках Толстой также несколько раз упоминает о первом и втором «дне», на которые распадается его работа (запись 6 апреля 1852 года: «дописал первый день»; 7 апреля: «завтра примусь за 2-й день» и т. д.).
К стр. 523, строки 23—24. Проект Толстого о переформировании батарей был обнаружен только в 1955 году в фондах Центрального государственного
882
военно-исторического архива. Дата проекта — 3 февраля 1855 года; полное название его: «Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими стрелками». Проект был напечатан в журнале «Исторический архив», 1956, 1, стр. 196—201.
Смысл проекта Толстого в том, что его беспокоит отсталость вооружения русской армии по сравнению с вооружением армий союзников, и он предлагает ряд мероприятий для устранения этого недостатка. Толстой обращает внимание на то, что легкая артиллерия, которой была вооружена русская армия, с появлением нарезных (штуцерных) ружей утратила свою эффективность. Нарезные ружья действуют на расстоянии 500 сажен, тогда как легкая артиллерия действует только на расстоянии 350—500 сажен. Таким образом, прежде чем орудия легкой артиллерии успевали причинить ущерб неприятелю, их с дальних дистанций уничтожали стрелки, вооруженные штуцерами. Вследствие этого легкая артиллерия утратила и моральное влияние, которое она имела раньше. Толстой подробно цифровыми данными обосновывает свое мнение и предлагает ряд практических мероприятий, имеющих целью уменьшить в армии число орудий легкой артиллерии и увеличить снабжение нарезными ружьями.
Публикуя проект Толстого в «Историческом архиве», полковник В. Д. Поликарпов приводит выдержку из статьи Энгельса, относящейся к 1858—1860 годам, в которой Энгельс также писал о «возрастающей дальнобойности современных мушкетов», вследствие которой «полевая артиллерия для производства надлежащего действия не может уже более держаться вне досягаемости мушкетного огня».
Проект Толстого встретил одобрение со стороны генерала Вдовиченко, командовавшего 4-й артиллерийской дивизией, и генерала Остен-Сакена, начальника Севастопольского гарнизона. Затем начальником штаба Крымской армии генералом Семякиным проект Толстого был передан на отзыв генералу А. И. Философову, находившемуся при дворе, но в то время приехавшему в Севастополь вместе с великими князьями. Философов дал отзыв в форме частного письма к генералу Семякину; отзыв его, датированный 20 февраля 1855 года, напечатан в том же номере «Исторического архива» на стр. 201—202.
В проекте Толстого Философов усмотрел нарушение субординации. Свой отзыв он начал словами: «Об государственной экономии и об вопросах вышней военной организации, к которым принадлежит возбужденный графом Толстым, рассуждают обыкновенно высшие сановники, и то не иначе, как с особого указания высочайшей власти. В наше время молодых офицеров за подобные умничания сажали на гауптвахту, приговаривая: «Не ваше дело делить Европу, господа прапорщики; вы обязаны ум, способности и познания свои устремлять на усовершенствование порученной в командование ваше части и думать лишь о том, как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из нее больше пользы»».
Во всем проекте Философов находит «только две мысли основательные» — о необходимости увеличения числа нарезных ружей и о необходимости «в совокупности с артиллериею располагать стрелков с нарезными ружьями».
883
Далее Философов возражает против предлагаемых Толстым мероприятий для осуществления его проекта и заканчивает свой отзыв словами: «Досадно крайне, что молодые люди думают о переменах, когда надобно действовать. До перемен ли теперь, скажите?». Этим окончанием Философов уничтожал и те предложения Толстого, которые он признал обоснованными.
Так смелая, независимая, пытливая мысль молодого патриота разбилась о косность и равнодушие придворного генерала.
Отзыв Философа, по-видимому, был объявлен Толстому. В записи дневника от 18 февраля 1905 года (Полное собрание сочинений, т. 55, 1937, стр. 125) Толстой в числе лиц, препятствовавших его военной карьере, называет и Философова, с которым он не находился в непосредственных служебных отношениях.
К стр. 577, прим. 126. Автор повторяет ошибку редактора 47-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (стр. 286), будто бы Дмитрий Аркадьевич Столыпин был секундантом на дуэли Лермонтова. В действительности секундантом Лермонтова был его двоюродный брат Алексей Аркадьевич Столыпин, прозванный «Монго».
Стр. 13, строка 22 св. Вместо «Фома» должно быть: «Фока».
Стр. 183, строка 22 св. Вместо «Толстой» должно быть: «Н. Н. Толстой».
Стр. 185, строка 14 сн. Должно быть: de son bord.
Стр. 257, строка 3 св. Вместо «графа В. Н. Козловского» должно быть: «князя В. Н. Козловского».
Стр. 277, строка 9 сн. Вместо: «Дмитрия Николаевича Бегичева» должно быть: «Дмитрия Никитича Бегичева».
Стр. 309, строка 23 св. Вместо: «Тверская» должно быть «Терская».
Стр. 315, строка 1 сн. Вместо: «вып. 4, 1939, стр. 32» должно быть: «В. Гиляровский. Друзья и встречи, „Советская литература“, М., 1934, стр. 7—24».
Стр. 396, строка 8 св. Вместо: «В № 10» должно быть: «В № 19».
Стр. 558, строка 14 сн. Вместо: «В сентябрьской книжке» должно быть: «В октябрьской книжке».
Стр. 558, строка 5 сн. Вместо: «9» должно быть: «10».
884
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
А., «Русская критика и художественная этнография» — 606, 610
Аббот Я., «Книга для чтения» — 397
Абу Эдмонд — 875
Аванны (Швейцария) — 205
Авдеев М. В. — 251
— «Подводный камень» — 253
Австрия — 210, 368, 635, 715, 721
Агафья Михайловна — 300
Адам — 743
Азия — 721
А. И-н, «Журнальные и библиографические заметки» — 768
Аксаков И. С. — 19, 48, 194, 309, 461, 547, 592—594, 597, 598, 634, 636, 812
Аксаков К. С. — 19, 50, 154, 271, 321
— «Обозрение современной литературы» — 154
Аксаков С. Т. — 19, 24, 28, 49, 50, 164, 194, 262, 494, 718
— «Семейная хроника» — 50, 164
Аксаковы — 50, 163, 165, 168, 243, 244, 271, 310
Акулина — 634
Александр I — 598, 634, 699, 702, 705, 706, 709, 710, 721, 722, 728—730, 732, 735, 738, 752, 754, 755, 757, 777, 796, 803, 822, 827, 848, 866—868, 874
Александр II — 16, 35, 57, 80, 257, 258, 261, 307, 313—315, 371, 382, 406, 409, 413, 496, 497, 500, 503, 643, 644, 659, 710
Александр Македонский — 721
Александринский театр (Петербург) — 11
Алексеев В. И. — 21
Алексеев Н. П. — 279, 465
Алжир — 219
Алмазов Б. А. — 277
Алфиери В. — 173
— «Мирра» — 173, 176
Алчевская Х. Д. — 862
Америка — 73, 366, 368, 371, 430, 532, 558
Анакреон — 118
Английский клуб (Москва) — 85
Англия — 114, 189, 226, 228, 365, 389, 398, 412, 414, 415, 532, 715, 781
Андерсен Г.-Х. — 270
— «Новое платье короля» — 159
Аничков мост (Петербург) — 3
Анненков П. В. — 5, 6, 10, 12, 16, 20, 32, 43, 45, 47, 56, 62, 63, 69, 86, 89, 92, 108, 110—112, 120—122, 127, 153, 159, 166, 174, 175, 179, 182, 195, 201, 203, 204, 222, 223, 244, 245, 247, 251, 259, 299, 320, 330, 341, 352, 376, 395, 444, 452, 556, 606, 607, 820—822, 832, 837, 866—869
— «Замечательное десятилетие» — 56
— «Исторические и эстетические вопросы в романе графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» — 820
— «Литературные воспоминания» — 43, 352, 395, 444, 452
— «Материалы для биографии Пушкина» — 62, 63
— «Современная беллетристика. Граф Л. Н. Толстой „Казаки“» — 556, 606
Антверпен — 420
Антей — 869
Антонович М. А. — 518, 625
Аоста — 210
885
Аполлон Бельведерский — 609, 610
Апостолов Н. Н., «Лев Толстой над страницами истории» — 762
Аптекман О. В., «Василий Васильевич Берви-Флеровский» — 496
Аракчеев А. А. — 502, 766, 796, 797, 822
Арбузов С. П. — 680—683
— «Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого» — 680
Арденс Н. Н., «Василий Шабунин и Л. Н. Толстой» — 658
Арзамас — 681
«Арзамас», литературный кружок — 16
Аристотель — 721
Арканов П., «Педагогические взгляды наших журналов» — 560
Арнольд Мэтью — 396
— «Задачи художественной критики» — 396
— «Литература и догма» — 396
Арсеньев А. Н. — 307, 308
Арсеньева В. В. (Талызина) — 79—90, 92—94, 96—98, 102, 104, 106, 110, 120, 150, 154—156, 162, 163, 169, 173, 176, 181, 238, 243, 266—268, 332, 333, 335, 338
Арсеньева О. В. — 79, 102
Арсеньевы — 79, 82, 83, 238, 239
Артуа, граф — 816
Артюхова А. П. — 459
«Архив Раевских» — 772
«Архив села Карабихи» — 224, 619
Аскоченский В. И. — 713
Астрахань — 741
«Атеней», журнал — 310
Аугест — 728
Аустерлиц — 707, 708, 733, 734, 820, 847
Аустерлицкое сражение — 707, 720, 722, 723, 725, 726, 728, 729, 746, 748, 750, 778, 803, 804, 810, 823, 824, 848, 855, 875
«Афоризмы и избранные мысли Л. Н. Толстого», избранные Л. П. Никифоровым — 222
Африка — 219
Афросимова Н. Д. — 767, 768
Ауэрбах Бертольд — 368, 369, 370, 429—433, 588
— «Дача на Рейне» — 692, 797
— «Новая жизнь» — 430, 431
— «Шварцвальдские деревенские рассказы» — 98
Ауэрбах Ю. Ф. — 367
Ахматов С. — 565
Ахматова Е. Н. — 70, 564, 565
Ахшарумов Н. Д. — 817, 839, 856
— «„1805 год“, сочинение графа Льва Толстого» — 817
— «„Война и мир“», сочинение графа Л. Н. Толстого. Разбор» — 702, 837, 839
Бабст И. К. — 260
Бабурино, Тульской губ. — 483, 484, 589
Багратион П. И. — 725, 728, 730, 804, 818, 820, 829, 848, 860, 865, 866
Баден-Баден — 224—226, 430
Базыкина А. А. — 301, 302, 339, 363, 391, 586, 588
Байрон Д. Г. — 217, 688, 800, 835, 862
Бакунин А. А. — 25, 496
Бакунин М. А. — 25, 120, 369, 496
Бакунин Н. А. — 496
Балашов А. Д. — 736
Бальзак О. — 198, 609
— «Кузина Бетта» — 198
— «От рина» — 176
— «Человеческая комедия» — 198
Балюзек Л. Ф. — 17
Банникова Дуня — 614
Баратынский Е. А., «Не искушай меня без нужды» — 358
Барклай де Толли М. Б. — 734, 762, 778
Барсуков Н. — 36
— «Жизнь и труды М. П. Погодина» — 36
Бартенев П. И. — 593, 594, 672—674, 676—678, 701, 748, 757, 764, 780, 784, 827, 828
— Рецензия на «Переписку Пушкина» под ред. В. И. Саитова — 780
Барьер Т. и Капандю Ж., «Мнимые добряки» — 173
Басистов П. Е. — 153, 555
— «Русская литература» — 224
— «Ясная Поляна» — 555
Батенков Г. С. — 792, 874
Батюшков К. Н. — 16, 759
— Записная книжка («Чужое мое сокровище») — 758, 759
Бах И. С. — 713
Бахметьева А. П. — 684
Башилов М. С. — 656, 658, 664, 668, 673, 674, 727, 741, 744, 764, 771
— «У костра», рисунок — 727
Бегичев Д. Н. — 883
Бейст Ф. — 404
886
Бекетов — 5
Беленко — 65
Белинский В. Г. — 37, 45, 46, 51, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 112, 114, 118, 120, 123, 124, 132, 156—158, 167, 252, 518, 800
— «Письмо к Гоголю» — 51, 252
Белоголовый Н. А. — 409
Белогородцевская станица — 26
Белосельская-Белозерская — 42
Бельгия — 365, 415
Бендеры — 19
Бенедиктов В. Г. — 123, 856
— «Война и мир» — 742
Бенигсен Л. Л. — 778
Берви В. В. (Флеровский Н.) — 832—834
— «Азбука социальных наук» — 832
— «В глуши» — 74
— «Изящный романист и его изящные критики» — 832—834
Берг Н. В. — 150
— «Из крымских заметок» — 150
Берлин — 227, 365, 366, 429, 431, 432, 777
Берн — 205, 211, 212
Берс А. А. (Саша) — 591, 618
Берс А. Е. — 464, 465, 474, 478, 493, 573, 609, 616, 645, 652, 655, 732, 741
Берс В. А. — 567
Берс Е. А. — 50, 51, 310, 435, 451, 464, 567, 568, 573, 576, 579, 616, 635, 664, 673, 698, 717, 770
— «Магомет» — 545
— «Лютер» — 545
Берс Л. А. — 50, 244, 567—569, 576, 638, 771
Берс С. А. — 665, 683, 759, 868
— «Воспоминания о графе Л. Н. Толстом» — 501, 665, 868
Берс С. А. См. Толстая С. А.
Берс Т. А. См. Кузминская Т. А.
Берсы — 243, 310, 364, 435, 451, 464, 494, 567—570, 572—575, 634, 650, 655, 656, 659, 741, 770, 771
Бертье А. — 763
«Беседа», журнал — 836
Бестужев А. А. — 794
Бетховен Л. — 118, 154, 155, 160, 168, 173, 232, 265, 489, 514, 562
Бибиков А. Н. — 603, 633
«Библиографические заметки», статья — 856
«Библиография», статья («Голос») — 808
«Библиография», статья («Голос») — 813, 874
«Библиография», статья («Новое время») — 814
Библия — 529, 530
«Библиотека для чтения», журнал — 69, 70, 87, 99, 101, 102, 112, 160, 246, 251, 284, 327, 555, 595, 605
«Биржевые ведомости» — 849
Бирюлево — 578
Бисмарк О. Э. Л. — 175
Бирюков П. И. — 13, 14, 29, 134, 237, 270, 332, 390, 392, 399, 400, 403, 410, 411, 414, 589, 590, 615, 616, 659—661, 663, 725
— «Биография Льва Николаевича Толстого» — 144, 304, 367, 390, 411, 426, 437, 589, 615, 616, 646, 658, 661, 726
Бичер Стоу Г., «Хижина дяди Тома» — 287, 545
Блудов Д. Н. — 16, 54, 56
Блудова А. Д. — 16, 31, 269
Блудова Л. Д. См. Шевич Л. Д.
Блюмер — 86
Боборыкин П. Д. — 649, 765, 766
— «За полвека» — 766
— «Земские силы» — 649
Бобринский А. П. — 308
Бобринский В. А. — 448
Бобрищев-Пушкин П. С. — 874
Бобруйск — 169
Богданов А. Ф. — 618
Богданов В. И. — 464, 465
— «Дубинушка» — 465
Богданович М. И. — 779, 848
— «За и против. Что такое „Война и мир“ графа Л. Н. Толстого?» — 848
— «История Отечественной войны 1812 года» — 758, 762, 772, 780, 848
Богемия — 878
Богослово, Тульской губ. — 439, 440, 441
Бозио Анджелика — 241
Бокаж, вилла (Швейцария) — 196
Большая Дмитровка, улица (Москва) — 265, 313, 655
Большая Мещанская улица (Петербург) — 86
Большая Никитская улица (Москва) — 265
«Большая опера» (Париж) — 171
Большой театр (Москва) — 266, 634—636
Бомарше П., «Женитьба Фигаро» — 173
887
Бонапарт Люциан — 706
Борисов И. П. — 305, 317, 321, 340, 342, 343, 374, 439, 440, 609, 617, 630, 676, 863, 865—873
Борисова М. А. — 342
Бородино — 696, 706, 734, 759, 760, 763, 778, 831, 842, 843, 845, 870
Бородинское поле — 760, 782, 843, 844
Бородинское сражение — 734, 736—738, 747, 749—752, 756, 759—763, 776, 779, 780, 783, 785, 803, 804, 825, 826, 832, 842, 844—847, 853, 854, 859
Боткин В. П. — 3, 5, 6, 12, 16, 20, 22, 23, 32, 47, 49, 50, 56, 71—73, 77, 85, 86, 98, 101, 108, 110, 111, 116—122, 125, 127, 128, 137, 146, 153, 155, 157—159, 164—167, 169, 170, 172, 174, 177, 179, 186, 190, 192, 193, 210, 211, 213, 222—224, 237, 243, 245—253, 256, 259, 260—264, 278, 289, 291, 299, 319—321, 327, 329, 330, 332, 336—338, 342, 374, 376, 391, 392, 395, 445, 465, 474, 476, 478, 487, 495, 547, 556, 619, 642, 701, 814, 857, 859
Боткин Влад. П. — 210
Боткин М. П. — 391—393, 395, 859
Боткин С. М. — 392
Боткина М. П. — 155
Бранд Е. А. — 460
Браунау — 847
Броган О. — 175
Брофферио Анжело — 210
Брэддон Мери — 653
Брюссель — 56, 403, 405, 412, 414—416, 418, 420, 428
«Будильник», журнал — 816
Булгаков А. Я. — 164
Булгаков В. Ф. — 629
Булгаков К. А. — 164
Булгарин Ф. Б. — 24, 359, 360, 361
Бунаков Н. Ф. — 566
— «Записки» — 566
Буренин В. П. — 490, 823, 839, 856, 871, 872, 874
— «Библиография» — 874
— «„Война и мир“, сочинение графа Л. Н. Толстого» — 839, 872
— «Воспоминания о Л. Н. Толстом» — 490
— «Журналистика» — 856
— «Русская литература» — 823
Бутович М. В. — 501
— «Ясенковская школа» — 477
Бухарест — 733
Бычков С., «Л. Н. Толстой. Очерк творчества» — 740
Бэкон Френсис — 367
Бюхнер Л. — 465, 518
— «Stoff und Kraft» — 291
В., «На заре крестьянской свободы» — 257
Валуев П. А. — 437, 561, 563
«Ванька Ключник» — 489
Варгин — 242, 265
Вартбург — 367
Варфоломеевская ночь — 807
Варшава — 169
Василий. См. Зябрев В. Е.
Васильев И. В. — 881
Васюков С. И. — 316
— «Былые дни и годы» — 316
Вдовиченко — 882
Вевэ (Vevey) — 211
Везенберг — 93
Вейкшан В. А., «Л. Н. Толстой о воспитании и обучении» — 528
Веймар — 424—428
Вейнберг П. И. — 507
Вейтлинг В. — 56
«Век», журнал — 507
Великая Кабилия — 219
«Великорусс» — 495—498
Вена — 404, 777
Венгеров С. А. — 651
Веневский уезд Тульской губ. — 339
Венера — 610, 733
Венера Милосская — 514
Венеция — 393
Вергани — 83
Вергилий, «Энеида» — 386
Верди Д., «Риголетто» — 173
Вересаев В. В. — 178
— «Воспоминания» — 178
Верещагин — 780, 827, 830
Верней, «Основные понятия арифметики» — 397
Вессель Н. Х. — 508
Версальский музей — 175
«Вестник Европы», журнал — 28, 111, 352, 820, 836, 870
«Вечерний Ленинград», газета — 863, 867
«Вечерняя Москва», газета — 656
Виардо П. — 320
Вигель Ф. Ф. — 816
Виленская губерния — 257, 258
Виллие Я. В. — 728
Вильна — 696, 738
Вильсон Р. Т. — 731
888
Виртембергский принц — 779
Висковатов П. В., «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» — 772
Висла — 802
Витгейнштейн П. Х. — 758
Витмер А. — 844—846, 847
— «По поводу исторических указаний четвертого тома „Войны и мира“ графа Л. Н. Толстого» — 814, 844
В. Л., «Корреспонденция из Тулы» — 595
Владимир, город — 538
Влахопулов А. К. — 531, 553
«Вниз по матушке по Волге» — 489
«Внутренние известия», корреспонденция — 351
«Внутреннее обозрение», статья — 507
Водовозов В. И. — 156
Воейков — 496, 497
«Военные сцены из романа графа Толстого „Война и мир“», статья — 772
«Военный сборник» — 841, 843
Воздвиженка, улица (Москва) — 269
Вознесенский проспект (Петербург) — 86
«Возрождение», журнал — 179
Волга — 494
«Война и мир», статья — 840
Волков А. Н. — 73
Волкова М. А. — 762
Волконская В. А. — 280, 281, 304
Волконская Е. Т., «Род князей Волконских» — 304
Волконская Л. И. — 768—770, 855
Волконская М. Н. См. Толстая М. Н.
Волконская М. Н., рожд. Раевская — 391
Волконский А. А. — 85, 86, 768
Волконский Н. С. — 586, 700, 770
Волконский С. Г. — 391
Вологда — 566
Вольтер Ф. М. — 806
Вольфзон В. — 431, 588
Вольцоген Л. Ю. — 762
Вороново — 775
Воронцов М. С. — 617
«Воскресное чтение», журнал — 595
«Воспитание», журнал — 557, 558, 560
«Восток», газета — 741
Восточная война 1853—1856 гг. — 50, 170, 457
Восточная Сибирь — 25
Вощинников А. — 768
— «Шестой том „Войны и мира“» — 768
«В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка» — 5, 22, 71, 85, 86, 98, 101, 108, 121, 155, 157, 172, 179, 180, 224, 291, 319—321, 330, 332, 336, 376, 619
«Время», журнал — 535, 556, 557, 605
«Вседневная жизнь. Обзор журналов», статья — 816
«Всемирный вестник», журнал — 497
Вышний Волочек — 316, 326
Вяземский П. А. — 16, 26, 138, 269, 307, 762, 826—831, 865
— «Воспоминания о 1812 годе» — 826
— «Ильинские сплетни» — 827, 828
Вязьма — 169
Вятка —307, 398
Гаевский В. П., «А. В. Дружинин как основатель Литературного фонда» — 160
Гайдн Ф. И. — 155, 294
Гайнау Ю. Я. — 404
Гамлет. См. Шекспир, «Гамлет»
Ганновер — 161
Гариц — 367
Гартман Мориц — 175
Гаршин Е. М. — 43, 374, 442
— «Воспоминания о Тургеневе» — 43, 374, 442
Гвиана — 531
Ге Н. Н. — 270, 392
Ге Н. Н. (сын) — 400
Гебель И. П. — 369
Гегель Г.-В. Ф. — 222, 678
Гейден С. М., рожд. Дондукова-Корсакова — 418
Геккерен — 307
Генессиен М. И. (Луиза) — 700
Гера — 330
Геркуланум — 393
Германия — 169, 217, 225, 226, 363, 366, 368—370, 393, 414, 415, 420, 430, 509, 510, 515, 731
Герцен А. И. — 15, 28, 37, 85, 189, 226, 272, 299, 307, 370, 382, 384, 395, 398—404, 406—414, 420—423, 487, 490, 501, 503, 513, 519, 541, 621, 781, 784, 808, 881.
— «Былое и думы» — 398, 406, 784
— «За пять лет» — 370
— «И. Лелевель и казематы» — 413
— «К молодому поколению» — 495
— «Ответ» — 28
— «Роберт Оуэн» — 406, 408, 410, 532
889
— «Тимашев, сидите дома, как Бейст, не ездите, как Гайнау» — 404
Герцен Н. А. — 400
Гершензон М. О. — 11, 375
Гёте И. В. — 63, 97, 210, 234, 247, 263, 426, 477, 488, 508, 687, 688, 800, 858
— «Встреча и разлука» — 210
— «Герман и Доротея» — 487, 858
— «Ифигения в Тавриде» — 97, 858 (Орест)
— «Страдания молодого Вертера» — 63
— «Фауст» — 234, 487, 508
Гиер — 372, 373, 378, 379, 389—391, 394, 417
Гизо-Витт Г. — 689
Гильденштуббе — 659
Гифс — 416
Глебов П. П. — 340
Глинка М. И., «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — 266, 636
— «Не искушай меня без нужды», романс — 358
Глинка С. «Записки 1812 года первого ратника московского ополчения» — 742, 757
Глинка Ф., «Очерки Бородинского сражения» — 762
Глубокое, Псковской губ. — 418
Глумов А., «Музыка в русском драматическом театре» — 881
Гнедич П. П. — 234
Гоголь Н. В. — 24, 51, 62, 70—74, 138, 226, 233, 252, 255, 325, 359, 488, 535, 718, 774, 819, 826, 874, 875
— «Авторская исповедь» — 636
— «Выбранные места из переписки с друзьями» — 233
— «Записки сумасшедшего» — 277, 571
— «Мертвые души» — 63, 180, 233, 764
— «Ревизор» — 233, 266
Голицын А. Н. — 796
Голицына Е. А. — 417, 418
Голландия — 226
Головачев А. Ф. — 348, 352, 608
— «„Казаки“, Повесть графа Л. Н. Толстого» — 608
Головеньки, Тульской губ. — 482
Головнин А. В. — 520, 561, 563
Головнин В. М. — 545
«Голос», газета — 591, 595, 596, 808, 815, 874
«Голос минувшего», журнал — 36, 49, 72, 674
Голохвастов П. Д. — 398
Гольденвейзер А. Б. — 391, 590
— «Вблизи Толстого» — 13, 99, 180, 371, 391, 402, 429, 445, 590
— «Толстой и музыка» — 47
Гомер — 5, 72, 234, 235, 247, 295, 406, 713
— «Илиада» — 156, 234, 235, 295, 487, 537, 654, 723, 867
— «Одиссея» — 487, 654, 723
Гоморра — 195, 196
Гончаров И. А. — 4, 6, 12, 16, 19, 20, 25, 47, 70, 89, 108, 111, 168, 247, 251, 319, 331, 819, 836, 860, 870, 872
— «Необыкновенная история» — 47
— «Обломов» — 247, 331
— «Обрыв» — 835, 836, 870, 872
— «Обыкновенная история» — 70, 97
Гораций — 118
Горбунов И. Ф. — 10
Горки — 761
Гороховая улица (Петербург) — 275
Горчаков М. Д. — 50, 413
Горчаков С. Д. — 50
Горчакова А. А. — 711
Горький А. М. — 4
— «Л. Н. Толстой» — 4
«Горьковский рабочий», газета — 47
Готта — 424
«Грамотей», журнал — 596
Грановский Т. Н. — 272, 398
Гренье А. — 395, 416
Грессонэ — 210
Греция — 532
Грецовка, Тульской губ. — 54, 238, 301, 311, 436
Грибоедов А. С. — 85, 166
— «Горе от ума» — 85, 166, 656
Григорович Д. В. — 12, 19, 20, 22, 24, 25, 33, 42, 47, 72, 74, 98, 125, 224, 251, 341, 773
— «Антон Горемыка» — 110, 118, 536
— «Деревня» — 110
— «Литературные воспоминания» — 24, 773
— «Рыбаки» — 609
Григорьев А. А. — 23, 49, 85, 152, 324, 330, 338, 654, 856
— «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» — 152
— «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» — 324, 338
Гриндельвальд — 205, 207
890
Гриневская И. А. — 267
Гродненская губерния — 258
Громека С. С. — 316
Грузинский А. Е., «Писатель Н. Н. Толстой» — 377, 378
Грумант, Тульской губ. — 311
Гуно, «Фауст» — 402, 406
Гунценбах — 226
Гусев Н. Н., «Два года с Л. Н. Толстым» — 13, 589, 619, 623, 796
— «Толстой о Пушкине» — 63
— «Толстой в расцвете художественного гения» — 317
— «Толстой в молодости» — 461, 859
Гуцков К., «Уриэль Акоста» — 227
Гюго В. — 488, 688
— «Отверженные» — 688
— «Собор Парижской богоматери» — 487, 488, 688
Давид — 282
Даву Л.-Н. — 736, 738, 786, 846
Давыдов А. И. — 451, 453
Давыдов Д. В. — 731, 767, 792
— «Дневник партизанских действий» — 751
Давыдов Н. В., «Из прошлого» — 768
Даль В. И. — 790
— «Пословицы русского народа» — 788
— «Прадедовские ветлы» — 790
Данилевский Г. П. — 15, 25
— «Поездка в Ясную Поляну» — 15, 25
Дантес Ж.. — 307
Дараган П. М. — 436, 500
Даргомыжский А. С. — 47
— «Русалка» — 47
Дашковка, Могилевской губ. — 758
Девичье поле (Москва) — 737, 738
Декре — 721
Декстер И., «Минеральные, животные и растительные вещества» — 397
«Дело», журнал — 554, 831—834
«Дело 1862 года III отделения собственной е. и. в. канцелярии о графе Льве Толстом» — 478, 490
«Дело графа Л. Н. Толстого» — 451
Дельвиг А. А. — 641
Дельвиг Л. А. — 389
«День», газета — 547, 548, 597
Де-Пуле М. — 839
— «Война из-за „Войны и мира“» — 840
Державин Г. Р. — 535, 881
Дерман А., «Промахи мастеров» — 746
Дефо Д., «Робинзон Крузо» — 545, 564
Джонстон Д., «Катехизис агрономической химии и геологии» — 397
Джордж Генри — 58
Дижон (Франция) — 182, 186, 273
Диккенс Ч. — 73, 217, 228, 397, 654
— «Записки Пиквикского клуба» — 63, 654
— «Крошка Доррит» — 63, 86
— «Наш общий друг» — 687
Дистервег А. — 429
Добролюбов Н. А. — 46, 216, 254—256, 355, 541, 555, 800, 801
— «Литературные мелочи прошлого года» — 255
— «Николай Владимирович Станкевич» — 801
— «Письмо из Турина» — 224
— «Рецензия на книгу В. Ирвинга „Жизнь Магомета“» — 801
Добролюбов Н. А., Чернышевский Н. Г., Колбасин Е., «Современное обозрение» — 234
Долгомостьев И. Г. (Игдев), «Сказание о дураковой плеши» — 557
Долгоруков В. А. — 477, 499, 500—504
Долгоруков П. Д. — 306—308
— «Заметки о главнейших родах России» — 307
— «La vérité sur la Russie» — 307
«Домашние и обыденные предметы», книга — 397
«Домашняя беседа», журнал — 713
Дондуков-Корсаков М. А. — 416, 427
Дондукова-Корсакова Е. А. — 417
Дондукова-Корсакова М. Н. — 390, 416
Дондуковы-Корсаковы — 416—418
Дорохов Р. И. — 772
Достоевский М. М. — 556, 605
Достоевский Ф. М. — 629, 712, 836, 860—863, 865, 874
— «Двойник» — 277
— «Записки из мертвого дома» — 487, 718, 764
— «Письма» — 860—863
— «Подросток» — 862
— «Преступление и наказание» — 865
Дохтуров Д. С — 779, 853
Драгомиров М. И. — 846, 848, 866
— «„Война и мир“ гр. Толстого с военной точки зрения» — 847
Дрезден — 226, 227, 428, 429
Дройзен Иоганн — 365
891
Дружинин А. В. — 4—6, 10—12, 16, 17, 20, 23, 25, 33, 47, 49, 51, 69, 70—74, 77, 78, 86, 87, 89, 98—101, 103, 108, 110—117, 120—125, 127, 135, 136, 148, 149, 151, 156, 157, 159, 160, 166, 167, 168, 179, 210, 211, 244, 248, 251, 252, 288, 301, 320, 327, 329, 330, 331, 340—343, 359, 433, 507, 556, 773
— «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» — 248
— «Дневник» — 4, 5, 10—12, 17, 20, 25
— «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» — 112
— «Несколько предложений по устройству русского литературного фонда...» — 160
— «Полинька Сакс» — 593
— «Прошлое лето в деревне» — 70
Дудышкин С. С. — 4, 102, 103, 108, 131
Дуняша — 501
Дурново — 477, 490, 491, 500, 501
Дутловы — 588
Дьяков Д. А. — 51, 79, 144, 268, 389, 640, 641, 654, 667, 672
Дьякова Д. А. — 672
Дьякова М. А. — 654
Дьякова М. Д. — 667
Дюбуа-Реймон Э. — 365
Дюкан М., «Утраченные силы» — 609
Дюма А. — 175, 876
Дюма А. (сын) — 199
— «Денежный вопрос» — 173
— «Женщина с жемчугом» — 198
Дюпон Пьер — 175
— «Песня рабочих» — 175
Дюпор А. — 194
Дюссо — 26
Евангелие — 195, 234, 327, 328, 373, 384, 530, 808
Евгеньев-Максимов В. — 256
— «„Современник“ при Чернышевском и Добролюбове» — 255, 256
Европа — 90, 171, 173, 216, 217, 247, 261, 292, 305, 346, 356, 366, 368, 412, 415, 429, 510, 532, 539, 542, 559, 603, 718, 757, 763, 779, 783, 801, 867, 882
Египет — 715
«Ежемесячная хроника», статья — 837
Екатерина II — 314, 315, 854
— «Наказ» — 187, 194
Ене — 728
Ергольская Т. А. — 18, 30, 41, 52, 62, 81, 83, 94, 96, 97, 110, 145, 162, 163, 168, 176, 190, 198, 200, 201, 226, 233, 283, 327, 363, 364, 366, 371—373, 380, 389, 429, 482, 494, 495, 501, 572, 578, 579, 590, 597, 637, 666, 698, 770
«Ермак», очерк — 545
Ермолов А. П. — 779, 829
Ерошевич Г. К., «Какая именно артиллерийская рота была в Шенграбенском сражении и кто был герой артиллерист Тушин, изображенный в романе графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» — 725
Ефремов, Тульской губ. — 238
Ефремов П. А. — 138
Ешевский С. В. — 634
Жаманская гора — 206
Жанлис С.-Ф. — 878
Железноводск — 99, 164
Жемчужников А. М. — 5, 111, 636
Жемчужниковы — 17
Женева — 176, 177, 189, 195—198, 200, 210, 211, 372
Женевское озеро — 200, 202, 206
Жерве — 773
Жеребцов Н. А. — 176
Жилин П. А. — 779
— «Контрнаступление Кутузова в 1812 году» — 779
Жиркевич А. В. — 12
— «Дневник» — 12
Житово, Тульской губ. — 484
Жихарев С. П. — 730
— «Записки современника с 1805 по 1814 год» — 730, 768
Жуковская Е., «Записки» — 622
Жуковский В. А. — 16, 226, 759
— «Мир и война» — 742
— «Певец во стане русских воинов» — 758
«Журнал для родителей и наставников» — 596
«Журнал Министерства народного просвещения» — 356, 456, 507, 591
Загоскин М. Н., «Рославлев» — 636
Загоскина Е. Д. — 144
Зайденшнур Э. Е. — 717
Зайцев В. — 816
— «Перлы и адаманты русской журналистики» — 816
«Заметки нового поэта о петербургской жизни» — 11
892
«Записки Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина» — 409
«Заря», журнал — 852, 856
Заслонин Г. В. — 460
Захарьин Г. А. — 673
Захарьин-Якунин И. Н. — 194
— «Встречи и воспоминания» — 194
«Звенья», сборники — 321, 374
Зевс — 330
Зеленый А. А. — 245
Зеленый А. С. — 253
Зимин. См. Шипов
Зимний дворец (Петербург) — 14, 43
Зинциг — 226
Золотов В. А. — 589—592
— «Исследование грамотности по деревням» — 592
Зябрев В. Е. — 53, 65, 312
Зябрев О. Е. — 53
Ивакин И. М., «Воспоминания» — 120, 222, 283, 414, 464
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). См. Глинка М. И.
Иванов А. А., «Явление Христа народу» — 514
Иванов К., «Как мужики лес воруют» — 544
Ивердон — 211
Ивицы, Тульской губ. — 567, 568, 573
Иена — 424, 427, 847
Измайлов В. Н. — 42
«Из Москвы. О жизни и литературе», статья — 556
«Из писем и показаний декабристов», под ред. А. К. Бороздина — 794
«Из села было Измайлова», песня — 279
Иисус Христос — 85, 198, 292, 373, 646
Иксион — 330
«Илиада». См. Гомер
«Иллюстрированная газета» — 814, 833
Иловайский Д. И. — 816
Ильинский И. В., «Жандармский обыск в Ясной Поляне» — 497
Ильинский И. В. и Толстой С. Л., «Квартет „Ключ“в романе „Война и мир“» — 456
Ильминский, «„Ясная Поляна“, или новый метод школьного учения» — 559
Ильмино, Пензенской губ. — 684
Индия — 135, 228
Интерлакен — 205
Исаакиевский собор (Петербург) — 364
«И. С. Аксаков в его письмах» — 19, 194
«И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. Неизданные материалы» — 860
«Искра», журнал — 490, 833, 834
Иславин К. А. — 20, 50, 51
Иславина Л. А. — 464
Исленьев А. М. — 288, 567
«Исторический архив», журнал — 881, 882
«И. С. Тургенев», изд. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина — 321
«И. С. Тургенев. Сборник» — 442, 452
Италия — 189, 210, 365, 389, 393, 395, 415
К. — 596
Кавелин К. Д. — 36—39, 135, 259, 260, 288, 413
Кавказ — 17, 26, 99, 101, 104, 120, 128, 141, 146, 150, 162, 192, 194, 199, 201, 202, 204, 242, 270, 280, 295, 313, 328, 342, 373, 376, 377, 465, 466, 582, 605, 606, 608, 660, 751
Кавур — 224
Кайенна — 531
Казань — 144, 187, 494
Казанский университет — 6, 74, 140
Казаринова А. В. — 459
Каменский М. Ф. — 701
Кант И. — 679
Каптерев П. Ф. — 515
— «История русской педагогики» — 515
Каракозов Д. В. — 644
Каралык, Самарской губ. — 494, 495
Карамзин Н. М. — 16, 382
Каретный ряд (Москва) — 737
Карс — 4
Карлсруэ — 426
Катков М. Н. — 17, 259, 260, 330, 331, 337, 434, 435, 465, 467, 494, 547, 548, 582, 585, 634, 639, 643, 655, 672, 717, 719, 720, 764
Каширский уезд Тульской губ. — 339
Кашкин Н. С. — 99, 164
— «Родословные разведки» — 164
«Квартетное общество», проект — 265, 266
Келлер Г. Ф. — 426, 427, 483
Кельсиев В. И. — 400
Кемниц Е. — 559, 595
— «Педагогическое обозрение» — 559, 596
893
Кен И. — 545
Кензингтонский музей (Лондон) — 396
Кетчер Н. Х. — 398, 452, 871
Киев — 107
«Киевский телеграф», газета — 350
Кизеветтер Георг — 161, 169, 186
Киреева А. В. — 265, 268
Киреевский И. В. — 48, 736
Киреевский Н. В. — 653
Киссинген — 366, 367, 370—372
Китай — 17, 216, 219, 220, 531, 539
Кларан — 200, 201, 204, 205, 207, 209—211
Клаузевиц К., «1812 год» — 754, 755, 780
Клен Гектор де — 790
Клин, Московской губ. — 280, 281
Клюнийский музей (Париж) («Hotel de Cluny») — 174
«Книжный вестник» — 629
Кобеляцкий — 500
Кобрин, Гродненской губ. — 169
Ковалевский Евг. П. — 351, 371
Ковалевский Егор П. — 25, 57, 58, 61, 78, 79, 106, 345, 351—353, 355, 356
Ковалевский П. — 254
— «Стихи и воспоминания» — 254
Ковенская губерния — 257, 258
Козловский В. Н. — 882
Кокорев В. А. — 48, 260—263, 305, 384
— «Взгляд русского на европейскую торговлю» — 305
Колбасин Д. Я. — 104, 112, 127, 186, 190, 196, 452
Колбасин Е. Я. — 103, 108, 123, 132, 137, 153, 158, 159, 179, 250, 253, 259
Колбасин Е., Добролюбов Н. А., Чернышевский Н. Г., «Современное обозрение» — 234.
Коленкур Арман де, «Мемуары. Поход Наполеона в Россию» — 763, 777, 782
Кологривов Н. И. — 445
«Колокол», журнал — 402, 404, 413, 420
Колокольцов Г. А. — 659, 660, 661
Колочь, река — 842, 846
Колошин С. П. — 255
— «Светские язвы» — 255
Колошина С. П. — 51, 164, 571
Колпна, Тульской губ. — 501
Колумб Х. — 558
Кольцов А. В. — 232, 487
— «Думы» — 232
Комиссаров О. И. — 644
«Коммунистический манифест». См. «Манифест Коммунистической партии»
Коновницын П. П. — 853
Константинов К. И. — 86
Константинополь — 382
Конт О. — 825, 834
Копылов — 613
Корганов И. И. — 729
Корф М. — 772
— «Жизнь графа Сперанского» — 772
Корш Е. Ф. — 4, 272, 283, 285, 310
Костомаров Н. А. — 445, 461, 462, 476
Костюшко Т. А. — 451
Кочаки, Тульской губ. — 456
Кошелева О. Ф. — 793
Краевский А. А. — 4, 47, 104
«Красная новь», журнал — 378
Красная площадь (Москва) – 285
Красненское сражение — 793
Краснов М., «О состоянии сельских школ в Т-ской губернии» — 596
Красный, Смоленской губ. — 734
Красовский А., «Жених из ножевой линии» — 266
Кремль (Москва) — 285, 384, 464, 574
Кремс — 726
Кривенко С. Н. — 59
— «Литературные воспоминания» — 59
Кривцово, Тульской губ. — 501
Кроневич — 289
Крутиков В. И., «Тульский губернский дворянский комитет 1858—1859 гг.» — 306
Крыжановский Е. — 530
— «Новые начала для народной педагогики» — 530, 595
Крыжановский Н. А. — 503
Крылов И. А. — 16
— «Волк на псарне» — 740
Крым — 4
Крымская война — 17, 35, 248, 775
Ксюнин Ал., «Уход Толстого» — 481
Кудряшов И. — 61
Кузминская Т. А., рожд. Берс — 51, 310, 464, 567, 568, 570, 574, 576, 579, 580, 582, 597, 599, 604, 613, 614, 616, 618, 626, 630, 635, 637, 639—642, 645, 649, 664, 677, 694, 698, 717, 770, 771, 790, 859
— «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — 51, 501, 568, 570, 579, 580,
894
597, 609, 613, 616, 617, 635, 664, 770, 771, 860
Кузминский А. М. — 677, 860
Куллок, «Книга для чтения» — 397
Кунцево, Московской губ. — 49, 50, 73, 145, 146
Купеческое собрание (Москва) — 259
Куприянова Е. Н., «Публицистика Л. Н. Толстого начала 60-х годов» — 541
Курочкин В. С. — 629
Курск — 59
Курская губерния — 500
Куртавнель — 60
Кутузов М. И. — 677, 705, 706, 726, 728, 729, 733, 734, 737, 740, 752, 758, 762, 763, 775, 777—781, 783, 790, 803, 804, 806, 818, 825, 827, 835, 844, 847, 848, 850, 853, 854, 860, 865, 866, 870, 873, 876, 878
«Кутузов», статья — 779
Кушнерев И. Н. — 726
Лазурский В. Ф. — 12
— «Дневник» — 12, 120, 360, 428, 570
Ландовска Ванда — 241
Ланская В. И. — 762
Ланской А. С. — 654
Ланской С. С. — 35, 57, 258, 437
Ласказ Э., «Mémorial de St. Hélène» — 784, 785, 801
Лачинов Н. А. — 841, 843, 844
— «Библиография, „Война и мир“, четвертый том, сочинение графа Л. Н. Толстого» — 843
— «По поводу последнего романа графа Толстого» — 841, 843
Лебедев К. Н. — 258
Левенфельд Р. — 366, 367, 393, 394, 429
— «Граф Л. Н. Толстой. Его жизнь, произведения и миросозерцание» — 366, 367
— «Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим» — 429
— «У графа Толстого» — 394
Левицкий С. Л. — 25
Левшин А. И. — 39, 40
Ледерле М. М — 688
Лейпциг — 366
Лелевель И. — 403, 412—414
Ленин В. И. — 35, 221, 518, 519, 539, 540, 786, 796, 805
— «Л. Н. Толстой и его эпоха» — 221, 222, 518, 539
Леонардо да Винчи, «Джиоконда» — 174
Лермонтов М. Ю. — 12, 129, 226, 603, 772, 874
— «Герой нашего времени» — 180
— «Парус» — 603
Лескин Е., «Разбор и извлечение из романа „Война и мир“» — 674
Лесков А. Н. — 849
— «Жизнь Николая Лескова» — 849
Лесков Н. С — 849, 850, 851
— «„Война и мир“. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Том шестой» — 851
— «Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому» — 849, 850, 851
— «Русские общественные заметки» — 849
«Летописи Государственного Литературного музея» — 245, 321
Ливадия — 680
Ливенцов М. А. — 4
Ливий Тит — 797
Ливорно — 391, 392
Линген — 396
Линская Ю. Н. — 12
Лист Ф. — 427, 881
«Литературная газета» — 5, 16
«Литературная мысль», журнал — 392, 395
«Литературное наследство», журнал — 28, 33, 134, 297, 402, 410—412, 424, 547
Литературный фонд — 341, 342
«Ложкой кормит, а стеблем глаз колет», рассказ — 479, 544
Локк Дж. — 562
«Л. Н. Толстой. Сборник статей и материалов», изд. Академии наук СССР — 331
Ломбардия — 210
Ломени Луи де — 175
Ломоносов М. В. — 861
— «Тамира и Селим» — 742
Лонгинов М. Н. — 28, 29, 50, 85, 179, 250, 277
Лондон — 299, 389, 395, 396, 399, 400, 403, 404, 410, 495, 784
Лошкарев С. С. — 456, 522
Л. Т. — 457, 461, 476, 477
Лувр (Париж) — 174, 175
Луи-Бонапарт — 171
Луи-Филипп — 171
Львов Н. М., «Свет не без добрых людей» — 253
— «Предубеждение» — 255
Львов Г. В. — 176, 339, 429
895
Львова А. В. — 176, 177, 195, 269, 339
Львовы — 177, 339
Лысцев Н. — 836
— «Из литературных воспоминаний» — 836
Лысые горы, Тамбовской губ. — 700
Любимов Н. А. — 634
Любовь Сергеевна — 144, 145
Людовик XIV — 175
Лютер М. — 44, 367
Люцерн — 212, 214, 225
Магницкий М. Л. — 773
Майер Франц — 238, 244
Майков А. Н. — 4, 20, 111, 341, 860, 862
Майков Л. Н. — 201, 247, 251
— «А. С. Пушкин. Биографические и историко-литературные статьи» — 201
Макаров И. — 458
— «Свадьба» — 544
Маковицкий Д. П. — 11, 12, 18, 23, 25, 39, 300, 390, 603, 646
— «Запись разговора с бывшим земским начальником Н. И. Кологривовым» — 445
— «Записи рассказов М. Н. Толстой» — 300
— «Яснополянские записки» — 11, 12, 18, 23, 25, 39, 136, 158, 175, 180, 202, 226, 237, 265, 271, 272, 309, 317, 368, 371, 375, 390, 392, 398, 399, 403, 410, 414, 416, 427, 429, 446, 474, 484, 490, 491, 500, 501, 624, 644, 649, 661, 672, 684, 766, 860
Максим (слуга) — 364
Максимов А. — 833
— «Подвижник идеи» — 833
Малый театр (Москва) — 85, 266, 593, 618, 636
«Манифест Коммунистической партии» — 56
Мариво П., «Мнимые признания» — 173
Мария Ивановна — 626
Мария Николаевна, вел. кн. — 196
Мария Павловна, вел. кн. — 426
Мария Федоровна, императрица — 775
Марко Вовчок. См. Маркович М. А.
Марков Е. Л. — 456, 457, 474, 482, 524, 525, 554, 555, 569, 722
— «Живая душа в школе» — 476, 481, 482, 494
— «Народные типы в нашей литературе» — 722
— «Сомнения в школьной практике» — 555
— «Теория и практика яснополянской школы» — 457, 554, 555
Маркович М. А. (Марко Вовчок) — 330, 565, 566
Маркс К. — 56, 413, 781, 834
— «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» — 781
— «Гражданская война во Франции» — 171
Маркус — 616
Марлинский (Бестужев А. А.) — 123, 158, 606
Мармон Огюст де — 720, 721
Мармье К. — 175
Марсель — 379
Мартынов А. Е. — 11, 12, 326
«Матвей», рассказ — 462, 463, 511, 529, 542, 544, 545, 560
Маццини Д. — 402
Маша — 18, 20
М. Б., «За и против. Что такое „Война и мир“ графа Л. Н. Толстого?» — 848
Майербер Д. «Гугеноты» — 154
Мейзенбуг Мальвида — 299
Мелльри — 202
Мельгунов Н. А. — 226
Мельников (Печерский) П. И. — 247, 288, 701
— «Старые годы» — 701
Мендельсон Н. М. и Саводник В. Ф., «Педагогическая деятельность Толстого и журнал „Ясная поляна“ — 481
Менгден В. М. — 500
Менгден Е. И. — 120, 163, 164, 500
Мендельсон-Бартольди Ф., «Тишь на море» — 155
Мендт (дочери А. И. и Е. А. Мендтов) — 574
Мериме П. — 175
Мещерская Е. Н., рожд. Карамзина — 201
Мещерский П. Н. — 201
Мещерские — 201
Микула Селянинович — 684
Миллер В., «Памяти собирателя народных песен П. В. Шейна» — 481
Милорадович М. А. — 758, 759, 831
Милютин В. А. — 39
Милютин Д. А. — 659, 661
Милютин Н. А. — 39
Минаев Д. Д. — 814, 831, 832
— «Застольные беседы» — 856
896
— «Нота бене» — 833
— «С невского берега» — 813, 832
Минин В. П. — 436, 448
Минск — 169, 378
«Мирской вестник» — 596
Митропольский И., «В Ясной Поляне» — 603
Михаил Николаевич, вел. кн. — 86
Михайлов М.И. — 251, 330, 495
Михайловский-Даниловский А. И., «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году» — 726, 728, 729, 731, 732, 842
Михаловский В. И. — 436, 447, 460, 497
Мишо — 738
М. М-н, «Война и мир, роман Л. Толстого» — 833
«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке» — 442, 464
«Мнение о „Ясной поляне“, педагогическом журнале, издаваемом графом Л. Н. Толстым» — 561—563
Моабит — 366
Модзалевский Б. Л. — 772
Можайск — 747, 760, 761
Молдавия — 784, 881
Молешотт Я. — 518
Молоствов Н. Г. — 619
Мольер Ж. Б. — 174
— «Мещанин во дворянстве» — 63
— «Мнимый больной» — 173
— «Скупой» — 173
— «Смешные жеманницы» — 173
— «Ученые женщины» — 64
Монтень Мишель — 367, 562, 689
— «Опыты» — 689
Монте Пинчио — 394
Монтрё — 211
Мопассан Ги де — 774
Морган, «Основы арифметики» — 397
Мордвинова — 227
Морозов В. С. — 344, 348, 457, 458, 480, 491, 494
— «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» — 344, 457, 492, 494
— «Как меня не взяли в Тулу» — 544
— «Крестины» — 544
— «Похороны» — 544
Морозов П. В. — 361, 371, 372
— «Воспоминания » — 361, 362
«Морской сборник» — 48
Мортемар де — 711
Мортье де Фонтен Л.-А. — 82, 83, 87, 265
Моршанск — 684
Москва — 18—21, 25, 29, 33, 35, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 67, 73, 77, 80, 81, 83, 84—86, 101, 102, 111, 119, 124, 127, 139, 162—164, 168, 169, 173, 224, 230, 231, 237, 242—245, 247, 250, 251, 259, 265, 267, 269, 270—272, 277, 280—282, 286, 288, 289, 293, 298, 300, 302, 304, 306, 307, 309, 310, 313, 315, 317, 327, 332, 339, 343, 364, 374, 375, 382, 384, 385, 387, 402, 409, 414, 434, 435, 451—453, 462—465, 478, 487, 490, 494, 495, 497—499, 502, 503, 512, 537, 546, 567, 569, 572, 573, 578, 579, 581, 582, 585, 591—594, 597, 598, 618, 619, 634—636, 638, 639, 644, 645, 650, 652, 655, 656, 658, 664—666, 668, 670, 672, 673, 676, 677, 680, 693, 696, 699, 703, 711, 716, 717, 730, 733, 737, 738, 741, 742, 746, 752, 759, 760, 761, 763, 767, 775—777, 780, 783, 785—788, 791, 793, 811, 828, 830, 846, 854, 863, 876
Москва-река — 846
«Москвитянин», журнал — 277
Москворецкий мост (Москва) — 737
Московская губерния — 304, 313, 496
«Московская жизнь», статья — 595
«Московские ведомости» — 17, 98, 228, 284, 560, 594, 668, 676, 815, 867
Московский университет — 563, 564, 594
Московское благородное собрание — 266
Моховое, Тульской губ. — 238, 652
Моцарт В. — 160, 456
— «Волшебная флейта» — 427
— «Дон Жуан» — 154
— «Ключ» — 456
Мошин А. — 755, 774
— «Ясная Поляна и Васильевка» — 774
«Мужик Гвоздила и ратник Долбила» — 753
Муравьев А. Н. — 258
Муравьев М. К. — 643
Муравьев-Амурский Н. Н. — 25
Муравьев-Карский Н. Н. — 775
«Мурановский сборник» — 308
Муратов — 497, 498
Мурильо Б. Э. — 289
— «Непорочное зачатие» — 174
Мценск — 60, 293
Мценский уезд Орловской губ. — 339
Мытищи, Московской губ. — 739
897
Мюрат И. — 728, 846
Мясоедово, Тульской губ. — 469
Нагорнова В. В. — 668, 771
— «Оригинал Наташи Ростовой в романе „Война и мир“» — 771
Назарьев В. Н. — 6
— «Жизнь и люди былого времени» — 6
Назимов В. И. — 257, 258
Нанси — 685
Наполеон I — 188, 199, 216, 227, 407, 408, 512, 532, 537, 634, 694, 696, 697, 699, 702, 704—706, 709—711, 715, 720—722, 726, 728, 730, 732— 737, 741, 752, 754, 755, 757, 760, 763, 777, 779—785, 791, 793, 794, 801—803, 807, 812, 827, 838, 839, 842—848, 851, 853, 854
Наполеон III — 170, 171, 187, 188, 219, 227, 351, 532, 537
Наполеоны — 55
«Народная беседа», журнал — 596
«Народная газета» — 838
«Наша общественная жизнь», статья — 625
«Наша старина», журнал — 174, 175, 179, 182, 196, 376
«Наше время», газета — 348, 608
«Начала», журнал — 464, 651
Н. Б. «Библиография» — 814
Неаполь — 391—393, 715
«Нева», журнал — 674
Невшатель — 212
Невшательский кн. См. Бертье А.
«Неизданные письма к А. Н. Островскому» — 19
Ней М. — 846
Некрасов Н. А. — 3—5, 12—14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28—30, 32, 33, 40—42, 44—47, 49, 50, 57, 58, 72—78, 85, 87, 98, 123, 125—128, 131, 133, 134, 151, 168—171, 186, 191, 223, 224, 230—233, 244, 246, 247, 250, 253, 254, 273—278, 281, 286, 287, 318, 319, 341, 376, 433, 564, 618, 818, 836
— «Внимая ужасам войны» — 75
— «В столицах шум, гремят витии» — 75
— «Замолкни, муза мести и печали» — 13, 14, 75
— «Как ты кротка, как ты послушна» — 75
— «Поражена потерей невозвратной» — 75
— «Поэт и гражданин» — 117
— «Праздник жизни, молодости годы» — 75
— «С работы» — 790
— «Тишина» — 233
— «Эти не блещут особенным гением» — 254
Немирово — 565
Несвиж — 169
Нижний-Новгород — 258, 680, 683, 684, 696
Никитенко А. В. — 4, 26, 413, 424, 828
— «Дневник» — 4, 413, 424, 828
— «Моя повесть о самом себе» — 829
Никитин — 391
Никифоров И. — 500
Никифоров Л. П., «Афоризмы и избранные мысли Л. Н. Толстого» — 743
Николаев, город — 59
Николай I — 14, 16, 196, 215, 219, 312, 314, 364, 386, 412, 766, 794
Николай Михайлович, вел. кн. — 374
— «Граф П. А. Строганов» — 375
Николо-Пестравка, Пензенской губ. — 684
Никольское, Тульской губ. — 333, 439, 441, 501, 630, 644, 652, 653
Ницца — 391
Н. Н., «Русская литература» — 338
Новая Колпна, Тульской губ. — 658, 661
Новиков Н. И. — 314, 315
«Новое время», газета — 196, 771
Новоселки, Орловской губ. — 293, 340, 439, 440, 630
Новосильский уезд Тульской губ. — 339
Новосильцев П. П. — 653
«Новый мир», журнал — 320
«Новый педагогический журнал», статья — 507
Норов А.С. — 719, 825, 826, 828, 829
— «„Война и мир“ (1805—1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника» — 719, 825
Ньютон И. — 706
«Обзор журналов», статья — 278
«Обзор замечательных явлений русской журналистики за истекший год», статья — 338
«Обзор литературных журналов», статья — 101, 224
898
Оболенская А. А. — 51, 164, 268
Оболенская Е. В., «Моя мать и Лев Николаевич» — 389
Оболенская М. Л. — 229
Оболенский Д. Д. — 340, 500
— «Воспоминания» — 448
— «Вперед или назад?» — 500
— «Отрывки» — 340, 656
Оболенский Н. Л. — 785
«Общественные заметки», статья — 814
«Общество любителей российской словесности при Московском университете» — 322, 325, 326
«Общество элементарных школ» — 357
Овсянников Н. П. — 662, 663
— «Эпизод из жизни Л. Н. Толстого» — 662, 663
Огарев Н. П. — 5, 10, 126, 402, 406, 410, 501, 518, 519, 541
— «Зимний путь» — 10, 11
— «Рудольфов трапп» — 402
Огарева Е. А. — 399
Огарева Н. А. — 5
Огрызко Иосафат — 413, 414
Одесса — 59
«Одесский вестник» — 594, 610, 824, 830, 840
Одоевский В. Ф. — 4
— «Дневник» — 793
Оксфордский университет — 396
Олимп — 113
Олсуфьева А. Г. — 59
— «Воспоминания» — 59
Ольденбургский герцог — 702
O’Меар, «Napolèon en exile» — 784
«Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур, Е. С. Серебровская — 665, 717
«О писателе графе Льве Николаевиче Толстом», дело департамента полиции — 478
Оппенгейм Генрих — 175
Орел — 18, 30, 59
Орехов Д. — 53
Орлов А. Г. — 598
Орлов Н. А. — 270
Орлов И. И., «Телятинская школа» — 483
Орлова Е. Н. См. Трубецкая Е. Н.
Орловская губ. — 60, 598
«Орловский вестник», газета — 321
Орловы — 816
Орша — 169
Осборн — 228
Освальд — 498
«Освобождение», сборник — 496
«Основа», журнал — 506
«Основы красноречия» — 397
Осташков А. — 316
Остен-Сакен Д. Е. — 882
Остерман — 759
Остров Святой Елены — 188, 721
Островно, Могилевской губ. — 750
Островская Н. — 45, 46, 441
— «Воспоминания о Тургеневе» — 441, 442
Островский А. Н. — 11, 19, 25, 33, 77, 85, 98, 125, 160, 165—168, 246, 247, 251, 272, 288, 342, 359, 618, 619, 712, 735, 864, 871, 881
— «Бедная невеста» — 97
— «Воевода» — 864
— «Грех да беда на кого не живет» — 593
— «Гроза» — 359—361
— «Доходное место» — 160, 165—168, 256
— «Не так живи, как хочется» — 11
— «Праздничный сон до обеда» — 119, 165, 288
— «Свои люди — сочтемся» — 166
— «Шутники» — 636
«Отечественные записки», журнал — 4, 47, 102—104, 108, 131, 132, 246, 284, 287, 288, 555, 556, 593, 632, 701, 818, 836
Оттоны — 537
Оуэн Роберт — 406—408, 410, 781
Офицерская улица (Петербург) — 19
Оффенбах Ж. — 171, 173
Охотницкая Н. П. — 82, 363, 590, 597, 598
«Очерки», журнал — 559, 594
«Очерк истории русской словесности в 1856 г.», статья — 109
Павел I — 673, 702, 711
Павлов Н. Ф. — 260, 261
Паганини Н., «Венецианский карнавал» — 184
Пальмерстон Г.-Д. — 224, 398, 531, 537
Пальна, Орловской губ. — 598
Панаев И. И. — 4—6, 11, 12, 20, 29, 44, 46, 47, 69, 87, 98, 111, 123—125, 127, 128, 132, 136, 137, 148, 158, 159, 166, 167, 186, 223, 231, 245—247, 250, 252, 253, 341, 342, 376, 452, 506
— «Заметки нового поэта» — 506
— «Литературные воспоминания» — 46
Панаева А. Я. — 5, 23, 44, 452
899
— «Воспоминания» — 44, 452
Панкратьева — 428
Панкратов А., «Толстой — школьный учитель» — 481
Париж — 45, 56, 60, 61, 98, 103, 120, 122, 125, 164, 168—172, 174—177, 179, 180, 182, 186—190, 193—196, 227, 230, 270, 296, 369, 389, 391, 392, 394, 395, 398, 400, 403, 452, 537, 565, 663, 740, 781, 784, 875
Парижская консерватория — 174
Парижский университет (Сорбонна) — 175
Паульсон И. — 508, 521
— «Арифметика по способу немецкого педагога Грубе» — 521
П. Б., «Русская литература» — 109, 153
«П. В. Анненков и его друзья» — 299
Пензенская губ. — 680
«Первое собрание писем И. С. Тургенева» — 124, 179, 869
Перевлесский П. М., «Предметные уроки по мысли Песталоцци. Руководство для занятий в школе и дома с детьми от семи до десяти лет» — 521
«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой» — 196—198, 202, 299, 327, 450, 454, 497, 498, 610
Перовский Б. А. — 327
Перовский В. А. — 785, 786
— «Записки» — 786
Персия — 540
Перфильев В. С — 73, 85, 297, 572, 575, 579, 635, 656
Перфильев С. В. — 635, 656
Перфильевы — 574
Песталоцци Г. — 505, 507, 551
«Пестрые заметки», статья — 595
Петербург — 3, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23—25, 29, 31, 36, 41, 44, 46—50, 52, 53, 55, 73, 84, 85, 86, 90, 94, 99, 102, 110, 120, 121, 124, 126, 127, 128, 134—136, 140, 141, 154, 161, 162, 165, 168, 173, 176, 177, 182, 183, 196, 208, 227, 230, 231, 241, 242, 244, 245, 250, 251, 257, 258, 265, 269, 280, 284, 286, 288, 289, 306, 310, 326, 327, 332, 335, 360, 363—365, 371, 376, 395, 413—415, 433, 434, 451, 454, 477, 487, 495, 497, 498, 500—502, 522, 619, 622, 630, 644, 655, 703, 709, 733, 734, 738, 759, 763, 771, 773, 796, 813, 814, 816, 828, 859
«Петербургский листок», газета — 856
Петербургский университет — 176, 564
Петергоф — 230, 231
Петерсон Н. П. — 481, 482, 485, 491, 493, 501, 780
— «Из записок бывшего учителя» — 482, 485, 491, 493, 780
Петр I — 203, 272, 314, 315, 324, 364, 778
«Петр I», очерк — 545
Петров М. А. — 327
— «Саргина могила» — 327
Петров П. Я. — 198
Петровский А. С. — 392
Петропавловская крепость — 413, 496
Пиатоли, аббат — 709
Пикулин П. Л. — 272
Пирогов Н. И. — 564
Пирогово, Тульской губ. — 231, 237, 238, 320, 362, 629, 630, 650
Писарев Д. И. — 254, 284, 285, 360, 518, 554, 631, 632, 818, 819, 834
— «Промахи незрелой мысли» — 554, 631
— «Старое барство» — 818
— «Цветы невинного юмора» — 253
Писемский А. Ф. — 4, 111, 167, 247, 251, 341, 410, 555, 595, 836, 871
— «Взбаламученное море» — 410
— «Очерки крестьянского быта» — 167
«Письма к А. В. Дружинину» — 20, 49, 71, 72, 103, 109, 112, 124, 127, 179, 301, 320, 327, 330
«Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену» — 398
«Письма Толстого и к Толстому» — 290, 404, 564, 602, 620
Плаксин — 378
Плаксин С. — 378, 379
— «Граф Л. Н. Толстой среди детей» — 378, 379
Платон, «Федон» — 487
— «Пир» — 487
Плетнев П. А. — 176, 438, 564
Плеханово, Тульской губ. — 481
Плещеев А. Н. — 490
— «Житейские сцены» — 625
Пломбьер — 219
Плутарх — 797
П-ов, «Новые книги» — 633
Погодин М. П. — 19, 36, 48, 260, 593, 677, 688, 829
— «Дневник» — 594, 677
— «Московские празднества в честь севастопольских моряков» — 48
900
— «О романе графа Л. Н. Толстого» — 830
Поклонная гора (Москва) — 737
Покровский К. В., «1812 год в русской повести и романе» — 729
Покровское, Тульской губ. — 58, 60, 61, 62, 83, 226, 333, 589, 641
Покровское-Стрешнево, Московской губ. — 567, 569
Поленц В. — 12
— «Крестьянин» — 12
Поливанов А. К. — 204
Поливанов М. А. — 616, 770
Поликарпов В. Д. — 882
Полонский Я. П. — 4, 29, 179, 341, 605, 868
— Дневник — 4
— «По поводу последней повести графа Л. Н. Толстого „Казаки“ — 605
Полубояринов А. И. — 145
Польша — 412—414, 495, 643, 851, 878
«Полярная звезда», журнал — 28, 85, 406, 420, 621, 623
Помпея — 393
Помяловский Н. Г. — 712
Попельницкий А., «Речь Александра II, сказанная 30 марта 1856 г. московским предводителям дворянства» — 36
Попов А., «Французы в Москве» — 781, 793
Попов В. — 527
Попов Н. А. — 571, 634
«Посредник» — 547
Потапов А. Л. — 498, 499, 501, 502
Потемкин Г. А. — 731
Потехин А. А. — 11
— «Чужое добро в прок не идет» — 11
Потоцкий — 565
Прескотт В., «Завоевание Мексики» — 228, 690
— «Завоевание Перу» — 690
Прованский граф — 816
«Проект устава низших и средних школ» — 356
Прокудин-Горский — 653
— «Поездка в Карачевские болота» — 653
Протопопов С. — 558
— «По прочтении 4-й, 5-й и 6-й книжек журнала „Ясная поляна“ — 559, 560
— «„Ясная поляна“. За март 1862 года» — 558
Прудон П.-Ж. — 215, 217, 403, 410—412, 602, 646
— «Война и мир» — 411, 742, 815
Пруссия — 212, 754
«Псалтырь» — 345
Пугачев Е. И. — 38, 827, 854
Путята Н. В. — 307
Пушкин А. С. — 12, 16, 62, 65, 69—71, 74, 124, 138, 158, 176, 201, 202, 208, 226, 231, 235, 239, 307, 323, 325, 406, 488, 489, 514, 535, 536, 562, 564, 600, 698, 713, 742, 772, 826, 829, 854, 858, 861—863, 868, 874, 878, 879, 881
— «Арап Петра Великого» — 861
— «Бесы» — 103
— «Борис Годунов» — 536, 742
— «Воспоминание» — 579
— «Граф Нулин» — 63
— «Домик в Коломне» — 63
— «Дон-Жуан» — 62
— «Евгений Онегин» — 63, 70, 201, 796, 854, 863, 879
— «И прекрасны вы некстати» — 698
— «Кавказский пленник» — 632
— «Каменный гость» — 62
— «Капитанская дочка» — 827, 854
— «Медный всадник» — 63
— «Повести Белкина» — 332, 861
— «Полтава» — 63, 778
— «Приветствую тебя, пустынный уголок» — 231
— «Руслан и Людмила» — 63, 878
— «Цыганы» — 62, 235
— «Я помню чудное мгновенье» — 489
Пущин И. И. — 201
Пущин М. И. — 201, 202, 384
— «Записка о встрече с Пушкиным» — 201
Пущины — 201
Пфуль К. Л. — 754, 755, 844
Пыпин А. Н. — 553, 554
— «Наши толки о народном воспитании» — 553, 557
Пятковский А. Я. — 632
Пятницкая улица (Москва) — 242, 265
Радзивиллы — 149
Радищев А. Н. — 314, 315
Раевская Е. И. — 500
Раевский Н. Н. — 758, 759
Разин С. Т. — 38
Раич С, «Война и мир» — 742
Рамазанов Н. А. — 656
Рамазанова А. Н. — 656
901
— «Краткие воспоминания» — 656
Расин Ж. Б. — 173
— «Тяжущиеся» — 173
«Рассвет», журнал — 284
Растопчин А. Ф. — 830
— «Письмо к издателю „Русского архива“» — 830
Растопчин Ф. А. — 757, 767, 768, 775, 780, 781, 827, 829, 830, 839, 850, 876
— «В сти, или Живой покойник» — 768
Растопчина Е. П. — 19
Раумер К. Г., «История педагогики» — 367
Рафаэль С. — 416, 713
— «Сикстинская Мадонна» — 227, 416
Рачинский С. А. — 427, 485, 491, 519, 564, 590
Резунов С. — 481
Рейн — 537
Рейхель М. К. — 28
Рембрандт ван Рейн — 174
— Автопортрет — 174
— «Блудный сын» — 289
Репнин — 728
Решетников Ф. И. — 871
Риволи — 847
Риги-Кульм, гора — 214
Риль Вильгельм — 369, 370
— «Естественная история народа, как основа немецкой социальной политики» — 369
Рим — 125, 170, 249, 251, 259, 270, 392, 393, 394, 532, 706, 859
Рис Ф. Ф. — 673, 676, 747
Ристори — 173
Рише Франсуа — 192
Род Э. — 680
Рожер У. — 396
Розенгейм М. — 255
Ромм Жильбер — 375
Ромул Августул — 361
Россель — 114
Россет А. О. — 668
Россини Д. А., «Вильгельм Телль» — 636
— «Итальянка в Алжире» — 154
— «Граф Ори» — 154
— «Севильский цирюльник» — 173
— «Моисей» («Зора») — 634, 635
Россия — 24, 28, 31, 35, 38, 40, 57, 78, 92, 125, 175, 186, 193, 210, 211, 215, 216, 223, 224, 227, 231, 244, 247, 248, 250, 261, 291, 305, 307, 310, 313—315, 351, 353, 356, 357, 368, 370, 371, 379, 380, 384, 389, 391, 394—397, 400, 403, 409, 411—413, 415, 418, 420, 426, 427, 429, 432, 435, 452, 456, 495, 499, 503, 506, 507, 508, 509, 510, 515, 520—522, 532, 534, 538, 539, 540, 541, 544, 549, 644, 646, 652, 685, 693, 696, 705, 709, 710, 715, 752, 757, 763, 766, 773, 782, 790, 794, 805, 812, 814, 820, 842, 845, 848, 850, 853, 854, 875, 876, 878, 881
Рубенс П. П., «Снятие со креста» — 289
Рудольф — 402
Руйсдаль Я. — 289
Румянцев и Соколов, «Кто празднику рад, тот до свету пьян» — 544
Румянцевский музей (Москва) — 634, 742, 743
Русанов А. Г., «Воспоминания о Л. Н. Толстом» — 288, 348, 377, 403, 590
Русанов Г. А. — 288, 326, 878
— «Воспоминания» — 288
— «Поездка в Ясную Поляну» — 202, 774, 797, 822
«Русская беседа», журнал — 74, 165, 284
«Русская мысль», журнал — 70, 320
«Русская старина», журнал — 25, 319
«Русская речь», газета — 507
«Русские ведомости», газета — 833
«Русские новости. Москва», статья — 591
«Русский», газета — 829
«Русский архив», журнал — 259, 409, 672, 673, 676, 677, 701, 764, 786, 792, 830, 867
«Русский вестник», журнал — 17, 228, 248, 259, 261, 288, 305, 330, 331, 434, 465, 505, 525, 535, 547, 554, 582, 586, 588, 592, 610, 634, 638, 639, 643, 655, 656, 701, 716, 717, 719, 720, 723, 733, 735, 741, 747, 748, 815, 816; 823
«Русский инвалид» газета — 17, 26, 725, 816, 822, 841, 843
«Русский мир», журнал — 284
«Русское обозрение», журнал — 19, 24, 28, 867, 869
«Русское слово», газета — 362, 631, 685, 816
«Русско-славянские отголоски», газета — 848
Руссо Ж.-Ж. — 60, 196, 220, 221, 224, 524, 529, 551, 562, 637, 806
Русь — 48, 606, 829
«Русь», газета — 623, 688
902
Рылеев К. Ф. — 400
Рюмин Н. Г. — 269
Рюмины — 269
Рязань — 560
Савин — 512
Саводник В. Ф. — 624
Саводник В. Ф., Мендельсон Н. М., «Педагогическая деятельность Толстого и журнал „Ясная Поляна“» — 481
Савойя — 202, 210
Савойские горы — 206
Садовский П. М. — 266
Саксен-Веймарский Карл Иоганн — 426
Саксония — 366, 404
Салтановская плотина — 758
Салтыков М. Е. (Щедрин) — 166, 167, 231, 244, 247, 248, 288, 341, 625, 718, 818, 836, 859, 860, 871
— «Губернские очерки» — 115, 166, 248, 386, 656
— «Два отрывка из книги об умирающих» — 288
— «Жених — картины провинциальной жизни» — 249
Салтыкова Д. Н. (Салтычиха) — 765
Самара — 494, 498, 501
Самарская губ. — 493, 683
Самарин Ю. Ф. — 50, 263, 271, 669—672, 810, 811
Санд Ж. — 22, 23, 101, 102, 254, 360, 621
— «Jack — 254
— «Consuelo» — 688
Саранск — 683, 684, 724
Сардинское королевство — 210
Сатин Н. М. — 272
Сатурн — 408
Сашка — 237
«Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» — 465
«Сборник Пушкинского дома на 1923 год» — 179, 250
Свербеев Д. Н., «Записки» — 768
«Светоч», журнал — 507, 560
Севастополь — 3, 4, 6, 10, 15, 23, 25, 33, 36, 52, 64, 67, 81, 98, 103, 108, 114, 120, 138, 140, 141, 218, 289, 342, 360, 373, 382, 399, 400, 495, 503, 724, 725, 775, 878
«Северная пчела», газета — 17, 22, 24, 188, 606, 610, 619, 830, 840
«Северный цветок», журнал — 277, 284, 337
Сегюр Ф. П — 783
— «Histoire de Napoléon et de la grande armée» — 783
Секретарев — 677
Селиванов И. В. — 247, 253, 322
— «Провинциальные воспоминания. Из записок чудака» — 167, 247
«Сельская школа, учрежденная в 1863 году в одной из великороссийских губерний», статья — 596
Семенов С. Т. — 547
— «Воспоминания о Л. Н. Толстом» — 202
— «Недруги» — 547
Семенов К. С. «История лесов Ясной Поляны за сто лет в связи с деятельностью и значением Л. Н. Толстого» — 436
Семеновский М. И. — 25
Семеновское, Московской губ. — 779
Семипалатинск — 860
Семякин — 882
Сенатская площадь (Петербург) — 257
Сенная площадь (Петербург) — 522
Сен-Бернар — 210
Сент-Илер К. К. — 561
Сервантес М. С., «Дон-Кихот» — 688
Сергеенко П. А. — 134, 780
— «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» — 12, 180, 792
— «Комментарии к письму Толстого» — 29
— «Толстой и его современники» — 13, 438
— «Толстой о литературе и искусстве» — 12, 26, 397
Сергиевское, Тульской губ. — 644
Сердобольский А. П. — 482, 485, 490, 491, 554, 604
— «Головеньковская волостная школа» — 485
Серов А., «Шесть лет в доме гр. Л. Н. Толстого» — 333
Серпухов — 668
Сибирь — 385, 388, 391, 693, 710
Сиверс, гр. — 816
Симферополь — 138
Скабичевский А. М. — 701
— «Дмитрий Иванович Писарев» — 701
Скайлер Е. — 678, 679, 781
— «Граф Лев Николаевич Толстой» — 431, 679, 781
Скопин В. П. — 367
Скотт Вальтер — 248, 688, 840, 876
Скребицкий А. И. — 501
Слепцов В. А. — 622
903
— «Трудное время» — 626, 628
Слободской дворец (Москва) — 756—758, 794, 825, 827
«Слово», газета — 413
Смирнов Н. М — 668—671
Смирнова-Россет А. О. — 226
Смоленск — 169, 414, 733
Смоленская дорога — 738
Смолин — 313
Собачья площадка (Москва) — 49
«Собрание выдержек из сведений», книга — 397
«Современник», журнал 3—6, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 41, 44—47, 56, 65, 69, 70, 72—75, 77, 78, 87, 98, 103, 109—111, 116, 122—128, 132, 134, 136—138, 150, 152, 162, 166, 167, 182, 186, 188, 205, 224, 231—234, 236, 244, 246, 249, 252—254, 256, 273, 275—277, 284, 286—288, 318, 319, 321, 325, 348, 360, 375—377, 433, 490, 506, 519, 535, 545, 547, 548, 551—554, 608, 624—626, 632, 798
«Современная летопись», журнал — 505
«Современная русская летопись», статья — 508
«Современное обозрение», журнал — 813, 824
Соголево, Московской губ. — 280, 304
Соден — 366, 372
Содом — 195, 196
Соединенные Штаты Америки — 371, 690
Соколов А. П. — 490, 491, 496, 624
Соколов И. — 881
«Солдаткино житье», рассказ — 480, 544
Соллогуб В. А. — 166, 602, 619, 620
Соловьев В. С. «Кризис западной философии. Против позитивистов» — 222
Соловьев Н. — 840
— «Война и мир» — 840, 841
— «Искусство и жизнь» — 851
— «Обзор журналов» — 831
Соловьев С. М. — 330
— «История России» — 536
Сосницкий И. И. — 12
Софокл, «Антигона» — 156
Спасское (Лутовиново), Орловской губ. — 41, 46, 47, 58, 61, 301, 319—321, 340, 437—439, 441, 442
Сперанский М. М. — 16, 735, 772, 773, 811, 822, 829, 85?, 866, 867, 868
«С.-Петербургские ведомости» — 17, 98, 109, 153, 188, 224, 284, 337, 341, 556, 633, 830, 856, 871, 872
Спиридонов В. С. «Л. Н. Толстой. Био-библиография» — 815
— «Толстой педагог на суде цензуры и критики 60-х годов» — 563
«Список русских и малороссийских книг, одобренных Комитетом грамотности для народных училищ и школ и для народного чтения» — 521
Средняя Кисловка улица (Москва) — 677
Срезневский В. И. — 139
— «Георг Кизеветтер, скрипач Петербургских театров» — 161
Станкевич А. В. — 121, 260
Станкевич Н. В. — 44, 121, 300, 800
— «Переписка» — 299, 300, 380
Старогладковская станица — 99, 162
Стасов В. В. — 330
Стасюлевич А. М. — 99, 660, 661
Стасюлевич М. М. — 176
Стахович А. А. — 11, 598, 600
— «Клочки воспоминаний» — 11, 768
— «Несколько слов о „Холстомере“, рассказе графа Л. Н. Толстого» — 600
Стахович М. А. — 321, 598
— «В 1903 году о 1853» — 321
Стелловский Ф. — 630
Степанов — 3
Степановка, Орловской губ. — 46, 437, 439, 441, 442
Стой Карл — 427
Столыпин А. А. — 772, 773
Столыпин А. Д. — 154, 155, 168, 265, 495, 654
Столыпин Д. А. — 882
Страхов Н. Н. — 222, 288, 310, 393, 508, 557, 672, 747, 764, 815, 852—854, 855—857, 861, 862, 877
— «Война и мир» — 814
— «Критический разбор „Войны и мира“» — 852
— «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» — 852, 857
— «Новая школа» — 557
— «Пушкинский праздник» — 863
Строганов Г. А. — 654
Струмилин Н. М. — 785
Струминскии В. Я. — 347
— «Журнал „Ясная Поляна“ Л. Н. Толстого» — 347, 528
— «Л. Н. Толстой в истерии русской педагогики» — 528, 552
Стэн Ян ван — 289
904
Субрани — 375
Суворин А. С. — 768, 317, 822, 823, 830
— «Журнальные и библиографические заметки» — 813, 817, 823
— «Недельные очерки и картинки» — 830
— «Никон» — 545
Суворов А. В. — 677, 731
Судаков Я. И. — 725, 726
Судаково, Тульской губ. — 79, 81, 82, 84, 238, 239, 267
Сура — 684
Сухово-Кобылин А. В. — 28
— «Свадьба Кречинского» — 28
Сухотин М. С. — 241, 268
Сухотин С. М. — 409, 654
— «Дневник» — 409
Сухотина Т. Л. — 211
Сухтелен П. П. — 728
Сушковы — 20, 272
«Сын отечества», журнал — 101, 109, 153, 224, 277, 338, 609, 815
Сытина Е. И. (Чихачева) — 267, 268, 320
— «Воспоминания» — 267, 320
Сю Э. — 64
Талейран П. — 705
Талызин А. А. — 266, 267
Талызина В. В. См. Арсеньева В. В.
Талызина О. А. — 267
Тамбов — 733, 734, 738
Тарле Е. В. — 784
— «Наполеон» — 784
Тарутинское сражение — 778
Тацит — 797
Тверская улица (Москва) — 453
Тверь — 494
Теккерей У. — 73, 224, 228
— «Ньюкомы» — 64
«Текущая литература», статья — 284
Телятинки, Тульской губ. — 603
Тергозе И. — 420
Терек — 466
Тесье М. Э. — 406
Тизенгаузен — 728
Тильзит — 730, 732, 733, 735
Тильзитский мир —741
Тимашев А. Е. — 404
Тихон Шестипалый — 364
Токвиль А. — 199
— «Старый порядок и революция» — 199
Толль Ф. Ф. — 508
— «Новые журналы» — 508
Толстая А. А. — 14, 15, 21, 195—198, 200, 202, 212, 225, 226, 231, 232, 242—245, 282, 288, 290, 291, 293, 294, 298—301, 305, 310, 326—329, 332, 339, 342, 374, 380, 389—391, 426, 433—435, 437, 450, 454, 462, 464, 487, 491, 497, 498, 501—503, 519, 571, 572, 579, 580, 589, 610, 617, 629, 636, 641, 642, 654, 655, 661, 667, 670, 672, 680, 683, 684, 694, 711, 714, 716, 734, 786, 790, 828
— «Воспоминания» — 21, 196—198
Толстая А. И. — 697
Толстая В. В. — 270, 271
Толстая Е. А. — 14, 196, 288, 433, 434
Толстая Е. М. — 458
Толстая Е. В. — 270
Толстая М. Н. (мать Л. Н. Толстого) — 700, 770
Толстая М. Н. (сестра Л. Н. Толстого) — 3, 5, 7, 10, 18, 27, 32, 58, 60, 61, 77, 162, 169, 171, 172, 226, 270, 300, 319—321, 363—366, 372, 374, 378—380, 389, 390, 417, 418, 500, 567, 571, 597, 614, 618, 619, 629, 630, 637, 638, 641, 650, 664, 790
Толстая П. В., рожд. Барыкова — 14
Толстая П. И. — 697
Толстая П. Н. — 335, 697, 770
Толстая С. А. — 50, 51, 310, 321, 393, 418, 420, 439, 441, 445, 451—453, 464, 465, 471, 567—576, 578—582, 590—592, 597, 603, 604, 611—618, 626, 629, 630, 634—639, 641, 642, 644, 650, 651, 653, 655—657, 664—666, 668, 672, 678, 680, 681, 694, 704, 717, 722, 736, 743, 747, 760, 770, 771, 790—792, 828, 857
— «Автобиография» — 464, 465, 651, 736, 857
— «Дневники Софьи Андреевны Толстой 1860—1891» — 439, 441, 451, 571, 573, 580, 581, 590, 612, 614, 616, 617, 626, 639, 665, 668, 680, 704, 722, 776, 808, 857
— «Женитьба Л. Н. Толстого» — 567
— «Краткий биографический очерк Л. Н. Толстого, написанный со слов Толстого 25 октября 1878 г.» — 418
— «Моя жизнь» — 578, 650, 651, 662, 736, 857
— «Письма к Л. Н. Толстому», изд «Academia» — 321
Толстая С. А. (сестра А. А. Толстой) — 21
905
Толстая Т. Л. — 391, 392, 547, 630, 641, 642, 657, 666, 667
Толстой А. А. — 14
Толстой А. К. — 111, 265, 330, 341
Толстой В. П. — 18, 219, 226, 320
Толстой Д. Н. — 20—22, 66, 144, 145
Толстой И. А. — 14, 697, 698, 770
Толстой И. Л. — 641, 666
Толстой Л. Л. — 13
— «В Ясной Поляне. Из дневника» — 13
Толстой Н. В. — 270
Толстой Н. И. — 697
Толстой Н. И. (отец Л. Н. Толстого) — 335, 770
Толстой Н. Н. — 18, 43, 162, 242, 263, 266, 281, 288, 300, 301, 316, 317, 319, 343, 363, 372—377, 379, 380, 387, 390, 395, 416, 439, 575, 654, 726, 770, 882
— «Охота на Кавказе» — 128, 375, 376, 377
— «Чеченка» — 377
— «Пластун» — 377, 378
— «Заметки об охоте» — 377
Толстой С. Л. — 21, 174, 393, 402, 456, 591, 613, 630, 641, 642, 644, 657, 666, 667
— «Л. Н. Толстой о поэзии Ф. И. Тютчева» — 272
— «Мой отец в семидесятых годах» — 174
— «Очерки былого» — 202, 392, 393, 402, 591, 644, 653
Толстой С. Л. и Ильинский И. В., «Квартет „Ключ“ в романе „Война и мир“» — 456
Толстой С. Н. — 23, 51, 59, 60, 80, 156, 159, 226, 233, 256, 358, 362, 363, 374, 394, 420, 446, 497, 578, 579, 629, 630, 650, 668, 672, 687, 722, 790
Толстой Ф. И. — 30, 458, 772
Толстой Ф. П. — 15
«Толстой и о Толстом. Новые материалы» — 6
«Толстой и Тургенев. Переписка» — 60, 61, 78, 94, 98, 122, 123, 157, 170, 224, 249, 251, 259, 284, 291, 318, 376, 402, 404, 406, 440, 441, 452, 875
«Толстой. Памятники творчества и жизни» — 177, 249, 291, 337
«Толстой. 1850—60. Материалы и статьи» — 564
Томашевский А. К. — 482, 483
— «Колпенская школа» — 483
Троллопп А. — 654, 687, 688
Трощинский Д. П. — 780
Троя — 851
Трубецкая Е. Н. (Орлова) — 270
Трубецкой Н. И. — 270, 828
Трубецкой С. П. — 796
«Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» — 45, 92, 112, 121, 122, 127, 153, 155, 224, 259
Тула — 59, 79, 83, 306, 311, 369, 474, 481, 487, 498, 499, 500, 537, 547, 613, 634, 661, 668, 684, 724, 860
Тульская губ. — 238, 245, 307, 452, 456, 496, 497, 500, 504, 534, 589, 644
«Тульские губернские ведомости» — 301
«Тульский справочный лист» — 661
Тун — 205
Тур Е. (Е. В. Салиас де Турнемир)— 607, 608
— «Казаки графа Л. Н. Толстого» — 607
— «Три поры жизни» — 700
Тургенев А. М. — 16, 155, 156
Тургенев И. С. — 3—6, 10—12, 16, 19, 20, 22—28, 32, 41—47, 50, 51, 58—62, 71, 72, 77, 78, 85, 92, 94, 98, 103, 104, 108—112, 116, 121—128, 132—134, 137, 153—160, 166, 167, 169—172, 174—180, 182, 186, 194—196, 223, 224, 226, 230, 244, 247—254, 259, 264, 269, 284, 290, 291, 301, 308, 309, 318—321, 327, 330, 332, 336, 338, 340, 342, 352, 359, 374, 376, 391, 393, 395, 398—400, 402—404, 406, 410, 437—442, 444, 445, 451—454, 464, 520, 535, 536, 608—610, 631, 633, 640, 642, 658, 685, 686, 692, 718, 764, 790, 819, 836, 860, 861—864
— «Ася» — 287
— «Воспоминания о Белинском» — 871
— «Гамлет и Дон-Кихот» — 870
— «Два поколения» — 134
— «Дворянское гнездо» — 863, 869
— «Дневник лишнего человека» — 49
— «Довольно» — 633, 685, 870
— «Дым» — 685, 686
— «Живые мощи» — 790
— «Завтрак у предводителя» — 12
— «Записки охотника» — 110, 180, 536
— «Литературные воспоминания» — 224
906
— «Муму» — 16
— «Накануне» — 359—361, 870
— «Нахлебник» — 124
— «Отцы и дети» — 438, 620, 625, 685, 871
— «По поводу „Отцов и детей“» — 871
— Предисловие к роману М. Дюкана «Утраченные силы» — 609
— «Разговор на большой дороге» — 92
— «Рудин» — 12
— «Стихотворения в прозе» — 264, 870
— «Фауст» — 63, 94, 112, 122, 320
Тургенев Н. И. — 176
«Тургенев и круг „Современника“» — 42, 98, 104, 108, 111, 112, 121, 124, 127, 132, 136, 137, 153, 156, 158, 166, 186, 210, 223, 246, 247, 250, 253, 259, 376
Тургенева О. А. — 16, 155, 156
Тургенева П. И. — 438, 441, 442, 445
«Тургеневский сборник» — 45
Турин — 210
Турция — 540, 696, 734
Тучкова-Огарева Н. А. — 400
— «Воспоминания» — 400
Тучков — 499
«Тысяча и одна ночь» — 545
Тьер А. — 776
Тэт, «Алгебра» — 397
Тютчев Ф. И. — 4, 12, 13, 269, 270, 272, 293, 342, 487, 571, 608, 790, 831, 859
— «Весна» — 293
— «Затею этого рассказа» — 608
— «Над этой темною толпой» — 272
Тютчева А. Ф. — 269, 309, 310, 327, 571
Тютчева Д. Ф. — 269, 571
Тютчева Е. Ф. — 268, 269, 270, 309, 310, 331, 435, 571
«Тютчевиана» — 831
Тютчевы — 570, 571
Уварова А. С. — 270
Уваров Ф. П. — 844
Уварова П. С. См. Щербатова П. С.
Улыбышев А. Д. — 160
Ульбах Луи — 175
Унковскнй А. М. — 330
Уотс — 228
Уральск — 495
«Уроки морали» — 397
Урусов С. С. — 811, 812, 872, 873
— «Обзор кампании 1812 и 1813 годов, военно-математические задачи и о железных дорогах» — 812
Успенский Г. И. — 712, 790
— «Власть земли» — 790
— «Михалыч» — 545
Успенский Д., «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого» — 447
Успенский Н. В. — 481, 546, 547, 712
— «Акимка» — 545
— «Воспоминания» — 546
— «Из прошлого» — 546
— «Хорошее житье» — 545
«Учитель», журнал — 508, 515, 559, 560, 595
Ушинский К. Д. — 501, 507, 531
— «Детский мир» — 521, 531
Фабий — 758
Фаллу Фредерик — 175
Ф. В., «Письмо из Москвы» — 594
Федор — 237
Фейербах Л. — 465, 518
Феклушка — 667
Ферапонтов — 736
Ферзен Г. Е. — 26
Фермопилы — 758
Фет М. П. — 293, 438, 439, 650
Фет А. А. — 5, 6, 10, 12, 20, 41—42, 43, 46, 116, 120, 127, 166, 188, 243, 244, 249—251, 265, 266, 269, 272, 273, 278, 288, 293, 294, 299—301, 315, 317—319, 321, 324, 330, 332, 340—343, 357—361, 374, 377, 380, 387, 388, 391, 398, 437—439, 441—445, 452—454, 464, 487, 579, 581, 593, 600, 603, 605, 609, 610, 619, 630, 639, 640, 644, 645, 650, 652, 655, 656, 666, 668, 670, 673, 677, 678, 679, 684—688, 720, 723, 740, 741, 764, 798, 812, 814, 857, 859, 863, 865, 867, 869, 870, 874, 876, 877, 881
— «Еще майская ночь» — 256
— «Из-за границы» — 188
— «Мои воспоминания» — 5, 10, 42, 43, 117, 118, 251, 265, 266, 288, 301, 319, 330, 340, 374, 377, 391, 439, 445, 453, 454, 464, 610, 677, 814, 859, 865, 869, 875
— «Опять незримые усилья» — 603
Фигнер А. С. — 772
Филарет — 409, 535
Фили — 778
«Философия наших критиков по поводу „Войны и мира“ гр. Толстого», статья — 849
907
Философов А. И. — 882
Ф. М., «Библиографические вести» — 337
— «Литературные заметки» — 284
Флоренция — 331, 534
Фонтанка улица (Петербург) — 3
Фонтенебло — 182
Франкфурт на Майне — 227, 372, 415, 420, 424
Франтц Константин — 368
Франция — 114, 170, 171, 186—189, 193, 227, 351, 369, 372, 379, 389, 396, 412, 414, 415, 509, 532, 534, 614, 693, 705, 706, 763, 781, 783, 847, 848
Французская Академия наук — 175
Фребель Фридрих — 368
Фребель Юлиус — 367—369, 424, 551
— «Воспоминания» — 368, 369
Фрейбург — 205
Фрейтаг Густав — 214
— «Дебет и кредит» — 214
Френкель Рудольф — 365, 366
Фридланд — 847
Фридрих II — 754, 846
Хаджи-Мурат — 458
Харино, Тульской губ. — 445, 457
Харьков — 499
Хирьяков А. М., «Мария Николаевна Толстая» — 321
Х. Л., «Прошлая неделя» — 813
Хлудов — 655
Хомяков А. С. — 49, 271, 308, 321, 323, 324
— Сочинения — 322, 324
Хомяковы — 460
Хреновое, Орловской губ. — 598
Хрулев С. А. — 289
Царево-Займище — 825
Царство Польское — 413, 643
Царьград — 107
Цебрикова М. К. (Николаева) — 818—820
— «Наши бабушки» — 819
Ценкер Г. — 427
— «О сущности образования с особыми соображениями о воспитании и обучении» — 427
Цингер А. В., «У Толстого» — 300
Цицерон — 797
Цуг — 225
Цюрих — 225
Цявловский М. А. — 138, 139
— «Долохов-Дорохов» — 772
Чарторыжский Адам — 709
Ч-ев Н., «Библиография» — 351
Черемошня, Тульской губ. — 641
Черкасская кн. — 857
Черкасский В. А. — 306—308, 594, 643
Черная речка — 18, 400
Чернов Е. — 494
Чернов Е., «Как мой батинька был в солдатах» — 544
Чернский уезд Тульской губ. — 339
Чернышев А. И. — 386
Чернышев 3. Г. — 386
Чернышевский Н. Г. — 13, 20, 32, 37, 69, 72, 74, 75, 77, 87, 98, 103, 109, 110—112, 118, 119, 123, 125—135, 151, 233, 246, 253, 284, 325, 342, 490, 518, 541, 547—552, 560, 624, 625, 798, 834
— «Заметки о журналах» — 109
— «Кавеньяк» — 287
— «Литературное наследие» — 287
— «О новых условиях сельского быта» — 37
— «Очерки гоголевского периода русской литературы» — 118, 123
— «Что делать?» — 620, 622
— «Эстетическое отношение искусства к действительности» — 69, 70
Чернышевский Н. Г., Добролюбов Н. А., Колбасин Е., «Современное обозрение» — 234
Чертков В. Г. — 547, 785, 860
Чертковская библиотека (Москва) — 634, 780
Чехов А. П. — 4
Чехов Н. В., «Народное образование в России с 60-х годов XIX века» — 345
Чибисов В., «Литературные листки» — 610
Чичерин А. В., «О языке и стиле романа „Война и мир“» — 753
Чичерин А. Н. — 268
Чичерин Б. Н. — 268, 283, 289—292, 297—300, 303, 339, 341, 343, 380, 388, 395, 403, 404, 416, 428, 453, 459, 654
«Воспоминания Б. Н. Чичерина Москва сороковых годов» — 290, 416, 428
— «Областные учреждения в России в XVII веке» — 289
— «Промышленность и государство в Англии» — 290
Чичерина А. Н. — 268
«Чтение для солдат», журнал — 596
908
«Что нового в журналистике», статья — 610
«Что читать народу», сборник — 545, 546
«Чувствительная потеря для нашей педагогической литературы», статья — 595
Чуковский К., «Люди и книги шестидесятых годов» — 77, 231, 252
Шаблыкино, Орловской губ. — 653
Шабунин В. — 658—663
Шаррас Ж.-Б. — 781
Шатилов И. Н. — 55, 238, 652, 653
— «Из недавнего прошлого» — 653
— «Несколько слов о годовом заработке крестьянского тягла» — 55
Шато д’Э — 205
Шафгаузен — 225
Шахматный клуб (Петербург) — 4
Швейцария — 172, 197, 199, 200, 204, 206, 207, 211, 212, 217, 218, 224, 225, 227, 228, 275, 384, 509
«Швейцергоф», гостиница — 212, 213, 217—220
Швеция — 715
Шевардино — 842
Шеве Э. — 394, 395, 456
Шевич Е. И. — 16
Шевич Л. Д., рожд. Блудова — 16
Шевченко Т. Г., «Кобзарь» — 289, 506, 507
— «Дневник» — 289
Шейдек — 205
Шейн П. В. — 481
Шекспир В. — 5, 6, 20, 156, 157, 217, 386, 406, 835, 856, 858
— «Антоний и Клеопатра» — 273, 278, 858
— «Гамлет» — 102, 654, 858
— «Генрих IV» — 157
— «Король Лир» — 6, 20, 156, 157
— «Юлий Цезарь» — 6
Шелгунов Н. В. — 23, 495, 834, 835
— «Двоедушие эстетического консерватизма» — 835
— «Женское безумие» — 836
— «Философия застоя» — 834
Шелгунова Л. П. — 23
— «Из далекого прошлого» — 23
Шеллинг Ф. В. — 117
Шенграбен — 725, 728, 730
Шенграбенское сражение — 720, 722, 726, 775, 804, 820, 842, 848
Шеншин — 498
Шепинг — 652
Шерр И., «Блюхер, его время и жизнь» — 687
Шиллер Ф. — 130, 384, 385, 584, 858
— «Ключ» — 130
— «Würde der Frauen» — 385
Шипов — 498—500
Шифман А. И., «Чернышевский о Толстом» — 552
Щлезвиг-Голштейн — 643
Шляхтин — 498
Шодэ Г. — 411
Шопенгауэр А. — 678—680, 870
— «Мир как воля и представление» — 679
Штеттин — 227, 364, 365
Штетцер Ю. — 426
Штутгарт — 225
Шуберт Ф. — 639
Щебальский П. К. — 747, 823
— «„Война и мир“, сочинение графа Л. Н. Толстого» — 824
Щеглов Д. Г. — 555
— «Ясная поляна» — 555
Щеглов И., «Подвижник слова» — 226
Щелин Д. М. — 436, 450, 451, 459, 460
Щепкин М. С. — 4, 266
Щербатов Г. А. — 100
Щербатова П. С. (Уварова) — 269, 270
Щербачева — 85, 87
Щербина Н. Ф. («Омега») — 816, 817
— «Письмо из Москвы» — 817
«Щукинский сборник» — 270, 438, 609, 864—866, 868—875
Э-г-м-т, «Педагогические парадоксы», статья — 558, 559
Эдельсон Е., «„Казаки“, повесть графа Л. Н. Толстого» — 605
Эйзенах — 227, 424, 427
Эйхенбаум Б. М., «История одного слова» — 871
Элленборо — 229
Эльзас — 758
Эмерсон Р. У. — 784
— «Essays on Representative Men» («Наполеон») — 784
Энгельс Ф. — 171, 412, 413, 834, 882
Энгиенский герцог — 711, 715
«Энеида». См. Вергилий
Эрленвейн А. А. — 483, 485, 553, 611
— «Бабуринская школа» — 483, 484
— «Бабуринская школа за последние месяцы» — 483
— «Еще о бабуринской школе» — 483
909
— «Народные сказки, собранные сельским учителем» — 554
— «Отрывки из воспоминаний о Ясной Поляне» — 485, 491
Эрмитаж (Петербург) — 289
Эртель А. И. — 784
Эрфурт — 735
Юлий Цезарь — 754
Юно̀ша — 660, 661
Юпитер — 721
Юркевич П. Д. — 594, 811, 812
Юрьев С. А. — 793, 811
Юшков В. И. — 494
Юшкова П. И. — 21, 23, 168, 494, 614
Юшковы — 736
Яблочков М. Г., «Дворянское сословие Тульской губернии» — 306, 308, 451
Якимах — 86
Якобс — 19
Якушкин И. Д. — 55
— «Записки» — 55, 794, 797
Янтцекианг, река — 216
Ярославль — 538
Ясенки, Тульской губ. — 501, 660
Ясная Поляна — 3, 14, 20, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 67, 73, 79, 85, 86, 89, 98, 101, 102, 140, 141, 146, 196, 230—232, 237, 238, 241, 242, 244, 267, 269, 273, 279, 280, 289, 293, 300, 301, 304, 306, 309, 310, 311, 321, 336, 339, 340, 343, 351, 362—364, 366, 371, 394, 402, 414, 416, 420, 431, 435, 436, 445, 446, 451, 456, 463, 464, 466, 469, 477, 478, 481, 482, 491, 494—496, 498—502, 504, 507, 512, 515, 554, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 578, 579, 586, 589, 592, 597, 603, 613, 616, 619, 622, 629, 638—640, 655, 656, 658—660, 664, 667, 668, 672, 677—679, 684, 687, 700, 717, 736, 744, 748, 771, 774, 828
«Ясная Поляна», журнал — 433, 434, 451, 462, 463, 477, 483, 484, 494, 505—509, 511, 520, 522—525, 527, 530, 542—566, 569, 581, 591, 594—597, 625, 666, 667, 712
«Ясная Поляна», статья — 507
«Ясная Поляна. Музей-усадьба Л. Н. Толстого. Заповедник» — 436, 662
Яффы — 199, 781
Яцевич — 658
Ascharin A., «Aus dem Leben Leo Tolstoi’s» — 446, 462
Bodie W., «Tolstoi in Weimar» — 426, 427
«Continental Review» — 299
Cousin V. — 487
«Deutsch-Französische Jahrbücher» — 781
«Journal de Saint-Petersbourg» — 229, 338
Hôtel Napoléon — 10
«Le XIX-е Siècle» — 875
«Maurice, ou le travail» — 462, 545
«Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse. De 1792 à 1832—720
Montreux. См. Монтрё
«Moskauer Deutsche Zeitung» — 684
«Nord und Süd» — 432
Proudhon P. J., «Correspondance» — 412
Rendu — 394
«Revue des deux Mondes» — 299
«Russische Revue» — 588
Sayons — 394
«Times» — 114
«Tolstoi-Erinnerungen. Von einem Balten» — 458, 477
Vevey. См. Вевэ
910
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
«Азбука» — 317
«Али давно не таскал?» — 467
«Альберт» («История Кизеветтера», «Музыкант», «Поврежденный», «Погибший», «Пропащий») — 161, 163, 169, 182—186, 202, 207, 208, 210—212, 238, 239, 242, 244, 273, 276—278, 286, 318, 319, 334
«Анекдот о застенчивом молодом человеке» — 667
«Анна Каренина» — 21, 36, 256, 302, 303, 309, 320, 334, 335, 419, 472, 486, 492, 568, 571, 593, 654, 764, 877
«Великий грех» — 314
«Власть тьмы» — 544
«Военные рассказы» — 17, 102, 115, 128
«Война» — 655
«Война и мир» («День в Москве», «Именины в Москве 1808 года», «С 1805 по 1814 год», «Три поры», «Тысяча восемьсот пятый год») — 58, 107, 188, 264, 281, 320, 345, 424, 456, 586, 597, 615, 616, 619, 639, 640, 642, 649, 653—656, 658, 665, 668, 670, 674, 676—680, 684, 685, 689, 692—695, 697, 699, 701, 702, 706, 708—711, 714—720, 722—725, 729, 731—733, 735, 736, 741—760, 762—768, 770—818, 820—832, 834—841, 843—845, 847—880
«Воскресение» — 58, 151, 256, 286, 643, 749, 786, 868
«Воспитание и образование» — 429, 486, 492, 495, 517—520, 528, 530, 531, 552, 553
«Воспоминания» — 18, 20, 22, 63, 145, 148, 281, 375, 651, 785
«Всё говорят: не делись, не делись» — 419
«Вступление» к ненаписанной педагогической статье — 346
«Голод или не голод?» — 804
«Два гусара» («Отец и сын») — 10, 30, 32, 41, 98, 103, 114, 113, 131, 875
«Дворянское семейство» — 66, 75, 102
«Декабристы» — 382, 383, 385, 387, 388, 471, 586
911
«Детство» — 15, 17, 28, 68, 98, 102, 103, 128, 131, 136, 142, 143, 180, 277, 288, 299, 337, 384, 398, 547, 631—633, 687, 711, 849, 881
«Детство и Отрочество» — 284
«Детство, Отрочество и Юность» — 253
«Дневник» — 18, 20, 22, 25, 26, 28—30, 33, 36, 39—41, 46—52, 54, 57—63, 66—68, 73, 75, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 96—99, 101—103, 110—113, 119, 120, 123, 124, 132, 135—138, 140, 144, 146, 150, 152, 154—164, 166, 168, 170, 171—178, 182, 187, 188, 190, 192—198, 201—203, 205, 210, 211, 213—217, 223—226, 228, 231—234, 236—239, 243—245, 256, 257, 262, 263, 266—268, 270—273, 275, 278, 279, 283—285, 288—290, 292—294, 297—299, 301—305, 307—309, 312, 315, 318—320, 331, 332, 334, 339, 342, 358, 363, 365—368, 370, 372, 373, 375, 377, 379, 380, 382, 391, 392, 394, 395, 403, 416, 424—429, 431, 433—435, 444, 445, 451, 452, 458, 467, 478, 479, 487, 490, 493, 503, 568—576, 578, 580—582, 585, 589, 590, 592, 593, 597, 598, 603, 604, 610, 615, 616, 626, 629, 640, 641, 653, 654, 663, 666, 667, 685, 687—689, 694, 716, 720, 722, 733, 771, 773, 781, 784, 786, 801, 881, 882
«Дневник помещика» — 53, 56
«Дневник путешествия» — 180, 208
«Дядюшкино благословение» — 79, 101, 102
«Живой труп» — 66, 620, 654, 786, 881
«Закон насилия и закон любви» — 223
«Замечания на „Проект устава низших и средних школ"» — 346, 357
«Записка о дворянском вопросе» — 313, 315
«Записка маркера» — 103, 131, 134, 152, 204, 214, 277, 593, 632
«Записки мужа» — 236
«Записки сумасшедшего» — 681
«Записная книжка» — 62, 64, 65, 78, 113, 147, 157, 174, 189, 199, 215—217, 228, 234, 238, 240, 277, 279, 280, 286, 290, 300, 301, 304, 305, 307, 365, 466, 568, 584, 646, 647, 648, 650, 781
«Зараженное семейство» («Современные люди», «Новые люди») — 617, 619, 620, 624, 625, 664, 711, 734
«Идиллия» («Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того») — 392, 467, 471—474, 586, 587
«Из записок артиллерийского офицера» — 33
«Исповедь» — 114, 193, 493, 679
«История вчерашнего дня» — 881
«Казаки» («Беглец», «Беглый казак», «Епишка», «Кавказский роман», «Казак», «Марьяна», «Молодость. Кавказ. 1853», «Поэтический казак») — 4, 16, 30, 65, 66, 156, 163, 199, 200, 202, 203, 207—211, 225, 234, 235, 278—281, 294, 295, 297, 298, 312, 339, 358, 372, 388, 465—467, 469, 556, 574, 582, 583, 585, 586, 593, 605—610, 615, 632, 653, 654, 667, 722, 785, 864
912
«Как скотина из улицы разбрелась по дворам» — 418
«Как умирают русские солдаты». См. «Тревога»
«Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» — 329, 479, 522, 529, 544, 569, 582, 631, 714
«Конец века» — 539
«К публике» — 463, 509
«Крейцерова соната» — 472, 518
«Круг чтения» — 222, 223, 743
«Лето в деревне» — 310, 312
«Люцерн» — 172, 212, 213, 214, 217—225, 231, 235, 236, 246, 256, 272, 280, 291, 318, 342, 631, 632
«Материнский дневник» — 613, 614
«Метель» — 22, 25, 26, 28, 30, 98, 103, 114, 115
«Можно ли доказывать религию» — 689
«Набег» — 32, 75, 115, 632, 726
«Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» — 677, 729, 764, 767, 768, 770, 774, 776, 802, 805, 807, 810, 811, 877
«Нигилист» — 664
«Об искусстве» (1882) — 326
«Об общественной деятельности на поприще народного образования» — 396, 425, 486, 520, 522, 527—529, 531, 542, 569, 581
«О задачах педагогии» — 354
«О значении народного образования» — 411
«О значении описания школ и народных книг» — 462, 511
«О методах обучения грамоте» — 348, 462, 463, 486, 514, 525, 528, 550
«О народном образовании» — 287, 288, 345, 346, 348, 354, 360, 379, 38» 462, 486, 493, 509, 510, 511, 526, 527, 529, 530, 547, 549, 551, 563, 808
«О религии» — 689
«О свободном возникновении и развитии школ в народе» («История яснополянской школы») — 344, 345, 462, 463, 515, 524
«Отрочество» — 17, 68, 98, 102, 103, 128, 131, 136, 142—144, 214, 299, 320, 398, 631, 632, 633, 849
«Отрывок из дневника 1857 года» — 205, 211
«Отъезжее поле» — 68, 163, 208, 209, 225, 233, 654
«Охота пуще неволи» («Медвежья охота») — 317
«Педагогические заметки и материалы» — 354, 355
«Песня про сражение на Чёрной речке 4 августа 1855 года» — 51, 86, 289, 400
«Поликушка» — 392, 398, 414, 418, 434, 586—589, 592, 593, 609, 610, 632, 714
913
«Пора понять» — 766
«Практический человек» — 66, 75, 102
«Прежде всего вернулись в деревню плотники» — 419
«Прежде всех в селе узнали у Копыла» — 471
Предисловие к рассказу «Матвей» — 462, 463, 511, 529, 542, 544
«Прогресс» — 690
«Прогресс и определение образования» — 483, 486, 489, 524, 526, 527, 530, 532—539, 569, 597, 765
«Проект общего плана устройства народных училищ» — 459, 516
«Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав» — 881
Проект устава «Общества независимых» — 691, 692
«Пропащий человек» — 99
«Путевые записки» — 200
«Рабство нашего времени» — 532
«Разжалованный («Встреча в отряде с московским знакомым») — 99, 101, 136
Речь в Обществе любителей российской словесности — 322, 323, 325, 326
«Рождественская елка» — 667
«Роман русского помещика» — 19, 54, 104, 106, 107, 108, 469
«Рубка леса» — 32, 109, 115, 632
«Светлое Христово воскресение» — 285
«Свободная любовь» — 101, 102
«Севастополь в августе» — 4, 16, 17, 32, 98, 102, 103
«Севастополь в декабре месяце» — 17, 98, 724
«Севастополь в мае» — 116, 129, 214, 225, 296, 781
«Севастопольские рассказы» — 100, 103, 114, 115, 614, 632, 713, 824
«Семейное счастье» («Повести Лизы Белкиной») — 31, 97, 265, 318, 319, 327, 329, 331—339, 632, 866
«Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая» — 270, 271
«Смерть Ивана Ильича» — 786
«Соединение и перевод четырех Евангелий» — 646
«Сон» — 180, 263, 264, 597, 598
«Так что же нам делать?» — 194, 222
«Тихон и Маланья» — 392, 420, 467—469, 471, 474, 586, 587, 714
«Тревога» — 99
«Три дня в деревне» — 314
«Три смерти» — 280, 284, 324
«Утро помещика» — 104—110, 132—134, 136, 204, 214, 246, 302, 469, 471, 631, 632, 714
914
«Фантастический рассказ» — 67
«Фаустина и Паулина» — 340
«Хаджи-Мурат» — 386, 729, 766, 868
«Холстомер» («История пегого мерина», «Мерин») — 59, 598, 600, 602, 603
«Чем люди живы» — 544
«Что такое искусство?» — 63, 256
«Юность» — 16, 30, 31, 67, 68, 69, 77, 78, 98, 126, 128, 133—154, 160, 162, 163, 208, 209, 214, 255, 631
«Я не стою за прежнее» — 525, 526, 529, 533
«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» («Дневник ясенский») — 347, 394, 435, 455, 457, 458, 462, 483, 486, 488, 489, 494, 510, 512, 513, 526—528, 531, 533, 548, 631
915
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая. В Петербурге в редакции «Современника» (1855—1856) | 3 |
Глава вторая. В Ясной Поляне (1856) | 49 |
Глава третья. В Москве и в Петербурге (1856—1857) | 84 |
Глава четвертая. Первое заграничное путешествие (1857) | 169 |
Глава пятая. Л. Н. Толстой в 1857—1858 годах (Петербург, Ясная Поляна, Москва) | 230 |
Глава шестая. Л. Н. Толстой в 1858—1859 годах (Ясная Поляна, Москва) | 293 |
Глава седьмая. Первый год школьных занятий (1859—1860) | 343 |
Глава восьмая. Второе заграничное путешествие (1860—1861) | 365 |
Глава девятая. Л. Н. Толстой в 1861—1862 годах | 433 |
Глава десятая. Педагогическая система Л. Н. Толстого. Журнал «Ясная Поляна» | 505 |
Глава одиннадцатая. Женитьба Л. Н. Толстого. Первый год семейной жизни (1862—1863) | 567 |
Глава двенадцатая. Л. Н. Толстой в 1863—1869 годах | 613 |
Глава тринадцатая. Основные моменты истории создания «Войны и мира» | 693 |
Глава четырнадцатая. Отзывы современников о «Войне и мире» | 813 |
Заключение | |
Дополнения и исправления к книге «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» | 881 |
Указатель собственных имен | |
Произведения Л. Н. Толстого |
916
Николай Николаевич Гусев
Лев Николаевич Толстой
*
Утверждено к печати Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР
*
Редактор издательства Л. Д. Опульская
Художник Н. Н. Седельников
Технический редактор Е. Н. Симкина
РИСО АН СССР № 40—100 В. Сдано в набор
4/I 1957 г. Подпис. к печати 21/IV 1957 г.
Формат 60 × 921/16. Печ. л. 57¼. Уч. изд. л. 56,4
Тираж 10000 экз. Т-03112. Изд. 1894
Тип. зак. № 1164
Цена 35 р.
*
Издательство Академии наук СССР
Москва, Б-64, Подсосенский пер., 21
2-я типография Издательства
Москва Г-99, Шубинский пер., 10
917
Опечатки и исправления
Страница | Строка | Напечатано | Должно быть |
26 | 4 св. | станции | станицы |
179 | 18—19 св. | М. П. Лонгинову | М. И. Лонгинову |
545 | 3 св. | Головина | Головнина |
557 | 28 св. | образование | воспитании |
<ФЭБ. Список иллюстраций
1. | С. 7. Письмо Л. Н. Толстого к М. Н. Толстой от 30 ноября 1855 г. |
2—3. | |
4. | С. 27. Приписка И. С. Тургенева к письму Л. Н. Толстого, адресованному М. Н. Толстой 30 ноября 1855 г. |
5. | С. 65. Группа писателей, сотрудников журнала «Современник». С фотографии С. Левицкого (15 февраля 1856 г.). |
6. | С. 91. Липовая аллея в Яснополянском парке. С фотографии. |
7. | С. 95. Л. Н. Толстой в 1856 г. С фотографии. |
8. | С. 181. В. В. Арсеньева (Талызина) в первые годы замужества. С фотографии. |
9. | С. 185. Первая страница первой редакции повести «Альберт» (1857 г.). |
10. | С. 191. Первая страница письма Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому от 17 мая 1857 г. |
11. | С. 311. Е. Ф. Тютчева. С фотографии |
12. | С. 383. Первая страница первой редакции романа «Декабристы» (1860 г.) |
13. | С. 401. Л. Н. Толстой и А. И. Герцен в 1861 г. С рисунка Э. О. Визеля. |
14. | С. 405. Л. Н. Толстой в 1861 г. в Брюсселе. С фотографии. |
15. | С. 421. Письмо Л. Н. Толстого к А. И. Герцену от 9 апреля 1861 г. |
16. | С. 422. Письмо Л. Н. Толстого к А. И. Герцену от 9 апреля 1861 г. Продолжение. |
17. | С. 423. Письмо Л. Н. Толстого к А. И. Герцену от 9 апреля 1861 г. Окончание. |
18. | С. 443. А. А. Фет. С фотографии. |
19. | С. 449. Отношение Л. Н. Толстого в Крапивенский уездный мировой съезд от 15 августа 1861 г. |
20. | С. 475. Л. Толстой в 1862 г. С фотографии. |
21. | С. 523. Обложка августовского номера журнала «Ясная Поляна» 1862 г. |
22. | С. 543. Обложка 5-й «книжки» журнала «Ясная Поляна». |
23. | С. 577. С. А. Толстая в 1863 г. С фотографии. |
24. | С. 599. Т. А. Берс (Кузминская) в 1862 г. С фотографии. |
25. | С. 647. Запись Л. Н. Толстого в записной книжке 13 августа 1865 г. |
26. | С. 648. Продолжение записи Л. Н. Толстого в записной книжке 13 августа 1865 г. |
27. | С. 657. С. А. Толстая со старшими детьми — Сережей и Таней. 1866 г. С фотографии. |
28. | С. 663. Могила солдата Шабунина близ деревни Ясенки. С фотографии. |
29. | С. 675. Л. Н. Толстой в 1867 г. С фотографии. |
30. | С. 691. Проект устава «Общества независимых». 1868 г. |
31. | С. 727. «У костра». Рисунок для «Войны и мира» М. С. Башилова. |
32. | С. 739. Наташа и князь Андрей в Мытищах С рисунка Л. О. Пастернака. |
33. | С. 745. Черновые записи Л. Н. Толстого к роману «Война и мир» |
34. | С. 769. Первая страница письма Л. Н. Толстого к Л. И. Волконской от 3 мая 1865 г. |
35. | С. 789. Выписки русских пословиц для четвертого тома «Войны и мира». |
36. | С. 795. Корректурная гранка третьего тома «Войны и мира» с исправлениями Л. Н. Толстого. |
37. | С. 799. Первая страница первой редакции эпилога к «Войне и миру». |
38. | С. 809. Обложка второго издания первого тома «Войны и мира».> |
Сноски к стр. 3
1 Письма Толстого к сестре Марии Николаевне от 20 и 30 ноября 1855 г. напечатаны в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, т. 61, 1953, стр. 369—370.
Сноски к стр. 4
2 Замечательно, что это же образное выражение для характеристики взгляда Толстого почти через пятьдесят лет употребил А. М. Горький, конечно, совершенно не знакомый с не напечатанным еще в то время письмом Некрасова. Вспоминая об отношении Толстого к Чехову, Горький писал: «Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту» (М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 14, Гослитиздат, М., 1951, стр. 289).
3 Это был, вероятно, первый вариант «Казаков» («Беглец»).
4 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, Гослитиздат, М., 1952, стр. 258—259.
5 Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства). О впечатлении, произведенном на него Толстым, Дружинин писал М. А. Ливенцову 27 ноября 1855 г.: «На днях все мы, литераторы, были обрадованы приездом из Крыма графа Толстого, известного по статьям о Севастополе. Это превосходнейший господин, истинный русский офицер, с превосходными рассказами, чуждыми фраз, и самым здравым, хотя и не розовым взглядом на вещи» («Письма к А. В. Дружинину», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 172).
6 А. В. Никитенко. Дневник, т. 1, М., 1955, стр. 425; Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
7 Составленный Некрасовым адрес Щепкину со всеми подписями напечатан в 12-й книжке «Современника» за 1855 г., стр. 269—270.
8 Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
9 Дневник Я. П. Полонского («Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 104).
Сноски к стр. 5
10 Письмо Н. А. Огаревой к родным от 5 декабря 1855 г. («Русские Пропилеи», т. 4, изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1917, стр. 141).
11 Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
12 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I. M., 1890, стр. 106.
13 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 372.
14 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 74.
15 «Литературная газета», 1931, № 13 от 9 марта.
16 Подобное мнение о Шекспире, высказанное Толстым около того же времени у Некрасова, записано и в воспоминаниях товарища Толстого по Казанскому университету В. Н. Назарьева. Придя однажды к Некрасову, он в дверях столкнулся с уходившим Толстым. Панаев встретил его словами: «„Как жаль, что опоздали... Вот бы наслушались всяких чудес... Узнали бы, что Шекспир — дюжинный писака, и что наше удивление и восхищение Шекспиром — не более, как желание не отстать от других и привычка повторять чужие мнения... Да-с, это курьез... Человек не хочет знать никаких традиций — ни теоретических, ни исторических“... И между собеседниками снова завязался оживленный разговор о том же загадочном, давно уже непонятном для меня человеке» (В. Назарьев. Жизнь и люди былого времени, «Исторический вестник», 1890, 11, стр. 442).
Сноски к стр. 6
17 «Толстой и о Толстом. Новые материалы», вып. 3, М., 1927, стр. 45.
Сноски к стр. 10
18 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 106.
Сноски к стр. 11
19 О чтении вместе с Тургеневым «Зимнего пути» Огарева Толстой вспоминал почти через пятьдесят лет в разговоре с М. О. Гершензоном 18 июля 1904 г. При этом Толстой прибавил, что когда он на другое утро самостоятельно прочитал стихотворение Огарева, то не нашел в нем «ничего особенного». М. Г[ершензон]. Воспоминание о Л. Н. Толстом («Новые Пропилеи», т. I, под ред. М. О. Гершензона, М., 1923, стр. 97).
20 А. А. Стахович. Клочки воспоминаний («Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 28).
21 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 29 сентября 1905 г.
22 «Заметки нового поэта о петербургской жизни» («Современник», 1856, I, стр. 107—110).
23 А. А. Стахович. Клочки воспоминаний («Толстовский ежегодник 1912 г.» стр. 31); П. Сергеенко. Как живет и работает Л. Н. Толстой, М., 1898, стр. 73—74.
Сноски к стр. 12
24 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 3 марта 1909 г. Толстой видел Мартынова также в пьесе «Завтрак у предводителя» Тургенева, о чем вспоминал Гончаров в письме к Толстому от 22 июля 1887 г.: «Помню и вечер, проведенный мною с Вами в спектакле. Давали «Завтрак у предводителя» Тургенева. Мы сидели рядом и дружно хохотали, глядя на Линскую, Мартынова и Сосницкого, которые дали плоть и кровь этому бледному произведению» («Толстой и о Толстом. Новые материалы», вып. 3, М., 1927, стр. 45).
25 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 23 июня 1894 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 450).
26 «Толстой о литературе и искусстве», записи П. А. Сергеенко. Запись от 13 января 1899 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 540).
27 Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
28 Дневник А. В. Жиркевича, запись от 15 сентября 1892 года («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 436).
29 Предисловие к русскому переводу романа Поленца «Крестьянин» (1900—1901); Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 2, М., 1923, стр. 43, запись от 14 февраля 1905 г. Многочисленные сочувственные, а иногда и восторженные отзывы Толстого о поэзии Тютчева находим в письмах и особенно в устных высказываниях Толстого, записанных многими мемуаристами.
30 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 20 июля 1894 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 469). Некрасов в № 3 «Современника» за 1854 г. поместил 92 стихотворения Тютчева, затем в № 5 за тот же год еще 19 стихотворений.
Сноски к стр. 13
31 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, 1922, стр. 182—183, запись от 21 августа 1904 г.
32 П. Сергеенко. Толстой и его современники, М., 1911, стр. 31.
33 Л. Л. Толстой. В Ясной Поляне. Из дневника. Запись от 13 марта 1903 г. («Новое время», 1915, № 14247).
34 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, изд. Толстовского музея, М., 1928, стр. 75, запись от 5 февраля 1908 г. Как известно, подобное же впечатление произвел Некрасов с первого знакомства и на Чернышевского. «Мне казалось, — писал Чернышевский, вспоминая свой первый разговор с Некрасовым, — что человек, говорящий так просто и прямодушно, заслуживает полного доверия» (Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, Госиздат, М, 1930, стр. 459).
35 Это не могла быть Пасха 1856 г. (15 апреля), как это записано у Бирюкова, так как упоминаемое им стихотворение Некрасова «Замолкни, муза мести и печали» было написано в ноябре 1855 г. и напечатано в марте 1856 г.
Сноски к стр. 14
36 Из материалов к биографии Толстого, собранных П. И. Бирюковым (рукопись, архив Н. Н. Гусева).
Сноски к стр. 15
37 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Об-ва Толстовского музея, СПб., 1911, стр. 3—4.
38 Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну («Исторический вестник», 1886, 3, стр. 531).
Сноски к стр. 16
39 «Литературная газета», 1931, № 13 от 9 марта.
Сноски к стр. 17
40 Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
41 Катков в объявлении об издании им в 1856 г. нового журнала «Русский вестник», помещенном в № 145 «Московских ведомостей», назвав в числе будущих сотрудников журнала «Л. Н. Т.», счел нужным прибавить, что под этими литерами «скрывается имя одного из замечательнейших наших писателей». (Толстой в 1856 г. в «Русском вестнике» участия не принял).
Сноски к стр. 18
42 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 10 августа 1905 г.
43 Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 385.
44 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 19
45 Письмо С. Т. Аксакова к М. П. Погодину между 19 и 26 января 1856 г. (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14, СПб., 1910, стр. 296).
46 «Русское обозрение», 1894, 12, стр. 577—578. И. С. Аксаков, узнавши о знакомстве отца с Толстым, писал ему из Бендер 15 февраля: «Скажите мне пожалуйста, как поняли вы графа Льва Толстого? Он меня очень интересует, и мне бы хотелось с ним познакомиться» («И. С. Аксаков в его письмах», ч. 1, т. III, M., 1892, стр. 237). Ответ С. Т. Аксакова на это письмо неизвестен.
47 «Неизданные письма к А. Н. Островскому», изд. «Academia», 1932, стр. 503.
48 Письмо напечатано в Полном собрании сочинений, т. 60, 1949, стр. 292, с ошибочной датой.
Сноски к стр. 20
49 Григорович в своих воспоминаниях рассказывает, что он познакомился с Толстым в Москве у Сушковых (Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, изд. «Academia», Л., 1928, стр. 249). Но этому противоречит письмо Толстого к сестре от 14 апреля 1856 г. из Петербурга, где Толстой сообщал сестре, что с Григоровичем он познакомился «здесь».
50 Все цитаты из дневников и записных книжек Толстого 1856—1857 гг. приводятся по Полному собранию сочинений, т. 47, 1937.
51 «Письма к А. В. Дружинину», изд. Гос. литературного музея, М., 1948, стр. 45.
Сноски к стр. 21
52 Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 385.
53 Все письма Толстого 1856—1862 годов, за исключением особо оговоренных случаев, печатаются по тексту 60 тома Юбилейного издания Полного собрания сочинений Толстого, вышедшего в 1949 году.
54 «Воспоминания гр. А. А. Толстой» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 14).
55 Полное собрание сочинений, т. 63, 1934, стр. 105.
Сноски к стр. 22
56 Эта запись датирована Толстым 7 февраля, но, судя по тому, что и Некрасов и Тургенев датируют эпизод 6 февраля, у Толстого, вероятно, ошибка в дате на один день.
57 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 264.
58 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 78—79.
59 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, изд. «Academia», Л., 1928, стр. 250. Рассказ Григоровича о том, что приведенный им разговор происходил в первое посещение Толстым редакции «Современника» и что Толстой просил его поехать в редакцию с ним вместе, так как он «никого там близко не знает», не соответствует действительности.
Сноски к стр. 23
60 Л. Шелгунова. Из далекого прошлого, СПб., 1901, стр. 56.
61 Отрицательное отношение к Жорж Санд было характерно для Толстого во всю его дальнейшую жизнь. В 1909 г. Толстой говорил: «Я в свое время, кроме отвращения, ничего к ней [Жорж Санд] не чувствовал, в то время как Тургенев восхищался ею» (Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 6 апреля 1909 г.).
Сноски к стр. 24
62 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 371.
63 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, изд. «Academia», Л., 1928, стр. 250—253.
64 «Русское обозрение», 1894, 12, стр. 583.
Сноски к стр. 25
65 Дневник А. В. Дружинина (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
66 С. Л. Левицкий говорил редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, что Некрасов отсутствовал в этой группе «совершенно случайно» («Русская старина», 1880, 4, стр. 871).
67 Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну («Исторический вестник», 1886, 3, стр. 531).
68 Второй экземпляр этой группы, принадлежавший Дружинину, находится в Гос. литературном музее в Москве.
69 С именем Е. П. Ковалевского, с которым Толстой сблизился еще в Севастополе, где Ковалевский состоял в штабе главнокомандующего, связано одно любопытное воспоминание Толстого, относящееся к тому времени, когда Ковалевский был управляющим Азиатским департаментом (1856—1861).
В 1906 г. Толстой в несколько юмористическом тоне рассказывал: «Я имел удовольствие содействовать побегу Бакунина. Бакунин был при Муравьеве чем-то вроде чиновника особых поручений, но не мог отлучаться без разрешения министерства. Я попросил Ковалевского, управляющего азиатским департаментом, и он выхлопотал ему разрешение» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, запись от 2 декабря 1906 г., не опубликована).
М. А. Бакунин, сосланный в Сибирь в 1857 г., состоял при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском. Толстой, друживший в Севастополе с Александром Александровичем Бакуниным, принял участие в судьбе его брата.
Сноски к стр. 26
70 Письмо Тургенева к П. А. Вяземскому от 24 февраля 1856 г. («Тургенев», Центрархив, Документы по истории литературы и общественности. ГИЗ, 1923, стр. 23); А. В. Никитенко. Дневник, т. I, M., 1955, стр. 431.
71 П. А. Сергеенко. Толстой о литературе и искусстве. Запись от 13 января 1899 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 540).
72 «Русский инвалид», № 55 от 9 марта.
Сноски к стр. 28
73 «Вестник Европы», 1904, 2, стр. 494.
74 «Русское обозрение», 1894, 12, стр. 583.
75 Письмо к М. К. Рейхель от 16 июня 1856 г. (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, Пг., 1919, стр. 318).
76 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, Пг., 1917, стр. 291—292.
77 «Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 519.
78 Михаил Николаевич Лонгинов сотрудничал в «Современнике» в качестве библиографа и историка литературы. С 1854 г. Лонгинов служил при московском губернаторе. Позднее, повышаясь по службе, Лонгинов совершенно отошел от редакции «Современника». В 1867—1871 гг. он был орловским губернатором («сквернейшим по всей России», — по отзыву Тургенева в письме к Полонскому от 18 декабря 1871 г.); с 1871 по 1875 г. (год смерти) состоял начальником главного управления по делам печати и проводил весьма реакционную политику.
Сноски к стр. 29
79 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 266.
80 Хранится в архиве Н. Н. Гусева; не опубликована.
81 П. Сергеенко. Комментарии к письму Толстого («Русское слово», 1913, № 20).
Сноски к стр. 32
82 «Два гусара», гл. II.
83 Письмо Толстого к сестре от 14 апреля 1856 г. (Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 372).
84 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952. стр. 272.
85 Письмо В. П. Боткина к П. В. Анненкову от 11 мая 1856 г. («П. В. Анненков и его друзья», изд. Суворина, СПб., 1892, стр. 570).
86 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, М, 1947, стр. 430.
Сноски к стр. 33
87 Беловой текст условия редакции «Современника» с четырьмя сотрудниками, составленный Некрасовым, до сих пор не найден. Черновой текст напечатан в «Литературном наследстве», т. 25—26, 1936, стр. 359—361.
88 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 237—240.
Сноски к стр. 35
89 В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 95.
Сноски к стр. 36
90 Таков текст речи Александра II, им самим проредактированный (опубликован в статье А. Попельницкого «Речь Александра II, сказанная 30 марта 1856 г. московским предводителям дворянства» — «Голос минувшего», 1916, № 5—6, стр. 393). Речь царя распространялась в других редакциях, не вполне точных, приведенных в той же статье (стр. 393—396).
91 В одной из неточных редакций речи Александра II, получившей широкое распространение, царю приписывались даже такие слова: «Конечно, господа, сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным». В этой редакции речь царя заканчивалась предложением предводителям дворянства «подумать» над тем, «как бы привести в исполнение» отмену крепостного права, и передать дворянам речь царя «для соображения».
92 Николай Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14, СПб., 1900. стр. 210—212.
93 «Анна Каренина», ч. третья, гл. III.
Сноски к стр. 37
94 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 241.
95 К. Д. Кавелин (1818—1885) — в молодости друг Белинского и Герцена, затем сотрудник «Современника». Позднее отошел от круга «Современника» и примкнул к умеренно-либеральному направлению. Автор многих работ по истории, этнографии, психологии и юридическим вопросам.
96 «Современник», 1858, 4, стр. 493—538. Полностью записка была напечатана в «Собрании сочинений» К. Д. Кавелина, т. 2, СПб., 1904, стр. 9—87.
97 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. V, М., 1950, стр. 108.
Сноски к стр. 39
98 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 241—243.
99 Впоследствии Толстой высказывал свое мнение о Н. А. Милютине в следующих словах: «Милютин, который считался орлом, был отголосок либеральных газет, соединение высокопоставленного с либералом» (Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 18 мая 1907 г.).
Сноски к стр. 40
100 Черновик докладной записки товарищу министра внутренних дел Левшину сохранился в бумагах Толстого и напечатан в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 247—248. Выдержки из черновой редакции проекта освобождения яснополянских крестьян появляются в печати впервые.
Сноски к стр. 42
101 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1952, стр. 329—330.
102 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 106—107. Здесь же Фет, со слов Григоровича, передает, будто бы во время одного из споров с Тургеневым на квартире Некрасова Толстой, лежа на диване, говорил про Тургенева, шагавшего по всем трем смежным комнатам: «Я не позволю ему ничего делать мне на зло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!» Передача эта вызывает большие сомнения. Острота насчет виляния «демократическими ляжками» скорее в духе самого Григоровича, чем Толстого.
103 «У Тургенева и его друзей не было никакой определенной программы: общее сочувствие либеральным начинаниям правительства, теоретическое содействие разрешению крестьянского вопроса в его общей форме (но вовсе не лично для себя и не впереди других)» — В. Н. Измайлов, предисловие к книге «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», 1930, стр. XXXVI.
Сноски к стр. 43
104 П. Анненков. Литературные воспоминания, СПб., 1909, стр. 487—488.
105 Е. Гаршин. Воспоминания о Тургеневе («Исторический вестник», 1883, 11, стр. 389).
106 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 333.
107 Не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 44
108 И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 246.
109 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 188.
110 А. Я. Панаева. Воспоминания, изд. «Academia», Л., 1933, стр. 384—385.
Сноски к стр. 45
111 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», 1934, стр. 66.
112 «Тургеневский сборник», изд. «Огни», Пг., 1915, стр. 99—100.
Сноски к стр. 46
113 Некоторые другие рассказы Тургенева в записи Н. Островской бесспорно неточны или неправдоподобны. Так, по рассказу Тургенева в записи Островской, ссора его с Толстым в 1861 году произошла будто бы в его имении Спасском, тогда как совершенно достоверно известно, что ссора эта произошла в имении Фета Степановке. К одному из передаваемых мемуаристкой рассказов Тургенева сделано даже следующее примечание: «Автор записок подозревал, что Тургенев сочинил весь этот рассказ для удовольствия дам» (стр. 98). Панаев характеризовал Тургенева как «мастерского рассказчика, увлекавшегося иногда своей прихотливой и поэтической фантазией» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания, М., 1950, стр. 250).
Сноски к стр. 47
114 И. А. Гончаров. Необыкновенная история («Сборник Российской Публичной библиотеки», т. 2, Пг., 1924, стр. 13—14).
115 Накануне, 4 мая 1856 года, Толстой был на первом представлении «Русалки» и сидел в одной ложе с Даргомыжским. — А. Б. Гольденвейзер. Толстой и музыка («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 593).
116 «Горьковский рабочий», 1934, № 232 от 5 декабря.
117 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1952, стр. 275.
Сноски к стр. 48
118 Статья Погодина была напечатана в «Морском сборнике», 1856, т. XXII, № 3.
Сноски к стр. 49
1 «Голос минувшего», 1916, 10, стр. 93.
2 «Голос минувшего», 1916, 9, стр. 189.
3 Письма А. А. Григорьева к А. В. Дружинину от 19 сентября и 12 декабря 1856 г. («Письма к А. В. Дружинину», изд. Гос. литературного музея, М, 1948, стр. 102—103).
4 О первом своем посещении Хомякова, которое хронологически не может быть точно определено, Толстой впоследствии рассказывал: «Хомяков позвал меня к себе — он жил на Собачьей площадке — вероятно, чтобы узнать взгляды молодого литератора. Милое впечатление осталось». И в другой раз: «Хомяков позвал меня к себе; ему было интересно, какие у меня взгляды. Я тяготился тогда очень, что не верю, мне хотелось верить, особенно в их обществе я тяготился этим; я ждал от него, что он приведет меня к вере... Очень добрый был человек» (Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, записи от 11 февраля 1906 г. и 15 ноября 1907 г.). Надежда Толстого, что славянофилы приведут его к вере, не оправдалась.
Сноски к стр. 50
5 «Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу» («Русское обозрение», 1894, 12, стр. 587).
Сноски к стр. 51
6 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне 1846—1862, изд. Сабашниковых, М., 1925, стр. 52—53.
Сноски к стр. 52
7 Речь Тургенева на обеде в Эрмитаже 6 марта 1879 г. (И. С. Тургенев. Сочинения, Гослитиздат, 1933, т. XII, стр. 224).
8 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 243—245.
Сноски к стр. 53
9 Напечатан там же, стр. 249—258.
Сноски к стр. 54
10 Составленный Толстым проект условия с крестьянами Ясной Поляны и Грецовки напечатан в Полном собрании сочинений, т. 5, стр. 248—249.
11 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 182.
Сноски к стр. 55
12 Тульский помещик И. Н. Шатилов в своей статье «Несколько слов о годовом заработке крестьянского тягла» («Русский вестник», 1858, март, кн. 2) изречение: «Мы ваши, а земля наша» — называет народной поговоркой. Декабрист И. Д. Якушкин рассказывает в своих «Записках», что когда он в начале 1820-х годов предложил своим крестьянам выйти на волю без земли, они не согласились и объяснили свой отказ тою же поговоркой: «Мы ваши, а земля наша» (И. Д. Якушкин. «Записки», Лейпциг, 1874, стр. 47—48).
Сноски к стр. 56
13 Письмо Толстого к Боткину и Тургеневу от 1 ноября 1857 г.
14 О своем знакомстве и переписке с Марксом Анненков сообщает в статье «Замечательное десятилетие» («Литературные воспоминания», СПб., 1909, стр. 307—311).
15 Черновик письма Толстого к Д. Н. Блудову от 8 июня 1856 г. опубликован в Полном собрании сочинений, т. 5, 1930, стр. 255—257.
Сноски к стр. 57
16 «Секретничание» правительства объяснялось тем, что речь Александра II при всей своей неопределенности возбудила среди помещиков большое беспокойство. Для предупреждения волнений среди крестьян, которые могли быть вызваны этой речью, министр внутренних дел Ланской 10 апреля 1856 г. разослал губернаторам и губернским предводителям дворянства циркуляр, в котором губернским властям предлагалось «обращать самое усердное и неусыпное внимание на поддержание полного порядка повиновения крестьян их помещикам» и внушать крестьянам, что «малейшее отклонение от законного порядка и от повиновения помещичьей власти подвергнет их гневу государя и будет преследуемо со всею строгостью».
Сноски к стр. 58
17 «Воскресение», часть вторая, гл. VII. В «Войне и мире» сцена богучаровского бунта, изображающая отношение крестьян к предложению княжны Марьи взять господский хлеб, несомненно, также написана Толстым по воспоминаниям о переговорах с яснополянскими крестьянами в 1856 г.
Сноски к стр. 59
18 С. Н. К. Литературные воспоминания («Исторический вестник», 1890, 2, стр. 276). Другой рассказ Тургенева о том же разговоре с Толстым, относящийся к ноябрю 1882 года, записан в воспоминаниях А. Г. Олсуфьевой («Исторический вестник», 1911, 3, стр. 860—861).
19 Письмо Тургенева от 18 июня 1856 г. (Толстой и Тургенев. Переписка, изд. Сабашниковых, М., 1928, стр. 14).
Сноски к стр. 60
20 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 16—17.
Сноски к стр. 61
21 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 190.
22 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 19—21.
Сноски к стр. 62
23 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 175—176.
Сноски к стр. 63
24 Полное собрание сочинений, т. 30, 1951, стр. 379 и 399.
25 Высказывания Толстого о Пушкине собраны в статье Н. Н. Гусева «Толстой о Пушкине» («Октябрь», 1937, 1, стр. 236—250).
Сноски к стр. 66
26 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 152—168.
Сноски к стр. 68
27 Написанное сохранилось в архиве Толстого и напечатано в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 214—215.
28 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 2, 1930, стр. 339—341.
Сноски к стр. 70
29 Письмо Дружинина к Е. Н. Ахматовой, «Русская мысль», 1891, 12, стр. 118.
30 «Прошлое лето в деревне» (1862), Сочинения Дружинина, т. 2, стр. 376.
31 «Современник», 1856, 1, стр. 10—11.
Сноски к стр. 71
32 Сочинения А. В. Дружинина, т. 7, СПб., 1865, стр. 59—60.
33 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 54—55.
34 «Письма к А. В. Дружинину», изд. Гос. литературного музея, М., 1948, стр. 37.
Сноски к стр. 72
35 Так в своем кругу звали Чернышевского Григорович (повидимому, автор этого оскорбительного прозвища), Тургенев, Дружинин, а позднее иногда и Толстой.
36 «Письма к А. В. Дружинину», изд. Гос. литературного музея, М., 1948, стр. 41.
37 «Голос минувшего», 1916, 10, стр. 89.
38 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 247.
Сноски к стр. 75
39 Полное собрание сочинений, т. 46, 1934, стр. 132, 151.
Сноски к стр. 76
40 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 283—284.
41 Там же, стр. 291—292.
42 Там же, стр. 330.
Сноски к стр. 77
43 К. Чуковский. Люди и книги шестидесятых годов, Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, стр. 258.
Сноски к стр. 78
44 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 20—21.
45 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 195.
Сноски к стр. 81
46 Десять писем В. В. Арсеньевой к Т. А. Ергольской, написанных на французском языке, хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого; не опубликованы.
47 «Смородина» — туалет.
Сноски к стр. 82
48 Это письмо В. В. Арсеньевой и две ее записки хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого; не опубликованы.
Сноски к стр. 85
1 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 103.
Сноски к стр. 86
2 По словам В. П. Боткина, Дружинин был человек «характера необыкновенно сдержанного и больше обращенного внутрь, нежели наружу» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 52, письмо Боткина от 14 июня 1855 г.).
Сноски к стр. 92
3 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», 1934, стр. 59.
Сноски к стр. 94
4 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 23.
Сноски к стр. 97
5 «Семейное счастье», гл. IX.
Сноски к стр. 98
6 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 110.
7 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», 1930, стр. 60.
8 Там же, стр. 67.
9 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 23.
10 Это объявление, составленное Некрасовым и Чернышевским, появилось впервые в «Петербургских ведомостях» 21 октября 1856 г. и в «Московских ведомостях» 22 октября. В перечне содержания вышедших книг «Современника» за 1856 год в том же объявлении, после названия повести «Севастополь в августе» было прибавлено: «Повесть графа Л. Н. Толстого (писавшего свои повести «Детство», «Отрочество», «Севастополь в декабре месяце» и другие под литерами Л. Н. Т.)». Литеры «Л. Н. Т.» были проставлены в скобках также после названий рассказа «Метель» и повести «Два гусара».
Сноски к стр. 99
11 О том, что именно эти лица послужили прототипами Гуськова, рассказывал сам Толстой 20 июня 1901 г. (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, M., 1922, стр. 61).
12 Полное собрание сочинений, т. 3, 1932, стр. 276.
Сноски к стр. 100
13 Полное собрание сочинений, т. 3, 1932, стр. 313.
Сноски к стр. 101
14 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. Academia», M., 1930, стр. 112.
15 «Обзор литературных журналов» («Сын отечества», 1857, № 2, стр. 42).
16 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 172—180.
Сноски к стр. 103
17 «Письма к А. В. Дружинину», изд. Гос. литературного музея, М., 1948, стр. 325.
Сноски к стр. 104
18 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», 1930, стр. 314.
19 Там же, стр. 296.
Сноски к стр. 107
20 В черновой редакции третьего тома «Войны и мира» результаты благотворительной деятельности князя Андрея на пользу своих крестьян изложены в следующих словах, выражающих вместе с тем и мнение автора по данному вопросу: «Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея с его нововведениями — больницы, школы — и облегчением оброка, как и всегда было и будет, только усилило в них их <недоброжелательство к господам> недоверчивость к помещикам» (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953. стр. 170).
Сноски к стр. 108
21 Запись в записной книжке в ноябре 1856 г. (Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 199).
22 Письмо Е. Я. Колбасина к Тургеневу от 2 декабря 1856 г. («Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», 1930, стр. 298).
23 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», 1930, стр. 112.
Сноски к стр. 109
24 «Письма к А. В. Дружинину», изд. Гос. литературного музея, М., 1948. стр. 324—325.
25 П. Б. Русская литература («С.-Петербургские ведомости», 1857, № 15 от 18 января).
26 «Очерк истории русской словесности в 1856 году» («Сын отечества», 1857, 4, стр. 90).
Сноски к стр. 111
27 В большой дружбе с Анненковым был Тургенев, в представлении которого Анненков был «человек чрезвычайно умный, с тонким и верным вкусом» (письмо к С. Т. Аксакову от 16 января 1853 года, «Вестник Европы», 1894, 1, стр. 338—339). Огромная (несколько сот писем) переписка между Тургеневым и Анненковым до сих пор полностью не издана.
28 «Ермилом» в писательских кругах того времени звали А. Ф. Писемского.
29 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», 1930, стр. 201.
Сноски к стр. 112
30 30 октября 1856 г. Тургенев писал Дружинину: «Я очень рад, что мой рассказ «Фауст» вам понравился — это для меня ручательство; я верю в Ваш вкус» («Письма к А. В. Дружинину», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 320).
31 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», M., 1934, стр. 61.
32 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», M., 1930, стр. 296.
33 Там же, стр. 298.
Сноски к стр. 113
34 Запись сделана между 4 и 14 декабря 1856 г., следовательно, как раз в те дни, когда Толстой читал статью Дружинина (см. Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 200—201).
Сноски к стр. 114
35 «Исповедь», гл. II.
Сноски к стр. 117
36 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 169.
Сноски к стр. 118
37 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 84, письмо Боткина от 26 Февраля 1866 г.
38 Белинский. Письма, т. III, СПб., 1913, стр. 324, письмо к В. П. Боткину от 1847 г.
39 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 83.
Сноски к стр. 119
40 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, 1947, стр. 299—301.
Сноски к стр. 120
41 Белинский. Письма, т. I, СПб., 1914, стр. 127.
42 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 26 декабря 1894 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 484). Ранее Толстой в следующих иронических словах отзывался об эстетических теориях Боткина и Анненкова: «Я помню, — говорил Толстой в ноябре 1885 г., — я приехал с Кавказа [из Севастополя] в Петербург диким офицером и попал в кружок литераторов. Мне сразу стало ясно, что у Боткина, Анненкова и других есть какая-то своя вера, которой я сначала не понимал. Стоило кому-нибудь из них начать бобѐ, бобѐ, бобѐ, другой, даже не дослушав, сейчас же начинал отвечать ему своим бобѐ, бобѐ, бобѐ. Я и сам заразился этим бобѐ, бобѐ... А теперь от всего этого, на моих глазах, не осталось ничего, точно никогда не бывало» (И. М. Ивакин. Воспоминания, рукопись. Центральный гос. архив литературы и искусства).
Сноски к стр. 121
43 «Тургенев и круг «Современника», стр. 193.
44 Александр Владимирович Станкевич (1821—1909) — брат Николая Владимировича Станкевича, беллетрист.
45 «Тургенев и круг «Современника», стр. 202.
46 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 111.
47 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», 1934, стр. 61.
Сноски к стр. 122
48 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», 1934, стр. 65.
49 Письма Тургенева к Толстому от 8 (20), 16 (28) декабря 1856 г. и 3 (15) января 1857 г. напечатаны в книге «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 27—33.
Сноски к стр. 123
50 «Толстой и Тургенев. «Переписка», М., 1928, стр. 27—29.
Сноски к стр. 124
51 «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 37.
52 «Письма к А. В. Дружинину». Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 324.
53 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», М., 1930, стр. 73.
54 Там же, стр. 73.
Сноски к стр. 125
55 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 307—309.
Сноски к стр. 126
56 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, 1947, стр. 847.
Сноски к стр. 127
57 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 328.
58 «Тургенев и круг «Современника», стр. 296.
59 Письмо к Тургеневу от 13 октября 1856 г. (там же, стр. 194).
60 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», M., 1934, стр. 72.
61 «Тургенев и круг «Современника», стр. 389.
62 «Письма к А. В. Дружинину», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 321.
Сноски к стр. 128
63 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 333.
64 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV, 1949, стр. 330—331.
65 Там же, стр. 329—330.
Сноски к стр. 130
66 То же у Шиллера («Ключ»):
«Хочешь себя ты понять — посмотри на людей и дела их;
Хочешь людей изучить — в сердце к себе загляни».
Сноски к стр. 131
67 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, 1947. стр. 421—431.
Сноски к стр. 132
68 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, 1947, стр. 805.
69 «Тургенев и круг «Современника», стр. 316.
70 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV, 1948, стр. 681—686.
Сноски к стр. 133
71 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV, 1949, стр. 332.
Сноски к стр. 134
72 «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 560, запись в дневнике П. А. Сергеенко от 10 сентября 1905 г.
73 Рукопись, архив Н. Н. Гусева. Публикуется впервые.
Сноски к стр. 135
74 Напечатано в книге: Корней Чуковский. Люди и книги 60-х годов, Л., 1934, стр. 257—259.
Сноски к стр. 136
75 В таком же смысле отозвался Дружинин о «Юности» и в письме к Тургеневу от 26 декабря 1856 г.: ««Юность» его есть превосходное продолжение «Детства» и «Отрочества», но большого шага в творчестве он ею не сделал» («Тургенев и круг «Современника», стр. 202).
76 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, записи от 13 июня 1908 г. и 6 июня 1910 г.
Сноски к стр. 137
77 Полное собрание сочинений, т. 2, 1930, стр. 398.
78 «Тургенев и круг «Современника», стр. 58—59.
79 Письмо Е. Я. Колбасина к Тургеневу от 15 января 1857 г. («Тургенев и круг «Современника», стр. 316).
Сноски к стр. 138
80 Напечатана целиком в Полном собрании сочинений, т. 2, 1930, стр. 298—320.
81 Мнение редактора «Юности» М. А. Цявловского, что первая редакция повести, писавшаяся с 12 марта по 13 апреля 1855 г., не сохранилась (Полное собрание сочинений, т. 2, 1930, стр. 375), ничем не обосновано. Также без всяких оснований примкнул к мнению М. А. Цявловского и редактор дневника Толстого 1855 года В. И. Срезневский (Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 283).
Сноски к стр. 139
82 В окончательном тексте «Юности» этот эпизод передан в следующей смягченной редакции: «Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом: страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне с страшной, односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «а что, ежели...? что из этого будет?» («Юность», гл. XII).
Сноски к стр. 140
83 Главы эти впоследствии вошли в состав второй редакции повести.
Сноски к стр. 144
84 Судя по тому, что в первой редакции «Юности» мать Нехлюдова носит имя Екатерина Дмитриевна, можно думать, что прототипом этого образа явилась отчасти Екатерина Дмитриевна Загоскина, начальница Родионовского института в Казани, с которой Толстой был знаком в годы своего студенчества.
Сноски к стр. 145
85 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 191.
Сноски к стр. 146
86 «Юность», глава XXII.
Сноски к стр. 147
87 «Юность», гл. XXV.
88 «Юность», гл. XXIV.
89 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 182.
90 Там же, стр. 184.
91 Там же, стр. 178.
Сноски к стр. 148
92 «Юность», гл. XIV.
Сноски к стр. 149
93 Фамилия барона Радзивилла, у которого происходил кутеж студентов-аристократов, названа автором во второй редакции «Юности»; в окончательной редакции эта фамилия заменена буквой З. Радзивиллы — представители богатой литовской знати.
94 Замечательно, что в таких же выражениях («не вздор ли это все») определил Толстой свое отношение к статье Дружинина о чистом искусстве. См. стр. 113.
Сноски к стр. 150
95 Полное собрание сочинений, т. 46, 1934, стр. 286.
96 Есть, правда, в дневнике 1856 года одна запись, в которой с первого взгляда можно увидеть некоторое признание комильфотности. Читая воспоминания Н. В. Берга «Из крымских заметок», напечатанные в № 8 «Современника» за 1856 г., Толстой 29 августа того же года записал в дневнике: «Как ни презренно comme il faut, а без него мне противен писатель». Смысл этой записи не вполне ясен, но, разумеется, в ней идет речь не о выхоленных ногтях, ослепительно-белой рубашке и прочих внешних признаках комильфотности. Можно думать, что на Толстого произвел неприятное впечатление рассказ Берга о его панибратстве с содержателем гостиницы, бывшим маркитантом, которого автор называет «знаменитым» и неизменно величает «Александром Ивановичем», с умилением описывая подробности его быта; его восторг перед «известной своими похождениями» «бурной гречанкой», также содержательницей трактира; далее — вульгаризмы языка, как «полная и румяная мамзель», «подкутил» и т. п.
Сноски к стр. 151
97 Напрашивается аналогия с «Воскресением», где моральное пробуждение Катюши Масловой также совершается не под влиянием Нехлюдова, а под влиянием революционеров, с которыми она встречается на каторге.
Сноски к стр. 152
98 Этот рост сознания Николеньки Иртеньева высоко оценил Аполлон Григорьев, который в 1859 году писал, что герой «Юности» — это «честная личность», человек, который «при встрече с кружком умных и энергичных, хотя и не порядочных, хотя даже и пьющих молодых людей, вдруг сознает всю свою мелочность перед ними и в нравственном и в умственном отношении» (А. Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина, Сочинения, т. I, СПб., 1876, стр. 260—261).
99 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 2, 1930, стр. 341—342.
Сноски к стр. 153
100 «Тургенев и круг «Современника», стр. 315.
101 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», 1934, стр. 65.
102 «Сын отечества», 1857, № 6 от 10 февраля, стр. 137—140.
103 П. Б. «Русская литература» («С.-Петербургские ведомости», 1857, № 46 от 28 февраля).
Сноски к стр. 154
104 К. Аксаков. Обозрение современной литературы («Русская беседа», 1857, 1, стр. 34).
105 Письмо к В. В. Арсеньевой от 1 января 1857 г.
Сноски к стр. 155
106 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 200.
107 Публичная библиотека СССР имени Ленина. Сборник, II, М., 1929, стр. 68.
108 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», M., 1930, стр. 112.
Сноски к стр. 156
109 В одной из черновых редакций «Казаков», относящейся, повидимому, к 1858 году, сказано про Оленина: «Никакая попытка не обошлась ему так дорого, как попытка семейного счастья» (Полное собрание сочинений, т. 6, 1929, стр. 249).
110 «Тургенев и круг «Современника», стр. 202.
Сноски к стр. 157
111 «Толстой и Тургенев. Переписка», изд. Сабашниковых, М., 1928, стр. 32.
112 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 112.
113 Запись в записной книжке 4 января 1857 г. (Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 201).
Сноски к стр. 158
114 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 6 октября 1907 г.
115 «Тургенев и круг «Современника», стр. 314—315.
Сноски к стр. 159
116 Письмо Панаева к Боткину от 31 марта 1857 г. («Тургенев и круг «Современника», стр. 418).
Сноски к стр. 160
117 См. статью В. П. Гаевского «А. В. Дружинин как основатель Литературного фонда» («XXV лет. Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», СПб., 1884, стр. 423—434). Тургенев в своей речи в память Дружинина на заседании Литературного фонда говорил, что Дружинин «может быть назван главным основателем нашего фонда». (И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 253—255).
118 4 ноября 1909 года, когда праздновалось 50-летие Литературного фонда, Толстой прислал на имя правления телеграмму: «Вспоминаю основателей и приветствую сотоварищей Литературного фонда. Сочувствую его доброй пятидесятилетней деятельности. Рад буду внести свою лепту в предполагаемом сборнике» (Полное собрание сочинений, т. 80, 1955, стр. 172).
119 По свойственному Толстому обыкновению называть вещи своими именами, в дневнике он называет этот «танцкласс» публичным домом.
Сноски к стр. 161
120 Биографические сведения о Кизеветтере даны в статье В. И. Срезневского «Георг Кизеветтер, скрипач Петербургских театров» («Толстой, 1850—1860. Материалы, статьи», изд. Академии наук СССР, Л., 1927, стр. 42—72).
121 Возможно, что одной из причин падения Кизеветтера была так же, как у изображенного Толстым Альберта, несчастная любовь.
Сноски к стр. 162
122 «Юность», гл. XXVIII.
Сноски к стр. 164
123 Н. С. Кашкин. Родословные разведки, т. II, СПб., 1913, стр. 572—573.
124 По выходе в свет отдельного издания «Семейной хроники» С. Т. Аксаков передал Толстому экземпляр книги с следующей надписью: «Графу Льву Николаевичу Толстому в знак искреннего уважения к его прекрасному таланту от почитателя». Книга хранится в Яснополянской библиотеке.
Сноски к стр. 166
125 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», 1930, стр. 60.
Сноски к стр. 167
126 «Очерки крестьянского быта» А. Ф. Писемского («Библиотека для чтения», 1857, I).
Сноски к стр. 168
127 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 332.
Сноски к стр. 169
1 В дальнейшем во всей данной главе даты указываются только по новому стилю.
2 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 375.
Сноски к стр. 170
3 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 20.
Сноски к стр. 171
4 К. Маркс. Гражданская война во Франции, Госполитиздат, М., 1953, стр. 6—7 (Введение Ф. Энгельса).
Сноски к стр. 172
5 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 375.
6 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М., 1930, стр. 114.
Сноски к стр. 174
7 С. Л. Толстой. Мой отец в семидесятых годах («Красная новь», 1928, 9, стр. 202).
8 Тургенев писал Анненкову 15 апреля 1857 г.:«Французы потеряли способность правды в искусстве; да и искусство у них вымирает» («Наша старина», 1914, 12, стр. 1074).
Сноски к стр. 175
9 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 8 октября 1906 г.
10 Пьер Дюпон (1821—1870) — французский поэт-песенник, певец Февральской революции 1848 года. В юности был рабочим-шелкомотальщиком. Песни Дюпона, им же положенные на музыку, в 1840-х годах распевались всей демократической Францией, а его «Песня рабочих» служила одно время рабочим гимном.
11 «Наша старина», 1914, 12, стр. 1074.
12 Мориц Гартман (1821—1872) — немецкий политический поэт и беллетрист. Принимал деятельное участие в революции 1848 года, примыкая к крайней левой буржуазной демократии; писал политические сатиры.
Сноски к стр. 176
13 Толстой, однако, не переставал чувствовать некоторое беспокойство по поводу душевного состояния Валерии Владимировны. В письме из Женевы от 11 апреля он просил тетушку Ергольскую написать ему о том, «как поживают соседки? простили ли они великого преступника?»
Сноски к стр. 177
14 «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 4, М., 1923, стр. 26—28.
Сноски к стр. 178
15 Вероятно, к этому времени относится связанное с Тургеневым воспоминание Толстого, переданное в 1903 г. В. В. Вересаеву, говорившему о «трагизме» жизни. Вересаев рассказывает: «Само слово «трагизм», видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом. По губам прошлась едкая насмешка. — «Трагизм... Бывало, Тургенев приедет и тоже все: «траги-изм, траги-изм»...» (В. Вересаев. Воспоминания, М., 1938, стр. 404).
Сноски к стр. 179
16 «Возрождение», 1933 г., 13 июля.
17 «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 47.
18 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 114.
19 Сборник Пушкинского дома на 1923 год», Пг., 1922, стр. 187.
20 «Письма к А. В. Дружинину», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 326.
21 Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 51.
22 «Наша старина», 1914, 12, стр. 1072.
Сноски к стр. 180
23 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 117.
24 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, стр. 93, запись от 25 июля 1902 г.
25 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 22 февраля 1907 г. О том же более ранняя запись в книге П. А. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», М., 1898, стр. 36.
Сноски к стр. 182
26 «Наша старина», 1914, 11, стр. 990.
27 Там же.
Сноски к стр. 183
28 Это описание, как и приводимые ниже выдержки из первой редакции «Альберта», в печати не появлялись.
Сноски к стр. 186
29 «Тургенев и круг «Современника», стр. 87—88.
30 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X. М., 1952, стр. 331.
Сноски к стр. 187
31 Полное собрание сочинений т. 47, 1937, стр. 202.
Сноски к стр. 188
32 Русский перевод речи Наполеона III был напечатан 13 февраля 1857 г. в «Северной пчеле», «Петербургских ведомостях» и других газетах.
33 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 202.
34 А. Фет. Из-за границы («Современник», 1857, 7, стр. 88—89).
Сноски к стр. 189
35 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 202.
Сноски к стр. 194
36 «Исповедь», гл. II.
37 «Так что же нам делать?», гл. II.
38 Полное собрание сочинений, т. 46, 1937, стр. 75—76.
39 Так рассказывал Толстой писателю И. Н. Захарьину-Якунину 26 апреля 1899 г. (И. Н. Захарьин-Якунин. Встречи и воспоминания, СПб., 1903, стр. 225).
40 Письмо И. С. Аксакова к С. Т. Аксакову от 19 апреля 1857 г. («И. С. Аксаков в его письмах», т. III, M., 1892, стр. 317).
Сноски к стр. 196
41 «Наша старина», 1914, 12, стр. 1073. «Кальвинистом» Тургенев называл Толстого, очевидно, за его строгие нравственные требования.
42 «Новое время», 1894, № 6710 от 2 ноября.
43 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Об-ва Толстовского музея, СПб., 1911, стр. 4.
Сноски к стр. 197
44 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, 15.
45 Там же, стр. 85—86, письмо от 29—31 августа 1857 г.
Сноски к стр. 198
46 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 7.
47 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 204.
Сноски к стр. 199
48 Там же, стр. 205.
49 Запись в записной книжке 10 апреля 1857 г. (Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 203).
50 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 214—218.
Сноски к стр. 201
51 Полное собрание сочинений, т. 5, 1931, стр. 194.
52 Записка Пущина о встрече с Пушкиным была опубликована Л. Н. Майковым в его книге «А. С. Пушкин. Биографические и историко-литературные статьи», СПб., 1899, стр. 385—396.
Сноски к стр. 202
53 Д. П. Маковицкий. «Яснополянские записки», вып. 1, изд. «Задруга», М., 1922, стр. 99, запись от 26 января 1905 г.
53а Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г. («Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 58); С. Т. Семенов. Воспоминания о Л. Н. Толстом, СПб., 1911, стр. 39; С. Л. Толстой. Очерки былого, М., 1949, стр. 84.
54 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 4.
Сноски к стр. 203
55 «Поэтический казак» напечатан в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 218—224, вариант № 8.
56 Впоследствии Толстой еще раз испробовал стиль ритмической прозы в одном из незаконченных начал романа из эпохи Петра I (1873 г.).
Сноски к стр. 205
57 Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 204.
58 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 192—213.
Сноски к стр. 208
59 Выдержки из второй редакции «Поврежденного», хранящейся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого, публикуются впервые.
Сноски к стр. 209
60 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 229—245, вариант № 14.
61 Сохранившееся начало второй части «Юности» напечатано в Полном собрании сочинений, т. 2, 1930, стр. 343—346.
Сноски к стр. 210
62 Письмо Боткина к Панаеву от 29 января 1858 г. («Тургенев и круг «Современника», стр. 437).
Сноски к стр. 211
63 «Отрывок из дневника 1857 года» (Полное собрание сочинений, т. 5, 1931, стр. 193). В 1902 г. дочь Толстого, Т. Л. Сухотина, жившая в то время в Швейцарии, прислала ему открытку с видом местечка Монтрё, вблизи Кларана. Толстой в своем ответе писал ей 26 сентября того же года: «Кланяйся от меня милому Montreux и Vevey» (Полное собрание сочинений, т. 73, 1954, стр. 301).
Сноски к стр. 215
64 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 208.
65 Там же, стр. 204.
66 Там же, стр. 209.
67 Там же, стр. 212.
Сноски к стр. 216
68 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 204. Добролюбов также был высокого мнения о казацкой общине. «Что такое казацкая община? Если смотреть на нее с гражданской точки зрения, это — союз членов, которые равны по правам состояния и которые свободно управляются сами собой» (Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в трех томах, т. II, М., 1952, стр. 488).
69 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 206.
70 Запись в записной книжке от 8 июля 1856 г. (Там же, стр. 187).
71 Разумеется использование пара в промышленности и транспорте.
72 Запись в записной книжке в августе 1857 г. (Там же, стр. 214).
73 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 204.
Сноски к стр. 217
74 Неупотребительное, но грамматически совершенно правильно образованное Толстым множественное число от слова «семьянин».
75 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 205.
Сноски к стр. 221
76 В. И. Ленин. Л. Н. Толстой и его эпоха (Соч., т. 17, стр. 30).
77 Там же, стр. 31.
Сноски к стр. 222
78 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 128. Толстой имел в виду следующее место из статьи В. Соловьева: «Истинность обоих этих положений прямо вытекает из показанной истинности основного метафизического принципа, по которому истинно сущим, абсолютным первоначалом и концом всего существующего утверждается всеединый дух... Абсолютным началом признано не абсолютная сущность, не пустое единство, а конкретный всеобъемлющий дух» (В. Соловьев. Кризис западной философии. Против позитивистов, М., 1874, стр. 122—123).
79 «Так что же нам делать?», гл. XXIX, Полное собрание сочинений, т. 25, 1937, стр. 332.
80 И. М. Ивакин. Воспоминания (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства).
81 «Афоризмы и избранные мысли Л. Н. Толстого», избранные Л. П. Никифоровым, изд. «Посредник», М., 1905, стр. 9.
Сноски к стр. 223
82 «Круг чтения», том второй, изд. «Посредник», М., 1906, стр. 461—462.
83 Полное собрание сочинений, т. 37, 1955, стр. 212.
84 «Тургенев и круг «Современника», стр. 427—428.
85 Там же, стр. 437.
Сноски к стр. 224
86 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, изд. «Academia», M., 1934, стр. 72.
87 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 120.
88 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 40. Тургенев был в то время противником всякого критического отношения к западноевропейским государственным формам. В своих «Литературных воспоминаниях», написанных в 1868 г., он выражал недовольство «Письмом из Турина» Добролюбова, напечатанным в «Современнике» в 1861 г., находя, что Добролюбову не следовало «с ожесточением бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления». Это потому, что «даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром», следовало бы понять «всю несвоевременность (у нас в России в 1862 году) подобных нападений» (И. С. Тургенев. Сочинения, т. XI, Гослитиздат. 1934, стр. 406).
89 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 509.
90 «Архив села Карабихи», М., 1916, стр. 98.
91 П. Б[асистов]. Русская литература («Петербургские ведомости», 1857, № 210 от 28 сентября).
92 «Обзор литературных журналов» («Сын отечества», 1857, № 43, стр. 1051—1052).
Сноски к стр. 225
92а В Петербурге в то время существовал пансион для девиц г-жи Труба.
Сноски к стр. 226
93 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 14 августа 1909 г. Статья, о которой шла речь, — одна из статей, входящих в состав книги И. Щеглова «Подвижник слова» (1909).
94 2 августа 1857 г. Н. А. Мельгунов писал Герцену из Гунценбаха (близ Баден-Бадена): «Сюда приехал Ив. Тургенев дня на два, на три; с ним опять гр. Толстой. Этот объявил мне, что едет к вам» («Литературное наследство», т. 62, 1955, стр. 363).
Сноски к стр. 228
95 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 11 и 74.
96 «Московские ведомости», 1858, № 35 от 22 марта.
97 О деле Уотса Толстой мог прочесть в журнале «Русский вестник» за 1858 г., март, «Современная летопись», стр. 88—89 и 162—163.
Сноски к стр. 229
98 Сообщение об этом заседании палаты лордов было помещено в № 655 «Journal de Saint-Petersbourg» от 21 марта 1858 г.
99 Письмо Толстого к его дочери М. Л. Оболенской от 22 марта 1906 г. (Полное собрание сочинений, т. 76, 1956, стр. 128).
Сноски к стр. 230
1 H. A. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, M., 1952, стр. 338.
Сноски к стр. 231
2 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 334—336.
Сноски к стр. 232
3 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 360.
Сноски к стр. 233
4 Полное собрание сочинений, т. 38, 1936, стр. 50. Чернышевский объяснял некоторые места в письмах Гоголя к родным, производящие неблагоприятное впечатление, его религиозным фанатизмом. (Н. Г. Чернышевкий. Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1948, стр. 646—648.)
5 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952. стр. 360.
Сноски к стр. 234
6 Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 219.
Сноски к стр. 235
7 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 198—205, вариант № 7.
Сноски к стр. 236
8 «Записки мужа» напечатаны в томе 5 Полного собрания сочинений. 1931, стр. 220—221.
Сноски к стр. 237
9 24 декабря 1905 г. Толстой писал своему биографу П. И. Бирюкову: «До освобождения года за четыре или за три я отпустил крестьян на оброк» (Полное собрание сочинений, т. 75, 1956, стр. 66).
10 «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, вып. 2, изд. «Задруга», М., 1923, стр. 61, запись от 31 декабря 1904 г.
Сноски к стр. 240
11 Вариант этот напечатан в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 145—149.
12 Записано в записной книжке 28 октября 1870 г. (Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 129).
Сноски к стр. 241
13 Письмо к М. С. Сухотину от 15 января 1909 г. (Полное собрание сочинений, т. 79, 1955, стр. 31).
Сноски к стр. 242
14 В первый раз Н. Н. Толстой вышел в отставку в 1853 г., после чего уехал с Кавказа. Вторично поступил на военную службу в 1855 г.; получил отставку формально в 1858 г., но уже в 1857 г. фактически оставил службу.
Сноски к стр. 243
15 В 1910 г. Толстой читал в рукописи приготовленную к печати его переписку с А. А. Толстой. Относительно цитируемого письма он 8 марта записал в своем дневнике: «Вечер опять читал с умилением свои письма к Александре Андреевне. Одно — о том, что жизнь — труд, борьба, ошибки — такое, что теперь ничего бы не сказал другого» (Полное собрание сочинений, т. 58, 1934, стр. 23).
16 Цитата из стихотворения Шиллера «Тэкла».
Сноски к стр. 244
17 Письмо Анненкова к Тургеневу от 16 ноября 1857 г. («Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, М., 1934, стр. 72).
Сноски к стр. 245
18 Составленный Толстым проект реорганизации лесного хозяйства напечатан в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 259—261.
19 Напечатана в «Летописях Государственного литературного музея», кн. 2, М., 1938, стр. 262—265.
Сноски к стр. 246
20 «Тургенев и круг «Современника», М., 1930, стр. 442.
Сноски к стр. 247
21 П. И. Мельников (Печерский), 1819—1883, писатель-этнограф, бытописатель поволжского старообрядчества. В 1850-х годах писал обличительные повести.
22 И. В. Селиванов (1810—1882) — второстепенный, вскоре совершенно забытый беллетрист, помещавший свои рассказы в журналах и издавший их в 1857 г. отдельной книгой под заглавием «Провинциальные воспоминания. Из записок чудака».
23 «Тургенев и круг «Современника», стр. 423.
24 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 345.
25 Гончаров в то время работал над романом «Обломов».
Сноски к стр. 248
26 Мнение Вальтера Скотта Толстой прочитал, очевидно, в статье А. В. Дружинина «„Военные рассказы графа Л. Н. Толстого“, СПб., 1856. — „Губернские очерки“ Н. Щедрина», напечатанной в № 16 и 18 журнала «Русский вестник» за 1856 г. Переходя к разбору «Губернских очерков», Дружинин писал: «... Мы считаем нужным привести здесь один совет сэра Вальтера Скотта начинающим литераторам его времени. «Помните, господа, — говорил честный баронет своим младшим товарищам, — помните, что литература должна быть для нас посохом странника, а не костылем калеки. Любите искусство, служите ему, — но не опирайтесь на одно искусство, не забывайте иметь в жизни какую-нибудь практическую деятельность, кроме литературы» (А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. VII, 1866, стр. 255).
Сноски к стр. 249
27 «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 4, М., 1923, стр. 48—50.
28 «Жених. Картина провинциальных нравов» Салтыкова была напечатана в № 10 «Современника» за 1857 г. Салтыков не включал этой повести при своей жизни в собрание сочинений.
29 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 40.
30 Письмо Фета к Толстому от 20 июня 1876 г. Толстой знал это выражение Тургенева и сам употребил его по отношению к себе в письме к Тургеневу от 1 ноября 1857 г.
Сноски к стр. 250
31 «Тургенев и круг «Современника», стр. 343.
32 «Сборник Пушкинского дома на 1923 год», Пг., 1922, стр. 228.
Сноски к стр. 251
33 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 232—233.
34 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 44.
35 Там же, стр. 49.
36 К. И. Чуковский. Люди и книги шестидесятых годов, Л., 1934, стр. 260—261.
Сноски к стр. 252
37 К. И. Чуковский. Люди и книги шестидесятых годов, Л., 1934, стр. 262.
Сноски к стр. 253
38 «Тургенев и круг «Современника», стр. 422.
39 Там же, стр. 417.
40 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 340, письмо к Некрасову от 13 февраля 1857 г. — Современный советский литературовед отзывается о Селиванове следующим образом: «По существу рассказы Селиванова о чиновничьих плутнях и взяточничестве в политическом отношении не выходили за пределы «либерально-благонамеренного обличительства» частных недостатков режима николаевской империи, а в художественном отношении отличались натуралистической бедностью образов, эмпиризмом, отсутствием широких обобщений» («Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 484).
41 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 343.
42 «Тургенев и круг «Современника», стр. 341.
43 «Подводный камень» — роман М. В. Авдеева, появившийся в «Современнике» в 1860 г. «Роман Авдеева, изображающий свободную измену жены по добровольному согласию великодушного мужа, пришелся обществу как нельзя более по душе и возбудил сенсацию, несмотря на то, что, казалось бы, тема романа вовсе не блистала особенною новизною: она была сколком с известного романа Ж. Занд «Jack» и не раз уже разрабатывалась в нашей литературе» (А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы, СПб., 1893, стр. 186).
Сноски к стр. 254
44 Д. И. Писарев. Сочинения, т. 3, СПб., 1901, стр. 270.
45 П. Ковалевский. Стихи и воспоминания, СПб., 1912, стр. 275.
46 «Современник», 1866, 3, стр. 128.
47 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. X, 1952, стр. 355.
48 Обзор напечатанных в «Современнике» за 1857 г. обличительных повестей и рассказов дан в книге В. Евгеньева-Максимова «Современник» при Чернышевском и Добролюбове», Гослитиздат, Л., 1936, стр. 164—177. К обличительным призведениям автор причисляет и «Юность» Толстого, в которой выражено «критическое отношение к жизни господствующих классов».
Сноски к стр. 255
49 Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в трех томах, т. 2, М., 1952, стр. 421.
50 Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в трех томах, т. 2, М.. 1952, стр. 8—10, 58, 59. О мелочности обличительной литературы Добролюбов писал также в статьях о комедии Львова «Предубеждение» и о стихотворениях М. Розенгейма (Собрание сочинений в трех томах, т. 1, М., 1950. стр. 538—557 и 629—652).
Сноски к стр. 256
51 Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в трех томах, т. 2, М., 1952. стр. 430.
52 В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове», Л., 1936, стр. 164.
53 Полное собрание сочинений, т. 30, 1951, стр. 285. Близкий друг, упоминаемый здесь Толстым, — это его брат Сергей Николаевич.
54 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 10.
Сноски к стр. 257
55 В. На заре крестьянской свободы, «Русская старина», 1897, 10, стр. 11—12.
Сноски к стр. 259
56 «Русский архив», 1893, 4, стр. 372.
57 «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, М., 1934, стр. 77.
58 «Тургенев и круг «Современника», стр. 344.
59 Там же, стр. 75.
60 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 43.
Сноски к стр. 261
61 Все произнесенные на обеде 28 декабря 1857 г. речи напечатаны в № 24 «Русского вестника» за 1857 г. и затем были изданы отдельной брошюрой.
62 Эта не сказанная Кокоревым речь была напечатана в том же № 24 «Русского вестника», где появилось и описание обеда 28 декабря.
Сноски к стр. 263
63 Кокорев 16 января 1858 г. устроил другой обед в честь «эмансипации» у себя в доме; на обеде присутствовали и славянофилы, отказавшиеся участвовать в обеде 28 декабря, чтобы не раздражать правительство. Всего собралось около ста человек. Опять произносилось много торжественных речей. При встрече с Толстым 18 января славянофил Ю. Ф. Самарин рассказывал ему про этот обед у Кокорева. Его рассказы вызвали только одно замечание а дневнике Толстого: «Глупо».
Сноски к стр. 264
64 Эту третью редакцию «Сна» Толстой впоследствии, изменив первое лицо на третье, включил в первый том «Войны и мира» в виде сна Николая Ростова. При дальнейшей работе над романом Толстой выпустил всю главу, в которую входил этот сон. (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 498—499.) Первая редакция «Сна» напечатана в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 118—119. Цитаты из «Сна» даются по третьей редакции в ее первоначальном, не исправленном для «Войны и мира» виде.
Сноски к стр. 265
65 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 218.
66 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 14 августа 1905 г.
67 Из первой редакции «Семейного счастья» (Полное собрание сочинений, т. 5, 1931, стр. 173).
Сноски к стр. 266
68 Составленный Толстым проект устройства «Квартетного общества» напечатан в Полном собрании сочинений, т. 60, 1949, стр. 471—472.
69 Брат Толстого, Николай Николаевич, совершенно чуждый всякой светскости, по словам Фета, относился иронически к участию Льва Николаевича в светских развлечениях. Фет рассказывает про Н. Н. Толстого: «Он видимо обожал младшего своего брата Льва, но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях» (А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 217—218).
Сноски к стр. 267
70 Дальнейшая жизнь В. В. Талызиной сложилась следующим образом. Уже имея четверых детей, она оставила мужа с детьми ради новой любви. Муж не давал развода, и она могла узаконить свое замужество только после его смерти. В 1923 г. мне случилось встретиться с одной из дочерей В. В. Талызиной, Ольгой Анатольевной, до революции бывшей начальницей одной из московских женских гимназий. Когда я спросил О. А. Талызину, почему ее мать оставила ее отца, я был поражен ее ответом. Вот что ответила она мне на мой вопрос: «А вы помните, что Лев Николаевич писал про мою мать, когда она еще не была замужем, — что это такая натура, которая даже детей любить не в состоянии...»
71 Воспоминания Е. И. Сытиной, записанные с ее слов И. А. Гриневской, напечатаны в «Литературном наследстве», т. 37—38, 1939, стр 404— 411.
Сноски к стр. 268
72 Об увлечении А. Н. Чичериной Толстым писал ее брат Андрей Николаевич другому брату, Борису Николаевичу, приятелю Толстого: «Фонды Толстого понизились: глаза тамбовского архиерея заставили Сашу позабыть Льва Николаевича» («Письма Толстого и к Толстому», Госиздат, М., 1928, стр. 10).
Сноски к стр. 269
73 Н. Г. Рюмин (1793—1870) — откупщик, миллионер, происходивший из крепостных крестьян и получивший потомственное дворянство. В доме Рюминых в Москве, на Воздвиженке, по четвергам бывали танцовальные вечера. 30 января 1858 г. был четверг.
74 Выдержки из писем Д. Ф. Тютчевой публикуются впервые. Оригиналы — в Мурановском музее Ф. И. Тютчева.
Сноски к стр. 270
75 «Щукинский сборник», вып. 8. М., 1909, стр. 425.
76 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 88. П. С. Щербатова (1840—1925) вышла замуж за археолога, основателя Исторического музея в Москве, графа А. С. Уварова, сама много занималась археологией и была председательницей Археологического общества.
77 Полное собрание сочинений, т. 74, 1954, стр. 239.
78 Неопубликованное письмо П. И. Бирюкова к Толстому от 13 ноября 1903 г. Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 271
79 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 223—229.
80 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 15 ноября 1907 г.
Сноски к стр. 272
81 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, записи от 29 августа и 19 мая 1908 г.
82 В конце 1880-х годов Толстой, перечитывая стихотворения Тютчева, пометил это стихотворение буквами: Т. (это означало, что только Тютчев мог написать такое стихотворение) и Г. (глубина). С. Л. Толстой. Л. Н. Толстой о поэзии Ф. И. Тютчева («Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 142).
Сноски к стр. 274
83 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 372.
Сноски к стр. 275
84 Этот вариант появляется в печати впервые.
Сноски к стр. 277
85 «Архив села Карабихи», М., 1916, стр. 125.
86 Б. А. Взгляд на русскую литературу в 1858 году («Утро», Литературный сборник, М., 1859, стр. 77).
87 М. Ф. Литературные заметки («Северный цветок», 1858, 10, стр. 71).
Сноски к стр. 278
88 «Обзор журналов» («Сын отечества», 1859, 8, стр. 214).
Сноски к стр. 280
89 Полное собрание сочинений, т. 6, 1929, стр. 189, вариант № 3.
Сноски к стр. 283
89а Перевод с французского. Публикуется впервые.
90 И. М. Ивакин. Воспоминания (рукопись, Центральный гос. архив литературы и искусства, запись от 11 августа 1885 г.).
91 Полное собрание сочинений, т. 5, 1931, стр. 167.
Сноски к стр. 284
92 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 53.
93 «Текущая литература» («Русский мир», 1859, 10, стр. 242).
94 Ф. М. Литературные заметки («Северный цветок», 1859, 4, стр. 54).
Сноски к стр. 285
95 Д. И. Писарев. Сочинения, изд. Ф. Павленкова, т. I, СПб., 1909, стр. 211—220.
Сноски к стр. 286
95а Быть может, это одна из трех заметок о военно-уголовном законодательстве, напечатанная (под литерой «Б») в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 238—239.
Сноски к стр. 287
96 Полный текст обращения редакции «Современника» до сих пор не найден. Неполный текст напечатан в «Литературном наследстве», т. 53—54, 1949, стр. 292—293.
97 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1952, стр. 379.
Сноски к стр. 288
98 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 110.
99 Там же, стр. 93. Теплое воспоминание Толстого о «Современнике», относящееся к 1894 г., записано Г. А. Русановым. Увидав у Русанова книжку «Современника» за 1857 г. с рассказом своего брата Николая Николаевича, Толстой стал перелистывать книгу. «На него, видимо, как бы нахлынули воспоминания далекого прошлого. Выражение лица его было растроганное. Он замолчал. — «Да, все это прошло!» — сказал он потом, вздохнув. В голосе его были и грусть и умиление. — «А как хороша эта статья брата. И вообще хорошие тут вещи... Кто тут еще? Островский, его «Праздничный сон до обеда», Фет... Все это прошло...» (А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронеж, 1937, стр. 182).
100 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 231.
Сноски к стр. 289
101 Необъяснимую запись находим в дневнике Т. Г. Шевченко о его встрече с Толстым, будто бы состоявшейся 8 апреля 1858 г. За этот день в дневнике Шевченко записано: «Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику, и между многими поляками встретил у него и людей русских, между которыми и две знаменитости: графа Толстого, автора солдатской севастопольской песни, и защитника Севастополя, генерала Хрулева» (Дневник Т. Г. Шевченко, Гослитиздат, М., 1954, стр. 269—270). В действительности Толстой 8 апреля 1858 г. был в Москве, а на другой день уехал в Ясную Поляну, так что свидание его в этот день с Шевченко, жившим тогда в Петербурге, никак не могло состояться. Прибавлю еще, что Толстой никогда ни в дневниках, ни в письмах, ни в устных разговорах не упоминал ни о какой своей встрече с Шевченко.
Сноски к стр. 290
102 «Письма Толстого и к Толстому», Госиздат, М., 1928, стр. 264.
103 «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов», М., 1929. стр. 213.
Сноски к стр. 291
104 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 40.
105 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М., 1930, стр. 123—124.
106 Письмо Боткина к Толстому от 13 мая 1859 г. («Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 4, М., 1923, стр. 79).
Сноски к стр. 294
1 Тапотировать (французское tapoter) — бренчать на рояле.
Сноски к стр. 295
2 Два варианта письма Ржавского напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 190—194, вариант № 4. В окончательный текст «Казаков» Толстой этих своих наблюдений об отсутствии у молодого казака (который там носит имя Лукашка) всякого мерила дурного и хорошего не ввел.
Сноски к стр. 296
3 Данный вариант напечатан в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929. стр. 194—198.
Сноски к стр. 297
4 В дневнике Толстого под 31 января 1858 г. записано, что он разговаривал с Чичериным и Перфильевым «славно» о красоте, которая «давит — и расступись».
Данный вариант напечатан в «Литературном наследстве», т. 35—36, 1939, стр. 278—284.
Сноски к стр. 298
5 Вариант напечатан как «продолжение повести» в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 153—157.
Сноски к стр. 299
6 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 104.
7 Там же, стр. 96.
8 Об этой же статье Боткин тогда же писал Анненкову (письмо напечатано в книге: «П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 572). Полный перевод «Детства» и «Отрочества» на английский язык был выполнен близкой знакомой Герцена Мельвидой Мейзенбуг и появился в Лондоне в 1862 г. Во французском переводе выдержки из «Детства» и «Отрочества» появились в журнале «Revue des deux Mondes» за 1863 г.
9 Письмо Фета к Толстому от 12 июля 1858 г. Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого; не опубликовано.
Сноски к стр. 300
10 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 237.
11 Д. П. Маковицкий. Записи рассказов М. Н. Толстой, рукопись, архив Н. Н. Гусева.
12 А. В. Цингер. У Толстого («Международный Толстовский альманах», составленный П. А. Сергеенко, М., 1909, стр. 386).
Сноски к стр. 301
13 В № 20 «Тульских губернских ведомостей» от 17 мая 1858 г. появилось следующее объявление: «Крапивенского уезда в сельце Ясных Полянах... продаются в оранжерейном заведении персиковые деревья, сливы и груши лучших сортов, более 250 кадок, которые желающие могут взять в арендное содержание».
14 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 237.
15 «Письма к А. В. Дружинину», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 328.
Сноски к стр. 302
16 «Анна Каренина», ч. 3, гл. XXVIII—XXX.
17 Там же, гл. IV—VI
Сноски к стр. 303
18 «Анна Каренина», ч. 3, гл. XXXII.
Сноски к стр. 304
19 Из вставок Толстого 1904 г. в его «Биографию», составленную П. И. Бирюковым (Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 395).
20 Е. Г. Волконская. Род князей Волконских, СПб., 1900, стр. 720.
Сноски к стр. 305
21 Письмо к А. А. Толстой от 12 октября 1859 г.
Сноски к стр. 306
22 Это заявление Толстого, текст которого неизвестен, упоминается в книге М. Т. Яблочкова: «Дворянское сословие Тульской губернии», т. V, ч. 1, Тула, 1904, стр. 67, а также в статье В. И. Крутикова «Тульский губернский дворянский комитет 1858—1859 гг.» («Ученые записки Тульского Гос. Педагогического института», вып. 3, Тула, 1952, стр. 29). Вероятно, с подачей этого заявления связана запись в дневнике Толстого, сделанная им в Москве 24 февраля 1858 г. после поездки в Ясную Поляну и Тулу: «Я эманципатор». Слово «эманципатор» Толстым подчеркнуто и снабжено четырьмя восклицательными знаками.
23 М. Т. Яблочков. Дворянское сословие Тульской губернии, т. V. ч. 1, Тула, 1904, стр. 68.
Сноски к стр. 308
24 Граф Алексей Павлович Бобринский — богатый помещик Богородицкого уезда, впоследствии министр путей сообщения.
25 «Мурановский сборник», вып. 1, Мураново, 1908, стр. 109—112.
26 М. Т. Яблочков. Дворянское сословие Тульской губернии, т. V, ч. 1, Тула, 1904, стр. 73—74.
Сноски к стр. 309
27 Трудно сказать, кого имел в виду Толстой, говоря о «племяннице» Тургенева, так как у И. С. Тургенева никаких племянниц не было. Уже в старости Толстой весело вспоминал этот отзыв о себе, о чем читаем в неопубликованных «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого под 8 августа 1907 г.: «Лев Николаевич рассказал, что у Тургенева была племянница Варя, которая говорила ему [Тургеневу], что она никогда не видела более безобразного человека, чем Толстой».
Сноски к стр. 310
28 Оригинал написан по-французски. Письмо не опубликовано; хранится в архиве Музея усадьбы Мураново.
29 Впоследствии Толстой причислял Е. Ф. Тютчеву к разряду людей «очень холодных, умных и тонких» (письмо к Н. Н. Страхову от 6 марта 1874 г. Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 70).
30 Любопытна реакция А. А. Толстой на это сообщение Толстого. Оно ее не обрадовало, так как она очень желала видеть своего Льва женатым. В ответном письме от 17 апреля она писала: «Что касается Ек. Тютчевой и вашей гордости победы над собой, я нахожу ее просто достойной сожаления. Берегитесь, наступит время возмездия — в сорок лет вас охватит буйная страсть, и в сорок лет вы будете чувствовать себя молодым. Предсказываю вам это». (Оригинал по-французски. Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого).
Сноски к стр. 311
31 В Ясной Поляне, по сообщаемым Толстым в этом очерке данным, было в то время 62 тягла. (Тяглом в эпоху крепостного права называлась хозяйственная единица, состоящая из одной крестьянской рабочей семьи.) Каждое тягло платило по 26 рублей серебром оброка, имея в своем пользовании 4¾ десятины пахотной земли, полдесятины усадьбы и одну десятину луга. Кроме того, каждое тягло должно было выработать в рабочую пору 20 «бабьих» дней и доставить 5 подвод в Тулу; 3 тягла оставались попрежнему на барщине. В другом небольшом имении (Груманте или Грецовке) было 10 тягол, которые все были на оброке, платя по 36 рублей серебром с тягла и имея в своем пользовании 10 (или 12 — невозможно разобрать из-за кляксы) десятин пахотной земли, ¼ десятины усадьбы и одну десятину луга.
Сноски к стр. 312
32 Очерк «Лето в деревне» напечатан в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 262—265.
Сноски к стр. 313
33 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 245—253 (вариант № 23).
Сноски к стр. 314
34 Толстой и впоследствии твердо держался того взгляда, что инициатива освобождения крестьян принадлежала не правительству Александра II, а передовым, просвещенным людям дворянского класса. В статье «Великий грех» (1905) он писал: «Освобождение крестьян в России совершено не Александром II, а теми людьми, которые поняли грех крепостного права и старались, независимо от своей выгоды, избавиться от него; преимущественно же совершено такими людьми, как Новиков, Радищев, декабристы, — теми людьми, которые готовы были страдать и страдали сами... ради верности тому, что они признавали правдой» (Полное собрание сочинений, т. 36, 1936, стр. 228). Также и в очерке «Три дня в деревне» (1910) Толстой писал: «В пятидесятых годах лучшие люди общества, преимущественно сами дворяне, владельцы крепостными, поняв преступность своего положения, разъяснили правительству необходимость отмены этого явно несвоевременного и безнравственного права, и крепостное право уничтожилось» (Полное собрание сочинений, т. 38, 1936, стр. 27).
Сноски к стр. 315
35 Черновая редакция «Записки о дворянском вопросе» напечатана в Полном собрании сочинений, т. 5, 1931, стр. 266—270.
Сноски к стр. 316
36 Хорошо знавший Архипа Осташкова С. И. Васюков описывает его такими чертами: «Архип, пскович, худой, стройный, жилистый, среднего роста, был серьезный, даже суровый человек, если бы не мягкая, почти нежная улыбка, придававшая столько непосредственной симпатии его чертам лица с небольшой белокурой бородкой. Про Архипа ходили целые легенды. От него не ушел ни один медведь, на которого он свободно ходил один на один. Выносливость его бегать на лыжах была поистине изумительна: целые десятки верст обойдет Архип по сугробам и лесам и наверняка подведет к зверю» (С. И. Васюков. Былые дни и годы. «Исторический вестник», 1908, 1, стр. 118).
Сноски к стр. 317
37 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 18 марта 1907 г.
38 Рассказ «Охота пуще неволи» был напечатан в «Азбуке» Толстого, вышедшей в свет в 1872 г. Рассказ «Медвежья охота» напечатан в Полном собрании сочинений, т. 21, 1957.
39 Н. Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения, изд. Толстовского музея, М., 1927, стр. 280.
40 Выделанная шкура медведицы впоследствии служила Толстому в качестве ковра. В настоящее время эта шкура хранится в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Москве.
Сноски к стр. 318
41 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 51.
42 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1952, стр. 396.
Сноски к стр. 319
43 «Русская старина», 1900, I, стр. 19.
44 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М., 1930, стр. 156.
45 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 305.
Сноски к стр. 320
46 «Русская мысль», 1902, 1, стр. 120.
47 «Новый мир», 1927, 9, стр. 157.
48 Письмо Дружинина к Боткину от 19 августа 1855 г. («Письма А. В. Дружинина», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 41).
49 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М., 1930, стр. 338, комментарии Н. Л. Бродского. О взаимном увлечении Тургенева и М. Н. Толстой рассказывает Е. И. Сытина в своих воспоминаниях («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 406).
50 В одном из отброшенных начал «Войны и мира», где главным действующим лицом является князь Андрей Волконский, в характеристике князя, в числе других его достоинств, упоминается и то, что «за всю его жизнь никто не мог сказать, чтобы знал за ним... волокитство за замужней женщиной или девушкой, на которой бы он не имел намерения жениться» (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 174).
Сноски к стр. 321
51 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 151.
52 Письмо не опубликовано; хранится в Архиве Пушкинского дома в Ленинграде.
53 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. Изд. «Academía», M., 1936. стр. 57.
54 См. также статью А. Хирьякова «Мария Николаевна Толстая» («Речь», 1912, № 95 от 8 апреля 1912 г.). Шестнадцать писем Тургенева к М. Н. Толстой напечатаны в «Звеньях», т. I, 1932 г.; шестнадцать писем к ней же напечатаны в сборнике «И. С. Тургенев», изд. Государственной библиотеки СССР им. Ленина, М., 1940, стр. 102—116. Одно письмо М. Н. Толстой к Тургеневу, относящееся к 1871 г., напечатано в «Летописях Гос. литературного музея», т. 12, 1948, стр. 99.
Сноски к стр. 322
55 А. С. Хомяков. Сочинения, т. III, M., 1900, стр. 414.
Сноски к стр. 323
56 Речь Толстого в Обществе любителей российской словесности напечатана в Полном собраний сочинений, т. 5, 1931, стр. 271—273.
Сноски к стр. 324
57 А. С. Хомяков. Сочинения, т. II, М., 1900, стр. 418—419. Сочувствие славянофилов обличительной литературе Аполлон Григорьев объяснял тем, что славянофильство «приняло под свое покровительство» обличительную литературу «как разъяснение и кару официально-общественной гнили», т. е. направления политики самодержавия с Петра I (А. Григорьев. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой, М., 1916, стр. 10).
Сноски к стр. 326
58 Полное собрание сочинений, т. 30, 1951, стр. 427.
59 Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 152.
Сноски к стр. 327
60 Дневники А. А. Толстой хранятся в Центральном архиве литературы и искусства; не опубликованы.
61 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 14.
62 Повесть М. А. Петрова «Саргина могила» появилась в февральской книжке «Библиотеки для чтения» за 1859 г.
63 «Письма к А. В. Дружинину», Гос. литературный музей, М., 1948, стр. 57.
Сноски к стр. 329
64 Природа «постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем» («Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 322).
Сноски к стр. 330
65 «Письма к А. В. Дружинину». Гос. Литературный музей, М., 1948, стр. 57.
66 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М., 1930, стр. 153.
67 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 321.
68 Там же, стр. 320.
69 Там же, стр. 324.
Сноски к стр. 331
69а Полное собрание сочинений, т. 90, 1957.
70 «Л. Н. Толстой. Сборник статей и материалов», изд. Академии наук СССР. М., 1951, стр. 702.
Сноски к стр. 332
71 Письмо Боткина к Тургеневу от 6 апреля 1859 г. («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М., 1930, стр. 152).
Сноски к стр. 333
72 Полное собрание сочинений, т. 74, 1954, стр. 239.
73 Француженка Анна Серон, прожившая в 1880-х годах шесть лет в доме Толстых в качестве гувернантки его детей, писала в своих воспоминаниях, что у Толстого «рука теплая и верная, рука истинно благородного человека» (Анна Серон. Граф Лев Толстой, М., 1896, стр. 186).
Сноски к стр. 335
74 Из первой редакции «Семейного счастья» (Полное собрание сочинений, т. 5, 1931, стр. 178).
Сноски к стр. 336
75 Письмо Боткина Тургеневу от 6 апреля 1859 г. («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 153).
Сноски к стр. 337
76 Оба письма Боткина к Толстому от 6 и 13 мая 1859 г. напечатаны в сборнике «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 4, М., 1923, стр. 70—79.
77 Ф. М. Библиографические вести («Северный цветок», 1859, № 22).
Сноски к стр. 338
78 Н. Н. Русская литература («С.-Петербургские ведомости», 1859. № 155 от 18 июля).
79 «Обзор замечательных явлений русской журналистики за истекший год» («Сын отечества», 1860, 5).
80 А. Григорьев. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой («Время», 1862, 1, стр. 6).
Сноски к стр. 340
81 Некоторые эпизоды, связанные с этой охотой, рассказаны в воспоминаниях Д. Д. Оболенского «Отрывки» («Международный толстовский альманах», составленный П. А. Сергеенко, М., 1909, стр. 239—241). Д. Д. Оболенский сообщает также, что на одной из дневок Толстой набросал юмористический рассказ «Фаустина и Паулина», действующими лицами которого были носившие эти имена две гувернантки одного из участников охоты — П. П. Глебова. Рукопись этого рассказа не сохранилась.
82 Письма Фета от 17 сентября и Борисова от 27 сентября не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
83 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 311.
Сноски к стр. 341
84 «С.-Петербургские ведомости», 1859, № 238 от 3 ноября.
Сноски к стр. 342
85 Дружинин отказался выполнить это поручение Толстого, т. е. заявить о выходе его из членов Литературного фонда.
Сноски к стр. 343
1 Это письмо к Чичерину помечено Толстым 30 февраля. Описку эту, всего вероятнее, следует исправить на 30 января.
Сноски к стр. 344
2 «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом ученика яснополянской школы Василия Степановича Морозова» были изданы книгоиздательством «Посредник» в 1917 г. Это — драгоценный материал для истории яснополянской школы.
3 «О свободном возникновении и развитии школ в народе» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 171). В дальнейшем все ссылки на педагогические статьи Толстого даются по этому изданию.
4 Там же, стр. 173.
Сноски к стр. 345
5 Н. В. Чехов. Народное образование в России с 60-х годов XIX века, М., 1912, стр. 6—7.
6 «О народном образовании» (т. 8, стр. 5).
7 «О свободном возникновении и развитии школ в народе» (т. 8, стр. 161—163).
Сноски к стр. 346
8 Замечания на «Проект устава низших и средних школ» (т. 8, стр. 388).
9 «Вступление» (т. 8, стр. 403).
10 «О народном образовании» (т. 8, стр. 13).
Сноски к стр. 347
11 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (т. 8, стр. 30—31).
12 Советский педагог В. Я. Струминский так характеризует принцип свободы обучения, которого придерживался Толстой: «Под свободой Толстой понимает ту непринужденность обучения, которая создается, когда педагог является мастером своего дела. Тот педагог, который вынужден в той или иной степени прибегать к насилию, чтобы поддерживать порядок в школе, очевидно, еще не владеет своим педагогическим искусством полностью. Выдвигая критерий свободы в педагогике, Толстой хотел стимулировать педагога к непрерывному совершенствованию в своем деле». (В. Струминский. Журнал «Ясная Поляна» Л. Н. Толстого — «Советская педагогика», 1942, 1—2, стр. 70).
Сноски к стр. 348
13 Статья «О народном образовании» (1874), Полное собрание сочинений, т. 17, 1936, стр. 104.
14 «О методах обучения грамоте» (т. 8, стр. 132).
15 А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронеж, 1937, стр. 125.
16 «Наше время», 1860, № 20 от 29 мая.
Сноски к стр. 351
17 Внутренние известия («Киевский телеграф», 1860, № 47 от 26 июня).
18 Н. Ч-ев. Библиография («Киевский телеграф», 1860, № 61 от 14 августа, стр. 252).
Сноски к стр. 352
19 Интересно, что почти одновременно с Толстым, мысль об основании Общества народного образования возникла также и у Тургенева. В августе 1860 г., когда Тургенев находился за границей, он вместе с Анненковым и другими русскими составил программу деятельности «Общества для распространения грамотности и первоначального образования». Был составлен также текст циркуляра для рассылки его, по выражению Анненкова, «всем выдающимся лицам обеих столиц: художникам, литераторам, ревнителям просвещения и влиятельным особам». В циркуляре этом содержалась просьба принять участие в основании общества и в распространении программы его деятельности. Однако дальше распространения циркуляра и программы деятельности предположенного общества дело не пошло. (П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПб., 1909, стр. 528—531). Текст программы деятельности Общества напечатан в «Вестнике Европы», 1885, № 5.
Сноски к стр. 354
20 Статья Толстого, о которой идет речь, была напечатана впервые в 1936 г. под данным ей редактором названием «О задачах педагогии» (т. 8, стр. 382—383).
Сноски к стр. 355
21 Подобную же мысль находим и у Добролюбова: «Познания могут быть приобретаемы только аналитическим путем; сама наука развивалась таким образом; а между тем даже в самом первоначальном обучении начинают у нас с синтеза! Порядок совершенно извращенный, от которого происходят в занятиях неясность, запутанность» (Н. А. Добролюбов. Избранные педагогические высказывания. М., 1939, стр. 64).
22 «Педагогические заметки и материалы», датированные 5 марта 1860 г., напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 377—381.
Сноски к стр. 356
23 Черновая программа журнала «Сельский учитель» напечатана в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 392—394.
Сноски к стр. 357
24 Замечания Толстого на «Проект устава низших и средних школ» напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 388—391.
Сноски к стр. 358
25 «Дворниками» в эпоху крепостного права назывались вольноотпущенные крестьяне, не состоявшие в крестьянской общине.
Сноски к стр. 360
26 Черновая редакция статьи «О народном образовании», написанная в 1860 г., Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 414—415.
27 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 21 июля 1894 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 469).
Сноски к стр. 361
28 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 362
29 «Русское слово», 1912, № 257 от 7 ноября.
Сноски к стр. 363
30 Приживалка Т. А. Ергольской Н. П. Охотницкая находила, что Толстой «принял грубые манеры», «бывши с мужиками, с которыми он пахал и косил» (неопубликованное письмо Т. А. Ергольской к М. Н. Толстой от 11 августа 1860 г.). Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
Сноски к стр. 364
31 Неопубликованное письмо М. Н. Толстой к Л. А. Дельвиг от 26 июня 1860 г. Хранится в Центральном гос. архиве литературы и искусства.
Сноски к стр. 365
1 В этой главе даты путешествия Толстого даются по новому стилю.
Сноски к стр. 366
2 Р. Левенфельд. Граф Л. Н. Толстой. Его жизнь, произведения и миросозерцание, М., 1897, стр. 161.
Сноски к стр. 367
3 Утверждение Р. Левенфельда, будто бы Толстой ездил в Вартбург, чтобы посетить то место, которое играло такую значительную роль в жизни Лютера (Р. Левенфельд. Граф Л. Н. Толстой. Его жизнь, произведения и миросозерцание, М., 1897, стр. 169), повторенное также П. И. Бирюковым («Биография Льва Николаевича Толстого», т. I, М. — Пг., 1923, стр. 186), лишено всякого основания.
4 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 384—385.
Сноски к стр. 368
5 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 1, М., 1922, стр. 62, запись от 31 декабря 1904 г.
6 Там же.
Сноски к стр. 369
7 Julius Fröbel. Ein Lebenlauf, B. II, Stuttgart, 1891, S. 74—75. Цитаты приведены в переводе с немецкого.
Сноски к стр. 371
8 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 18 июня 1906 г.
9 Там же, запись от 24 июля 1906 г. Тот же разговор записан в дневнике А. Б. Гольденвейзера под 28 июля 1906 г. (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, М., 1922, стр. 180).
10 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 7 января 1907 г.
11 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 372
12 Полное собрание сочинений, т. 60, 1949, стр. 349.
Сноски к стр. 373
13 Данный вариант напечатан в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 157—161.
14 Полное собрание сочинений, т. 59, 1935, стр. 149.
Сноски к стр. 374
15 Архив Пушкинского дома в Ленинграде.
16 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 217.
17 «Звенья», 1932, I, стр. 293.
18 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, стр. 349.
19 Там же, стр. 353.
20 Евгений Гаршин. Воспоминания о Тургеневе («Исторический вестник», 1883, 11, стр. 388).
Сноски к стр. 375
21 Вел. кн. Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов, т. I, СПб., 1903, стр. 42 и 81.
22 Полное собрание сочинений, т. 55, 1937, стр. 178.
23 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 9 января 1906 г.
24 «Воспоминания», гл. I.
25 «Охота на Кавказе» была напечатана в № 2 «Современника» за 1857 г. Отдельным изданием появилась в 1922 г. в Москве (изд. Сабашниковых) с предисловием М. О. Гершензона.
Сноски к стр. 376
26 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», M. — Л., 1930, стр. 52.
27 «Наша старина», 1914, стр. 1072.
28 «Толстой и Тургенев. Переписка», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928, стр. 40.
29 «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», изд. «Academia», M. — Л., 1930, стр. 104.
30 «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia», M. — Л., 1930, стр. 396.
31 Там же, стр. 77.
Сноски к стр. 377
32 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 333.
33 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 217—218.
34 А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронеж, 1937, стр. 182. Запись относится ко 2 апреля 1894 г.
35 «Красная новь», 1926, № 5 и 7, со вступительной статьей А. Грузинского «Писатель Н. Н. Толстой».
36 Альманах «Охотничье сердце» под редакцией Н. Смирнова, М., 1927.
Сноски к стр. 378
37 «Красная новь», 1926, 5, стр. 126.
38 «Очень высоким» Толстой показался мальчику Плаксину в силу контраста с его собственным малым ростом. Роста Толстой был выше среднего, но не «очень высокий».
39 Сергей Плаксин. Граф Л. Н. Толстой среди детей, изд. Сытина, М., 1903, стр. 15—16.
Сноски к стр. 379
40 Сергей Плаксин. Граф Л. Н. Толстой среди детей, изд. Сытина, М., 1903, стр. 16, 19.
41 «О народном образовании» (т. 8, стр. 18 и 19).
42 Там же, стр. 19 и 20.
Сноски к стр. 385
43 Стихи взяты из стихотворения Шиллера «Würde der Frauen» («Достоинство женщин»). В наборной рукописи начала «Декабристов», переписанной рукою С. А. Толстой, приведенные стихи Шиллера зачеркнуты и на полях неизвестной рукой заново написан их текст, причем ошибка, сделанная Толстым («unsichtbare» вместо «himmlische») исправлена, но сделана новая ошибка: «pflegen» вместо «flechten». С этой ошибкой текст «Декабристов» печатался во всех изданиях.
44 Варианты «Декабристов» напечатаны в томе 17 Полного собрания сочинений, вышедшем в 1936 г.
Сноски к стр. 386
45 Упоминание об этом поступке министра Чернышева находим в главе XV повести Толстого «Хаджи Мурат».
Сноски к стр. 389
46 Е. В. Оболенская. Моя мать и Лев Николаевич («Октябрь», 1928, № 9—10, стр. 214). Упоминание об этой же процессии находим в письме Толстого к А. А. Толстой от 6 декабря 1860 г.: «... Так гадко было их суеверие и комедия, и завидно было, что оно им весело — приятно».
Сноски к стр. 390
47 Письмо не опубликовано; хранится в Центральном Гос. архиве литературы и искусства.
48 П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. I, М. — Пг., 1923, стр. 192.
49 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 29 июля 1909 г.
Сноски к стр. 391
50 «Недели две здесь провел граф Толстой» (письмо Вас. Петр. Боткина к брату Мих. Петр. Боткину от 16 января 1861 г. — «Литературная мысль», 1923, II, стр. 166).
51 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, M., 1922, стр. 126, запись от 5 июня 1904 г.
52 Письмо к Т. Л. Толстой от 1 ноября 1889 года (Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 325).
53 Тургенев 10 (22) января 1861 года писал Фету из Парижа: «От Л. Толстого получено письмо из Ливорно, в котором он объявляет о своем намерении ехать в Неаполь и в то же время хочет быть здесь в феврале, чтобы лететь в Россию» (А. Фет. Мои воспоминания, т. I, 1890, стр. 362). Это письмо Толстого, как и большинство его писем к Тургеневу, неизвестно.
Сноски к стр. 392
54 Трудно предположить, что запись относится к рассказам «Тихон и Маланья» и «Идиллия», как считает редактор т. 7 (стр. 352) и т. 48 (стр. 449) Полного собрания сочинений Толстого А. С. Петровский.
55 Письмо к Т. Л. Толстой от 1 ноября 1889 г. (Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 325).
56 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 26 июня 1905 г.
57 С. Л. Толстой. Очерки былого, Гослитиздат, М., 1949, стр. 100.
58 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 5 января 1906 г.
59 Письмо П. И. Бирюкова к Толстому от 26 ноября 1903 г. Не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
60 «Литературная мысль», 1923, II, стр. 168.
Сноски к стр. 393
61 Это свидание произошло 24 августа 1909 г.
62 «Литературная мысль», 1923, II, стр. 168 (сноска).
63 С. Л. Толстой. Очерки былого, М., 1949, стр. 100.
64 Письмо от 31 марта 1875 г. (Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 164).
65 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 259—260.
Сноски к стр. 394
66 Статья Левенфельда была напечатана в «Frankfurter Zeitung» 9—10 сентября (нов. ст.) 1898 года. Русский перевод с сокращениями — в «Биржевых ведомостях» от 8 сентября 1898 года под заглавием: «У графа Толстого».
67 Привезенные Толстым из-за границы тетради школьников хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
68 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья третья (т. 8, стр. 123).
Сноски к стр. 395
69 П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПб., 1909, стр. 533—534.
70 «Литературная мысль», 1923, II, стр. 167—168.
Сноски к стр. 396
71 Мэтью Арнольд (1822—1888) — впоследствии известный английский писатель, высоко ценимый Толстым. По рекомендации Толстого были переведены на русский язык и изданы две работы М. Арнольда: «Задачи художественной критики» и «Литература и догма».
72 Публикуется впервые; письмо хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
73 Письма Лингена от 11 марта 1861 г. и У. Рожера от 15 апреля того же года не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
74 Упоминание об этом находим в статье Толстого «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (т. 8, стр. 271—272).
Сноски к стр. 397
75 Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 252—253.
76 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 395—398.
77 Из книг, помеченных Толстым в указанном выше списке, в настоящее время в Яснополянской библиотеке имеются три книги: «Катехизис агрономической химии и геологии» Джонстона, «Алгебра» Тэта и «Основные понятия арифметики» Верней.
78 «Толстой о литературе и искусстве», записи П. А. Сергеенко («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 557); Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки, вып. 2, М., 1923, стр. 34, запись от 9 февраля 1905 г.
Сноски к стр. 398
79 Повесть «Поликушка», гл. I.
80 Письмо к Фету от 24 августа 1875 г. (Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 199).
81 «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Женева, 1892, стр. 106.
82 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под редакцией М. К. Лемке, т. VIII, 1917, стр. 398—399.
83 «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Женева, 1892, стр. 108.
84 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 9.
Сноски к стр. 399
85 Пальмерстон — модное в то время длинное пальто.
86 То же читаем в неопубликованных «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого, где под 18 сентября 1908 г. записаны следующие слова Толстого: «Герцен мне очень нравился. Раз он напал на меня. У него был поляк, и я при нем сказал что-то про поляков. Он мне потом сказал: «Это только русский может быть так бестактен».
87 П. Сергеенко. Толстой и его современники, М., 1911, стр. 13 и 14.
88 Пятилетняя дочь Герцена и Огаревой, носившая фамилию Огарева.
89 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XI, 1919, стр. 43—44 и 46.
Сноски к стр. 400
90 В действительности Толстой пробыл в Лондоне не больше шестнадцати дней.
91 Полное собрание сочинений, т. 75, 1956, стр. 71.
92 Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания, изд. «Academia», Л., 1929, стр. 294—296. Но утверждение Огаревой, будто бы Толстой у Герцена встречался с Тургеневым и вел с ним горячие споры, причем они «говорили друг другу весьма неприятные вещи», неверно, потому что Тургенев в то время жил в Париже и не мог бывать у Герцена.
Дочь Герцена Наталья Александровна, которой было в то время 16 лет, рассказывала Н. Н. Ге-сыну, что она присутствовала при свидании ее отца с Толстым, когда разговор шел о петушиных боях (письмо П. И. Бирюкова к Толстому от 9 апреля 1904 г., хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого). Больше ничего не осталось у нее в памяти от беседы двух замечательных людей.
Сноски к стр. 402
93 «Литературное наследство», т. 41—42, 1941, стр. 419.
94 С. Л. Толстой. Очерки былого, Гослитиздат, М., 1949, стр. 101—102.
95 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, M., 1922, стр. 230, запись от 5 августа 1908 г.
96 «Толстой и Тургенев. Переписка», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928, стр. 56.
97 Стихотворение напечатано в «Литературном наследстве», т. 61, 1953, стр. 629—630.
98 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, стр. 287, запись от 12 августа 1909 г.
Сноски к стр. 403
99 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 18 сентября 1908 г.
100 Там же, запись от 29 декабря 1906 г.
101 А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронеж, 1937, стр. 166—167. Высказывание Толстого относится к 1890 г. (у Русанова ошибочная дата — 1889 г.).
Сноски к стр. 404
102 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 55—56.
103 «Письма Толстого и к Толстому», Госиздат, М., 1928, стр. 285, 287.
104 Фридрих Бейст — реакционный министр иностранных и внутренних дел в Саксонии.
Сноски к стр. 406
105 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 59.
Сноски к стр. 408
106 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, 1920, стр. 466—510.
107 Три последних слова напечатаны в статье Герцена заглавными буквами.
Сноски к стр. 409
108 Ирония по поводу начальных слов манифеста: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ»...
109 «Записки Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина», вып. 2, М., 1939, стр. 50.
110 «Русский архив», 1894, 2, стр. 232.
Сноски к стр. 410
111 А. Ф. Писемский. Взбаламученное море, часть пятая, гл. VI.
112 Воспроизведена в «Литературном наследстве», т. 41—42, 1941, стр. 507.
113 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XI, 1919, стр. 57—58.
114 Письмо к П. И. Бирюкову от 15 апреля 1904 г.; неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, записи от 20 мая, 28 августа и 6 октября 1905 г.
Сноски к стр. 411
115 «Литературное наследство», т. 15, 1934, стр. 284.
116 Письмо к П. И. Бирюкову от 15 апреля 1904 года.
117 П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 1, Госиздат, М. — Пг., 1923, стр. 195. Следует, однако, заметить, что «мнения» Прудона во многом были противоположны мнениям Толстого. Прудон был апологетом войны и «права сильного».
118 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 405.
Сноски к стр. 412
119 P. J. Proudhon. Correspondance, X, 340—341.
120 «Литературное наследство», т. 15, 1934, стр. 284.
121 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XI, 1919, стр. 110—111.
Сноски к стр. 413
122 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, 1929, стр. 265.
123 А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, М., 1955, стр. 67.
Сноски к стр. 414
124 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, СПб., 1919, стр. 545.
125 И. М. Ивакин. Воспоминания, Центральный Гос. архив литературы и искусства, запись от 10 июля 1885 г.; письмо Толстого к П. И. Бирюкову от 15 апреля 1904 г.; Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 1, М., 1922, стр. 55, запись от 27 декабря 1904 г.
Сноски к стр. 415
126 Отрывок напечатан в Полном собрании сочинений, т. 8, 1936, стр. 399—401.
Сноски к стр. 416
127 «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов», М., 1929, стр. 217.
128 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 1, М., 1922. стр. 56, запись от 27 декабря 1904 г.
Сноски к стр. 418
129 Все упоминаемые здесь письма М. Н. Толстой и Е. А. Голицыной хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
130 Об этом сообщает С. А. Толстая в «Кратком биографическом очерке, написанном со слов гр. Л. Н. Толстого 25 октября 1878 года» (хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого).
131 Полное собрание сочинений, т. 7, 1932, стр. 345.
132 Главным образом по сортам бумаги, на которой они написаны.
133 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, стр. 114—115.
Сноски к стр. 419
134 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, стр. 111—114.
135 Там же, стр. 106—109.
136 Там же, стр. 115—116.
Сноски к стр. 420
137 Не исключена возможность, что этот отрывок связан с замыслом рассказа «Тихон и Маланья» (см. следующую главу). Так помечено в копии С. А. Толстой, сделанной ею в конце 1862 г.
138 Обе фотографии воспроизводились неоднократно (первая в томе 5 Юбилейного издания).
Сноски к стр. 424
139 «Литературное наследство», т. 41—42, 1941, стр. 503.
140 А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, 1955, стр. 179.
141 «Рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни» («Война и мир», т. IV, ч. IV, гл. III).
Сноски к стр. 425
142 «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (т. 8. стр. 268).
143 Введение немецкой фразы в русский текст объясняется тем, что Толстой готовил ответ веймарским педагогам.
Сноски к стр. 426
144 Русский перевод — в «Биографии Льва Николаевича Толстого» П. И. Бирюкова, т. I, Госиздат, М. — Пг., 1923, стр. 195—197.
145 W. Bode. Tolstoi in Weimar («Der Säemann», 1905, September, S. 293—297). Автор этой статьи В. Бодэ прислал Толстому свою статью на просмотр еще в корректуре при письме от 15 августа 1905 г. Толстой на конверте письма Бодэ написал свое мнение относительно его статьи: «Многое прибавлено, но существенное верно». Письмо хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 427
146 Полное собрание сочинений, т. 54, 1935, стр. 133.
147 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 10 февраля 1906 г.
148 Письмо Толстого не сохранилось; содержание его известно из ответного письма М. А. Дондукова-Корсакова от 23 апреля 1861 г. (см. Полное собрание сочинений, т. 60, 1949, стр. 518).
Сноски к стр. 428
149 Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 14 февраля 1899 г. («Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 498).
150 До какой степени Толстой был прав в своем утверждении, что они с Чичериным взаимно презирали «склад ума и убеждения» друг друга, подтверждается посвященными Толстому страницами воспоминаний Чичерина, свидетельствующими о его полном непонимании стремлений и миросозерцания Толстого и о враждебном отношении к нему. См. «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов», М., 1929, стр. 121—221.
Сноски к стр. 429
151 Р. В. Левенфельд. Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим («Русское обозрение», 1897, 10, стр. 594—595). О своей беседе с Дистервегом Толстой упоминает в статье «Воспитание и образование».
152 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 24 июля 1906 г.
153 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, стр. 180, запись от 28 июля 1906 г.
Сноски к стр. 430
154 Б. Ауэрбах. Новая жизнь, СПб., 1876, стр. 81.
155 Там же, стр. 12.
156 Там же, стр. 118.
157 Там же, стр. 21.
158 Там же, стр. 185, 142, 319.
159 Там же, стр. 34.
Сноски к стр. 431
160 Б. Ауэрбах. Новая жизнь, СПб., 1876, стр. 13.
161 Евгений Скайлер. Воспоминания («Русская старина», 1890, 10, стр. 261).
Сноски к стр. 432
162 «Nord und Süd», 1887, В. 42, S. 431.
163 Полное собрание сочинений, т. 25, 1937, стр. 525.
Сноски к стр. 433
1 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 8, 1936, стр. 367—369.
Сноски к стр. 435
2 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья вторая (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 96, 97).
Сноски к стр. 436
3 «Ясная Поляна, Музей-усадьба Л. Н. Толстого. Заповедник», Тула, 1950, стр. 70.
4 Сведения взяты из неопубликованной работы ученого лесовода К. С. Семенова «История лесов Ясной Поляны за сто лет в связи с деятельностью и значением Л. Н. Толстого».
Сноски к стр. 437
5 Имеется в виду министр внутренних дел С. С. Ланской.
6 П. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. I, Госиздат, М. — Пг., 1923, стр. 204.
Сноски к стр. 438
7 П. А. Сергеенко. Толстой и его современники, М., 1911, стр. 130.
8 Письмо к П. А. Плетневу от 1 мая 1862 г.
9 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 436. Письмо Тургенева без даты, но с пометой: «среда утром». Среда приходилась на 24 мая 1861 года.
Сноски к стр. 439
10 По записи С. А. Толстой, сделанной 23 января 1877 г. со слов Льва Николаевича, Тургенев, выслушав замечание Толстого, спросил его: «Стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю дочь?» На что Толстой ответил, «что он думает то, что говорит, и что, не касаясь личностей, просто выражает свою мысль» («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928 стр. 45).
11 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, М., 1890, стр. 370—371.
Сноски к стр. 440
12 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 65.
Сноски к стр. 441
13 «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 67.
14 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 45.
15 Там же, стр. 46.
16 Удивительный по своему несоответствию с действительными фактами рассказ Тургенева о его ссоре с Толстым находим в воспоминаниях Н. Островской (Н. Островская. Воспоминания о Тургеневе — «Тургеневский сборник», СПб., 1915, стр. 100—101). Тургенев будто бы рассказывал, что столкновение с Толстым произошло у него в Спасском, а не в Степановке у Фета, как это было в действительности; что о воспитании своей дочери расказывал он «одному приятелю», который тоже гостил у него; что Толстой будто бы сказал ему, что если бы это была его законная дочь, то он бы ее иначе воспитывал (как будто это могло изменить мнение Толстого о благотворительности), на что Тургенев будто бы сказал ему «что-то вроде того», что размозжит ему голову; что на другой день он будто бы получил от Толстого два письма, в одном из которых содержался вызов на дуэль, а в другом Толстой будто бы писал, что он «сознает себя кругом виноватым», что он намеренно выводил Тургенева из себя, что он приезжал к нему нарочно, чтобы поссориться с ним, «что он меня ненавидит, что встречаться не хочет и просит прощения». Что после этого приятель Тургенева, которого он не называет, ездил объясняться с Толстым (не сказано, куда), но уже не застал его и т. д. И все это Тургенев рассказывал будто бы только для того, чтобы показать своим собеседницам, какой Толстой «странный и вместе с тем хороший человек».
Не приходится сомневаться, что и здесь, как замечала его собеседница в других случаях (см. стр. 98 тех же «Воспоминаний»), Тургенев придумал все эти фантастические подробности своей ссоры с Толстым исключительно «для удовольствия дам».
Почти так же неточен рассказ Тургенева о ссоре с Толстым и в передаче Евгения Гаршина (Е. М. Гаршин. Воспоминания о Тургеневе — «Исторический вестник», 1883, 11, стр. 389—390). Здесь также совершенно отсутствует Фет и фигурирует незаконная дочь Тургенева; слова Тургенева в ответ Толстому переданы так: «Толстой, замолчите, или я в вас пущу вилкой» и т. д.
Сноски к стр. 442
17 Ранее Фет в том же письме говорит о «тожестве художественных инстинктов» у него с Тургеневым.
18 «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, СПб., 1912, стр. 478—479. Здесь письмо Фета напечатано с ошибкой; пропущено «не» перед словом «задумались».
19 «И. С. Тургенев. Сборник», под редакцией Н. Л. Бродского, Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, М., 1940, стр. 128.
Сноски к стр. 444
20 П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПб., 1909, стр. 541.
Сноски к стр. 445
21 Когда в 1907 г. в Ясной Поляне зашел разговор о Тургеневе и С. А. Толстая сказала, что «Тургенев очень любил Льва Николаевича», то Толстой возразил: «Он скорее любил меня как писателя. А как человек я не встречал в нем настоящей теплоты и сердечности». К этому Толстой прибавил: «Да он и никого так не любил, кроме женщин, в которых бывал влюблен. У него не было никого друзей» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, M., 1922, стр. 202, запись от 7 сентября 1907 г.).
22 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 378.
23 Д. П. Маковицкий. Запись разговора с бывшим земским начальником Н. И. Кологривовым, рукопись (архив Н. Н. Гусева).
Сноски к стр. 446
24 «Aus dem Leben Leo Tolstoi’s», von Andreas Ascharin («Düna Zeitung», 1888, № 76, 4 April).
25 Чтобы не вызывать недоверия крестьян, Толстой, приезжая в какую-нибудь деревню по спорным делам крестьян с помещиками, никогда не останавливался у помещика, а всегда у сельского старосты. Он рассказывал, что однажды его брат Сергей Николаевич, временно его заменявший в должности мирового посредника, приехав в деревню, остановился у помещика, после чего его кучер говорил крестьянам, что Сергей Николаевич обещал помещику сделать всё по его желанию. «Это было неправда, — но уже возбудило недоверие крестьян, — говорил Толстой (Д. П. Маковицкий. Неопубликованные «Яснополянские записки», запись от 6 мая 1908 года).
Сноски к стр. 447
26 В статье Д. Успенского «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого» («Русская мысль», 1903, 9, стр. 76—106) приведены многочисленные данные, подробно освещающие борьбу Толстого против дворян-крепостников Крапивенского уезда.
Сноски к стр. 448
27 Д. Д. Оболенский. Воспоминания («Русский архив», 1894, 10, стр. 262—263).
Сноски к стр. 450
28 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 158.
29 Эта и приводимая ниже выдержки из заявления крапивенских дворян взяты из статьи «Дело графа Л. Н. Толстого», первоначально входившей в состав книги «Дворянское сословие Тульской губернии», т. V, ч. I. Составил дворянин Ефремовского уезда М. Т. Яблочков, Тула, 1903, стр. 287—291. Перед выходом в свет этой книги статья «Дело графа Л. Н. Толстого» была вырезана. Мне удалось найти только три экземпляра этой книги, в которых осталась эта статья: один, хранящийся в Тульском областном архиве, другой — в Исторической библиотеке в Москве (шифр В 27/226) и третий — в Отделе рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР (шифр Д 12667).
Сноски к стр. 451
30 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 46.
Сноски к стр. 452
31 О Колбасине А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях» рассказывает: «Панаев особенно не любил одного из приживальщиков Тургенева, низкопоклонного и льстивого Колбасина, и не мог скрыть презрение, которое питал к нему» (Авдотья Панаева. Воспоминания, изд. «Academia», M. — Л., 1933, стр. 477).
32 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 69.
33 Письмо Тургенева к Анненкову напечатано в «Литературных воспоминаниях» Анненкова, СПб., 1909, стр. 543; письмо его же к Кетчеру — в сборнике «И. С. Тургенев», М., 1940, стр. 66.
Сноски к стр. 453
34 Письмо сохранилось и находится в настоящее время в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
35 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, M., 1890, стр. 381.
Сноски к стр. 454
36 В своих «Воспоминаниях» (ч. I, стр. 374) Фет напечатал письмо к нему Толстого в следующем виде: «Тургенев — ........ что я прошу вас» и т. д.
37 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, стр. 384, 385.
38 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 16.
Сноски к стр. 455
39 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 34).
40 Там же, стр. 33.
Сноски к стр. 456
41 С. Л. Толстой и И. В. Ильинский. Квартет «Ключ» в романе «Война и мир» («Звенья», 1933, 2, стр. 618—628).
42 «Журнал Министерства народного просвещения», 1861, 12, стр. 157—158.
Сноски к стр. 457
43 Е. Марков. Теория и практика яснополянской школы («Русский, вестник», 1862, 5, стр. 176, 180, 181).
44 Там же, стр. 180.
45 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 43).
46 Подробно об этом рассказывает В. С. Морозов в своих «Воспоминаниях о Л. Н. Толстом ученика яснополянской школы».
Сноски к стр. 458
47 «Tolstoi-Erinnerungen. Von einem Balte» («Düna Zeitung», 1898, № 179).
48 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 43—48).
Сноски к стр. 459
49 «Проект общего плана устройства народных училищ» (т. 8, стр. 209).
Сноски к стр. 461
50 Н. Н. Гусев. Толстой в молодости, М., 1927, стр. 395 (сноска).
Сноски к стр. 462
51 «Aus dem Leben Leo Tolstoi’s», von Andreas Ascharin («Düna Zeitung», 1888, № 76).
Сноски к стр. 464
52 «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под редакцией М. К. Лемке, т. III, СПб., 1912, стр. 479.
53 Журнал «Начала», 1921, I, стр. 141.
54 И. М. Ивакин. Воспоминания (рукопись, Центральный гос. Архив литературы и искусства).
55 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I, стр. 388.
Сноски к стр. 465
56 С. А. Толстая. Моя жизнь, авторизованная машинописная копия, тетрадь I, стр. 64—66. Хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
57 Напечатано в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 46, Махачкала, 1929, стр. 7—8.
Сноски к стр. 467
58 Написанное начало третьей части «Казаков» напечатано в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 161—175.
59 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 109—111.
Сноски к стр. 468
60 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 104, 105, вариант № 3.
61 Напечатан там же, стр. 100—104, вариант № 2.
Сноски к стр. 469
62 Начало варианта напечатано в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 99—100, вариант № 1. Продолжение дано там же, как основной текст «Тихона и Маланьи».
Сноски к стр. 471
63 Повидимому, к «Тихону и Маланье» относится также и незаконченный отрывок, начинающийся словами: «Прежде всех в селе узнали у Копыла». (Полное собрание сочинений, т. 90).
64 Думаем так на основании внешнего вида бумаги, на которой написаны все шесть вариантов обоих рассказов. Это — отдельные листы, вырванные из какой-то русской конторской книги, с пробитыми с левой стороны двумя отверстиями для сшивания. На такой же точно бумаге С. А. Толстая в первые месяцы после замужества переписала начало «Декабристов». На этом основании приходится отвергнуть утверждение редактора Юбилейного издания (т. 7, стр. 352), будто бы «Идиллия» написана за границей, так как трудно допустить, чтобы Толстой пользовался за границей такого рода бумагой. С. А. Толстая на обложке рукописи второй редакции «Идиллии» впоследствии сделала помету: «Написано до 1862 года», т. е. до ее замужества (сентябрь 1862 г.).
Сноски к стр. 474
65 Обе редакции рассказа «Идиллия» впервые появились в 1911 г. Во втором томе «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого». В Юбилейном издании обе редакции напечатаны в томе седьмом, вышедшем в 1932 г. (стр. 64—86), причем первая редакция ошибочно названа второй, а вторая редакция — первой.
66 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 28 октября 1906 г.
Сноски к стр. 476
67 Е. Марков. Живая душа в школе («Вестник Европы», 1900, 2, стр. 584).
Сноски к стр. 477
68 «Tolstoi-Erinnerungen. Von einem Balte» («Düna Zeitung», 1898, № 181).
69 М. Б[утович]. Я[сенковс]кая школа («Ясная Поляна», 2, стр. 68).
Сноски к стр. 478
70 «Дело 1862 года III отделения собственной е. и. в. канцелярии о графе Льве Толстом» («Всемирный вестник», 1906, 6, стр. 54).
71 Дело департамента полиции № 349, 1898 г. «О писателе графе Льве Николаевиче Толстом» («Былое», 1918, 9, стр. 209).
72 Полное собрание сочинений, т. 54, 1935, стр. 94.
73 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 455—486.
Сноски к стр. 480
74 Описанный Толстым «Федька» (Вася Морозов) несомненно обладал художественным дарованием. Это доказывается написанными им уже в старости воспоминаниями о яснополянской школе, на которые нам уже неоднократно приходилось ссылаться. Некоторые главы этих воспоминаний представляют собой подлинное художественное произведение.
Сноски к стр. 481
75 Рассказ яснополянского крестьянина С. Резунова об исполнении этой сценки приведен в книге Ал. Ксюнина «Уход Толстого» (СПб., 1911, стр. 57, 58) и в статье А. Панкратова «Толстой — школьный учитель» («Русское слово», 1912, № 257 от 7 ноября).
76 Биографические сведения об этих учителях даны в статье Н. М. Мендельсона и В. Ф. Саводника «Педагогическая деятельность Толстого и журнал «Ясная Поляна» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 505—520).
77 Е. Л. Марков. Живая душа в школе («Вестник Европы». 1900, 2, стр. 582); В. Миллер. Памяти собирателя народных песен П. В. Шейна («Этнографическое обозрение», 1900, 3, стр. 96—112).
Сноски к стр. 482
78 Н. П. Петерсон. Из записок бывшего учителя («Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко, М., 1909, стр. 258).
79 Е. Л. Марков. Живая душа в школе («Вестник Европы», 1900, 2, стр. 583).
Сноски к стр. 483
80 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 514, 515.
81 «Прогресс и определение образования» (там же, стр. 348, 349).
82 А. Э. Бабуринская школа («Ясная Поляна», 2, стр. 85).
83 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья третья (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 118). В эту статью Толстой включил отчет Келлера.
84 А. Э. Бабуринская школа за последние месяцы («Ясная Поляна», 10, стр. 20).
85 А. Т. К[олпенск]ая школа («Ясная Поляна», 3, стр. 91).
86 И. И. О[рлов]. Телятинская школа («Ясная Поляна», 10, стр. 42).
87 А. Э[рленвейн]. Еще о Бабуринской школе («Ясная Поляна», 4, стр. 27).
Сноски к стр. 484
88 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 14 июня 1905 г.
89 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 361.
90 «Ясная Поляна», 1, стр. 94.
91 А. Э. Бабуринская школа («Ясная Поляна», 2, стр. 82).
Сноски к стр. 485
92 А. Эрленвейн. Отрывки из воспоминаний о Ясной Поляне 1861—1862 годов (Отдел рукописей Гос. музея Толстого).
93 Н. П. Петерсон. Из записок бывшего учителя («Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко, М., 1909, стр. 258).
94 Головеньковский учитель. Головеньковская волостная школа («Ясная Поляна», 6, стр. 15).
Сноски к стр. 486
95 «Анна Каренина», часть третья, гл. IV—VI, XI—XIII.
96 «О методах обучения грамоте» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 129).
97 «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (там же, стр. 252).
98 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья третья (там же, стр. 114).
99 «О народном образовании» (там же, стр. 13).
100 «Воспитание и образование» (там же, стр. 242).
101 «Прогресс и определение образования» (там же, стр. 345).
Сноски к стр. 487
102 Полное собрание сочинений, т. 66, 1953, стр. 68.
Сноски к стр. 488
103 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 62.
104 Там же, стр. 113, 114.
Сноски к стр. 489
105 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья третья (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 114).
106 Там же, стр. 112.
107 Там же, стр. 114.
108 Там же, стр. 115.
109 «Прогресс и определение образования» (там же, стр. 346).
Сноски к стр. 490
110 Запись в дневнике 27 июля 1860 г.
111 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 22 июля 1906 г.
112 В. П. Буренин. Воспоминания о Л. Н. Толстом (Отдел рукописей Гос. музея Толстого).
113 Это письмо не сохранилось и известно лишь по изложению его содержания в рапорте производившего у Толстого в июле 1862 года обыск жандармского полковника Дурново («Дело 1862 года III отделения собственной е. и. в. канцелярии о графе Льве Толстом» — «Всемирный вестник», 1906, 6, стр. 53). Конечно, не может быть никакой уверенности в том, что текст письма Толстого передан в рапорте Дурново буквально; однако общее содержание письма передано им, повидимому, правильно.
Сноски к стр. 491
114 Письмо к С. А. Рачинскому от 7 августа 1862 г.
115 Не публикованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 27 декабря 1906 г.
116 Н. П. Петерсон. Из записок бывшего учителя («Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко, М., 1909, стр. 258).
117 А. Эрленвейн. Отрывки из воспоминаний о Ясной Поляне 1861—1863 годов (рукопись, архив Н. Н. Гусева).
118 Н. П. Петерсон. Из записок бывшего учителя, стр. 258. Толстой, вероятно, говорил не «навязать на себя», а «впитать в себя весь яд цивилизации».
Сноски к стр. 492
119 «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика яснополянской школы Василия Степановича Морозова», М., 1917, стр. 55—56.
120 «Анна Каренина», часть третья, гл. XII.
121 «Воспитание и образование» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 242).
Сноски к стр. 493
122 «О народном образовании» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 7).
123 «Лев Николаевич что-то заскучал», — вспоминал Н. П. Петерсон («Из записок бывшего учителя», стр. 259).
Сноски к стр. 494
124 Е. Л. Марков. Живая душа в школе («Вестник Европы», 1900, 2, стр. 585).
125 Один из мальчиков, ездивших с Толстым, Егор Чернов, вероятно, по предложению Толстого, описал всю поездку, начиная с выезда из Ясной Поляны и кончая приездом в Каралык. Толстой хотел было напечатать его рассказ в «книжках» «Ясной Поляны», но потом раздумал. Рукопись хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
126 «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика яснополянской школы Василия Степановича Морозова», М., 1917, стр. 104.
Сноски к стр. 495
127 7 февраля 1862 года Толстой писал Боткину. «Нынче я получил известие об одном из самых, по моему мнению, серьезных событий за последнее время; хотя событие это наверно останется незамеченным. Тверское дворянство постановило: отказаться от своих прав, выборов более не производить — и только, и посредникам по выбору дворянства и правительства не служить. Сила!»
Сноски к стр. 496
128 Документы, относящиеся к заявлению тверских дворян, напечатаны в сборнике «Освобождение», вып. 1, СПб., 1903. Дополнительные данные сообщены М. К. Лемке в Полном собрании сочинений и писем А. И. Герцена, т. XV, 1920, стр. 71—78. См. также О. В. Аптекман. Василий Васильевич Берви-Флеровский, изд. «Колос», М., 1925.
Сноски к стр. 497
129 Документы, относящиеся к тайному надзору за Толстым и к произведенному у него обыску, находятся в «Деле (1862-го года 1-й экспедиции № 230) III отделения собственной е. и. в. канцелярии о графе Льве Толстом». «Дело» это напечатано полностью в июньской книжке журнала «Всемирный вестник» за 1906 год. Подробное изложение всех известных по этому «делу» и по другим материалам обстоятельств тайного надзора за Толстым и произведенного у него обыска дано в статье И. В. Ильинского «Жандармский обыск в Ясной Поляне», напечатанной в «Звеньях», 1932, 1.
В архиве III отделения «Дело о графе Льве Толстом» составляет 39-ю часть серии дел под общим заголовком «О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю возмутительных воззваний».
130 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 172.
Сноски к стр. 498
131 Никаких сведений о знакомстве Толстого со студентом Освальдом до сих пор не обнаружено.
132 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 161.
Сноски к стр. 499
133 Увидев в 1906 г. в печати «Дело» о произведенном у него в 1862 г. обыске по предписанию Долгорукова, Толстой сказал: «Я его знал, этого Долгорукова, шефа жандармов. Добрейший человек был и очень ограниченный, пустейший мот, консерватор» (Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 22 июля 1906 г.).
Сноски к стр. 500
134 В печати были опубликованы два сообщения о том, что тульский губернатор Дараган, назначивший Толстого мировым посредником, принимал меры к тому, чтобы предупредить Толстого о предстоящем обыске. Первое сообщение принадлежит Д. Д. Оболенскому, пасынку барона В. М. Менгдена, бывшего в то время членом Тульского губернского по крестьянским делам присутствия, женатого на Е. И. Менгден (по первому мужу Оболенской), которой Толстой увлекался в 1857 г. — «Помню, — рассказывает Д. Д. Оболенский, — однажды к моей матери заехал тульский губернатор. Думали — приехал навестить или поговорить. Но оказалось, что губернатор заехал собственно затем, чтобы сообщить нам по секрету о приезде жандармского штаб-офицера, который на другой день собирался ехать из Тулы в Ясную Поляну и просил губернатора сделать распоряжение, чтобы полиция оказала ему в его миссии всяческое содействие... Было ясно, что губернатор, зная наши отношения к Толстому, приехал к нам с специальной целью предупредить неприятность, могущую возникнуть для Л. Н. Толстого из-за запрещенной книги или подобного пустяка. В тот же вечер от нас поехало лицо, коротко знакомое с Толстым, предупредить о неприятном посещении на утро. Лев Николаевич, как оказалось, не был дома» (Д. Д. Оболенский. Вперед или назад? — «Русское слово», 1909, № 194 от 25 августа).
Второе сообщение — запись рассказа В. М. Менгдена о том же приезде тульского губернатора, сделанная сестрой его жены, Е. И. Раевской («Летописи Гос. литературного музея», кн. 2, М., 1938, стр. 429—430). Рассказ В. М. Менгдена в основном совпадает с рассказом Д. Д. Оболенского, но приезд губернатора и обыск у Толстого отнесены к марту 1862 г. — явная ошибка. Ездил к Толстому, по словам В. М. Менгдена, он сам.
Сноски к стр. 501
135 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Отдел рукописей Гос. музея Толстого (из печатного текста «Воспоминаний» Берса это место было исключено цензурой). О том же писала в своих воспоминаниях Т. А. Кузминская («Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862», М., 1927, стр. 123).
136 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 26 августа 1909 г.
137 Обыск в Ясной Поляне вызвал слухи об аресте Толстого. 23 сентября 1862 г. К. Д. Ушинский, проживавший в то время за границей, писал своему Другу А. И. Скребицкому: «Бесцельные преследования раздражают и спокойных людей; так, например, графа Толстого, известного тебе писателя, который живет у себя в деревне, схватили, привезли в Москву и, продержав неделю, обыскали, отпустили, ничего не отыскав» (К. Д. Ушинский. Собрание сочинений, т. XI, 1952, стр. 198).
Сноски к стр. 505
1 Это объявление было помещено в № 31 от 2 августа 1861 г. «Современной летописи», выходившей при журнале «Русский вестник». Перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 8, 1936, стр. 370—372.
Сноски к стр. 506
2 «Современник», 1861, 8, стр. 343—344.
Сноски к стр. 507
3 «Ясная Поляна» («Основа», 1861, 8, стр. 122—124).
4 «Внутреннее обозрение» («Русская речь», 1861, 64, стр. 188).
5 «Новый педагогический журнал» («Журнал Министерства народного просвещения», 1861, 9, стр. 114).
6 «Светоч», 1861, кн. XI, стр. 61.
Сноски к стр. 508
7 «Современная русская летопись» («Век», 1861, № 32).
8 Ф. Т. Новые журналы («Учитель», 1861, № 24, стр. 1029).
Сноски к стр. 511
9 Только одно исключение допускал Толстой в данном случае: для великих мыслителей и поэтов. В предисловии к пересказу французской повести «Матвей» он писал: «Мы не минуем отвечать на народные требования, ежели мы только не великие мыслители и поэты, которые не спрашивают, что нужно, а указывают вперед на то, что будет нужно» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 364).
Сноски к стр. 512
10 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 101, 102.
11 Из черновых вариантов первой статьи «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 420).
Сноски к стр. 513
12 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 48.
13 Там же, стр. 110 и 111.
Сноски к стр. 514
14 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 113, 114, 116.
Сноски к стр. 515
15 П. Ф. Каптерев. История русской педагогики, СПб., 1910, стр. 252—254.
Сноски к стр. 519
16 В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 31. Ленин цитирует статью Толстого по изданию «Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Изд. 5-е, Москва, 1886, части I—XI».
17 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 121.
Сноски к стр. 520
18 Полное собрание сочинений, т. 38, 1936, стр. 62.
19 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 556, 557.
Сноски к стр. 522
20 Отдел рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 524
21 «О свободном возникновении и развитии школ в народе» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 163).
Сноски к стр. 525
22 Конспект этот, начинающийся словами: «Я не стою за прежнее», напечатан в Полном собрании сочинений, т. 8, 1936, стр. 436—439. Уже в статье «О методах обучения грамоте» Толстой поставил вопрос о современной науке. Здесь он писал: «Я не могу быть уверен, что мое образование хорошо, что путь, по которому идет наука, верен» (там же, стр. 129).
Сноски к стр. 526
23 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 112.
24 «Прогресс и определение образования» (там же, стр. 350).
25 «О народном образовании», черновая редакция (там же, стр. 406).
Сноски к стр. 527
26 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 24.
27 «Прогресс и определение образования» (там же, стр. 350).
28 «О народном образовании» (там же, стр. 25).
29 Там же, стр. 16.
30 «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (там же, стр. 272, 273).
31 Так в рукописи Толстого. Студент В. Попов, по поручению Толстого наблюдавший за печатанием «Ясной Поляны», произвольно изменил «кое-что» на «что-то» и далее выпустил: «похожее на электрический ток в телах». Так и было напечатано в журнале и затем перепечатывалось во всех изданиях.
32 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья вторая (там же, стр. 80, 81).
33 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья третья, (там же, стр. 118).
34 «О народном образовании» (там же, стр. 24).
35 «О народном образовании» (там же, стр. 23)
36 «О народном образовании», черновая редакция (там же, стр. 416).
Сноски к стр. 528
37 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья первая (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 34).
38 «Воспитание и образование» (там же, стр. 216).
39 «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (там же, стр. 295).
40 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья первая (там же, стр. 54).
41 «О методах обучения грамоте» (там же, стр. 145).
42 Там же.
43 Там же.
44 Там же, стр. 145 и 146. Лучшие работы советских педагогов о педагогической системе Толстого: В. Я. Струминский. Л. Н. Толстой в истории русской педагогики («Советская педагогика», 1940, 11—12, стр. 106—130); его же. Журнал «Ясная Поляна» Л. Н. Толстого («Советская педагогика», 1942, 1—2, стр. 68—73); В. А. Вейкшан. Л. Н. Толстой о воспитании и обучении, изд. Академии педагогических наук, М., 1953.
Сноски к стр. 529
45 «О народном образовании» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 16).
46 Там же, стр. 24.
47 Предисловие к рассказу «Матвей» (там же, стр. 363).
48 «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (там же, стр. 296).
49 «Прогресс и определение образования» (там же, стр. 330).
50 То же, черновая редакция (там же, стр. 440, 441).
51 «Кому у кого учиться писать» (там же, стр. 321).
52 Неоконченная статья «Я не стою за прежнее...» (там же, стр. 437).
Сноски к стр. 530
53 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 407.
54 Е. К-кий. Новые начала для народной педагогики («Воскресное чтение», 1863, 30, стр. 721, 722, 724—726).
Сноски к стр. 531
55 Письмо к А. К. Влахопулову от 20 июня 1900 г. (Полное собрание сочинений, т. 72, 1933, стр. 389).
56 Кайенна — главный город французской Гвианы, до 1854 г. Служивший местом ссылки.
57 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья первая (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 39).
58 «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (там же, стр. 285).
59 Там же, стр. 255, 256. Это место в печати было смягчено цензурой — были выпущены слова «по указу его императорского величества».
60 «Воспитание и образование» (Там же, стр. 218).
Сноски к стр. 532
61 «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 333).
62 Там же, стр. 334.
63 Впоследствии Толстой совершенно определенно утверждал, что «отмена крепостничества и невольничества была только отменой устаревшей, ставшей ненужной формы рабства и замены ее более твердой и захватившей большее против прежнего количество рабов формой рабства» («Рабство нашего времени», гл. VIII, Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 169).
Сноски к стр. 533
64 «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 342 и 344).
65 Там же, стр. 438, 439.
66 «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статья вторая (там же, стр. 109).
Сноски к стр. 534
67 «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 332—337).
Сноски к стр. 535
68 «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 337—339).
Сноски к стр. 536
69 Без сомнения, Толстой только из скромности не назвал себя самого в числе ненужных народу, по его мнению, писателей, стесняясь перед читателя ми ставить свое имя рядом с именами Пушкина и Тургенева.
70 «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 339—342).
Сноски к стр. 537
71 «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 342—346).
Сноски к стр. 538
72 Варианты статьи «Прогресс и определение образования» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 446—448).
Сноски к стр. 539
73 Убеждение в том, что прогрессом техники во всех буржуазных странах пользуются только привилегированные классы, а не трудовой народ, оставалось у Толстого неизменным до конца его жизни. В 1905 г. в статье «Конец века» он писал: «Нет спора в том, что мы далеко ушли по дороге технического прогресса. Но кто ушел по этой дороге? То маленькое меньшинство, которое живет на шее рабочего народа; рабочий же народ, тот, который обслуживает всех людей, пользующихся цивилизацией, продолжает во всем христианском мире жить так, как он жил пять, шесть веков тому назад, пользуясь только изредка отбросами цивилизации... В нашем же христианском мире, где большинство находится в рабском угнетении у меньшинства, она [цивилизация] есть только лишнее орудие угнетения» (Полное собрание сочинений, т. 36, 1936, стр. 265, 266).
Сноски к стр. 540
74 В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 31.
75 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, M., 1928, стр. 192, запись от 15 июля 1908 г.
Сноски к стр. 541
76 При всем отличии взглядов Толстого от взглядов революционных демократов, можно все-таки установить между ними некоторые точки соприкосновения. Первая попытка провести некоторые аналогии между критической стороной социальных воззрений Толстого 1860-х годов и взглядами Чернышевского, Добролюбова, Герцена и Огарева по вопросам о техническом прогрессе, об особенностях исторического развития России и др., была сделана Е. Н. Купреяновой в статье «Публицистика Л. Н. Толстого начала 60-х годов» («Яснополянский сборник, Тула, 1955, стр. 85—125).
Сноски к стр. 542
77 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 8, 1936, стр. 427—431.
78 Предисловие к рассказу «Матвей» (там же, стр. 363).
79 «Об общественной деятельности на поприще народного обраэования» (там же, стр. 291, 292).
80 Там же, стр. 283.
Сноски к стр. 544
81 Предисловие к повести «Матвей» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 363).
82 Так, употребленное в «Солдаткином житье» выражение крестьянина: «Гляди сюда», служащее указанием на важность последующего разговора, впоследствии было вложено Толстым в уста Митрича во «Власти тьмы».
Сноски к стр. 545
83 Чтобы не казалось странным, как это Толстой мог поместить в свои «Книжки» рассказ, описывающий народное пьянство, приведу из книги «Что читать народу», составленной учительницами воскресных школ, следующее описание впечатления, произведенного чтением рассказа «Хорошее житье» на аудиторию, состоявшую из детей и подростков: «Слушатели хохотали от души... Слыша этот смех, можно было придти к заключению, что этот трагикомический рассказ, отзывающийся болезненно в душе взрослого человека горечью своего реализма, не производит того же впечатления на юношество, если бы по окончании чтения не водворилась мгновенно тишина, особенно между старшими... Старшие сделались совершенно серьезны и, видимо, задумались над прочитанным» («Что читать народу». Критический указатель книг для народного и детского чтения, составленный учительницами харьковской частной женской воскресной школы, СПб., 1884, стр. 239).
Сноски к стр. 546
84 Н. В. Успенский. Из прошлого, М., 1889, стр. 39—43.
Сноски к стр. 547
85 Письмо В. Г. Черткова к Т. Л. Толстой от 13 декабря 1885 года («Летописи Государственного литературного музея», книга 12, М., 1948, стр. 100). В этом письме Чертков просил Т. Л. Толстую предложить Успенскому обработать этот сюжет для издательства «Посредник».
Так как Успенский рассказа не написал, то Толстой впоследствии сообщил этот сюжет крестьянскому писателю С. Т. Семенову, который и воспользовался им для своего рассказа «Недруги».
86 «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 196.
Сноски к стр. 548
87 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X, М., 1951 стр. 503—517.
Сноски к стр. 550
88 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 132, 133.
Сноски к стр. 551
89 Основанием для такого суждения о Толстом послужили Чернышевскому следующие строки статьи «О народном образовании»: «Являются тысячи различных, самых странных, ни на чем не основанных теорий, как Руссо, Песталоцци, Фребель и т. д.» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 9).
Сноски к стр. 552
90 Анализ статьи Чернышевского о «Ясной Поляне» дан в статьях: В. Я. Струминский. Л. Н. Толстой в истории русской педагогики («Советская педагогика», 1940, 11—12, стр. 115—116); А. И. Шифман. Чернышевский о Толстом («Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов», изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 247—262).
91 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 8, стр. 426.
Сноски к стр. 553
92 Письмо к А. К. Влахопулову от 20 июня 1900 г. (Полное собрание сочинений, т. 72, 1933, стр. 389).
Сноски к стр. 554
93 «Современник», 1863, 9, стр. 87—88.
94 Д. И. Писарев. Промахи незрелой мысли («Дело», 1864, 12).
95 «Русский вестник», 1862, 5, стр. 149—189.
Сноски к стр. 555
96 К. Охочекоменный [Д. Г. Щеглов], «Ясная Поляна» («Библиотека для чтения», 1862, 3, стр. 57—82).
97 Б. «Ясная Поляна» («Отечественные записки», 1862, 6, стр. 226—236).
Сноски к стр. 556
98 «Отечественные записки», 1864, 8, стр. 662, 663.
99 «Из Москвы. О жизни и литературе» («С.-Петербургские ведомости», 1862, № 144).
100 П. Анненков. Современная беллетристика. Граф Л. Н. Толстой, «Казаки» («С.-Петербургские ведомости», 1863, № 144).
Сноски к стр. 557
101 «Время», 1862, 3, стр. 66, 71, 77.
102 Н. Страхов. Новая школа («Время», 1863, 1, стр. 151, 152).
103 Игдев. Сказание о дураковой плеши («Время», 1863, 3).
Сноски к стр. 558
104 С. Протопопов. «Ясная Поляна» за март 1862 года («Воспитание», 1862, 8, стр. 69, 73, 78, 79).
Сноски к стр. 559
105 Э-г-м-т. Педагогические парадоксы («Воспитание», 1862, 12, стр. 174).
106 С. Протопопов. По прочтении 4-й, 5-й и 6-й книжек журнала «Ясная Поляна» («Воспитание», 1863, 1, стр. 3).
107 Е. К. Педагогическое обозрение («Учитель», 1863, 23, стр. 1134).
108 Е. К. Педагогическое обозрение («Учитель», 1864, 23, стр. 889, 900).
109 Ильминский. «Ясная Поляна», или новый метод школьного учения («Очерки», 1862, № 28).
Сноски к стр. 560
110 П. Ар[кано]в. Педагогические взгляды наших журналов («Светоч», 1862, 7).
111 С. Протопопов. По прочтении 4-й, 5-й и 6-й книжек «Ясной Поляны» («Воспитание», 1862, 8, стр. 13).
112 «Московские ведомости», 1862, № 78 от 7 апреля.
113 «Воспитание», 1862, 2, стр. 6.
Сноски к стр. 561
114 Существует предположение, что автором был К. К. Сент-Илер, впоследствии директор Петербургского учительского института и член Отдела Ученого комитета по рассмотрению книг для народного чтения.
Сноски к стр. 563
115 Переписка между Валуевым и Головниным и «Мнение о педагогическом журнале «Ясная Поляна» напечатаны в статье В. С. Спиридонова «Толстой педагог на суде цензуры и критики 60-х годов» («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени Покровского», Факультет языка и литературы, 1940, т. IV, вып. 2).
Сноски к стр. 564
116 «Письма Толстого и к Толстому», М., 1928, стр. 212—213.
117 «Толстой. 1850—60. Материалы и статьи», изд. Толстовского Музея в Ленинграде, 1927, стр. 25.
118 Полное собрание сочинений, т. 60, 1949, стр. 423, 424.
Сноски к стр. 565
119 Полное собрание сочинений, т. 90, 1957.
120 Письма Е. Н. Ахматовой и М. А. Маркович не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
121 Полное собрание сочинений, т. 60, 1949, стр. 425, 426.
Сноски к стр. 566
122 Н. Ф. Бунаков. Записки, СПб., 1909, стр. 55, 56.
Сноски к стр. 567
1 «Женитьба Л. Н. Толстого» («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 8—29).
Сноски к стр. 568
2 «Анна Каренина», часть третья, гл. XII.
3 Текст этой фразы приведен Толстым в его письме к Софье Андреевне от 14 сентября. Софья Андреевна в своих воспоминаниях дает иной текст — без трех последних слов.
4 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862, М, 1925, стр. 117.
Сноски к стр. 570
5 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, изд. «Academia», 1936, стр. 3. В дальнейшем все цитаты из писем С. А. Толстой к Л. Н. Толстому, за исключением особо оговоренных случаев, приводятся по данному изданию.
6 Толстому всегда казалось, что при его некрасивой наружности он не может нравиться женщинам. «Когда я был молодым, — вспоминал Толстой впоследствии, — мне казалось, что ни одна женщина за меня не захочет пойти замуж» (Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 12 июля 1894 г., «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 465). «В молодости наружность Льва Николаевича всегда мучила его. Он был уверен, что отталкивающе дуренсобою. Я не раз слышала от него, как он это говорил, — пишет Т. А. Кузминская. — Он, конечно, не знал того, что привлекательную сторону его наружности составляла духовная сила, которая жила в его глубоком взгляде, он сам не мог видеть и поймать в себе этого выражения глаз, а оно-то и составляло всю прелесть его лица» (Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома я в Ясной Поляне. 1846—1862, М., 1925, стр. 128). Софья Андреевна также, вспоминая через год после свадьбы, каким был Лев Николаевич год тому назад, характеризовала его такими словами: «поэтический милый comte [граф] с светлым, глубоким и ужасно приятным взглядом (такое производил тогда впечатление)» — «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М, 1928, стр. 76.
Сноски к стр. 571
7 Нил Александрович Попов, профессор русской истории в Московском университете, знакомый Берсов; в то время был неравнодушен к Софье Андреевне.
8 Последняя фраза, встречающаяся и в «Анне Карениной» (часть четвертая, гл. XIV), взята из «Записок сумасшедшего» Гоголя. Толстой не раз употреблял эту фразу, когда писал в дневнике о своих увлечениях, — см. записи от 13 мая 1856 г., 2 (14) марта и 22 апреля (4 мая) 1857 г. (Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 71, 117 и 126).
Сноски к стр. 573
9 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1891—1897», М., 1929, стр. 83.
10 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 83, 1938, стр. 3, 4.
В дальнейшем все цитаты из писем Л. Н. Толстого к С. А. Толстой приводятся по этому тому.
Сноски к стр. 574
11 Сестра Софьи Андреевны Татьяна Андреевна.
12 «Казаки», гл. XX.
Сноски к стр. 575
13 Письмо напечатано в Полном собрании сочинений, т. 83, 1938, стр. 16—17.
Сноски к стр. 578
14 Не опубликована; авторизованная копия хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
15 Брат Толстого Сергей Николаевич.
16 Татьяна Александровна Ергольская.
Сноски к стр. 579
17 Письмо напечатано в воспоминаниях Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862», М., 1925, стр. 143.
18 Цитата из любимого Толстым стихотворения Пушкина «Воспоминание».
Сноски к стр. 580
19 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891» вышли в свет в Москве в 1928 г. в издании Сабашниковых. Далее везде ссылки на это издание.
20 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862, М., 1925, стр. 43.
Сноски к стр. 583
21 Напечатаны в числе вариантов «Казаков» в Полном собрании сочинений, т. 6, 1929, стр. 263—266.
22 Публикуется впервые; рукопись хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 584
23 Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 83.
Сноски к стр. 585
24 Не имеет ли это название связи с задуманной Толстым еще в 1851 г. тетралогией, последняя часть которой (не написанная) должна была называться «Молодость»?
Сноски к стр. 586
25 Тексты, напечатанные в шестом томе Полного собрания сочинений Толстого под названием «Продолжения повести», были написаны еще до окончания первой части и не могут быть отнесены к ненаписанной второй части повести.
Сноски к стр. 589
26 Письма Толстого за 1863—1872 гг. цитируются по 61 тому Полного собрания сочинений, вышедшему в 1953 г.
27 Бабурино — деревня в четырех километрах от Ясной Поляны.
28 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, М., 1928, стр. 127, 128. Известный в то время методист обучения грамоте В. А. Золотов, в 1863 г. обследовавший школы Тульской губернии, в своем отчете о поездке сообщал, что по отзывам всех местных жителей многие студенты-учителя толстовских школ «были очень способные воспитатели и вели себя чрезвычайно строго» — В. Золотов. Исследование грамотности по деревням («Журнал Министерства народного просвещения», 1863, 12, стр. 185).
Сноски к стр. 590
29 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 317.
30 Полное собрание сочинений, т. 54, 1935, стр. 94.
31 Полное собрание сочинений, т. 74, 1954, стр. 239.
32 А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронеж, 1937, стр. 125.
33 А. Г. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, М., 1922, запись от 30 августа 1902 г.
34 Наталья Петровна Охотницкая, компаньонка Т. А. Ергольской.
Сноски к стр. 591
35 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. Музея Толстого. С. Л. Толстой в своих воспоминаниях рассказывает, что его мать «вследствие своего полузнатного происхождения особенно ценила так называемое великосветское общество» (С. Л. Толстой. Очерки былого, М., 1948, стр. 12).
36 «Русские новости. Москва» («Голос», 1863, № 54, от 5 марта).
Сноски к стр. 592
37 В. Золотов. Исследование грамотности по деревням («Журнал Министерства народного просвещения», 1863, 12, стр. 184, 185).
Сноски к стр. 593
38 Не вспомнилась ли Толстому рецензия на его «Записки маркера», помещенная в № 2 «Отечественных записок» за 1855 г. и заканчивавшаяся словами: «Мы вправе желать не того, чтобы он [автор «Записок маркера»] писал лучше, а только того, чтоб он писал больше. Он обязан пользоваться талантом, которым одарен».
Сноски к стр. 594
39 Дневник М. П. Погодина (Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина).
40 Панфил Данилович Юркевич (1827—1874), философ-идеалист, профессор Киевской духовной академии, а затем Московского университета.
41 Ф. В. Письмо из Москвы («Одесский вестник», 1863, № 20 от 19 февраля). Дата корреспонденции — 26 января.
42 Объявление о прекращении «Ясной Поляны» перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 8, 1936, стр. 373.
Сноски к стр. 595
43 «Очерки», 1863, № 19 от 20 января.
44 «Московская жизнь» (Голос», 1863, 20).
45 В. Л. Корреспонденция из Тулы («Голос», 1864, № 28 от 28 января).
46 «Воскресное чтение», 1863, № 31, стр. 733.
47 «Пестрые заметки» («Библиотека для чтения», 1863, 1, стр. 213).
Сноски к стр. 596
48 Е. К. «Педагогическое обозрение» («Учитель», 1864, 23, стр. 889, 900). Только в 1865 г. тот же автор в том же журнале признал некоторые заслуги за «Ясной Поляной», объясняя ее «крайности» невольным протестом против «мелочного, давящего» школьного формализма («Педагогическое обозрение» — «Учитель», 1865, 7—8, стр. 296).
49 М. Краснов. О состоянии сельских школ в Т-ской губернии («Журнал для родителей и наставников», 1864, 22, стр. 165).
50 «Сельская школа, учрежденная в 1863 году в одной из великороссийских губерний» («Голос», 1864, № 179 от 1 июля).
Сноски к стр. 597
51 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, М., 1926, стр. 14.
Сноски к стр. 598
52 Мнимое письмо Охотницкой и ответ Аксакова напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 361, 362.
Сноски к стр. 600
53 А. А. Стахович. Несколько слов о «Холстомере», рассказе графа Л. Н. Толстого («С.-Петербургские ведомости», 1903, № 278).
Сноски к стр. 601
54 Публикуется впервые; оригинал хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 602
55 Письмо В. А. Соллогуба к Толстому от 20 марта без обозначения года (который трудно установить) напечатано в сборнике «Письма Толстого и к Толстому», М., 1928, стр. 260, 261.
Сноски к стр. 603
56 В 1909 г. яснополянский врач Д. П. Маковицкий на основании каких-то данных утверждал, что яснополянский яблоневый сад — второй по величине во всей Европе — И. Митропольский. В Ясной Поляне («Живые слова наших писателей и общественных деятелей», под редакцией И. И. Митропольского, вып. 1, 1910, стр. 152).
57 Намек на стихотворение Фета, рисующее начало весны и начинающееся словами: «Опять незримые усилья...».
58 Не вполне точная цитата из стихотворения Лермонтова «Парус» у Лермонтова: «А он, мятежный, просит бури...»).
Сноски к стр. 604
59 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 605
60 Я. Полонский. По поводу последней повести графа Л. Н. Толстого «Казаки» («Время», 1863, 3, стр. 91—98).
61 Е. Э-н. «Казаки», повесть графа Л. Н. Толстого («Библиотека для чтения», 1863, 3).
Сноски к стр. 606
62 А. Русская критика и художественная этнография («Северная пчела», 1863, № 247 от 19 сентября).
63 П. Анненков. Современная беллетристика. Граф Л. Н. Толстой. «Казаки» («С.-Петербургские ведомости», 1863, № 144 и 145 от 27 и 28 июня).
Сноски к стр. 607
64 Евгения Тур. «Казаки» графа Л. Н. Толстого («Отечественные записки», 1863, 6).
Сноски к стр. 608
65 Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений, М., 1939, стр. 170.
66 «Казаки». Повесть графа Л. Н. Толстого («Современник», 1863, 7).
Сноски к стр. 609
67 Письма Фета от 4 и 11 апреля 1863 г. не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
68 «Щукинский сборник», т. 8, М., 1909, стр. 364.
69 И. С. Тургенев. Предисловие к переводу романа М. Дюкана «Утраченные силы», Сочинения, т. XII, М., 1933, стр. 284.
70 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, М., 1926, стр. 30.
Сноски к стр. 610
71 «Что нового в журналистике» («Сын отечества», 1863, № 90 от 15 апреля).
72 В. Ч[ибисов]. Литературные листки («Одесский вестник», 1863, № 53м от 16 мая).
73 А. Русская критика и художественная этнография («Северная пчела», 1863, № 247 от 19 сентября).
74 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 7. А. А. Толстая также находила сюжет «Поликушки» «слишком потрясающим» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПб., 1911, стр. 186).
Сноски к стр. 613
1 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, М., 1926, стр. 94.
Сноски к стр. 614
2 П. И. Юшкова, тетка Толстого.
3 М. Н. Толстая, сестра Льва Николаевича.
4 Дуня Банникова, яснополянская девочка двенадцати лет, в то время помощница горничной Софьи Андреевны.
5 Сестра Софьи Андреевны.
Сноски к стр. 615
6 Полное собрание сочинений, т. 6, 1929, стр. 168.
7 «Война и мир», т. I, ч. I, гл. VI.
8 П. И. Бирюков во втором томе «Биографии Толстого», вышедшем в 1908 г., приводит выдержки из дневников Толстого 1863 г. о его семейном счастье и затем прибавляет: «И все-таки во всем этом увлечении постоянно слышится нотка анализа, сомнения, не дающая ему испытать полного счастья — самозабвения, которого ему так хотелось и в обладании которым он так старался уверить себя. И это сомнение, это неудовлетворение, помимо его воли, быть может, выразилось в его художественных творениях». Далее П. И. Бирюков в доказательство своего мнения приводит полностью суждения князя Андрея о женитьбе в его разговоре с Пьером (П. И. Бирюков. Лев Николаевич Толстой, Биография, изд. «Посредник», том второй, М., 1908, стр. 5).
Эти страницы не вызвали возражений ни со стороны Толстого, ни — что в данном случае еще важнее — со стороны его жены, читавшей книгу Бирюкова в рукопись.
Сноски к стр. 616
9 Т. А. Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, М., 1926, стр. 82.
Сноски к стр. 617
10 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, М., 1926, стр. 94, 95.
11 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 618
11а Было высказано мнение, что первая и вторая редакции «Зараженного семейства» писались в разные годы: первая редакция — в 1862 году, после появления романа Тургенева «Отцы и дети», вторая — в 1863 году, после напечатания романа Чернышевского «Что делать?» (К. Ломунов. Драматургия Л. Н. Толстого, «Искусство», М., 1956, стр. 90—93).
Определенных данных в пользу этого мнения в нашем распоряжении нет. Из слов няни (действующего лица комедии) явствует, что действие происходит в 1862 году. Это еще не является доказательством того, что написана была комедия в том же году. Но в первой редакции, действительно, нет полемики с Чернышевским, которая появляется во второй редакции.
12 Полное собрание сочинений, т. 7, 1932, стр. 393.
13 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, М., 1926, стр. 162.
14 Письма Толстого к А. А. Толстой от 14 ноября 1865 г. и к редактору «Вестника Европы» от 23 июня 1908 г. (Полное собрание сочинений, т. 78, 1956, стр. 169); Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, М., 1928, стр. 183; неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 4 августа 1907 г.
Сноски к стр. 619
15 «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову», М., 1916, стр. 140.
16 Слух о работе Толстого над комедией из современной жизни и над историческим романом проник в печать. Газета «Северная почта» (орган Министерства внутренних дел) в номере от 11 января 1864 г. поместила сообщение о том, что Толстой закончил комедию в трех действиях под названием «Эмансипация женщин» и работает над большим романом из эпохи 1812 года.
17 Письмо Боткина к Тургеневу от 3 сентября 1864 г. («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», 1930, стр. 211).
Сноски к стр. 620
18 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, М., 1928, стр. 183.
19 Письма Толстого и к Толстому, 1928, стр. 262.
Сноски к стр. 622
20 До какой степени были распространены сплетни и вздорные слухи относительно коммуны Слепцова, видно из того, что даже жена самого устроителя обращалась к жившим в коммуне женщинам с вопросом, правда ли, что у них всех общие мужья (Екатерина Жуковская. Записки, Л., 1930. стр. 203).
Сноски к стр. 623
21 Почти дословно эту же формулу Толстой много лет спустя прочел в письме какого-то гимназиста, напечатанном в газете «Русь». Толстой назвал это письмо «отвратительным» (Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1912, стр. 81).
Сноски к стр. 624
22 Полное собрание сочинений, т. 7, 1932, стр. 392.
23 Прямым откликом на язык героев романа Чернышевского служит реплика дочери Прибышева Любови Ивановны на обращение к ней ее жениха — «миленькая» или «моя миленькая». У Чернышевского так называют друг друга Лопухов и его жена. Толстой, не любивший приторно-ласковых слов и сам их никогда не употреблявший, заставляет Любочку протестовать против такого к ней обращения: «Не говорите «миленькая», это так нехорошо».
В языке героев «Зараженного семейства» есть некоторое сходство с языком Базарова. Базаров называет Кирсановых «синьорами», «феодалами», «барчуками проклятыми»; этими именами и Твердынский называет Прибышевых.
24 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 4 августа 1907 г.
Сноски к стр. 625
25 «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, 3). Перепечатано: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, М., 1941, стр. 324, 325.
26 «Современник», 1862, 3, стр. 302.
Сноски к стр. 626
27 Письмо не опубликовано; подлинник хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
28 Полное собрание сочинений, т. 50, 1952, стр. 194.
Сноски к стр. 628
29 «Трудное время», гл. II.
30 Там же, гл. XIV.
31 Там же, гл. XV.
Сноски к стр. 629
32 Выходивший под редакцией В. С. Курочкина орган радикальной молодежи шестидесятых годов «Книжный вестник» охарактеризовал Рязанова такими словами: «Рязанов, если и не может служить идеалом для современной молодежи, то во всяком случае верно воспроизводит тип людей, создавшийся под влиянием последних событий в нашей жизни и литературе» («Книжный вестник», 1866, 5).
33 В. Ф. Булгаков. Лев Толстой в последний год его жизни, М., 1920, стр. 135, запись от 10 апреля 1910 г.
34 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 335.
Сноски к стр. 631
35 Статья появилась в «Русском слове» за декабрь 1864 г. и перепечатывалась во всех собраниях сочинений Писарева.
Сноски к стр. 632
36 Александр Яковлевич Пятковский (1840—1904) — критик и публицист, с половины 1860-х годов сотрудник «Современника», а затем до 1872 г. — «Отечественных записок». Отойдя от «Отечественных записок», быстро эволюционировал вправо («Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 475). Рецензия Пятковского на сочинения Толстого появилась а № 4 «Современника» за 1865 г., стр. 323—329.
Сноски к стр. 633
37 П-ов. «Новые книги» («С.-Петербургские ведомости», 1865, № 178 от 14 июля).
Сноски к стр. 635
38 «Я воспользовался Перфильевыми для себя очень приятно, заведя Степана Васильевича на рассказы о двенадцатом годе» (письмо к жене от 29 ноября). С. В. Перфильев — отец приятеля Толстого, В. С. Перфильева, бывший жандармский генерал.
39 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1864—1868, М., 1926, стр. 20, 21.
Сноски к стр. 637
40 Так Толстой прозвал девочек, дочерей сестры Марии Николаевны.
Сноски к стр. 638
41 16 июля 1865 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лева читает военные сцены в романе; я не люблю этого места в романе».
Сноски к стр. 639
42 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музей Толстого.
43 Там же.
Сноски к стр. 641
44 Семья барона А. А. Дельвига, младшего брата поэта, соседи М. Н. Толстой.
45 Одному из древних мудрецов принадлежит, такое наставление: «Если рассердишься, то прежде чем что-нибудь сказать, возьми в рот воды и подержи ее некоторое время, тогда успокоишься».
46 В письме к Т. А. Кузминской от 5 мая 1875 г. Толстой писал: «Еще я очень рад, что ты беременна. Это по-божески. А то мне что-то было неприятно» (Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 181).
Сноски к стр. 643
47 М. Н. Муравьев — виленский генерал-губернатор, жестоко подавлявший польское восстание 1863 года.
48 В. А. Черкасский — либеральный тульский помещик, знакомый Толстых, после подавления польского восстания служивший в Польше.
49 Впоследствии Толстой с чувством глубокого возмущения относился к царским чиновникам, которые «душили» польский народ. В «Воскресении» он писал о сенаторе Вольфе: «Погубить, разорить, быть причиной ссылки и заточения сотен невинных людей вследствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он сделал это в то время, как был губернатором в одной из губерний Царства Польского, он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма» («Воскресение», часть вторая, гл. XVI).
Сноски к стр. 644
50 Толстой рассказывал, что он дважды видел Александра II. Один раз встреча произошла на лестнице при выходе из фотографического заведения (в Москве или в Петербурге — Толстой не помнил). Он посторонился, чтобы дать дорогу царю, но не поклонился ему. Его поразило испуганное лицо царя, как у зверя, которого травят, и его стальные глаза- «Не подумал ли он, — говорил Толстой, — что я, не знакомый ему человек, хочу убить его» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 1, М., 1923, стр. 55, запись от 27 декабря 1904 г.; С. Л. Толстой. Очерки былого, М., 1949, стр. 50).
Сноски к стр. 645
51 Подразумеваются хозяйственные дела.
52 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 646
53 «Собственность есть кража» (изречение Прудона). Прудон долгое время оставался для Толстого самым крайним представителем отрицательного отношения к существующему общественно-политическому строю. В трактате «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий» (1880—1881) Толстой говорит иронически, воспроизводя суждения людей господствующих классов: «О том, что богатство, собственность есть источник зла, есть жестокость... это не Христос сказал, а Прудон. Прудон же все врет, он социалист и безбожник» (Полное собрание сочинений, т. 24, 1957, стр. 402).
Сноски к стр. 649
54 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 16 апреля 1908 г.
Сноски к стр. 650
55 Имеются в виду брат и сестра Толстого.
56 Семейство Берсов.
57 А. А. Фет с женой Марией Петровной, незадолго до того приезжавшие в Ясную Поляну.
58 Охотничья собака Толстого.
59 Слова «раздражение», «раздраженное состояние» на языке Толстого шестидесятых годов обозначали возбуждение, возбужденное состояние.
60 Полное собрание сочинений, т. 48, 1952, стр. 116.
Сноски к стр. 651
61 С. А. Толстая. Моя жизнь, авторизованная машинописная копия; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого, л. 240, 241.
62 «Начала», 1921, 1, стр. 145.
63 Полное собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 347.
Сноски к стр. 652
64 Мериносная овца-производительница.
Сноски к стр. 653
64а С. Л. Толстой. Очерки былого, М., 1949, стр. 109.
65 И. Н. Шатилов. Из недавнего прошлого («Голос минувшего», 1916, 10, стр. 66).
66 Мэри Брэддон (1837—1915) — английская писательница, автор приключенческих романов.
Сноски к стр. 654
67 «Записки Пиквикского клуба» — роман Диккенса.
68 Сергей Михайлович Сухотин — давний знакомый Толстого, женатый на сестре друга Толстого Д. А. Дьякова, М. А. Дьяковой. В 1837—1851 гг. служил в Преображенском полку, позднее был вице-президентом Московской дворцовой конторы.
69 Брат Толстого Николай Николаевич.
70 Аркадий Дмитриевич Столыпин — севастопольский товарищ Толстого.
71 Граф Александр Сергеевич Ланской и граф Григорий Александрович Строганов — светские знакомые Толстого.
Сноски к стр. 656
71а Краткие воспоминания А. Н. Рамазановой, дочери скульптора Н. А. Рамазанова, у которого учился Толстой, напечатаны в «Вечерней Москве» от 16 июля 1956 г.
72 Д. Д. Оболенский. Отрывки («Международный Толстовский альманах», составленный П. А. Сергеенко, М., 1909, стр. 243).
Сноски к стр. 658
73 Фамилия писаря Шабунин, а не Шибунин, как было напечатано во втором томе «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым. Подлинное «военно-судное дело» Шабунина хранится в Военно-историческом архиве в Москве (1866 г., № 101). Мы пользовались предоставленной автором в наше распоряжение неопубликованной статьей Н. Н. Арденса, основанной на данных этого дела — «Василий Шабунин и Л. Н. Толстой».
Сноски к стр. 659
74 Это письмо, датированное 24 мая 1908 г., напечатано в Полном собрании сочинений, т. 37, 1955, стр. 67—75.
Сноски к стр. 661
75 Из первой, продиктованной редакции письма Толстого к Бирюкову от 24 мая 1908 г. (не опубликована).
76 «Тульский справочный листок», 1866, № 33 от 21 августа. Перепечатана в книге П. И. Бирюкова «Биография Льва Николаевича Толстого», том второй, М., 1923, стр. 39—43.
77 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 8 июня 1905 г.
Сноски к стр. 662
78 С. А. Толстая. Моя жизнь, авторизованная машинописная копия, тетрадь 2, л. 215; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
79 Н. П. Овсянников. Эпизод из жизни Л. Н. Толстого, изд. «Посредник», М., 1912, стр. 71.
80 В советское время, по инициативе Музея-усадьбы «Ясная Поляна», на могиле Шабунина была положена каменная плита и установлен памятник-обелиск.
Сноски к стр. 663
81 Полное собрание сочинений, т. 50, 1952, стр. 64.
Сноски к стр. 664
82 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863—1864, стр. 159.
83 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 325—341.
Сноски к стр. 665
84 Брат С. А. Толстой, Степан Андреевич Берс, в своей книге «Воспоминания о графе Л. Н. Толстом» (Смоленск, 1894, стр. 15) пишет, что Софья Андреевна в годы работы Льва Николаевича над «Войной и миром» «семь раз переписала этот роман». Это сообщение далеко от истины. Семь раз ни одна из частей «Войны и мира» никогда не переписывалась; количество копий для различных глав романа было очень различно. Рукописи «Войны и мира», находящиеся сейчас в Отделе рукописей Гос. музея Толстого, сохранились почти полностью. По ним видно, что некоторые главы романа переписывались несколько раз, другие же только по одному разу, и снятые с них первые копии прямо входили в состав наборной рукописи. Описание всех сохранившихся рукописей и корректур «Войны и мира» дано в книге: «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», составители: В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур, Е. С. Серебровская, М., изд. Академии наук СССР, 1955, стр. 95—162.
Сноски к стр. 666
85 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 667
86 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 137, под заглавием, данным редакцией, — «Анекдот о застенчивом молодом человеке».
87 Сохранившийся отрывок напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, стр. 136, под заглавием, данным редакцией, — «Рождественская елка».
Сноски к стр. 668
88 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
89 «Московские ведомости», 1866, № 274 от 29 декабря.
Сноски к стр. 672
90 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 70.
91 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 3 декабря 1906 г.
Сноски к стр. 673
92 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 674
93 Все рисунки Башилова к «Войне и миру» хранятся в Гос. музее Толстого. Некоторые из них были воспроизведены в книге Е. Лескина «Разбор и извлечение из романа «Война и мир», М., 1870, в «Голосе минувшего», 1913, 9, в 61 томе Полного собрания сочинений, 1953, и в журнале «Нева», 1956, 9.
94 Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 175, 176.
Сноски к стр. 676
95 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 176.
Сноски к стр. 677
96 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 170.
97 Татьяна Андреевна Берс вышла замуж за Александра Михайловича Кузминского в июле 1867 г.
98 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 196.
99 Первые шесть листов пятого тома первого шеститомного издания «Войны и мира» соответствуют главам I—XXIII третьей части третьего тома последующих четырехтомных изданий.
Сноски к стр. 678
100 Письмо С. С. Урусова к Толстому от 12 декабря 1868 г., Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 165.
101 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 30, запись от 14 февраля 1870 г.
Сноски к стр. 679
102 Евгений Скайлер. Граф Лев Николаевич Толстой («Русская старина», 1890, 9, стр. 647).
103 Письмо Толстого к А. А. Фету от 30 августа 1869 г.
104 Перевод Шопенгауэра, начатый Толстым, неизвестен. Перевод Фета главного сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление» вышел в свет в 1881 г.
105 Толстой находил, что Шопенгауэр в своем основном философском труде «Мир как воля и представление», «подходя с другой стороны», говорит то же самое, что сказано в Эпилоге «Войны и мира» (письмо к Фету от 10 мая 1869 г.). Толстой, однако, не развил этой мысли и не указал определенно, в чем он видел сходство своих воззрений с положениями философии Шопенгауэра.
Сноски к стр. 680
106 Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 231.
107 Там же, т. 83, 1938, стр. 166.
108 «Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого», М., 1904, стр. 43—60.
Сноски к стр. 684
109 Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 1 августа 1906 г.
110 Первый незаконченный перевод первых трех томов «Войны и мира» на иностранный (немецкий) язык появился в газете «Moskauer Deutsche Zeitung». 1870, № 1—140, 143, 144, 147, 148. Автор перевода неизвестен.
111 Письмо к А. А. Толстой от конца января 1873 г. (Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 9).
Сноски к стр. 686
112 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 687
113 Письмо не опубликовано, хранится в Отделе рукописей Гос. Музея Толстого.
114 Полное собрание сочинений, т. 1, 1928, стр. 138.
115 Там же, т. 53, 1953, стр. 23.
Сноски к стр. 688
116 Письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. (Полное собрание сочинений, т. 66, 1953, стр. 68).
117 Там же.
Сноски к стр. 689
118 Напечатан в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 125—127.
119 Французская писательница Генриетта Гизо-Витт, автор нескольких сочинений по религиозным вопросам.
Сноски к стр. 690
120 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 130, 131.
Сноски к стр. 692
121 Полное собрание сочинений, т. 90.
122 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 7, 1932, стр. 133—135.
123 Там же, стр. 128, 129.
1 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 13, 1949, стр. 54, 55.
Сноски к стр. 694
2 Напечатана в Полном собрании сочинений, т. 13, 1949, стр. 13.
Сноски к стр. 695
3 Напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 13, 1949, стр. 13—21.
Сноски к стр. 697
4 Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год, М., изд. АН СССР, 1954, стр. 19, 20.
Сноски к стр. 698
5 У Пушкина:
«И прекрасны вы некстати И умны вы невпопад».
Сноски к стр. 700
6 Под названием «Три поры жизни» вышел в 1854 г. роман Евгении Тур.
7 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 13, 1949, стр. 77—85.
8 Лысые Горы было название одного из сел Козловского уезда Тамбовской губернии («Русский архив», 1914, 1, стр. 67).
Сноски к стр. 701
9 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 79, 80.
10 «Русский архив», 1868, 10, стр. 1493.
11 А. М. Скабичевский. Дмитрий Иванович Писарев («Отечественные записки», 1869, 1, стр. 51).
Сноски к стр. 702
12 Николай Ахшарумов. «Война и мир», сочинение графа Л. Н. Толстого, разбор. СПб., 1868, стр. 20, 21. Другой критик об образе старого князя писал: «Князь Болконский есть в своем роде фигура историческая и настоящий, а не какой-нибудь карикатурный представитель екатерининских орлов. Его пребывание безвыездно в деревне, куда он был сослан при Павле, его ежедневные занятия за токарным станком, чтобы не пропадала ни одна минута даром, его скептицизм в вере и страх, нагоняемый на весь дом одною только повелительностью своей манеры, имеют в себе нечто такое, что действительно напоминает XVIII век» (Н. Соловьев. Искусство и жизнь, ч. III, М., 1869, стр. 325—326).
13 Напечатано в Полном собрании сочинений, т. 13, 1949, стр. 58—68.
14 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 68—70.
Сноски к стр. 703
15 Там же, стр. 169—173.
16 Там же, стр. 53.
Сноски к стр. 704
17 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 150—169.
18 Там же, стр. 153.
19 «Дневники Софьи Андреевны Толстой 1860—1891», М., 1928, стр. 80.
Сноски к стр. 705
20 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 70—75.
Сноски к стр. 706
21 Мысль о ничтожности личностей и жизней многих «правителей и воинов», признаваемых великими, не была оставлена Толстым во время работы над «Войной и миром». В черновой редакции второй части третьего тома находим такое авторское отступление принципиального характера: «Да не упрекнут меня в подбирании тривиальных подробностей для описания действий людей, признанных великими... Ежели бы не было описаний, старающихся выказать великими самые пошлые подробности, не было бы и моих [?] описаний. В описании жизни Ньютона подробности о его пище и о том, как он споткнулся, не могут иметь никакого влияния на значение его как великого человека — они посторонни; но здесь наоборот. Бог знает, что бы осталось от великих людей, правителей и воинов, ежели бы перевести на обыденный язык всю их деятельность» (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 84).
Сноски к стр. 707
22 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 95—149.
23 Там же, стр. 107, 108.
24 Там же, стр. 126, 127.
Сноски к стр. 708
25 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 145, 146.
26 Там же, стр. 149.
27 Там же, стр. 146.
28 Там же, стр. 149.
Сноски к стр. 709
29 Там же, стр. 174.
30 Там же, стр. 174—177.
31 Там же, стр. 177—183.
Сноски к стр. 710
32 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 184—197.
33 Там же, стр. 70—75.
Сноски к стр. 711
34 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 75—77, 198—201.
35 Там же, стр. 205—221, 221—240.
Сноски к стр. 712
36 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 237.
Сноски к стр. 713
37 В. И. Аскоченский (1813—1879) — писатель, издававший с 1859 г. реакционный журнал «Домашняя беседа».
38 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 238—240.
Сноски к стр. 714
39 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 230.
Сноски к стр. 717
40 Утверждение Э. Е. Зайденшнур, что продиктованные главы романа составляют большую часть сохранившейся рукописи в 250 листов, содержащей третью часть первого тома и две первые части второго, создававшейся «под диктовку в Москве в течение трех недель» (Полное собрание сочинений, т. 16, 1955, стр. 66), ошибочно. Та же ошибка повторена в «Описании рукописей и корректур «Войны и мира» (там же, стр. 169, где упоминаемая рукопись описана под № 85). По письмам Толстого к жене, в которых он подробно описывал свою жизнь в Москве, видно, что диктовка романа происходила в пять приемов в промежуток времени с 30 ноября по 8 декабря. Очевидно, что за этот короткий срок не могла быть продиктована такая большая рукопись. Рукопись, о которой идет речь, содержит, кроме автографов, 4 листа, переписанных рукою С. А. Толстой, и 184 листа, исписанных с обеих сторон (следовательно, 368 страниц) типичным почерком профессионального писца (фамилия его неизвестна), с росчерками и завитушками, — почерком, нисколько не похожим на почерки сестер Берс. Рукопись не содержит никаких обычных признаков диктовки — вычеркиваний, исправлений, перестановки текста и пр.; она несомненно является копией с оригинала (не сохранившегося) и предназначалась для отсылки в «Русский вестник».
Ту же ошибку находим и в книге «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», М., изд. Академии наук СССР, 1954, стр. 122, где данная рукопись значится под № 103.
41 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 54—56.
Сноски к стр. 719
42 А. С. Норов. «Война и мир» с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника, СПб., 1868, стр. 1.
Сноски к стр. 720
43 Чтение предположительное; в оригинале сокращено: «ор. черн.»
44 Народное выражение и произношение. То же в статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы»: «В народе говорят, что в яснополянской школе... такие дошлые есть учителя, что бяда» (Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 50).
45 В копии этого письма (оригинал неизвестен) после слова «описание» и перед словами «Аустерлицкого сражения» оставлен пробел. Восстанавливаем пропуск по смыслу.
46 См. сноску 40 на стр. 717.
47 «Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse, De 1792 а 1832», Paris, 1856—1857, 9 томов.
Сноски к стр. 721
48 Мармон приводит следующие слова Наполеона: «Александр Македонский, завоевав Азию, объявил себя сыном Юпитера и, кроме Аристотеля и нескольких афинских педантов, весь Восток ему поверил. А вздумай я теперь объявить себя сыном небесного бога — и нет такой рыночной торговки, которая не освистала бы меня».
Сноски к стр. 722
49 Е. Л. Марков. Народные типы в нашей литературе («Отечественные записки», 1865, 1—2).
Сноски к стр. 723
Сноски к стр. 724
51 «Война и мир», т. I, ч. II, гл. XV. Все цитаты из окончательного текста «Войны и мира» даются по 9, 10, 11 и 12 томам Полного собрания сочинений, 1937, 1938 и 1940 гг.
52 «Война и мир», т. I, ч. II, гл. XVII.
53 Там же, гл. VIII.
Сноски к стр. 725
54 «Война и мир», т. I, ч. II, гл. XXI.
55 В черновой редакции описания Аустерлицкого сражения есть одна сцена, сильно сокращенная в окончательном тексте, в которой ярко показана фальшь и неискренность штабных офицеров. В ожидании сражения князь Андрей наблюдает русских и австрийских генералов и адъютантов, которых он всех знал лично. «Ни один из них не имел естественного вида, и все одинаково старались принимать кто проницательный, кто воинственный, кто небрежный вид, но не натуральный». Но едва только неожиданно и совсем близко показались французские войска, как «все лица вдруг изменились, и все стали естественны, на всех выразился испуг и недоумение» (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 529). В окончательном тексте от всей этой картины осталась только одна фраза: «Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас» («Война и мир», т. I, ч. III, гл. XVI).
56 В № 91 газеты «Русский инвалид» за 1902 г. появилась статья капитана Г. К. Ерошевича «Какая именно артиллерийская рота была в Шенграбенском сражении и кто был герой артиллерист Тушин, изображенный в романе графа Л. Н. Толстого «Война и мир». На основании архивных изысканий автор утверждает, что капитан Тушин — не кто иной, как командир артиллерийской батареи, действовавшей под Шенграбеном, Я. И. Судаков. Утверждение это ни на чем не основано. Приводимые архивные данные Толстому не были известны, а официальная характеристика Судакова не дает никаких оснований устанавливать какое-либо сходство между ним и образом Тушина.
Сноски к стр. 726
57 Корректурные гранки второго тома «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым, штамп типографии Кушнерева 15 марта 1908 г., гранка 18, Отдел рукописей Гос. музея Толстого.
58 Об энергичных и умелых распоряжениях Кутузова, спасших русскую армию, попавшую в трудное положение под Кремсом, рассказано в XIV главе второй части.
Сноски к стр. 728
59 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году, СПб., 1844, стр. 128, 129.
60 Там же, стр. 186, 220, 221.
Сноски к стр. 729
61 Письмо к И. И. Корганову от 25 декабря 1902 г., Полное собрание сочинений, т. 73, 1954, стр. 353.
62 К. В. Покровский. 1812 год в русской повести и романе («Чтения в Императорском обществе любителей истории и древностей российских», 1912, IV, стр. 128).
63 В дальнейшем в данной главе деление «Войны и мира» на томы и части указывается, кроме особо оговоренных случаев, по принятому четырехтомному, а не по первому шеститомному изданию.
Сноски к стр. 730
64 С. П. Жихарев. Записки современника с 1805 по 1814 год, I. Дневник студента, СПб., 1859.
65 Вариант опубликован в Полном собрании сочинений, т. 13, 1949, стр. 589—597.
Сноски к стр. 731
66 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. СПб., 1846.
67 Д. В. Давыдов. Сочинения, изд. 4, т. I, М., 1860.
68 А. И. Михайловский-Данилевский. Указанное сочинение, стр. 277.
69 Там же.
70 «Война и мир», т. II, ч. II, гл. XV.
Сноски к стр. 732
71 Михайловский-Данилевский, Указанное сочинение, стр. 371.
Сноски к стр. 733
72 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 37.
73 Напечатаны там же, стр. 35, 36, вариант № 19.
Сноски к стр. 735
74 Э. Зайденшнур. История писания и печатания «Войны и мира», Полное собрание сочинений, т. 16, 1955, стр. 86. В этой статье прослежен в общих чертах процесс работы Толстого над созданием отдельных глав и частей «Войны и мира».
75 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 671.
Сноски к стр. 736
76 «Автобиография С. А. Толстой» («Начала», 1921, I, стр. 146).
77 С. А. Толстая. Моя жизнь, машинописная копия, тетрадь 2, стр. 229; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 737
78 Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 116—121.
79 Напечатано там же, стр. 127—164.
Сноски к стр. 740
80 С. Бычков. Л. Н. Толстой. Очерк творчества, М., 1954, стр. 131.
Сноски к стр. 741
81 Сведение о том, что заглавие «Война и мир» появилось у автора в конце 1866 года, находим в следующей заметке, напечатанной в № 1 от 6 января 1867 г. газеты «Восток», выходившей в Астрахани: «Литературные новости. Граф Л. Н. Толстой окончил половину своего романа, появлявшегося в «Русском вестнике» под именем «1805 год». В настоящее время автор довел свой рассказ до 1807 года и закончил Тильзитским миром. Первая часть, уже известная читателям «Русского вестника», значительно переделана автором, и весь роман под заглавием «Война и мир» в четырех больших томах с превосходными рисунками в тексте выйдет отдельным изданием не ранее, однако же, конца будущего [т. е. 1867] года». Сведения, сообщаемые в этой заметке, исходили, очевидно, от кого-либо из знакомых Толстого, или Баталова, или Берсов, проживавших в Москве. В переписке Толстого название «Война и мир» впервые встречается в письме к нему А. Е. Берса от 9 марта 1867 г. (Отдел рукописей Гос. музея Толстого).
Сноски к стр. 742
81а В черновом условии с типографией относительно печатания «Войны и мира» (см. стр. 672) слово «мир» в заглавии произведения написано Толстым через «и десятиричное», как по старой орфографии слово это писалось в значении «вселенная», «мир людей». Но это не что иное, как описка Толстого, вызванная, вероятно, поспешностью при заключении условия.
82 М. В. Ломоносов. Сочинения, т. I, СПб., Изд. Академии наук, 1891, стр. 233.
83 Сергей Глинка. Записки о 1812 годе первого ратника московского ополчения, СПб., 1836, стр. 15.
Сноски к стр. 743
84 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 129.
85 «Война и мир», т. II, ч. III, гл. VII.
86 «Афоризмы и избранные мысли Л. Н. Толстого», собранные Л. П. Никифоровым, М., изд. «Посредник», 1905, стр. 13.
87 Полное собрание сочинений, т. 41, 1957, стр. 449.
88 «Война и мир», т. II, ч. II, гл. II; Полное собрание сочинений, т. 41, 1957, стр. 492.
Сноски к стр. 744
89 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 653.
Сноски к стр. 746
90 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 754.
91 Эту несоразмерность в обозначении возраста сестер Ростовых критик объясняет тем, что Наташа представлялась автору олицетворением душевной молодости и жизнерадостности, в то время как в ее сестре Вере он видел олицетворение душевной старости и равнодушия (А. Дерман. Промахи мастеров, «Красная новь», 1932, 12).
92 «Война и мир», т. II, ч. III, гл. XXI.
Сноски к стр. 747
93 «Война и мир», т. III, ч. III, гл. XI.
94 Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 419, 420.
95 «Русский вестник», 1868, 1, стр. 300—320.
Сноски к стр. 749
96 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXV.
97 «Большие, взрослые люди»: это же выражение через много лет употребил Толстой в первых строках «Воскресения», обличая безумие существующего строя.
98 Полное собрание сочинений», т. 13, 1949, стр. 408.
Сноски к стр. 750
99 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 127.
100 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXIX.
101 Из черновой редакции описания Бородинского сражения (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 205).
102 Из черновой редакции первого тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 402).
103 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. XV.
104 Там же, ч. II, гл. XXXIX.
105 Там же, ч. I, гл. XI.
Сноски к стр. 751
106 «Война и мир», т. I, ч. II, гл. XV.
107 Там же, т. IV, ч. III, гл. VII. — Еще на Кавказе Толстой записал для себя следующее «наблюдение»: «В склонности простого русского народа перевирать названия есть какое-то основание. Никогда я не встречал, чтобы перевранное название было неблагозвучно и, кроме того, не имело бы русского названия и еще отношения к месту или лицу, которому оно принадлежит» (Полное собрание сочинений, т. 46, 1934, стр. 278, запись от 18 октября 1853 г.).
108 «Война и мир», т. III, ч. III, гл. IX.
109 Там же, т. III ч. II, гл. XXXV.
Сноски к стр. 752
110 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. I.
111 Там же, т. IV, ч. II, гл. VII.
112 Там же, ч. IV, гл. XI.
112а Во всех изданиях «Войны и мира» печаталось ошибочно: «о правах».
113 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXV.
114 Там же, т. IV, ч. III, гл. III.
Сноски к стр. 753
115 Слово «гвоздит» могло быть взято из заглавия народного листка, изданного в 1812 году: «Мужик Долбило, ратник Гвоздило, Карнюшка Чихиркин».
116 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. I.
117 А. В. Чичерин. О языке и стиле романа «Война и мир», Харьков, 1953, стр. 24.
Сноски к стр. 755
118 К. Клаузевиц, 1812 год, М., Воениздат, 1937, стр. 27—29, 48.
119 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. X.
120 Такое же приблизительно понимание типичности Толстой высказал впоследствии в беседе с писателем А. Мошиным. См. стр. 774.
Сноски к стр. 756
121 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. IX.
122 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 117.
123 Черновая редакция третьего тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 116).
124 Там же, стр. 108.
125 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXV.
Сноски к стр. 757
126 С. Глинка. Записки о 1812 годе, СПб., 1836, стр. 17, 18.
127 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. XXIII.
Сноски к стр. 758
128 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. XII.
Сноски к стр. 759
129 Сочинения К. Н. Батюшкова, изд. 5, СПб., 1887, стр. 388. Записная книжка, озаглавленная «Чужое мое сокровище», запись от 3 мая 1817 г.
130 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. II.
Сноски к стр. 760
131 Записи Толстого, сделанные в Бородине, напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 14, 1953, стр. 39 и 40, вариант № 24.
132 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 152, 153.
133 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XIX.
Сноски к стр. 762
134 Факт, заимствованный из «Очерков Бородинского сражения» Ф. Глинки.
135 Таким посторонним зрителем Бородинского сражения был поэт П. А. Вяземский, о чем Толстой мог узнать из бывшего в его распоряжении письма М. А. Волковой к В. И. Ланской от 11 ноября 1812 г., где о Вяземском было сказано: «Сей последний возымел дерзостную отвагу участвовать в качестве зрителя в Бородинском сражении». (Письмо напечатано в «Вестнике Европы», 1874, 8, стр. 605—606).
136 Указания источников, на основании которых в «Войне и мире» дано описание отдельных моментов Бородинского сражения, приведены в книге Н. Н. Апостолова «Лев Толстой над страницами истории», М., 1928, стр. 152—157.
137 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXV. Этот факт заимствован Толстым из «Истории Отечественной войны» М. Богдановича, т. II, СПб., 1859, стр. 219, 220.
Сноски к стр. 763
138 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXIX. Это описание душевного состояния Наполеона в день Бородинского сражения, основанное на доступных Толстому французских мемуарах, подтверждается и другими материалами, опубликованными после выхода в свет «Войны и мира». Так, бывший французский посол в Петербурге, доверенное лицо Наполеона, Арман де Коленкур в своих мемуарах, изданных полностью только в 1933 году, рассказывает, что в день сражения «император казался озабоченным». «Несколько раз во время сражения он говорил князю Невшательскому [Бертье], а также и мне: «Русские дают убивать себя как автоматы. Взять их нельзя. Этим наши дела не подвигаются». По вступлении в Можайск «император был очень озабочен... Дела в России, несмотря на выигранное сражение, отнюдь нельзя было назвать удовлетворительными... Этот успех не завершал ничего, если оставалась непоколебимой русская армия» (Арман де Коленкур. Мемуары. Поход Наполеона в Россию, М., Госполитиздат, 1943, стр. 134, 136, 138).
139 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXIX.
140 Из черновой редакции третьего тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 264).
141 Заключительные строки второй части третьего тома «Войны и мира».
Сноски к стр. 764
143 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 25.
Сноски к стр. 765
144 Толстой до конца жизни сохранил это мнение о преувеличенности описаний ужасов крепостного права. В 1906 г., читая воспоминания известного в то время писателя П. Д. Боборыкина, он обратил внимание на то, что, по рассказу Боборыкина, «крепостное положение совсем не было ужасным». Толстой имел в виду следующее место из воспоминаний Боборыкина: «Мягкость моего отца не могла вызывать никаких крепостнических эксцессов. И тогда, в николаевское время, и позднее до 1861 года я не помню у отца случаев отдачи в солдаты в виде наказания или в арестантские роты, не помню и никаких экзекуций на конюшне» (П. Д. Боборыкин. За полвека. — «Русская мысль», 1906, 5, стр. 25). — «Это мне приятно было прочесть, — сказал Толстой по поводу этого места воспоминаний Боборыкина. — Тогда все зло приписывали крепостному праву, как теперь правительству» (Неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 16 июня 1906 г.). Толстой, однако, не придерживался последевательно этого взгляда; в его сочинениях последнего периода можно встретить и противоположные суждения о крепостном праве. Так, в черновой редакции главы о Николае I, входящей в состав повести «Хаджи-Мурат» и написанной в 1904 г., Толстой, рассказывая о жестокостях Николая, вспоминает декабристов, этих «добрых, образованных, умных, лучших русских людей», виновных «в том только, что они хотели избавить Россию от грубого своеволия Аракчеевых и им подобных и, в ущерб своим выгодам, дать свободу миллионам и миллионам рабов, обращенных в животное состояние бесчеловечными помещиками» (Полное собрание сочинений, т. 35, 1950, стр. 550). В черновой редакции статьи «Пора понять» (1909) Толстой писал: «Во времена крепостного права были жестокие мучители помещики, но был предел. И если они доходили до этого предела, то крестьяне уже не могли переносить его и убивали злодея помещика» (Полное собрание сочинений, т. 38, 1937, стр. 344).
Сноски к стр. 766
145 «Война и мир», т. II, ч. II, гл. XI.
146 Там же, гл. X.
Сноски к стр. 767
147 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 622.
Сноски к стр. 768
148 О Н. Д. Афросимовой — прототипе М. Д. Ахросимовой — писали многие мемуаристы, в том числе: С. П. Жихарев. Записки современника, СПб., 1859 (последнее изд. АН СССР, М. — Л., 1955); Д. Н. Свербеев. Записки, М., 1899, стр. 260—263; А. А. Стахович. Клочки воспоминаний, М., 1904, стр. 154; Н. В. Давыдов. Из прошлого, М., 1913, стр. 89, 90 и др. Стахович сообщает, что еще в 1807 г. Растопчин вывел Н. Д. Афросимову под именем Набатовой в комедии «Вести, или Живой покойник».
149 А. И-н. Журнальные и библиографические заметки («Русский инвалид», 1868, № 92 от 6 апреля).
150 А. Вощинников. Шестой том «Войны и мира» («Новороссий ский телеграф», 1870, № 12 от 16 января).
Сноски к стр. 770
151 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания 1864—1868. М., 1921, стр. 39, 40.
Сноски к стр. 771
152 «Новое время», 1916, № 14400, 14413, 14427, 14434.
153 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, М., три части, изд. М. и С. Сабашниковых, 1926.
154 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания 1863—1864, М., 1926, стр. 23.
Сноски к стр. 772
155 О Р. И. Дорохове писали: П. В. Висковатов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, М., 1891, стр. 341—343; М. А. Цявловский. Долохов-Дорохов (рукопись). См. также «Архив Раевских» под редакцией Б. Модзалевского, т. 2, стр. 241, 242.
156 «Военные сцены из романа графа Толстого «Война и мир» («Военный сборник», 1870, 6).
157 Сведения о Фигнере Толстой почерпнул из книги М. Богдановича «История Отечественной войны 1812 года», т. II, стр. 383—385.
158 Барон М. Корф. Жизнь графа Сперанского, два тома. СПб., 1861.
Сноски к стр. 773
159 «Война и мир», т. II, ч. III, гл. VI.
160 Там же, гл. XVIII.
161 «Когда он [Дружинин] находил, — рассказывает Григорович, — что слишком уж засиделся и заработался и надо наконец себя развлечь, он приходил к кому-нибудь из нас... и произносил обыкновенно меланхолически постоянно одну и ту же фразу: «Не совершить ли сегодня маленькое, легкое безобразие?» «Безобразие» состояло в том, что на зов его собирались два-три товарища (он служил прежде в Финляндском полку), к ним присоединялись два-три литератора, и вся компания отправлялась на дальний конец Васильевского острова, где специально для увеселений Дружинин одно время нанимал небольшое помещение в доме гаваньского чиновника. Букет увеселений состоял главным образом в том, что присутствующие, держа друг друга за руки, водили хороводы вокруг бюста Венеры и пели веселые песни. Дружинин старался всеми силами поднять тон, но во всем этом проглядывало что-то искусственное, гальваническое, вызванное не натуральным побуждением веселиться, а холодным соображением человека, надумавшего, что долго засиживаться вредно для здоровья» (Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, Л., изд. «Academia», 1928, стр. 247—249).
Сноски к стр. 774
162 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г. («Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 59).
163 Алексей Мошин. Ясная Поляна и Васильевка, СПб., 1904. стр. 29—31.
Сноски к стр. 775
164 Вороново — село в семи верстах от Москвы, где находились дом и усадьба Растопчина. Уезжая из Москвы, Растопчин сжег этот дом со всем находившимся в нем имуществом.
Сноски к стр. 776
165 Полное собрание сочинений, т. 15, 1955, стр. 241, один из черновых вариантов эпилога «Войны и мира».
166 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 37.
167 «Война и мир», т. III, ч. III, гл. V.
Сноски к стр. 777
168 «Война и мир», т. III, ч. III, гл. XXIV.
169 Там же, гл. V.
170 Там же, гл. XXVI. «Мы были избалованы предыдущими походами императора», — признается Коленкур в своих записках (Арман де Коленкур. Мемуары, М., 1943, стр. 156).
171 «Война и мир», т. IV, ч. II, гл. XVII.
172 Там же, ч. IV, гл. V.
Сноски к стр. 778
173 «Война и мир», т. IV, ч. IV, гл. V.
174 Там же.
175 Есть, правда, в черновой редакции описания Аустерлицкого сражения одно, тут же зачеркнутое место, которое может быть принято за апофеоз Кутузова. Здесь Кутузов изображается следующим образом: «Старый, толстый, сонный придворный и ленивый главнокомандующий, как его называли молодые приближенные государя, мгновенно преобразился; в эту минуту не было старого, сонного, одутловатого Кутузова, а красивый, величественный и твердый муж прямо сидел на лошади, полными мысли и великодушной решимости глазами ясно смотрел вперед, и очевидно решившийся умереть или сделать всё возможное для спасения славы армии» (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 532). Совершенно понятно, что такое изображение Кутузова, напоминающее изображение Петра I в «Полтаве» Пушкина, столь не свойственное портретной живописи Толстого, не удовлетворило автора и было им вычеркнуто сейчас же после того, как было написано.
176 Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 155.
Сноски к стр. 779
177 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. XIV.
178 Так, П. А. Жилин, приведя выдержки из «Войны и мира» с характеристикой Кутузова, пишет: «Нельзя не признать справедливость слов выдающегося русского писателя. Русские буржуазные военные историки не только не создали ни одной сколько-нибудь значительной научной работы о Кутузове, но, оказавшись в плену иностранной реакционной историографии, принизили и извратили гениальный образ русского полководца» (П. А. Жилин. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М., Военное издательство. 1950, стр. 22).
179 Библиография работ о Кутузове советских историков дана в статье «Кутузов» в Большой Советской энциклопедии, изд. 2, т. 24.
180 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXV.
Сноски к стр. 780
181 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. II, СПб., 1859, стр. 226.
182 К. Клаузевиц. «1812 год». Военное издательство, М., 1937, стр. 80.
183 П. Б. Рецензия на «Переписку Пушкина» под редакцией В. И. Саитова («Русский архив», 1908, 4, оборот обложки, стр. 2, 3).
184 Сохранилось воспоминание о работе Толстого над главой о Верещагине бывшего учителя яснополянской школы Н. П. Петерсона, служившего в то время библиотекарем Чертковской библиотеки в Москве. Толстой просил его подобрать литературу о Верещагине, и Петерсон «собрал множество рассказов об этом событии газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы». Но Толстой, придя в библиотеку, сказал, что читать эту литературу не будет, так как «в сумасшедшем доме встретил какого-то старика, очевидца этого события», который рассказал ему, «как это происходило» (Н. П. Петерсон. Из записок бывшего учителя, — Международный толстовский альманах, составленный П. Сергеенко, М., 1909, стр. 261—262).
Сноски к стр. 781
185 Александр Попов. Французы в Москве, М., 1876, стр. 92.
186 Евгений Скайлер. Граф Л. Н. Толстой («Русская старина», 1890, 9, стр. 653).
187 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIII, ч. I, 1936, стр. 313.
188 О свойственном Наполеону «презрении к человеку» как «единственном принципе деспотизма» писал также Маркс в одном из писем в «Deutsch-Französische Jahrbücher» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 1, 1955, 374).
Сноски к стр. 782
189 «Царствовать значит играть роль, — говорил Наполеон. — Государи всегда должны быть на сцене» (Арман де Коленкур. Мемуары, М., Госполитиздат, 1943, стр. 346).
190 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 58.
191 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. III.
192 Там же, т. III, ч. II, гл. XXXVIII.
Сноски к стр. 783
193 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. XVI. Толстой, очевидно, прав, когда рисует такими красками душевное состояние руководителей «великой армии» во время ее отступления из Москвы. Еще по поводу дикого разграбления французами Москвы участник похода генерал граф Сегюр писал в своих записках: «Нам совестно было смотреть на себя. Нас устрашал крик ужаса, который раздастся по всей Европе. С опущенными глазами мы подходили друг к другу, пораженные этим страшным событием; оно помрачило нашу славу, оно вырвало из наших рук плоды победы, оно угрожало нашему существованию в настоящем и будущем. Мы — войско разбойников, над которым должно совершиться правосудие неба и образованного мира» (C-te Ségur. Histoire de Napoléon et de la grande armée, т. II, стр. 51).
194 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. IV.
195 Из черновой редакции описания Бородинского сражения (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 251).
196 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. XVIII.
197 Там же, ч. IV, гл. V.
198 Там же, ч. III, гл. XVIII.
Сноски к стр. 784
199 Полное собрание сочинений, т. 15, 1955, стр. 242.
200 Академик Е. В. Тарле. Наполеон, М., 1939, стр. 471. Образ Наполеона, нарисованный Толстым, имеет большое сходство с портретом Наполеона, данным Герценом в первой главе «Былого и дум».
201 Полное собрание сочинений, т. 49, 1952, стр. 108.
202 Там же, т. 65, 1953, стр. 4, 5.
Сноски к стр. 785
203 Письмо Н. Л. Оболенского к В. Г. Черткову от 6 июля 1901 г. («Листки Свободного Слова», № 24, Christchurch, 1901, стр. 26).
204 «Война и мир», т. III, ч. III, гл. IX.
Сноски к стр. 786
205 «Русский архив», 1865, 3.
206 «Война и мир», т. IV, ч. I, гл. IX.
207 Там же, гл. X.
Сноски к стр. 787
208 «Война и мир», т. IV, ч. I, гл. XI.
209 Там же, ч. II, гл. XIII.
210 Полное собрание сочинений, т. 15, 1955, стр. 25.
Сноски к стр. 788
211 «Война и мир», т. IV, ч. I, гл. XIII.
Сноски к стр. 790
212 «Война и мир», т. IV, ч. IV, гл. XI.
213 Там же, эпилог, гл. V. — В некоторых крестьянских образах классических русских писателей можно найти отдельные черты сходства с образом Платона Каратаева. Черты Каратаева заметны и в некрасовском безымянном мужичке из стихотворения «С работы», который, проработав целый день, ложится спать голодный (хлеба нет, и печь нетоплена) и заботится только о том, чтобы жена накормила Савраску, который, «сердешный», «за зиму вывез триста четыре бревна»; и в никитинском «дедушке», который «за скорби славит бога» и рад жить, но «непрочь и в могилу, в темный уголок»; и, конечно, в тургеневской Лукерье из рассказа «Живые мощи», для которого автор недаром взял эпиграфом стихи Тютчева о долготерпении русского народа. Совершенно каратаевский тип выведен Далем в его рассказе «Прадедовские ветлы» (В. И. Даль. Полное собрание сочинений, т. IV. СПб., 1897). Глеб Успенский считал Каратаева «типическим лицом, в котором наилучшим образом сосредоточена одна из самых существенных групп характернейших народных свойств» (Г. И. Успенский. Власть земли, гл. VIII). Говоря о том, что в образе Каратаева нашла свое выражение лишь «одна» из сторон психологии русского крестьянина, Успенский хотел сказать, что миросозерцание Каратаева, как представителя патриархального крестьянства, не выражает миросозерцания всего русского народа.
Сноски к стр. 791
214 «Война и мир», т. IV, ч. I, гл. XII.
215 Там же, ч. IV, гл. XVII.
216 Там же, ч. I, гл. XIII.
217 Там же, ч. IV, гл. XII.
218 Там же, т. III, гл. XXVII.
219 Там же, т. IV, ч. II, гл. XIV.
Сноски к стр. 792
220 Журнал «Русский архив».
221 П. Сергеенко. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой, М., 1898, стр. 62. Воспоминание относится к 1892—1898 гг.
222 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. II—III.
223 Там же, гл. V.
224 Из черновой редакции четвертого тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 159).
Сноски к стр. 793
225 «Война и мир», т. IV, ч. IV. гл. VII—IX.
226 Там же, ч. III, гл. XIX.
227 Там же, ч. IV, гл. XIII.
228 Вопреки хвастливому заявлению Наполеона в его бюллетене от 7 (19) октября 1812 года (день выезда из Москвы): «Москва не имеет военного значения и потеряла уже политическое, потому что сожжена и разорена на сто лет» (Александр Попов. Французы в Москве, М., 1876, стр. 176).
229 «Война и мир», т. IV, ч. IV, гл. XIV—XV.
230 Смерть Элен, о которой рассказывается в первой части четвертого тома, Толстой сначала хотел приписать другой причине и описать более подробно. В дневнике В. Ф. Одоевского под 7 апреля 1868 г. записано: «Обедали: Ольга Федоровна Кошелева, граф Л. Н. Толстой («Война и мир»), С. А. Юрьев (математик). В 91/2 часов небольшой припадок. Написал для графа Толстого (для умерщвления Элен) описание припадков моей Angina pectoris» («Литературное наследство», т. 22—24, 1935, стр. 242). Из этой записи видно, что Толстой в известной степени посвятил В. Ф. Одоевского в дальнейшее развитие сюжета своего романа и желал знать подробности прохождения припадков той болезни, какой страдал Одоевский. В черновой редакции четвертого тома (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 355) Элен так и умирает — от приступа грудной жабы в момент оживленного разговора с католическим патером, «руководителем совести», наставлявшим ее в истинах католической веры (хотя она «всякую минуту» ожидала «нового оборота разговора»). Но позднее мысль о смерти Элен от припадка грудной жабы была оставлена. Это было бы нехарактерно, и Толстой остановился, на причине смерти, более соответствующей образу жизни Элен.
Сноски к стр. 794
231 И. Д. Якушкин. Записки, изд. 2, М., 1905, стр. 1.
232 «Из писем и показаний декабристов», под редакцией А. К. Бороздина, СПб., 1906, стр. 35.
233 «Война и мир», т. II, ч. III. гл. VII.
Сноски к стр. 796
234 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. XIII—XIV.
235 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, М., 1928, стр. 180, запись от 8 июня 1908 г.
236 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. XIV, XVI.
237 Так, «диктатор» восстания 14 декабря князь С. П. Трубецкой показывал в Следственном комитете, что он и его друзья по тайному обществу часто вели беседы о том, что «каждый из нас, сопутствуя своему государю в трудах военных, должен и в мирных подвигах его величества по возможности содействовать, что как содействие каждого часто малозначуще, то полезнее действовать общими силами. Последствие сего, что чем более людей действует вместе, тем действие их сильнее» («Восстание декабристов». Материалы, I, Госиздат, Л., 1925, стр. 9).
Сноски к стр. 797
238 И. Д. Якушкин в своих записках рассказывает: «В то время мы страстно любили древних. Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами» (И. Д. Якушкин. Записки).
239 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г. («Толстовский ежегодник 1912 г.», стр. 63).
240 Полное собрание сочинений, т. 7, 1932, стр. 134—137.
Сноски к стр. 798
241 «Война и мир», эпилог, ч. I, гл. X.
242 Там же, гл. IX.
243 Хотя еще раньше (т. IV, ч. IV, гл. XVII) Толстой не мог воздержаться от иронических замечаний по адресу «умных» женщин, которым он противопоставляет свой идеал женщины.
244 Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 55.
245 Там же, т. 7, 1932, стр. 134, 135.
Сноски к стр. 799
246 «Война и мир», т. II, ч. I, гл. VII.
247 Там же, т. II, ч. I, гл. VIII.
248 Там же, т. I, ч. III, гл. I.
Сноски к стр. 801
249 H. A. Добролюбов. Николай Владимирович Станкевич (Полное собрание сочинений, т. III, М., 1939, стр. 66).
250 Н. А. Добролюбов. Рецензия на книгу В. Ирвинга «Жизнь Магомета» (Полное собрание сочинений, т. III, 1939, стр. 335).
251 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 71.
252 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXVIII.
253 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
254 «Война и мир», т. IV, ч. II, гл. I.
255 Там же, т. III, ч. I, гл. I.
Сноски к стр. 802
256 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
257 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. I.
258 Там же, ч. II, гл. XIX.
259 Там же, гл. XXVIII.
260 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
261 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXVIII.
262 Там же, т. IV, ч. I, гл. X.
263 Там же, т. III, ч. I, гл. I.
264 Там же, ч. III, гл. I.
Сноски к стр. 803
265 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. I.
Сноски к стр. 804
266 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 130.
267 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. II.
268 Из черновой редакции описания Аустерлицкого сражения (Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 523).
269 «Война и мир», т. I, ч. II, гл. XVII.
270 Там же, т. III, ч. II, гл. XXXV.
Сноски к стр. 805
271 Полное собрание сочинений, т. 29, 1954, стр. 221.
272 В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 115.
273 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. IX.
274 Там же, ч. II, гл. I.
275 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
276 Там же.
277 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXVIII.
278 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
279 Из черновой редакции третьего тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 62).
Сноски к стр. 806
280 «Война и мир», эпилог, ч. II, гл. I.
281 В смысле «неопределимая».
282 Из черновой редакции первого тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 527).
283 «Война и мир», т. IV, ч. II, гл. I.
284 Там же, эпилог, ч. I, гл. I.
285 Там же, т. IV, ч. I, гл. IV.
286 Там же, ч. IV, гл. V.
287 Там же, т. III, ч. I, гл. I.
Сноски к стр. 807
288 Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 62.
289 Из черновой редакции первого тома «Войны и мира» (Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 524, 601).
290 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXVIII.
291 Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 14.
292 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXXIX.
293 Там же, ч. III, гл. IX.
294 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
295 Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 124.
Сноски к стр. 808
296 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XIX. СПб., 1922, стр. 1.
297 Л. Н. Толстой. Круг чтения, изд. «Посредник», т. 1, М., 1906, стр. 173.
298 «Библиография» («Голос», 1869, № 360 от 31 декабря).
299 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 32.
300 Полное собрание сочинений, т. 8, 1936, стр. 409.
301 Там же, т. 13, 1949, стр. 56.
302 Там же, т. 14, 1953, стр. 13.
Сноски к стр. 810
303 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
304 Там же.
305 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. I.
306 «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».
307 Там же.
Сноски к стр. 811
308 Полное собрание сочинений, т. 14, 1953, стр. 13.
309 «Война и мир», т. IV, ч. III, гл. XII.
Сноски к стр. 812
310 Письма не опубликованы: хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Толстого.
Сноски к стр. 813
1 «Современное обозрение», 1868, 2, стр. 645.
2 Х. Л. Прошлая неделя («Голос», 1868, № 63 от 3 марта).
3 А. И-н [А. С. Суворин]. Журнальные и библиографические заметки («Русский инвалид», 1868, № 80 от 23 марта).
4 Библиография, «Голос», 1868, № 83 от 23 марта.
5 Аноним [Д. Д. Минаев]. С невского берега («Дело», 1868, 4, стр. 202).
Сноски к стр. 814
6 «Общественные заметки» («Русско-славянские отголоски», 1868, 2, от 18 мая).
7 Литературное домино [Д. Д. Минаев]. «Искра», 1868, № 18 от 19 мая, стр. 223.
8 М. М-н. «Иллюстрированная газета», 1868, № 37 от 19 сентября.
9 Н. Б. Библиография («Народная газета», 1868, № 44 от 7 ноября).
10 А. Витмер. По поводу исторических указаний 4-го тома «Войны и мира» графа Л. Н. Толстого («Военный сборник», 1868, 12, стр. 435).
11 Н. Н. Страхов. «Война и мир» («Заря», 1869, 1).
12 Библиография, «Новое время», 1869, № 91 от 13 мая.
13 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 174.
Сноски к стр. 815
14 «Сын отечества», 1868, № 161 от 19 июля.
15 «Московские ведомости», 1868, № 195 от 10 сентября.
16 Исчерпывающая библиография критических статей и упоминаний о «Войне и мире» в печати за 1865—1870 годы дана в книге: В. С. Спиридонов. Л. Н. Толстой. Био-библиография, т. I, 1845—1870, М., 1933, изд. «Academia».
Сноски к стр. 816
17 «Вседневная жизнь», «Обзор журналов» («Голос», 1865, № 93 от 3 апреля). В подзаголовке статьи «1805 год» охарактеризован такими словами: «Необыкновенное и неопределенное произведение графа Льва Толстого».
18 В. Зайцев. Перлы и адаманты русской журналистики («Русское слово», 1865, 2, стр. 51).
19 «Будильник», 1865, № 227 от 30 июля.
Сноски к стр. 817
20 «Омега» [Н. Ф. Щербина]. Письмо из Москвы («Русский инвалид», 1865, № 39 от 21 февраля).
21 А. И-н [А. С. Суворин]. Журнальные и библиографические заметки («Русский инвалид», 1865, № 44 от 27 февраля).
22 Н. Ахшарумов. «1805 год», сочинение графа Льва Толстого («Всемирный труд», 1867, 6).
Сноски к стр. 818
23 «Отечественные записки», 1868, 2, стр. 263—291.
Сноски к стр. 819
24 Николаева [М. К. Цебрикова]. Наши бабушки («Отечествен ные записки», 1868, 6, стр. 167—192).
Сноски к стр. 820
25 П. Анненков. Исторические и эстетические вопросы в романе графа Л. Н. Толстого «Война и мир» («Вестник Европы», 1868, 2, стр. 774—795).
Сноски к стр. 822
26 Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г. («Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 57).
Сноски к стр. 823
27 А. И-н [А. С. Суворин]. Журнальные и библиографические заметки («Русский инвалид», 1868, № 11 от 13 января).
28 Z. [В. П. Буренин]. Русская литература («С.-Петербургские ведомости», 1868, № 24 от 25 января).
Сноски к стр. 824
29 П. Щебальский. «Война и мир», сочинение графа Л. Н. Толстого («Русский вестник», 1868, 1, стр. 300—320).
30 «Современное обозрение», 1868, 2, стр. 345—352.
31 «Одесский вестник», 1868, № 24 от 1 февраля.
Сноски к стр. 825
32 А. С. Норов. «Война и мир» (1805—1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. (По поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир») («Военный сборник», 1868, 11, стр. 189—246).
Сноски к стр. 826
33 «Библиография» («Деятельность», 1868, № 188 от 20 ноября).
33а Точку зрения Норова разделял и Александр II, говоривший, что «Толстой много напутал о 12 годе» («Русский архив», 1911, 11, стр. 385).
34 Князь Вяземский. Воспоминания о 1812 годе («Русский архив», 1869, 1, стр. 181—216).
Сноски к стр. 827
35 Летописи Гос. литературного музея, кн. 12, «Л. Н. Толстой», М., 1948, стр. 155.
Сноски к стр. 828
36 Вариант: «Толстых я вижу в ней закал».
37 Князь П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. XII, СПб., 1896, стр. 422.
38 Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 163.
39 С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, изд. «Academia», M., 1936, стр. 86.
40 Летописи Гос. литературного музея, кн. 12, «Л. Н. Толстой», М., 1948, стр. 156.
Сноски к стр. 829
41 А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе, т. II, СПб., 1905, стр. 372.
42 Полное собрание сочинений, т. 61, 1953, стр. 196.
Сноски к стр. 830
43 «О романе графа Толстого» («Русский», 1868, № 137 от 31 декабря).
44 Граф А. Растопчин. Письмо к издателю «Русского архива» («Русский архив», 1869, 5, стр. 935, 936).
45 «Одесский вестник», 1869, № 84 от 16 апреля.
46 Незнакомец [А. С. Суворин]. Недельные очерки и картинки («С.-Петербургские ведомости», 1868, № 354 от 29 декабря).
Сноски к стр. 831
47 С-в [Н. Соловьев]. Обзор журналов («Северная пчела», 1869, № 14 от 6 апреля).
48 «Тютчевиана», изд. «Костры», М., 1922, стр. 38.
Сноски к стр. 832
49 Аноним [Д. Д. Минаев]. С невского берега («Дело, 1868, 4, стр. 202—207).
50 «Дело», 1868, 6, стр. 1—28.
Сноски к стр. 833
51 Впоследствии В. В. Берви по всей вероятности и сам увидал всю нелепость своей хлесткой статьи. По крайней мере его друг А. Максимов, поместивший в «Русских ведомостях» от 27 апреля 1914 года статью по поводу 85-летия Берви под заглавием «Подвижник идеи», перечисляя разные его заслуги, счел нужным указать, что Берви «совсем не сумел оценить «Войну и мир» Толстого».
52 M. M-н. «Война и мир», роман Л. Толстого («Иллюстрированная газета», 1868, № 37 от 19 сентября).
53 Соль этой характеристики в том, что «девкой» названа княжна, в то время как в крепостное время (да и позднее) «девками» официально назывались крестьянские девушки.
54 Литературное домино. [Д. Д. Минаев]. Нота бене («Искра», 1868, 13, стр. 161—162).
Сноски к стр. 834
55 «Искра», 1869, № 11, 14.
56 «Дело», 1870, 1, стр. 1—29. — Миросозерцание Шелгунова советскими литературоведами признается эклектическим. Оно сложилось под влиянием Чернышевского, но Шелгунов «не усвоил вполне» взглядов Чернышевского и «многое из его идеологического наследства переработал впоследствии в духе либерализма»; «в мировоззрении Шелгунова оставил значительный след также и Писарев»; «в суждениях Шелгунова проглядывает также и смутное отражение теории Маркса — Энгельса, выразившееся в крайне непоследовательных попытках социологически объяснить явления общественной жизни... Все эти элементы мировоззрения Шелгунова не были органически переработаны им в одно целое» (Большая Советская энциклопедия, т. 62, 1933, стлб. 223, 224).
Сноски к стр. 835
57 Н. Шелгунов. Двоедушие эстетического консерватизма («Дело», 1870, 10, стр. 53).
Сноски к стр. 836
58 Н. Шелгунов. Женское бездушие («Дело», 1870, 9, стр. 31).
59 Н. Л-ц-в [Н. Лысцев]. Из литературных воспоминаний («Русские ведомости», 1903, № 20 от 20 января).
Сноски к стр. 837
60 «Ежемесячная хроника» («Вестник Европы», 1868, 4, стр. 867—870). Судя по сходству некоторых мнений автора со статьей Анненкова, возможно, что им же была написана и данная рецензия.
61 Н. Ахшарумов. «Война и мир», сочинение графа Толстого («Всемирный труд», 1868, 4, стр. 25—64).
Сноски к стр. 838
62 Отношение Толстого к Наполеону вообще не вызвало одобрения в критике. Вполне сочувственный отзыв об изображении Наполеона в «Войне и мире» появился только в мало распространенной и невлиятельной «Народной газете»: «Едва ли не в первый раз в нашей литературе выходит на сцену Наполеон... Читателя невольно поражает тот новый прием, который сделал граф Толстой при обрисовке Наполеона. Почти с насмешкой и во всяком случае с глубоким равнодушием отзывается он о великом... Везде и при всяком удобном случае полное отсутствие той восторженной таинственности, которою облекают многие историки и литераторы первого императора французов» (Н. Б. Библиография, «Народная газета», 1868, 44).
Сноски к стр. 839
63 Z. [В. П. Буренин]. «Война и мир», сочинение графа Л. Н. Толстого, том пятый («С.-Петербургские ведомости», 1869, № 69 от 11 марта).
Сноски к стр. 840
64 М. Де-Пуле. «Война из-за «Войны и мира» («С.-Петербургские ведомости», 1869, № 144 от 27 мая).
65 «Война и мир» («Одесский вестник», 1869, № 64 от 22 марта).
Сноски к стр. 841
66 Н. С[оловьев]. «Война и мир» («Северная пчела», 1869, № 12 от 23 марта).
67 «Русский инвалид», 1868, № 96 от 10 апреля. Автор статьи — Н. А. Лачинов, бывший с 1872 г. помощником главного редактора, а в 1882 г. — главным редактором газеты «Русский инвалид» и периодического издания «Военный сборник».
Сноски к стр. 843
68 «Библиография, «Война и мир», четвертый том, сочинение графа Л. Н. Толстого» («Военный сборник», 1868, 8, стр. 81—125).
Сноски к стр. 844
69 А. Витмер. По поводу исторических указаний четвертого тома «Войны и мира» графа Л. Н. Толстого («Военный сборник», 1868, 12, стр. 435—472; 1869, 1, стр. 91—134). Отдельное издание: А. Витмер. 1812 год в «Войне и мире», СПб., 1869. Перепечатка: «Военно-исторический сборник», 1913.
Сноски к стр. 847
70 М. Драгомиров. «Война и мир» гр. Толстого с военной точки зрения («Оружейный сборник», 1868, 4, стр. 99—134; 1869, 1,стр. 69—122; 1870, 1, стр. 87—123. Отдельное издание: М. И. Драгомиров. Раэбор «Войны и мира» с военной точки зрения, Киев, 1895).
Сноски к стр. 848
71 М. Б. За и против. Что такое «Война и мир» графа Л. Н. Толстого? («Голос», 1868, № 129 от 10 мая).
Сноски к стр. 849
72 «Философия наших критиков по поводу «Войны и мира» гр. Толстого» («Русско-славянские отголоски», 1868, № 2 от 18 мая).
73 Авторство Н. С. Лескова относительно статьи «Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому» удостоверено Андреем Николаевичем Лесковым в его книге «Жизнь Николая Лескова», М., 1954, стр. 287. Принадлежность Лескову двух других статей, цитируемых нами, не возбуждает сомнений как по их содержанию, так и по характерным особенностям стиля, свойственным только Лескову.
74 «Русские общественные заметки» («Биржевые ведомости», 1869, № 340 от 14 декабря).
Сноски к стр. 850
75 «Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому» («Биржевые ведомости», 1869, № 66 от 9 марта, № 99 от 12 апреля).
Сноски к стр. 851
76 Лесков разумел, вероятно, вышедшую в 1869 году третью часть книги Н. Соловьева «Искусство и жизнь», где на стр. 321 в числе недостатков «Войны и мира» указано «устранение народа из общего плана картины».
77 «Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому» («Биржевые ведомости», 1869, № 109 от 25 апреля).
78 «Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Том шестой» («Биржевые ведомости», 1870, № 149 от 4 апреля).
Сноски к стр. 852
79 Отдельные оттиски статей были изданы под заглавием: Н. Страхов Критический разбор «Войны и мира», СПб., 1871. Перепечатаны в сборнике; Н. Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, СПб., 1885; изд. 2—1895.
Сноски к стр. 856
80 «Библиографические заметки» («Петербургский листок», 1870, № 24 от 10 февраля).
81 Z. [В. П. Буренин]. Журналистика («С.-Петербургские ведомости», 1870, № 349 от 19 декабря).
82 М. Бурбонов [Д. Д. Минаев]. Застольные беседы («Искра», 1870, № 21 от 29 мая).
Сноски к стр. 857
83 «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», М., 1928, стр. 32, запись от 24 февраля 1870 г.
84 С. А. Толстая. Моя жизнь, авторизованная машинописная копия, тетрадь 2, стр. 261; хранится в Отделе рукописей Гос. музея Толстого. — О том же писала С. А. Толстая в своей «Автобиографии»: «Лев Николаевич говорил, что место, которое Страхов тогда дал своей оценкой «Войне и миру», осталось навсегда» («Автобиография С. А. Толстой». — «Начала», 1921, 1, стр. 147).
85 Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, СПб., 1885, стр. III—IV.
Сноски к стр. 859
86 Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения, М., 1927, стр. 81, 82. — Любопытно, что в своем ответе от 14 января на письмо Фета Толстой обошел молчанием его замечание о «натурализме» в изображении Наташи, с которым, очевидно, не мог согласиться.
87 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М, 1890, стр. 175.
88 Там же, 1890, стр. 196.
89 Письмо не опубликовано; хранится в Отделе рукописей Гос. Музея Толстого.
Сноски к стр. 860
90 Эта фраза о Багратионе и Кутузове, слишком напоминающая суждение Тургенева, вероятно, приписана Салтыкову по ошибке.
91 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. 1864—1868, М., 1926, стр. 43, 44. В 1908 году на вопрос В. Г. Черткова, бывал ли у него Салтыков, когда служил в Туле, Толстой ответил: «Нет; что-то он меня не любил» (неопубликованные «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 1 декабря 1908 г.).
92 «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. Неизданные материалы», Пг., изд. «Academia», 1923, стр. 62.
93 Достоевский. Письма, т. I, Государственное издательство, 1928, стр. 167.
Сноски к стр. 861
94 Достоевский. Письма, т. II, Государственное издательство, 1930, стр. 254.
95 Там же, стр. 260.
96 Там же, стр. 272.
97 Там же, стр. 365. Справедливо возразил Достоевскому Н. Н. Страхов в письме от июня 1871 года, что «Война и мир» «оканчивается обращением к народу». «Русский современник», 1924, 1, стр. 204).
Сноски к стр. 862
98 «Начала», 1922, 2, стр. 217—220.
99 Достоевский. Письма, т. II, Государственное издательство, 1930. стр. 263.
Сноски к стр. 863
100 Достоевский. Письма, т. 3, изд. «Academia», 1934, стр. 206.
101 Н. Н. Страхов. Пушкинский праздник, в книге «Заметки о Пушкине и других поэтах», СПб., 1888, стр. 116, 117.
102 «Вечерний Ленинград», 1953, № 210 от 5 сентября.
Сноски к стр. 864
103 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 368.
104 До какой степени трудно было Тургеневу сразу оценивать художественные произведения, написанные в иной художественной манере, чем писал он сам, видно из его суждений о «Преступлении и наказании» Достоевского. В письме к И. П. Борисову от 30 сентября (12 октября) 1866 г. Тургенев писал: «Преступление и наказание» Достоевского я отказался читать: это что-то вроде продолжительной холеры» («Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 377).
Сноски к стр. 865
105 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 88.
106 «Война и мир», т. III, ч. I, гл. XIV.
107 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 95
Сноски к стр. 866
108 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 386.
Сноски к стр. 867
110 «Русское обозрение», 1894, 2, стр. 490.
111 Адресат Тургенева И. П. Борисов держался очень высокого мнения о «Войне и мире». 20 апреля 1868 года он писал Фету: «Про «Войну и мир» говорить не могу. Я бросил и «Московские ведомости», и [«Русский] архив», и всё... Эту Илиаду следовало бы переложить гекзаметром; в одном месте у него вылилось невольно в этот размер. Меня возмущали прежде некоторые места: военно-историческое рассудительство, но всё это капля в сравнении с вечностью, которая сидит в остальном. Чем более войдешь в него, тем более тонешь в этом море жизни» («Вечерний Ленинград», 1953, № 210 от 5 сентября).
Сноски к стр. 868
112 Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 391, 392.
113 С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, Смоленск, 1894, стр. 37.
Сноски к стр. 869
114 Первое собрание писем И. С. Тургенева, СПб., 1884, стр. 135, 136.
115 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 393.
116 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 174.
117 «Русское обозрение», 1894, 2, стр. 495.
Сноски к стр. 870
118 И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 202, 203. Толстой одобрительно отзывался об этой речи Тургенева. «Тургенев написал хорошую вещь «Гамлет и Дон-Кихот», — записал он в дневнике 18 марта 1905 г. (Полное собрание сочинений, т. 55, 1937, стр. 129).
119 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 397.
120 Там же, стр. 398.
Сноски к стр. 871
121 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 399.
122 И. С. Тургенев. Сочинения, т. XI, 1934, стр. 426.
123 Так в автографе Тургенева. В печати появилось с произвольной поправкой Кетчера: «в нашей литературе» вместо «в европейской литературе». Подлинный текст восстановлен в статье Б. М. Эйхенбаума «История одного слова» («Огонек», 1956, 3).
124 И. С. Тургенев. Сочинения, т. XI, 1934, стр. 426.
Сноски к стр. 872
125 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 400.
126 Там же, стр. 402.
127 Там же, стр. 404.
128 Там же, стр. 408.
129 Там же, стр. 411.
130 Z. [В. П. Буренин]. «Война и мир», соч. графа Л. Н. Толстого» («С.-Петербургские ведомости», 1869, № 343 от 13 декабря).
Сноски к стр. 873
131 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 411, 412.
Сноски к стр. 874
132 Критик газеты «Голос», приведя из эпилога романа цитату о том, что в Наташе отражалось всё то «истинно хорошее», что было в ее муже, замечает: «Из одних немногих строк этого тонкого анализа становится уже очевидным, что Наташа была не только самкою, но и женщиною-человеком» («Голос», 1869, № 360 от 31 декабря).
133 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 143.
134 Толстой, писал Буренин в статье о шестом томе «Войны и мира», «дает понять, что муж Наташи принадлежит к кружку политических деятелей последних годов царствования Александра I... Пьер до некоторой степени участвует в политических интересах и даже оказывается одним из членов тех обществ, которые возникли тогда первоначально с филантропическими целями, а потом организовались в тайные с целями революционными» (Z. В. П. Буренин]. Библиография, «С.-Петербургские ведомости», 1869 № 343 от 13 декабря). В другой статье («С.-Петербургские ведомости». 1869, № 69 от 13 марта) Буренин высказывал мнение, что князь Андрей по своему душевному складу мог бы быть одним из главных деятелей восстания декабристов.
135 «Библиография» («Голос», 1869, № 360 от 31 декабря).
Сноски к стр. 875
136 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 235.
137 «Щукинский сборник», 8, 1909, стр. 433.
138 «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 90.
139 Перевод с французского. И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933 стр. 290, 291.
Сноски к стр. 876
140 Имеются в виду, очевидно, характеристики Наполеона и его маршалов.
141 Перевод с французского. И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 407.
1 Письмо к Н. Н. Страхову от 25 октября 1870 г.
2 Письмо к А. А. Фету 11 мая 1870 г.
3 Статья «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»
Сноски к стр. 878
4 Письмо к Г. А. Русанову от 12 марта 1889 г. (Полное собрание сочинений, т. 64, 1953, стр. 235).
5 Полное собрание сочинений, т. 13, 1949, стр. 303.
6 «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XVI.
Сноски к стр. 879
7 Пушкин: «Татьяна, русская душою, сама не зная почему...»
8 «Война и мир», т. II, ч. IV, гл. VII.
9 Там же, ч. II, гл. IX.
10 Там же, т. IV, ч. III, гл. XII.
11 Там же, т. IV, ч. IV, гл. II.
12 Там же, т. I, ч. I, гл. XXVIII.
13 Там же, т. IV, ч. IV, гл. XII.
14 Там же, гл. XVII.
15 Там же, т. III, гл. IX.
Сноски к стр. 880
16 «Война и мир», т. IV, ч. IV, гл. XII.
17 Там же, т. I, ч. II, гл. IV.