11
ПРЕДИСЛОВИЕ
Труд этот не предназначался для печати, во всяком случае в ближайшее время, при моей жизни. Цель его была правдиво изложить пережитое, сохранить для детей и внуков память о той старине, о той обстановке, в которой воспиталось наше поколение и которая потом повлияла на наших детей. Не задавался я задачами историческими, бытовыми, политическими — отнюдь нет, потому освещение этих вопросов читателю не следует искать в том, что он прочтет. Это только пересказ того, что слышал, видел и делал, без стремления дать сему какую бы то ни было окраску кроме правдивости. Местами воспоминания мои столь личны, суждения о моих действиях и переживаниях столь интимны, что предназначаются они лишь для семьи, а для печати должны быть выпущены, если этому труду суждено видеть свет в полном объеме. Там, где я касаюсь других лиц, с которыми сталкивала меня жизнь, я, хотя и даю местами оценку, но оговариваюсь, что оценка эта не подкреплена всесторонним исследованием фактов, а только моя личная, почему может быть и ошибочна. Ввиду того прошу тех, кому дорога память упоминаемых мною лиц, не сетовать на меня за возможные ошибки. Я не историк и не претендую на правильную историческую перспективу в моих воспоминаниях, а в этой старине вижу объяснение настоящего и надежду на лучшее будущее. Эти записки могут служить лишь одним из многочисленных материалов, из которых некоторые факты будут полезны будущему историку эпохи.
Обстоятельства времени лишают меня возможности издать эти воспоминания на русском языке; между тем та часть их, где я описываю свое детство и юность, уже теперь представляет интерес как описание уклада жизни и быта не только [лет] минувших, но совершенно канувших в вечность, почему пусть увидит она свет уже теперь, хотя бы на иностранном языке. Надеюсь, что этим путем люди, не знающие России или мало с ней знакомые, увидят, как много здоровых сил таилось среди простых людей — обломков того крепостного права, которое, по мнению большинства, приносило только один вред. В этом мнении еще раз сказалась мудрость старой русской пословицы: «Худая молва бежит, а добрая слава лежит». Действительно, о крепостном праве сохранились лишь те воспоминания чудовищного незаконного произвола помещичьей власти, который и тогда далеко не всеми признавался нормальным закономерным порядком. Забыли же то, что примеры безраздельной привязанности крепостных к своим господам, замечаемые на каждом шагу, доказывали, что связь крепостных с господами зиждилась не на одном
12
страхе, а и на взаимной любви. Эта неразрывная, законом признанная связь помещика со своими крестьянами порождала, во-первых, чувство ответственности и необходимости заботы о меньшой братии, так как от благополучия крепостных зависело и благоденствие помещика, а в крепостных вызывало чувство преданности и покорности судьбе. У обеих же сторон составлялось представление о твердых рамках, к коим нужно приспособить и применить свою жизнь, не начиная ее исканием новых путей, почему в это время и вырабатывались характеры цельные, законченные, с сильной волей, а не дряблость последних времен. Мои родители, ближайшие предки и слуги, окружавшие мое детство, — тому живой пример.
Изложив причины, побудившие меня напечатать мои записки, буду рад, если они кого-нибудь заинтересуют и вместе с тем вызовут симпатии к некоторым чертам старого уклада жизни в России или же, по крайней мере, заставят призадуматься: правильно ли его огульно осуждать?
13
Глава I
МОИ РОДИТЕЛИ И ПРЕДКИ
Родился я 16-го апреля 1861 года, то есть почти через два месяца после освобождения крестьян; начинаю же диктовать свои записки летом 1918 года, во время революции. Таким образом, прожитая мною жизнь охватывает время перелома жизни в России, и виденное и слышанное мною может представлять некоторый интерес и дать маленькую картину той эпохи.
Род Осоргиных был старинный дворянский; среди моих предков не было известных в истории имен, так что, по-видимому, выдающихся личностей в государственном значении не было. Во вкладной книге Троице-Сергиевской лавры за XIV, XV и XVI века имеется очень много записей вкладов, пожертвований от разных Осоргиных (тогда писали Осорьин), так что предки мои были, по-видимому, богомольные. Благочестие рода еще более укрепилось, когда при царе Феодоре Иоанновиче (XVI век) путем брака в него вошла новая личность из семьи Нерудиных — Иулиания; она была жена Георгия Осорьина. Эта Иулиания впоследствии, в прошлом веке, была прославлена церковью как святая праведница под именем Иулиании Лазаревской — по месту, где почивают ее мощи (память 2-го января), — и причислена к лику святых Русской Церкви. К почитанию памяти ее в нашей семье я буду часто возвращаться.
Родители мои, Михаил Михайлович и Марья Алексеевна, урожденная княжна Волконская, принадлежали к лучшему московскому обществу. Дед и бабка по отцу были люди очень богатые. Дед рано сошел с ума и всю семью возглавляла бабушка Варвара Андреевна Осоргина, урожденная Лыкшина. Сумасшествие моего деда, Михаила Герасимовича, началось бурно и неожиданно, когда моему отцу было лет 6 или 7. Дедушка любил играть в карты, для чего ежедневно, когда жил в Москве, посещал Английский клуб, самый фешенебельный клуб не только того времени, но и до последних дней, почему там можно было встретиться со всеми интересными людьми, жившими в Москве или проезжавшими через нее. Попасть в члены этого клуба было нелегко, принимали с большим разбором; надо было записаться заранее в кандидаты, которые баллотировались по очереди по мере освобождения вакансий. Мой отец рассказывал, что меня он записал кандидатом на баллотировку в год моего рождения, но дошла ли когда-нибудь до меня очередь, я не доискивался, так как в зрелых годах я в Москве не жил.
14
Однажды дедушка Михаил Герасимович играл в клубе с обычными партнерами в какую-то коммерческую игру (азартных он не любил). И вдруг слышит за соседним столом, как незнакомый ему господин, по-видимому, гость сказал довольно громко: «Я продаю свое калужское имение за 600 тысяч рублей (тогда считали ассигнациями). Как я буду рад, если покупатель скоро найдется и меня развяжет». Дед мой ничего не знал про это имение: было у него незначительное поместье в том же Калужском уезде, душ 75, не более, носившее нашу фамилию Осоргино, но в нем никто никогда не жил, даже, кажется, там не было и усадьбы. Что побудило деда моего вмешаться в услышанный разговор — совершенно непонятно и для семьи осталось необъяснимым, как будто какой-то рок его толкал. Он говорил потом, что думал, что этот господин, оказавшийся Сергеем Васильевичем Каром, шутит, и будучи в веселом настроении благодаря удачной игре, неожиданно для себя, тоже в виде шутки, сказал: «Я покупаю». На это С. В. Кар встал, поклонился дедушке, назвался и учтиво заявил: «Имение за Вами, когда прикажете совершить купчую?». Михаил Герасимович никогда от своих слов не отказывался — это было его непреклонное правило, даже в мелочах, тем более он решил быть верным себе в таком серьезном деле, почему тут же сговорился о времени совершения купчей и о сроках платежей.
С. В. Кар был сын неудачника-генерала царствования Екатерины Великой, посланного на поимку Пугачева, потерпевшего полную неудачу, отставленного затем от службы и сосланного на постоянное жительство именно в это калужское имение, переименованное им из Горяинова в Сергиевское. Народ же вновь отстроенной усадьбе дал свое прозвище по фамилии владельца — Карово. Сам генерал давно умер. Вдова его поступила в калужский монастырь и тоже скончалась, успев перед кончиной достроить и освятить в Сергиевском обширный, величественный каменный храм о трех приделах: главный — во имя Покрова Пресвятой Богородицы и боковые — во имя патронов ее мужа и сына: Василия, епископа Парийского, и преподобного Сергия Радонежского. По ее кончине калужский архиерей, вопреки всякому обычаю и правилу, пожелал, чтобы прах ее, хотя и монахини, покоился не на монастырском кладбище, а в храме, ею сооруженном, для чего с его благословения устроен был склеп в правом приделе.
Когда купчая была подписана, мой дедушка поехал осматривать свое новое приобретение. Как ни велико было состояние дедушки и бабушки, все же покупка эта была серьезным делом, настолько имение это было значительно. В нем было более шестисот душ крестьян, земли больше пяти тысяч десятин с громадной усадьбой и домом, еще недостроенным, но рассчитанным чуть ли не во сто комнат. Деда в этой первой его поездке сопровождал, по старинному обычаю, целый штат прислуги: кроме камердинера с помощниками несколько кучеров, поваров и т. д. Но из родных с ним никого не было. Доверенный, преданный камердинер, так потом рассказывал бабушке о болезни ее мужа:
«Приехали благополучно; встретили нас как должно. Барин обошел весь дом, всю усадьбу; все им понравилось и всем они изволили быть довольны. Приказали они приготовить себе крайнюю комнату у ворот, где никто из господ Каров прежде не жили; облюбовали они этот покойчик и сказали, что это будет их кабинет. Пока я раскладывался, а повар готовил обед, пошли Михаил Герасимович
15
в храм, который совсем близко от дома, только пересечь наискось молодой, недавно рассаженный французский сад (теперь это старый липовый парк). Пробыли они там недолго и вернулись оттуда мрачнее тучи. Я и ума не приложу — вижу, что дело неладное, думаю — неужели причт недостаточно почтительно встретил нашего барина или еще что. А спросить не осмеливаюсь. Сидит наш батюшка-барин сам не свой и не столько сердится, сколько задумчив. После обеда легли опочивать. Я стою за дверью, караулю и слышу — все вздыхают и что-то про себя говорят. Я только мог расслышать, что они все поминают могилу матери и приговаривают: “Господи, продал могилу матери, что за грех”. Встали грустные, чаю не кушали, а ночью, когда совсем улеглись, во сне метались и всхлипывали. Утром уж стали говорить совсем несообразные вещи — я страшно напугался. Говорю остальным нашим людям: “Что попричтилось с Михаилом Герасимовичем? Уж не сглазил ли кто их?”. То зовут меня, приказывают подавать карету ехать в клуб, то велят послать к Иверской отслужить панихиду по своей матушке и называют они покойницу не Екатериной, а почему-то Марией, видно, запамятовали (мою прабабушку, мать Михаила Герасимовича, урожденную Ахлестышеву, звали Екатериной, а Марией звали мать С. В. Кара; она была урожденная княжна Хованская и похоронена, как писал выше, в храме). Тут я вижу, что уже совсем плохо. Сидим мы на чужой стороне, никого нет, я и осмелился Вас обеспокоить, послал эштафету».
Бабушка Варвара Андреевна приехала со своим домашним доктором, застала мужа в припадке не только острого, но и буйного помешательства и тотчас перевезла его в Москву. На основании этого рассказа камердинера тогда в семье создалось убеждение, что причиной к обнаружению психического заболевания деда был его ужас от сознания, что единственный сын продал без всякой особой нужды то имение, которое создано руками родителей и, главное, где похоронена его мать, и что и его дети когда-нибудь таким образом передадут его могилу в чужие руки (действительно, так и случилось: и дед и бабка мои похоронены были при церкви в их подмосковной Островне Звенигородского уезда, против Саввина монастыря. Имение это было продано в начале 1880-х годов моим отцом; после его кончины я ездил туда и с трудом отыскал их могилы; церковь за ветхостью была упразднена и срыта; местный священник показал мне среди леса остаток церковного погоста, неогороженный, запущенный, и на нем — несколько могил с одинаковыми памятниками из черного мрамора, потрескавшимися и [с] трудно разбираемыми надписями. Это все были могилы моих предков, и между ними — могилы моих деда и бабки).
Убеждение это крепло в моей семье, потому что в бреду Михаил Герасимович все повторял эту мысль. Месяцев через шесть дед мой поправился столь же неожиданно, как и заболел. Бабушка как-то вечером молилась в его спальне, а он тихо, спокойно спал. Стояла она на коленях перед фамильной осоргинской иконой Иерусалимской Божьей Матери; молилась она усердно, со слезами (вообще, как мне рассказывала моя мать, бабушка была очень богомольна), и вдруг дедушка окликнул ее совершенно прежним здоровым голосом: «Варенька, что ты так плачешь и молишься. Я совсем опять здоров». Проблеск здорового сознания длился недолго — меньше года; все же за это время дед успел сделать свои
16
посмертные распоряжения и, между прочим, указал бабушке имение Сергиевское не оставлять в роду, а продать для выдела дочерей, что почему-то Варвара Андреевна никогда не исполнила. Рецидив заболевания деда был и окончательный; до смерти своей, наступившей лет через 15, он был сумасшедшим, жил не с семьей, а в отдельном доме с особым специальным медицинским персоналом, окруженный самым тщательным уходом.
Варвара Андреевна принадлежала к той среде, которая воспитывалась во французском духе; она не только говорила, но и мыслила по-французски; будучи сама очень твердого характера, непреклонной воли, она в своих отношениях к близким проявляла много сентиментальности. Любимцем ее был мой отец, но, боясь для него исключительно женского влияния, так как он был единственный сын, она рано отдалила его от семьи, поместив сначала в Дворянский пансион в Москве (ныне Румянцевский музей), а затем в школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге (впоследствии переименованную в Николаевское кавалерийское училище). Но сама бабушка с дочерьми всегда старалась жить по соседству. Она умерла, когда мне было всего один год. Умерла она вследствие долгого лежания в постели после перелома руки; это долгое лежание при ее возрасте и полноте пагубно повлияло на ее сердце. Сломала она себе руку, торопясь в детскую на мой плач; оступилась на лестнице, скатилась [на] несколько ступеней и была поднята со сломанной рукой сбежавшимися на ее крик нянюшками и горничными. Болела она долго, рука срослась и, казалось, ничего угрожающего в ее состоянии не было; настолько все успокоились, что отец мой даже уехал в свое имение Петербургской губернии, где ему предстояло заключить крупный контракт на сводку леса. В первый же день своего приезда туда он, легши отдохнуть после обеда, видит сон, собственно ничего не означавший, но почему-то бессознательно так его напугавший, что он забеспокоился о своей матери, которую безгранично любил, и в тот же вечер, бросив все дела, выехал обратно. Отец не любил рассказывать про этот сон; моя мать говорила нам, что ничего в нем страшного не было. Видел он сову, которая налетела на него, махала крыльями, пристально на него смотрела и кричала так необъяснимо зловеще, как только может быть во сне. В Москве на вокзале моя мать, предупрежденная телеграммой о возвращении мужа, встретила его с известием, что бабушке в ночь стало гораздо хуже и она без памяти. Тогда-то Папа́ и рассказал ей свой сон, который, оказалось, был вещим. К вечеру того же дня бабушка Варвара Андреевна скончалась. Все, что знаю про нее, передано мне моей матерью, которая ее особенно любила и для которой строй жизни и взгляды Варвары Андреевны сделались руководящими, хотя уклад жизни семьи Волконских был совершенно иной. Бабушка также особенно любила мою мать и после женитьбы моих родителей с ними почти не расставалась, навещая своих замужних дочерей раз в год, для чего у нее был свой особый малый дормез, в отличие от двух больших дормезов, заказанных ею для своей дочери Бенкендорф и для моего отца.
Я хорошо помню наш дормез, запрягаемый шестериком, чрезвычайно высокий, с откидными подножками в виде лесенки. Рядом с кучером было большое кожаное кресло с сумками для камердинера, сзади небольшой фонарь с прожектором, далеко освещающим дорогу. Карета шестиместная, в которой правая стенка
17
была библиотечный шкаф, а левая — походная аптечка; задняя правая подушка поднималась и под ней находился клозет с проведенной водой. Освещалась внутренность кареты большим фонарем, дававшим возможность читать. Особенными форточками можно было из кареты сообщаться с камердинером на козлах и с горничной, помещавшейся в коляске, высоко приделанной сзади кареты. В самой карете стояли железный стол и два стула. Моя мечта была ехать в коляске, откуда поверх крыши кареты виден был путь вперед; здесь же в ногах находилась рукоятка тормоза, которым, по указаниям кучера, приходилось действовать на спусках. В таком, только трехместном дормезе, представлявшем из себя целый дом и вмещавшем в разных приделанных важах и баулах большое количество вещей, путешествовала бабушка Варвара Андреевна в Могилевскую губернию к дочери Бенкендорф, в Смоленскую губернию — к дочери Охлябининой и в Самарскую губернию — к дочери Жемчужниковой. Я лично знал только тетушку Марию Михайловну Бенкендорф и Софью Михайловну Жемчужникову. Слышал, что тетя Катя Охлябинина была с мужем несчастна, рано умерла; он же завел себе вторую, незаконную семью и тоже довольно скоро умер. Имение его жены должно было вернуться к моему отцу, но Папа́ уступил его младшей сестре Жемчужниковой. Для нее это имение стало впоследствии роковым. Тетушку Бенкендорф я хорошо знал. Умерла она в 1914 году. Всю свою жизнь прожила она с мужем в Черниговском уезде Могилевской губернии, где свекр за женой получил крупное историческое имение Пропойск, площадью около 40 тысяч десятин (имение это принадлежало Вязьмитиновым, от них перешло к их племяннице и воспитаннице Черновой, которая и была свекровью моей тетки). Дядя мой, Сергей Александрович фон Бенкендорф, был старший сын, и ему первому отец выделил часть Пропойска — 7 тысяч десятин близ местечка Краснополье, которую он назвал Молостовкой. Там был ветхий, очень оригинальный дом, в котором оранжерея составляла часть дома. Дядя Сергей Александрович большую часть своей жизни прослужил в своем уезде предводителем дворянства по назначению, пользовался громадным авторитетом и любовью населения, охранявшего его во время польского восстания (я лично помню четырех братьев дяди: Владимира, московского мирового судью, Михаила, умершего сумасшедшим, Андрея, юрисконсульта Министерства юстиции, и Александра, бывшего одно время женихом моей сестры; помню семь его сестер, из коих старшая Александра [была замужем] за Муромцевым, Марья — за князем Кропоткиным и Софья — за Бибиковым). Старики Бенкендорфы, разделив Пропойск между пятью детьми, поехали на старости лет наживать состояние в Баку, где были первыми пионерами нефтяного дела.
Я помню наши поездки во время моего детства в Молостовку. Мы, дети, особенно любили старый дом со ставнями, стоявший на самом берегу озера. Я и теперь как будто слышу скрип флюгера в столовой; стрелка от него двигалась по циферблату, приделанному к потолку, почему в дождь с потолка на стол неизменно капала вода. Дядя Сережа, маленький горбун в золотых очках, с несколько еврейским типом лица, всегда веселый, был общим любимцем нас, детей. Бабушка любила всех своих детей и, как мне рассказывали, была особенно уважаема и ценима всеми своими зятьями, но она была слишком властная, имела слишком цельный характер, чтобы применяться ко взглядам, привычкам тех семей,
18
куда вступили ее дочери, тем более что она не лишена была некоторой чопорности, и многое, быть может, в новых семьях ее дочерей не соответствовало ее вкусам. Моего отца как единственного сына она, я думаю, любила больше всех; его брак ее вполне удовлетворял, несмотря на разность уклада жизни обеих семей; но в этом случае ее сын был главой семьи, и моя мать по своей безграничной любви к нему готова была в корне переродиться, лишь бы ему угодить, так что бабушка и жила до своей кончины с моими родителями. Умерла Варвара Андреевна в Москве в доме своего свата, князя Алексея Дмитриевича Волконского, где жили мы в 1862 году. Так как она умерла до моих сознательных годов, все мои сведения о ней лично ограничиваются вышеизложенным.
Дед и бабка мои по матери, князь Алексей Дмитриевич Волконский и княгиня Марья Дмитриевна, урожденная Кутузова, играли большую роль в моей жизни. Их я хорошо знал. Дед мой остался рано сиротой, без отца, и воспитывался своей матерью, урожденной Болтиной; опекуном его был светлейший князь Петр Михайлович Волконский, друг и сподвижник императора Александра I. Петр Михайлович, как это ни странно, приходился подопекаемому моему деду отдаленным племянником, будучи годами значительно старше. Дедушка был вторым в семье (старше его была в семье сестра Варвара, замужем за Казначеевым, моложе его [были]: Наталья — [замужем] за Наумовым, Екатерина — за Охлябининым (ее сын был женат на сестре моего отца), Александра — за Ганскау и брат Николай, женатый на Софье Аркадьевне Терской, моей крестной матери). В семье были настолько строгие правила, что прабабушка однажды хотела поставить на колени моего деда, уже перевалившего за сорок лет, за то, что он не исполнил какое-то ее поручение, и только вмешательство моей бабки умилостивило свекровь. В семье младшие старшим говорили «Вы» и к имени прибавляли «брат» или «сестра», а старшие младшим говорили «ты» и по уменьшительному имени.
Воспитывался дедушка Алексей Дмитриевич в Пажеском корпусе и выпущен был оттуда в наказание и обуздание его мотовства в армейский полк, но спустя год или два опекун его смилостивился и, будучи всесильным, перевел его в гвардейский Лейб-егерский полк. Случилось это одновременно с помолвкой его старшей сестры Варвары. Прабабушка, не зная ничего о переводе сына в гвардию, дала ему крупную сумму денег с поручением закупить в Москве приданое дочери; дед выехал в Москву из их имения Чичкино Рязанской губернии и уезда, где безвыездно жила вся семья, узнал в Москве о своем переводе в гвардию и все деньги истратил на свое обмундирование. Чем кончилась его встреча с матерью — не знаю, но дед всегда рассказывал, как он влетел на тройке обратно в Чичкино в блестящей гвардейской форме к подъезду дома и какой он произвел тогда эффект. Начальником бригады, в состав которой входил гвардейский Лейб-егерский полк, был тогда великий князь Николай Павлович, будущий император; к нему дед был назначен бригадным адъютантом. Часто великий князь требовал от командира полка Бистрома посадить Волконского под арест за шалберничанье, но открытый, честный характер моего деда всегда побеждал подчас суровый нрав великого князя. В 1820-х годах прошлого столетия дед состоял адъютантом рязанского генерал-губернатора, известного генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашова, того Балашова, который был послан Александром I
19
в 1812-м году к Наполеону послом и который, не смутившись перед этим великим человеком, на ехидный вопрос в Вильне: «Quel chemin mène à Moscou?» ответил с благородством и достоинством: «Il у en а plusieurs, Sire; Charles XII а choisi celui de Poltava». На ироническое замечание Наполеона, что в Москве, говорят, много церквей, Балашов отпарировал, заметив, что это правда и что, действительно, русские имеют много общих черт с испанцами; в Испании же, как известно, французские войска только что потерпели несколько неудач.
В скором времени дед мой стал женихом дочери Балашова, но брак этот был кратковременный: у нее была чахотка, и после рождения второго ребенка она умерла. Дед мой был очень любим своим тестем и, главное, мачехой своей жены, но после смерти последней возникли какие-то неприятности по делу опеки над детьми, и отношение испортилось; за эти годы в фамильном архиве сохранились письма, довольно сухие и преимущественно касающиеся дел опеки. Дети от этого брака были сын Александр и дочь Екатерина, впоследствии замужем за Ржевским. Состояние, доставшееся детям от матери, было, вероятно, очень значительно, потому что дед мой на свою законную седьмую часть мужа получил имение Радушино Рязанской губернии Зарайского уезда с 500-ми душами. Заведовал он имениями детей очень плохо, и состояние их впоследствии было незначительное. 10 лет он вдовствовал и, хотя не был никогда кутилой, занимал всю губернию рассказами о своих романических дон-кихотских похождениях; однажды со своими крепостными он дал целое сражение, отбивая жену у мужа, и не потому, что ее любил, а желая лишь спасти ее от жестокого обращения к ней этого мужа. Во время одной из своих многочисленных поездок поломка экипажа в пути заставила его остановиться на ночлег в селе Мотыри у помещика Дмитрия Васильевича Кутузова, близкого родственника героя 1812 года. Кутузов и его жена Прасковья Васильевна, урожденная Протопопова, были люди небогатые и имели большую семью (старшая дочь их Мария, два сына, Александр и Владимир, а затем еще несколько дочерей: Надежда, вышедшая замуж за Чарторижского, Варвара — за князя Гагарина, Александра — за Ивлева, потом за Александровского, и еще две, имен которых не помню, — за Протопопова и Воейкова).
Дедушка со своим стремительным характером с первого же дня влюбился в старшую дочь Марию, которой было уже за 30 лет. Побежден он был, как рассказывали, отношением к ней ее младших братьев и сестер, для которых она была настоящей матерью; увидал он в ней то, чего недоставало ему для его детей-сирот. На следующий же день он сделал предложение, настаивая на немедленной свадьбе. Можно понять, какое впечатление в те времена сделало такое предложение одного из самых богатых и знатных помещиков губернии девушке бедной и по годам уже обреченной остаться в девицах. Свадьбу сыграли, кажется, чуть ли не через три дня; дед в починенном экипаже, вместо того, чтобы продолжать прерванное путешествие, к великому удивлению своих крепостных неожиданно вернулся с женой в Радушино. Как они жили первые года своего супружества — не знаю; характера они были совсем противоположного: он — стремительный, энергичный, часто взбалмошный, но добрый и весь в движении всегда, она — тихая, спокойная, не выносящая ни шума, ни общества, кроме самого интимного; он — высокого роста, сухопарый, всегда бритый, дома в беличьем
20
халате, с длинной трубкой во рту, вставал в 5 часов утра, она — полная, вскорости заболевшая слоновой болезнью, дошла благодаря этой болезни до чудовищных размеров и полной неподвижности. Вероятно, много им пришлось пережить трений, но когда я их узнал, они, хотя и раздражались изредка друг на друга, все же любили друг друга; во всяком случае уважали и постоянно трогательно один о другом заботились. Он звал ее «Марья, ты», а про нее говорил: «княгиня Марья Дмитриевна»; она ему говорила «Alexis, ты», а про него — «мой князь». При недоразумениях и спорах между ними она вставала, чтобы удалиться; ввиду ее полноты это ей было трудно, и тогда дедушка мгновенно успокаивался, усаживал ее обратно, приговаривая все ту же стереотипную фразу: «Садись, садись, высиживай яйца, молчу».
Из детей у них осталась в живых одна моя мать. Другие двое, родившиеся до и после нее, умерли в младенческом возрасте. Кто из них больше любил свою дочь — не знаю, но кто ею больше занимался, это был, несомненно, отец. Надеждам, возлагаемым дедушкой на свою вторую жену по отношению к сиротам от первого брака, не суждено было оправдаться; бабушка ими не занялась, а когда родилась моя мать, то и дед мой их совершенно забросил. О моей матери он имел самое бдительное, чисто материнское попечение: лично выбирал учителей, гувернанток, следил за ее уроками, обращая главное внимание на художественную сторону воспитания, как-то: музыка, декламация и даже танцы. Жили они то в Радушине, то в Чичкине, полученном им в наследство от матери, то в Рязани, то в Москве. Дед мой нигде долго не уживался, нигде долго не мог служить. Был он и предводителем дворянства в Зарайском уезде, был по выборам начальником ополчения; везде он ссорился, возмущался малейшей несправедливостью, наживал себе недругов, но везде, где бы он ни был, оставлял по себе память рыцарски-благородного и доброго человека. Когда он был начальником ополчения дружины, долго не получая ответ на запрос о присылке знамени, он посылает за ним бабушку в Москву. Рассчитав день и час, когда она должна вернуться, он, встав в Радушине от послеобеденного сна, выехал к ней навстречу в долгуше, как был без шапки, в халате, в туфлях, с трубкой во рту, доехал до ближайшей почтовой станции и, не встретив бабушки, не долго думая, заменил своих лошадей почтовыми и поехал дальше. Можно себе представить удивление бабушки, задержавшейся в Москве, когда она на следующий день, распивая свой утренний кофе у окошка, вдруг увидела своего мужа, подкатившего к подъезду в долгуше и в таком странном костюме.
Дед всегда вел очень широкую жизнь, имел свой собственный оркестр, большой хор певчих, певших в кафтанах в его церкви, свою труппу актеров и всегда целую толпу нахлебников. История одного из них, поселившегося в доме тогда, когда моей матери было 4 года, и скончавшегося у меня в доме, когда у меня было уже трое детей, настолько замечательна и отчасти [так] рисует характер моего деда, что о ней напишу подробно.
Звали этого человека, ставшего прямо другом нашей семьи, Платон Евграфович Евграфов; приписан он был к коломенским мещанам. Жизнь его, пока он не осел в семье Волконских, была полна приключений. Часто он мне ее рассказывал, так
21
что помню его рассказ подробно и постараюсь передать его, как сумею, придерживаясь его своеобразных выражений.
Родился Платон Евграфович в киргизо-кайсацкой орде, где его звали Джасаулом. Отец его, бедный киргиз по прозвищу Капсык, не имея чем его прокормить, снимаясь однажды с кочевья, подбросил мальчика в юрту богатого киргиза Макай-Тамиши-Ка-Кака. Жил Джасаул у этого киргиза впроголодь, помогал пасти стада своего хозяина, за что ему давали чашку кобыльего молока в день. Он рассказывал, что бывал так голоден, что раз стащил сырой хвост зарезанной коровы и с наслаждением глодал его целый день. Однажды к ним в кочевье приехал казак-сибиряк, краснорядец. Макай-Тамиши-Ка-Как был в степи; жены его набрали себе много разных нарядов и предложили в уплату отдать казаку Джасаула. Казак на это охотно согласился, рассчитывая продать его за выгодную цену в Сибири как пленного. В те времена существовал договор с киргизо-кайсацкой ордой, по которому пленный киргиз записывался в крепостное состояние на 25 лет. Очень хорошо описывал Платон Евграфович свой выезд из родного края.
«Посадил он (казак) меня, мальчонка, к себе на седло, — рассказывал он, — и чтобы приручить, дал мне кусок хлеба. Ничего вкуснее, батюшка-отец (обычная его поговорка), я не едал до того и сразу полюбил своего казака. Настал вечер, остановились мы на ночлег, стреножили лошадь, разложили костер, как вдруг слышим топот лошадиный, и наскакивают на нас два киргиза, сыновья Макай-Тамиши-Ка-Кака; говорят, что отец вернулся, раскричался на своих жен, как они могли продать меня неверным русским, велел заплатить за товар деньги, а меня привезти обратно. Казак не соглашался, а я весь дрожу, вспоминаю тот вкусный кусок хлеба, который я сегодня поел; вернусь обратно, опять буду голодать да колотушки получать. Спорили, кричали долго, чуть до рукопашной не дошли; наконец казак говорит: “Пусть сам решит, с вами ли ему ехать или со мной”. Я, понятно, захотел остаться с казаком. Киргизы рассердились, плюнули: “Ну, пропадай твоя душа”, — говорят, и уехали. Так я и остался у своего нового хозяина. Долго мы ехали степью, картина мне знакомая, но потом въехали в какое-то особое становище; это были уже не юрты, а крестьянские избы — первое русское селение. Диву я дался. Особенно меня поразили окна. Ничего такого я никогда не видал прежде. Ввел меня казак в знакомую избу, где никого не было, велел сидеть смирно, ждать его, а сам пошел лошадь прибирать. Слышу какой то шум, шипит что-то; заглянул я за перегородку, смотрю — какой-то светлый идол шипит, пар из него валит. Я со страху забрался под скамейку, лежу ни жив, ни мертв. Наконец вернулся казак с хозяевами, отыскал меня, тащит за перегородку. Я упираюсь, говорю: “Боюсь”. Втащили меня, казак успокаивает: “Дурачок, это — самовар”. Так я и запомнил первых два русских слова: хлеб и самовар. Долго мы путешествовали с казаком, наконец добрались до Кяхты. Там он меня продал начальнику таможни. Горько мне было расставаться с моим казаком, но что же делать — живи не как хочется, а как Господь велит. Вскорости, как я поселился у своего нового хозяина, позвали священника меня крестить. Я тогда и не знал, что такое священник, батюшка-отец. Вижу — стоят длинноволосые, принесли какой-то чан, оделись в золотые одежды и вдруг мне
22
говорят: «Разденься». Я весь дрожу, думаю, сейчас беда стрясется, а когда меня подняли и окунули в этот чан, я заорал благим матом, вырвался от них и убежал, как был нагишом, на улицу, едва меня поймали. С тех пор стали меня звать Платошкой и говорили: “Смотри, ты теперь христианин, а больше не магометанин”, а я ничего не понимаю, глуп я был, млад. Вижу, что как у Макай-Тамиши-Ка-Кака меня колотили, так и здесь колотят, только одно — кормят вволю. Бегал я иногда к своему крестному отцу, казаку Евграфу, моему прежнему хозяину, или к священнику; они меня молитвам научили.

Мария Алексеевна Осоргина, урожд. кн. Волконская.
80-е годы XIX века.
Частное собрание, Париж
Стал я входить в возраст; сколько мне было лет — Бог его знает. Одно помню, батюшка-отец: молодые барышни стали мне тогда нравиться, особенно такие, у которых длинные косы, да сама — полная, сдобная, павой выступает. Бывало, на них загляжусь, а мне пинка дадут: “Пойди, трубку готовь барину”. Барин же был сердитый, жил богато; ни один товар через таможню не пройдет, чтоб купец ему не поклонился чем-нибудь. Дом был полная чаша.
Назначили, помню, генерал-губернатором в Сибирь Михаила Михайловича Сперанского; говорили, что он честность будет наводить, и до моего хозяина он добрался. Тот как-то раз уже не по чину взял, на него и пожаловались. Вызвали моего барина в Петербург для ответа, от места отрешили. И поднялись мы целым поездом, караваном. Ехали несколько месяцев и добрались, наконец, до Петербурга. Петербург был тогда совсем другой: трехэтажных домов еще
23
не было, Невский был обсажен деревьями, не налюбуюсь, бывало, я на Неву. А когда, бывало, встретишь государя Александра Павловича, он был такой молодой, красавец, народ кричит: “Ура!” — и я тоже.

Михаил Михайлович Осоргин, отец М. М. Осоргина.
80-е годы XIX века.
Частное собрание, Париж
Прожили мы в Петербурге недолго. Барин мой оправдался, да не совсем. Уволили его от службы и оставили под подозрением, чтобы ему больше нигде не служить. Переехал он в Москву, купил дом и жили мы в нем на славу. По соседству на церковном дворе жила учительница, славная была барышня; выучила она меня грамоте, арифметике, давала книги читать. Брат ее пиликал на скрипке и меня научил. Сама она играла на фортепьянах, клавикордами тогда называли.
Как-то раз застаю ее — плачет. “Платоша, — говорит она мне, — совсем мои клавикорды расстроились, играть не могу, а брат уехал — некому настроить”. Я видел, как брат ее это делал, и попробовал сам настроить, и вышло еще лучше прежнего. С тех пор я стал настраивать инструменты не только у нее, но и у барина, и у его знакомых. А мне за то где пятачок, а где и гривенник дадут. Так прошли года, сколько — не знаю.
Однажды починил я часы и этим стал заниматься у знакомых моей учительницы, секретаря Гражданской палаты. Он стал меня расспрашивать про мою жизнь. Я ему рассказал, а он мне говорит: “Ведь тебе срок и вольную получить”. “Как вольную? Что такое вольная?”. Он мне объяснил и говорит: “Я твоим делом займусь, справки наведу”.
24
Прошло еще много времени, наконец зовет он меня к себе, да не в дом, а в Присутствие; велит какую-то бумагу подписать и говорит мне: “Ну, Платон, крестись, молись Богу”. Хлопнул печатью по этой бумаге, сует ее мне и говорит: “Ты отныне вольный человек, коломенский мещанин Платон Евграфов Евграфов”. Я ему в ноги, а он еще мне денег дает, да не только он, а и писцы, стрекулисты — “на обзаведение”, говорят. Прибежал я к своему барину, показываю ему бумагу, а он — чуть в волосы мне не вцепился, так рассердился, что я ему больше не слуга. Пошел я от него к моей благодетельнице-учительнице и так у нее и поселился вольным человеком».
Платон Евграфович не особенно любил вспоминать первое время своей жизни свободным человеком, потому что на первых же порах с ним случилась большая неприятность. Его благодетельница-учительница, желая ему дать заработок, рекомендовала его одному врачу, переведенному на службу из Москвы в город Красный Смоленской губернии. Указала она на него как на верного человека, которому можно доверить все вещи и весь обоз. По дороге на постоялом дворе часть вещей была украдена, и Платон Евграфович, чтоб пополнить этот убыток, поступил к этому доктору добровольно на 7 лет в качестве крепостного.
Когда он отбыл этот срок, вернулся он опять в Москву к своей учительнице и стал зарабатывать хлеб тем же настраиванием инструментов, игрой на скрипке на вечеринках простого люда и всякими мелкими услугами. Число его знакомых так увеличилось, что его часто приглашали и вне Москвы. «Я помню, батюшка-отец, — говорил он, — как в городе Коломне я как-то играл трепака на скрипке, а будущий Московский митрополит Филарет, тогда еще молодой семинарист, так откалывал, что просто прелесть».
Разъезжая по Тульской и Рязанской губерниям, Платон Евграфович стал известен всей многочисленной родне моих дедушки и бабушки Волконских. Мой дед устраивал часто пиры с оркестром, посылал за Платоном Евграфовичем, которого он полюбил за уменье устраивать иллюминации и фейерверки.
Однажды дедушка предложил ему просто поселиться в Радушине, обещал дать в его распоряжение пару лошадей для разъездов и соответствующий по сезону экипаж и назначил ему постоянного крепостного кучера. Платон Евграфович согласился; кучером ему назначили крестьянина Никифора из Радушина, и с тех пор семья этого Никифора стала предметом всех забот Платона Евграфовича. Он женил Никифора, крестил и сам обучил грамоте его единственную дочь Настю. Бывало, когда он видит, как мы учимся, он все приговаривал: «Эх, не так я учил Настю». А на мой вопрос: «А как же, Платончик?» (так мы его называли на нашем ласкательном детском языке), он отвечал: «А я, батюшка-отец, сначала ее по маковке, а потом и по всей голове, пока букваря не выучила». Настю эту он выдал замуж; приняли зятя в дом, и первого его сына, Платона, крестил он.
В раннем детстве, помню, как, живя у дедушки в Радушине, мы, дети, гуляя по селу, видали на завалинке одной избы Платона Евграфовича, игравшего с маленьким Платошей, который был старше нас. Но Платон Евграфович нежностей не любил и стыдился; сейчас же спустит мальца с колен, да еще прикрикнет на него: «Пошел вон». А нам в оправдание пояснит: «Как эти пострелята мне, батюшка-отец, надоели» и быстро убежит куда-нибудь.
25
Таким образом, Никифор со всей своей семьей стал целью жизни Платона Евграфовича. Для них он зарабатывал и копил деньги. Но привязанностью, которая всего его поглощала, без которой он совершенно жить не мог, была моя мать. Поселился он у деда, как я сказал выше, когда ей было 4 года. Он нам, детям, рассказывал, как моя мать была ласкова и приветлива с ним с самых первых дней. Надо сказать, что наружность Платона Евграфовича была непривлекательна: он был маленького роста, с ясно выраженным монгольским типом, плоским носом, узкими, как щели, глазами и выдающимися скулами. Я еще помню, как маленькие крестьянские дети иногда со страху заливались плачем, когда он к ним подойдет. Поэтому, быть может, ласковость и приветливость маленькой княжны сразу согрели его одинокое, требовавшее любви сердце. Любовь его к моей матери крепла у него с годами. В начале его жизни у Волконских долго засиживаться на одном месте ему не приходилось; приходилось ему разъезжать и по собственными делам, и по поручению моего деда.
Про одно такое поручение, очень ответственное, Платон Евграфович любил рассказывать. Бывало, ходит по комнате и повторяет все тот же рассказ: «Ехал брат вашего дедушки, князь Николай Дмитриевич, как-то по Ряжскому уезду. На почтовой станции (названия не помню), пока впрягали лошадей, камердинер пошел прописывать подорожную, так что фамилия проезжающего стала известна. А кто же ее, батюшка-отец, в Рязанской губернии не знает? Всякому известны вотчины их — первеющие. Пошел на станции говор: вот, мол, кто едет. Подходит к окошку дормеза старый старик, слепой, и спрашивает князя: “Вам ли, Ваше сиятельство, принадлежит село Чичкино Рязанского уезда?”. А он ему отвечает, что не ему, а старшему его брату, князю Алексею. “Так вы ему, Ваше сиятельство, скажите, — говорит слепец, — что у него в имении зарыт клад, да клад не маленький; награбил этот клад разбойник Морвин, который когда-то держал притон у моего отца. Когда же Пугачев кликнул клич, Морвин к нему потянулся на Волгу, да уходя говорит моему батьке: “За то, что ты меня покоил и пристанище мне давал, если я не вернусь с Волги, клад — твой”. И нарисовал и записал, как и где его найти близ села Чичкина Рязанского уезда. Хранится он в двух подвалах под землей, а добра в нем миллионов на десять. “Я же, — добавил слепец, — отдал эту запись на сохранение в господскую контору. Если хотите — достанем, а меня уж не обидьте”.
Вот и приехал князь Николай Дмитриевич к вашему деду и рассказал ему про клад. Я тут же в комнате был. Дедушка ваш раскипятился, кричит: “Что за вздор клады искать!”, и слышать не хочет. “Надо мной смеяться, — говорит, — будут, что я кладоискатель, на Ивана Купалу папоротник ищу”. Князь Николай Дмитриевич молчит, советовать боится, известно — младший. А бабушка ваша как взмолится: “Alexis, — говорит, — если не для нас, то для Машеньки”, то есть для вашей маменьки; а ей тогда всего 4 года было, малюсенькая была, и покажет, бывало, Платон Евграфович от пола ниже своего колена. “И вот дедушка ваш, — продолжал Платон Евграфович, — побушевал и смирился, и говорит: “Пусть решит сам Бог”. На следующий день отслужили молебен, к образу положили две записки: “Искать” и “Не искать”. После молебна мамаша ваша вытащила записку, а в ней написано: “Искать”. И говорит мне князь: “Ну, снаряжайся в путь,
26
привози мне того слепого”. Я ему говорю: “Слушаюсь, Ваше сиятельство, когда прикажете ехать?”. А он как топнет ногой: “Как когда? Сейчас, сию минуту”. Любил Ваш дедушка скоро дела делать, коль что решил, так тут же сейчас и подавай. И поскакал я на перекладных, а путь не близкий. Приехал, нашел слепого. “Ну, — говорю ему, — едем, князь тебя зовет. Где твой план и запись?”. А он как ахнет: “Господи, Боже мой, вот несчастье. Вчера сгорела контора, а в ней все бумаги”. Но вместе с тем утешает: “Вези, все равно и без планта найду. Батька мне столько рассказывал, да и я, когда зрячим был, столько смотрел на рисунок, что, авось, вспомню и найду”. Вот мы и покатили с ним обратно. Я ему по дороге рассказываю, что у нас в Чичкине есть и Морвин пруд и Морвин лес. Он смеется: “Вот, видишь, значит правда, что Морвин был у вас. Народ и запомнил его прозвище”.
Приехали, веду старика к князю. Дедушка ваш и спрашивает: “Ну, где план, показывай”. Старик объясняет, почему его не привез. Я было испугался, думаю дедушка ваш его прогонит, да и мне достанется. Не тут-то было. Князь еще пуще княгини разгорелся; велел созвать побольше народу с лопатами. Собрался народ, вновь отслужили молебен в церкви и пошли к Морвину лесу. Слепой говорит: “Тут должны быть две дороги, которые пересекаются, дороги должны быть торные, так как идут от деревни к деревне (Платон Евграфович и деревни эти называл, да я их не помню). Дороги эти, действительно, были, так что все стали верить слепцу. А он командует, как будто зрячий: “Ставьте меня на перекресток”. Привели его, поставили. “Ну, — говорит, а сам видно в азарт входит, — смотрите, православные. Вот тут неподалеку должно быть несколько вершин” (вершинами по местному называют небольшие овраги-лощины). Народ так и загалдел: “Как же, как же, мы по ним и сено косим”. “Ну, — говорит слепой, — рассмотрите, вершины эти составляют куриную лапу — четыре пальца вперед и один назад”.
Пошли смотреть, а место большое, один малый даже на дерево взлез и кричит: “Верно, верно. Куриная лапа”. Ваш дедушка-князь в лице переменился; видит, дело нешуточное; подзывает меня и приказывает: “Ну, смотри. Ты дело начал, тебе поручаю его кончать”. Бабушка ваша тут же в долгуше сидит и крестится, а слепой продолжает распоряжаться, даже князя не боится. “Ищите, — говорит, — между вторым и третьим пальцем камень, да камень большой”. А место пространное — десятин 6—10, кто их знает, земля тогда была немереная. Ищет народ — камня нет. Дедушка ваш сердится, кричит: “Найти камень, он, может, землей зарос”. Наконец выступил старик-крестьянин из другой вотчины — народу сошлось много поглядеть — и подтверждает, что был на его памяти камень, да свезли его в дальнее село на могилку положить кому-то, потому что плита была гладкая. Слепой же приговаривает: “Жаль, что камня не нашли, от него надо было отмерить десять саженей по направлению к перекрестку и копать, нашли бы саблю Морвина, большущую саблю, и ею отмерить прямо на восток десять раз, тут и самый клад”. А тут уж и сумерки наступили. Князь приказывает мне остаться с частью народа и караулить и завтра начать копать — найти эту саблю. А сам с княгиней поехали домой. Так я и остался на ночь, а потом промаялся на этом месте чуть ли не месяц. А князь каждый день приезжает — понукает. Однажды, помню, копают мои рабочие в разных местах; под конец уж копали просто
27
наугад, где попало, [у] всех вера пропала, да и надоело порядком. Вдруг у одного что-то звякнуло под лопатой, на что-то наткнулся. Сам он побледнел, радостно мне машет, а у меня, батюшка-отец, ноги дрожат: вижу — нашел». При слове «дрожат» Платон Евграфович делал всегда особое ударение и произносил его «дрожжат». Мы, дети, хотя и знали почти наизусть этот рассказ, особенно любили это место и сами начинали дрожать. Платон Евграфович, довольный произведенным эффектом, продолжал так: «Подхожу, сам стукнул лопатой — звенит. Ну, говорю, ребята, крестись. А потом спохватился: нет, постой, пусть сам князь приедет — и послал за вашим дедушкой. Приехал и княгиня с ним, и маленькая ваша маменька тоже. Я, так и так, докладываю: “Звенит”. Подошел князь, приказывает шапки снять, креститься. Начали копать и вытащили — да не клад, да не саблю, а просто тавлинку старую, как, бывало, делали, только уж очень большую. Князь так рассердился, что тут же приказал все поиски бросить, сравнять все, что вскопали, и старика-слепца наградить и отправить домой». Поиски этого клада никогда больше не возобновлялись, хотя были случаи, доказывавшие его существование. Так, однажды землемер, производивший какие-то съемки близ Морвина леса, заметил, что в одном месте его буссоль делает неожиданное заметное отклонение, как бы указывая на зарытое в земле большое количество железа. Рассказал он это дедушке, но несмотря на поиски — места этого отклонения не мог указать.
Все же история этого клада вселила в моем деде надежду получить когда-нибудь крупное состояние, почему все свои безумные траты он всегда оправдывал скорым нахождением этих миллионов; среди них находилось и все фамильное серебро семьи Волконских — несколько пудов серебра. Ограблено оно было Морвином, когда моему прадеду Дмитрию Тимофеевичу было всего три года. Когда в 1880 году дедушка передал моей матери Чичкино, он в дарственном акте поместил, что половина клада, когда он найдется, должна принадлежать ему, до того он верил в свое будущее богатство. Он никогда денег не считал, тратил их без всякого расчета; правда, что главным образом, на добрые дела, на благотворительность, но тоже на всякие предприятия, недостаточно обдуманные, почему получался всегда крупный убыток. Из благотворительных дел, способствовавших его разорению, наиболее крупное и действительно благотворное, — был институт для девиц, основанный в Зарайске как исполнение обета, данного им во время болезни моей матери. Ей было 12 лет, жили они в Рязани. Тогда слово «эпидемия» не знали, но, очевидно, свирепствовала эпидемия брюшного тифа. Многие подруги моей матери заболели, наконец и она заразилась. Эта болезнь, пожалуй, положила прочное основание привязанности на всю жизнь к моей матери Платона Евграфовича. Он не отходил от нее, хотя, понятно, за ней ухаживали другие. Он старался быть хоть чем-нибудь полезным, ночи проводил, лежа на полу у двери ее комнаты, готовый вскочить и бежать каждую минуту, куда его пошлют. Состояние моей матери было очень серьезное, доктора потеряли всякую надежду. Дедушка со своим открытым экспансивным характером бурно предавался отчаянию. Бабушка, всегда проводившая большую часть дня в молитве, пожелала поднять местную чтимую чудотворную икону. Так и сделали, и когда икону принесли в комнату больной, дедушка в каком-то порыве бросился перед
28
ней на колени со словами: «Царица Небесная, исцели мою дочь и я даю обет, если она останется жива, позаботиться об участи молодых девушек-сирот, буду им отцом». Чудо совершилось — на следующий день моя мать была на пути к выздоровлению. Сейчас же дедушка начал обдумывать, как исполнить свой обет. Ничего он не мог делать наполовину. «Wenn schon, den schon», как говорит немецкая пословица. Решил он устроить в своем родном уездном городе Зарайске институт наподобие столичных. Благодаря своим обширным связям ему удалось получить согласие императрицы Александры Федоровны (жены императора Николая I) принять этот институт под свое высочайшее покровительство, с учреждением в нем пяти стипендий императорской фамилии для бедных девиц; десять стипендий для девиц-сирот взял на себя сам дедушка, а остальные девицы должны были быть платными; комплект был определен в сорок человек; пожизненным попечителем назначен был дед. Он же в сущности нес почти все траты, так как большинство из платных денег не вносило, надеясь на его доброту. Институт был обставлен лучшими педагогическими силами. Первая начальница, кажется, и единственная, была баронесса Розен; программа института соответствовала программам столичных институтов с иностранными языками до английского включительно, музыкой, пением, рисованием и танцами. Для этого надо было содержать специальных, дорого оплачиваемых учителей и учительниц, так как в уездном городе среди его жителей таких педагогов нельзя было найти.
После освобождения крестьян за неимением более даровой прислуги институт пришлось закрыть; тогда на месте его дедушка устроил приют, существовавший до конца 1870-х годов.
В ознаменование своего кратковременного предводительства в Зарайске дедушка пожертвовал городу целую усадьбу на окраине, где был устроен общественный сад и им же был построен клуб.
Неудачные предприятия дедушки, значительно способствовавшие расстройству его дел, были очень разнообразны. Я лично помню недостроенное здание суконной фабрики в Радушине. Контора этой будущей фабрики была соединена с кабинетом деда телеграфом с циферблатом азбучным, тогда только появившимся в виде новинки (впоследствии этот телеграф, после моей женитьбы, был перенесен в Сергиевское, где до устройства телефона соединял мой кабинет с конторой имения), но кроме этого телеграфа, к тому же не действовавшего, и самого здания ничего не было, в том числе самого главного: машин никогда не купили. Помню большую водяную мельницу в Радушине, о которой постоянно велись судебные процессы с князем Оболенским; у последнего выше по Осетру была тоже водяная мельница, которую радушинская мельница подтапливала. Незадолго до своей кончины дедушка затеял устроить на своем хуторе Алтухове молочную ферму; он надеялся, что бедные чиновники будут приезжать из Москвы в праздничные дни на эту ферму, где предполагалась продажа всех молочных продуктов по дешевым, сравнительно с Москвой, ценам, а в будни по вечерам отдыхать на лоне природы. Чтобы оценить всю несообразность такого проекта, надо знать, что Алтухово расположено было на ветке Рязанской дороги, соединяющей Луховицы с Зарайском, и езды по железной дороге от Москвы было не менее шести часов. Но дедушка над этим не задумывался. Какой-то плут-управляющий
29
дал ему этот совет, и дедушка загорелся. Добился он устройства в этом Алтухове железнодорожной платформы с остановкой всех пассажирских поездов, заказал посуду, формы для масла с надписью «Отрада князя Волконского» — новое название, данное этому хутору и железнодорожной платформе, взял этого плута-управляющего, штат прислуги, но забыл купить коров; так эта затея его интересовала и занимала года два. Потом он скончался, и уже мой отец ликвидировал это дело. Помимо всех этих фантастических необдуманных предприятий сама жизнь по своему размаху уносила много денег.
Однажды дедушка с большим числом родственников, своих и жениных (семья Волконских была очень одаренная, талантливая), затеял целый ряд любительских спектаклей, участвуя в них лично на первых ролях; спектакли эти ставились в родственных имениях, разумеется, расходы по [их] постановке были моего деда, а Платон Евграфович — главным помощником по декоративной части. Цикл этих спектаклей завершился Рязанью, где для этого снят был на несколько дней городской театр. Понятно, публика допускалась бесплатно, и каждый спектакль был громадным приемом, устроенным моим дедом для рязанского общества — приемом широким, с тогдашним хлебосольством и роскошью. Недаром моего деда звали в шутку не князем Волконским, а князем Зарайским, где он держался совсем удельным князем. Когда он живал в Радушине (7 верст от Зарайска), в пасхальную ночь по первому удару колокола в его церкви начинался звон в городе; так как он торопился разговеться, часы его всегда ставились вперед на полчаса, а иногда и больше, но в городе никто не возражал, подчиняясь в былые времена его капризам, и на следующее утро все городское духовенство in corpore являлось к нему в Радушино с крестом.
Бабушка же всегда была дома, за исключением редких случаев, когда муж ее куда-нибудь посылал, как было описано выше, вела все хозяйство по-старинному, наблюдала за умолотами, собирала тальки (мотки ниток пряжи), шерсть, сушеные ягоды, грибы, раздавала работу коверщицам и кружевницам, делала запасы всевозможных заготовок, солений, варений, жамок, морсов и наливок, хранила деньги, записывала аккуратно приход и расход и только не вмешивалась в дело кухни, где дедушка царил всевластно и с утра придумывал меню, а бабушка только наблюдала, чтобы в постные дни ей был бы настоящий постный стол и, главное, тюря — кушанье, в которое входили черный хлеб, квас, зеленое постное масло, лук и летом огурцы; все это было что-то совершенно несъедобное, но бабушкой это кушанье поедалось в неимоверном количестве.
В домашнем обиходе дедушка не касался карт, считая их развращением (его сын князь Александр проиграл в карты все свое состояние); бабушка же очень любила игру в преферанс, играла очень плохо и всегда проигрывала. Дедушка одно время в Москве увлекся игрою в лото в клубе, но когда почувствовал возможность страсти, немедленно от этого отстал. Мать моя росла среди этих двух влияний, всеми своими вкусами, характером и привычками походила на своего отца, одна лишь домовитость и любовь к порядку были материнские. При ней всегда было несколько гувернанток, из них наибольшее влияние имела Madame Laroche, мать известного музыканта-критика, который был много моложе моей матери и в детстве жил тоже в доме моего деда. Был постоянный учитель танцев Сарти; в раннем
30
детстве ей ставили ногу в станок, чтобы добиться правильных pointes; имела она постоянно в деревне серьезных музыкальных учителей, последний из них, когда они уже жили в Москве, профессор Онорэ, добился в ее игре такого блеска, беглости и ритмичности, что для нее не было никаких затруднений в этом отношении, и она могла играть любую пьесу à livre ouvert (читая ноты с листа).
Подруг у моей матери почти не было, кроме двоюродных сестер, из коих более частыми посетительницами были сестры Охлябинины, Софья и Любовь (последнюю почему-то всегда звали французским именем Aimee); двоюродных братьев дедушки для дочери побаивались, и вообще мужская молодежь допускалась лишь для балов, которые в деревне дедушка устраивал часто, но им зачащиваться не разрешал. Сестру свою Екатерину, значительно ее старше, моя мать не любила; та была какая-то странная, как нам говорили в детстве, не в полном разуме, а муж ее Петр Семенович Ржевский частыми неделикатными спорами о приданом совсем испортил отношения. Брата своего, которого она звала Сашей, моя мать страшно любила и всегда страдала за те недоразумения, которые постоянно возникали между ним и отцом. Дядя Саша был артист в душе, друг Прова Михайловича Садовского, Самарина, Шумского, играл на сцене так, что эти корифеи театра признавали в нем себе равного, читал превосходно. Всякое его пребывание в семье было праздником для моей матери, а когда к тому же налаживался какой-нибудь спектакль, устанавливался мир и лад между отцом и сыном, что для Мама́ было верхом блаженства. К сожалению, длилось это недолго; дядя был картежник и кутила, жизнь в семье скоро наскучивала ему и он спешил вернуться в свою молодую веселящуюся компанию в Петербург. Служил он в Лейб-гусарском полку, исправным офицером никогда не был, и не раз пришлось ему, чтобы поспеть на учение в Царское Село, вскочить верхом на последний буфер уже отходящего поезда и в таком положении проехать до первой остановки. Чтобы добыть денежные средства, которые все уменьшались, прибегал он к самым невероятным проделкам, над которыми тогда только смеялись, а в мое уже время сочли бы неблаговидными. Однажды он с товарищами, истощив весь возможный и невозможный кредит, придумали следующее: пустили они слух, что один из их компании скоропостижно скончался; заказали гробовщику гроб со всеми принадлежностями похоронными и, когда все было доставлено, перепродали другому гробовщику, хотя и не за большую сумму, но зато за наличный расчет. Кончил он свою жизнь в городе Николаевске в далекой Сибири, куда он после окончательного разорения уехал служить в таможне. Я был совсем мал, когда он приезжал перед отъездом прощаться с моей матерью; помню игрушку, механического клоуна, которую он мне подарил помню его породистое красивое лицо и хотя не высокую, но стройную фигуру; помню слезы матери, когда он уезжал от нас. В Сибири он женился на крестьянке, с которой до брака прижил дочь, и вскорости после свадьбы он и скончался. Вдова его с дочерью приехали потом в Россию, были у нас, и долгое время Мама́ о них заботилась, пока не наладилась их жизнь.
В пятидесятых годах дед по зимам жил в Москве, чтобы следить за процессом, который грозил ему потерей состояния; поводом к этому процессу была, как всегда, страсть его к предприятиям. На этот раз он прельстился одним имением
31
в Симбирской губернии. Владелец этого имения обязывался передать покупщику и контракт с Казной о доставке в Казну какого-то материала (не помню, что именно, не то руда, не то каменный уголь, не то какой-то камень), добываемого в этом имении. Поставка была крупная, но неисполнение контракта в срок влекло за собой крупную неустойку. Дедушка помнил, что когда он в последний раз был в Симбирской губернии, где были имения его детей от первого брака, говорили, что изыскания в этой местности именно вышеуказанного в контракте ископаемого материала дали хорошие результаты. Но ездил он туда давно, когда моей матери не было двух лет. Поездка тогда была обставлена самым оригинальным способом: из Рязани на двух барках, на которых были построены два дома, один для княжеской семьи со всеми удобствами, другой для кухни и прислуги, поплыли вниз по течению по Оке и Волге; путешествие длилось целое лето, так как назад барки тянулись где бурлаками, где лошадьми. В продолжение этого путешествия моя мать заболела; всегда сопровождавший семью фельдшер из крепостных, он же и брадобрей, лечивший и людей и лошадей, определил болезнь моей матери словами «родимчик» и предупредил, что ей осталось часа два жизни. Его предсказание не сбылось, к утру ребенок был весел и здоров, но дед, испуганный этим случаем, закаялся этим способом ездить в Симбирскую губернию, а другой путь на почтовых (тогда еще правильного пассажирского пароходного сообщения не было) казался ему слишком утомительным, почему он более никогда не посещал эти имения. А через почти 20 лет, основываясь на прежних впечатлениях, без всякой проверки, покупает заглазно имение, о котором сказано выше. Контракта он, конечно, не выполнил, и приходилось ему платить громадную неустойку. Процесс об этой неустойке и был предметом его забот; как кончилось это дело — не знаю, но нам всегда рассказывали, что отделался он пустяками; а это злополучное имение дед потом, в тех же пятидесятых годах, обменял на большой барский дом с громадным садом, целой усадьбой в Москве, в Хамовниках; с этим домом у меня связаны многие детские воспоминания, так что к нему я вернусь впоследствии.
Во время этого периода жизни в Москве семья Волконских ближе познакомилась и сошлась с Варварой Андреевной Осоргиной, с которой они уже состояли в косвенном свойстве, так как ее дочь Екатерина была замужем за родным племянником дедушки Волконского Семеном Охлябининым. Отец мой, тогда блестящий лейб-гусар, очень богатый, был одним из завидных московских женихов; ухаживал он за молодой Лярской (вышедшей впоследствии за Александра Леонтьевича Гурко, двоюродного брата фельдмаршала); за матерью моей в это же время кто-то тоже ухаживал (фамилию не помню), затем этот молодой человек исчез с московского горизонта; хотя моя мать и не была в него влюблена, все же, несомненно, думала о нем, тем более что мой дед, желавший этого брака, постоянно монтировал мою мать. Дедушка был в отчаянии, просил прощения у моей матери, а та его успокаивала, говоря, что надо только дать время, все забудется и все пройдет. Несомненно, что при таких обстоятельствах первая встреча моих родителей была более чем хладнокровная и не предвещала будущего счастья, но их родители с той и другой стороны, то есть дедушка Волконский (при муже бабушка всегда играла пассивную роль) и бабушка Осоргина замечтали о браке
32
своих детей, и с обеих сторон были употреблены старания их сблизить. Общая родственница тетя Катя Охлябинина (урожденная Осоргина) и ее belle-soeur тетя Соня Охлябинина (подруга ближайшая моей матери) в этом направлении особенно постарались, передавая восторженные, быть может преувеличенные, отзывы друг о друге. Дабы ускорить развязку, Варвара Андреевна в день рождения моего отца (13 апреля) поехала с ним и дочерьми в Троице-Сергиевскую лавру на богомолье, в сущности на благочестивый пикник, пригласив и семью Волконских принять в этом участие. Принимала она; ее приемы не отличались широтою приемов Волконских, но были всегда обставлены со вкусом, более утонченно и, главное, с неслыханным тогда комфортом. Часть лаврской гостиницы была занята ею, наполнена привезенной из Москвы мебелью, стены обиты красивыми материями, полы покрыты дорогими коврами, и в этом объуютенном помещении после всех церковных служб был предложен гостям самый тонкий обед, красиво сервированный. И кухня была совсем другая: у Волконских все отличалось изобилием, но кушанья были русские доморощенные, подавалось блюда четыре, не больше, но таких, от которых можно было быть сытым после первого куска; у бабушки же Варвары Андреевны никогда не подавалось менее шести блюд, тонких, французской кухни, где разные соуса, приправы и легюмы играли большую роль. Устроено было нечто вроде будуара для молодежи, в надежде, что в нем произойдет желанное родителями объяснение их детей. Так было подстроено, что они остались вдвоем, но до объяснения не дошло, и я убежден, что они в то время друг друга не любили. На следующий день по возвращении в Москву, видя, что дело не подвигается, тетя Соня Охлябинина через своего брата Семена довела до сведения моего отца, что моя мать его полюбила и что он обязан высказаться, а дедушке Волконскому сообщили, что мой отец влюблен, но боится отказа; эти переговоры побудили родителей еще более влиять на своих детей, и отец мой, наконец, попросил свою мать сделать предложение. Были вновь посланы из Басманного дома (дома Варвары Андреевны Осоргиной) родственные послы договориться о времени, и 16-го апреля Варвара Андреевна официально просила для своего сына руки молодой княжны; согласие было тотчас же дано; на следующий день состоялось торжественное благословение, на которое созвана была вся Москва. В тот год день этот приходился на Пасхе, если не ошибаюсь, в субботу Пасхальной недели, почему весь молебен состоял из пасхальных песнопений; до конца своей жизни в память этого дня родители, бывало, с особым чувством подпевали и любовно переглядывались, когда за церковной пасхальной службой распевались торжественные слова пасхальной стихиры: «Да воскреснет Бог...». О своем жениховстве они мало рассказывали; мать моя только подчеркивала, что когда она дала свое согласие и получила благословение родителей, она всей душой полюбила своего жениха и такой же страстно любящей невестой, а потом женой осталась она до конца своей жизни.
Подарки, полученные ею от будущей свекрови, рисовали и определяли характер их будущих отношений, окрашенных особым сентиментализмом: ей был вручен браслет с бриллиантовой звездой посередине, кругом звезд по голубой эмали из мелких бриллиантов была сделана надпись «Veille à son bonheur» (береги его счастье); моя мать ответила подарком жениху широкого золотого кольца,
33
покрытого зеленой эмалью, и по ней посредине одно слово «Toi», что составляло наивный ребус «Toi seul dans l’univers». Отец мой был хладнокровного характера; во время своего жениховства не бросал своей привычки послеобеденного сна; часто, к великому негодованию окружающих, засыпал в доме невесты, где он был общим любимцем не только ее родителей, но и ее бабушки Прасковьи Васильевны Кутузовой, жившей вместе с ними. Прабабушку Кутузову отец мой ублаготворил, привозя ей ежедневно то икры, то конфет, до которых она была большая охотница. Эти угощения она берегла и предлагала их только тем, которые, она наверно знала, откажутся. Эта оригинальная старуха, дожив чуть ли не до девяноста лет, до конца жизни не соглашалась ездить по железной дороге, утверждая, что поезда двигаются нечистой силой; бывало, вся семья переезжает из Москвы в Радушино и для этого пользуется вновь открытой Рязанской железной дорогой, а Прасковья Васильевна неизменно пользовалась для сего допотопным тарантасом, в котором окруженная перинами, подушками, пускалась в путь на долгих, то есть с кормежками и дневками, так как почтовый тракт был закрыт. Только мертвой она впервые была перевезена по железной дороге из Москвы в село Мотыри.
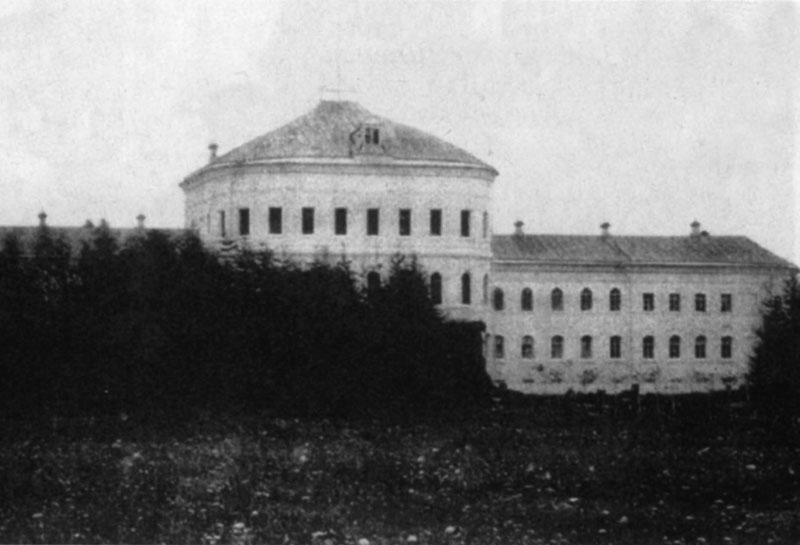
Сергиевское. Главный дом и двухэтажный флигель.
Частное собрание. Париж
Жениховство прошло по-старинному: родных, которых было особенно много со стороны Волконских, всех объездили, отсутствующим писались официальные рекомендательные письма, ежедневно днем у кого-нибудь из родных
34
был семейный обед в честь женихов. Дедушка Волконский сделал очень нарядное и большое приданое и определил выдать дочери крупный капитал: он считал мою мать своей единственной наследницей, так как детей от первого брака считал удовлетворенными состоянием их матери и требовал от них отказа от части в его имуществе; впрочем, никакого капитала он своей дочери не дал и только уже гораздо позже, в 1880-х годах, спасая себя от разорения, за год до своей смерти, передал моему отцу оставшиеся имения, выговорив себе ежегодную пожизненную пенсию, но об этом речь будет впереди. Варвара же Андреевна назначила сыну калужское имение Сергиевское, предназначенное, как я указал вначале, Михаилом Герасимовичем дочерям, а для удовлетворения последних решила продать свой московский дом на Басманной.
Свадьба была сыграна 31-го мая 1857 года. Семья Волконских жила в наемном доме где-то около Пречистенки, что составляло до церкви Никиты Великомученика на Старой Басманной (приход семьи Осоргиных) целое путешествие; накануне по часам было рассчитано и прорепетировано как поездка шаферов для объявления, что невеста готова и жених в церкви, так и самой невесты, которую везли в карете шестериком ее посаженые отец и мать — князь Николай Дмитриевич Волконский и Варвара Дмитриевна Казначеева (родители по старинному обычаю в церкви не были). У моего отца посажеными были его дядя-старик, ветеран всех наполеоновских войн, Георгиевский кавалер, впоследствии шеф Софийского Гренадерского полка, Дмитрий Дмитриевич Ахлестышев и Екатерина Михайловна Охлябинина (сестра отца). После свадьбы, совершенной с особенной торжественностью, был фамильный обед более чем на сто человек, после которого молодые, провожаемые полковыми товарищами отца, уехали на лошадях в подмосковное осоргинское имение Островня, где им устроена была торжественная встреча с очень красивой, по рассказам моих родителей, иллюминацией: вид из дома на Саввин монастырь был восхитительный, а вечерний звон создавал какое-то особо поэтическое настроение.
Пробыв в Островне недели две, они вернулись в Москву на короткий срок, остановились в доме на Басманной, где для них был заново отделан целый апартамент, которым они пользовались вплоть до продажи этого дома; стены их комнат были разрисованы доморощенными крепостными малярами, одна из комнат, полукруглая, под названием Боскетной, где они утром пили чай, изображала сад. В Москве они сделали благодарственные визиты всем родным и знакомым, после чего уехали на все лето в калужское имение. Варвара же Андреевна, чтобы не мешать молодым, посвятила это лето объезду замужних дочерей.
Приезд моих родителей в Сергиевское обставлен был особенно торжественно, по особому церемониалу, выработанному бабушкой, дабы подчеркнуть, что отныне Сергиевское делается их вотчиной. На границе молодые встречены были всей администрацией имения с выборными от всех деревень с хлебом-солью; в церкви их ждал причт для торжественного молебна перед храмовой иконой Покрова Пресвятой Богородицы, а на подъезде дома домоправительница Марфа Ивановна (в семье Каров ее звали Марфой-посадницей; в раннем детстве я ее помнил — красивая полная старуха, несколько даже величественная) поднесла им ключи на серебряном блюде; садовники же (их было трое при 14 помощниках, одного
35
из них, Степана Меркулова, я знавал, когда ему было 117 лет) поднесли им цветы и те primeurs, которые в то время были в оранжерее. В первый воскресный день крестьяне приносили поздравления молодым с преподнесением сельских даров, и в ответ их угощали вином. Отец мой никогда не любил это представительство и старался всегда избегать таких церемоний; мать же моя привыкла в родительском доме с детства к таким торжествам; на Пасхе у дедушки Волконского устраивался настоящий baise-main его руки вместо христосования, а моя мать, стоя рядом с ним, оделяла каждого яйцом, а дворовых и подарками. Простота и умение обращаться с крестьянами привлекли моей матери сердца всех крепостных. С моими родителями приехали камердинер моего отца Афанасий Шишков (крепостной из симбирского имения Михайловки) и две приданые горничные моей матери — две сестры, Василиса и Ольга, по прозванию Моковны (крепостные из Радушина). Василиса скоро вышла замуж за Афанасия, а Ольга умерла.
Эти старые преданные слуги рассказывали мне всегда с особым восхищением, как красивы были молодые: отец мой — высокий, статный, в гусарской форме, с черными, как смоль, волосами и усами, моя мать — светлая блондинка, крайне миловидная и с обращающим на себя внимание добрым взглядом. В продолжение этого лета их поочередно навещали родные и непритворно изумлялись красоте и широкому размаху усадьбы. Одна из тетушек матери, Ивлева, подъезжая, все время добивалась от кучера, показывая на усадьбу: «Как называется этот монастырь?» Настолько широко раскинувшаяся усадьба, возглавляемая церковью, не походила на простое имение.
Действительно, грандиозность и красота усадьбы поражала всякого, да и меня, уже привыкшего, сроднившегося с ней, она всегда как-то особенно захватывала. Не знаю, сумею ли я достаточно ярко, ощутительно описать Сергиевское, его дом, его храм, его усадьбу, его виды, его величавую и вместе с тем мирную Оку, его прелесть, его умиротворяющую красоту, и не мелкую, дающую понятие о тишине и мире, — нет, напротив, мощную красоту, навевающую мир душевный сознанием величия Божия, и успокоение, чувствуя себя в его всемогущей, всеблагой руке.
Сергиевское как с внешней стороны, так и укладом жизни на моих глазах менялось: одно уничтожалось, другое прибавлялось; но все же нутро его, суть его красоты, мощь и спокойная величавость всего окружающего остались неизменны, потому, рискуя погрешить по времени в деталях, все же попытаюсь описать наше Сергиевское, с нашей Окой, которое и было гнездом моей личной семьи. Описание такое тем более желательно, что в первые годы революции большая часть дома сгорела, некоторые здания на усадьбе разрушены, и все это безвозвратно утрачено, потому что восстановить все немыслимо ни по условиям времени, ни по средствам кому бы то [ни] было из тех, которым это дорого.
Когда не было железной дороги ни Сызрано-Вяземской, ни Курской, из Москвы к нам ездили на Малоярославец и Калугу и тогда подъезжали к усадьбе с северной стороны по проспекту старинных берез, рассаженных широко на манер екатерининских больших дорог. Проспект этот, тянувшийся около двух верст, начинался на самой границе имения от канавы, которой окопано было все имение около 30 верст в окружности; канава эта прерывалась лишь там, где границей
36
служило живое урочище: река Ока, речка Комола и тому подобное. Проспект шел сначала прямо до перекрестка, обсаженного четырьмя гигантскими ветлами, под названием «Quatre-s-arbres» в память сделанной кем-то из родственников «liaison dangereuse»; здесь от него прямо шла дорога в село Сергиевское — Горяиново тож, направо от него отделялся малонаезженный проселок в сельцо Тимофеевку; в усадьбу же проспект делал красивый изгиб, дающий возможность в окно экипажа любоваться видом усадьбы. Усадьба вся белая, кирпичная, покрытая когда-то тесом, потом черепицей, потом гонтом, а под конец большей частью железом, окрашенным в светло-серый цвет. Прежде всего бросается в глаза фасад дома: в середине большой круглый трехэтажный корпус, а по бокам длинные двухэтажные корпуса, закругляющиеся так, что остальную часть дома не видать; да и фасад не весь открыт, он частью затенен высокими серебристыми и бальзаминовыми тополями, частью закрыт стройными елями, рассаженными по дорогам самой усадьбы; за домом виднеются верхушки старинных лип — это парк, идущий к Оке. Вправо от дома три больших каменных здания: скотный двор, птичник и воловня, и с левой стороны от дома большой квадратный конный двор с высокими башнями; на одной просто флюгер, на другой — в виде флюгера большая железная лошадь; рядом с конным двором сенной сарай, весовня с десятичными весами для возов, рабочая изба и немного поодаль большой амбар, могущий вместить урожай не только имения, но и половины уезда; спереди длинная рига, упирающаяся в двухэтажное здание, где паровая машина и мельница, рядом высокая фабричная труба и неподалеку гумно с навесами, занимающими площадь около десятины. За усадьбой местность возвышается и вдали видна величественная стройная колокольня нашего храма, доминирующая, как бы венчающая всю усадьбу, почему многие и принимали ее за монастырь.
Когда открылась железная дорога сначала Курская, а потом и Сызрано-Вяземская, подъезжали к усадьбе с восточной стороны от деревни Поливаново, и усадьба открывалась боковым фасадом. Виднелась она уже при выезде из леса, но потом скрывалась; проехав же Поливаново, вся усадьба как на ладони, особенно выделяется храм во всей своей красе. Храм на редкость белый, стиль empire, с княжеской короной над трапезной. Колокольня очень высокая; ярус, где висят колокола, с длинными просветами, что придает колокольне большую воздушность, покрыта она белым нержавеющим железом; остальная крыша церкви зеленого цвета, кроме маленького куполка над настоящей — он синий с золотыми выпуклыми звездами. Кресты на храме хрустальные, отливают всеми цветами радуги, и далеко видно их яркое сияние. От храма идет узкая березовая аллея к кладбищу, около нее лепятся причтовые дома — их много. Потом я еще построил в ограде церковной красивую каменную сторожку с готическими окнами, большое двухэтажное здание для второклассной школы и уютный домик для диакона, так что поселок при храме под названием Поповка значительно разросся. Подъезжая с этой стороны, хорошо виден парк; тянется он от дома до церкви; на его фоне выделяется длинная рига, саженей восемьдесят длины, крытая соломой; она сгорела в 1880-х годах. Дом с этой стороны имеет совсем другой вид — это его боковой фасад: после двухэтажного корпуса, закругляющегося
37
под прямым углом, начинается одноэтажный, в середине которого большие ворота для въезда во внутренний двор; одноэтажный корпус кончается двухэтажной башней, после которой опять под прямым углом продолжается одноэтажный дом вдоль сада. С этой стороны яснее видишь величину амбара, растянувшегося по своей длине вдоль дороги, окаймляющей усадьбу.
Совсем другое впечатление, когда подъезжаешь с западной стороны от села; между селом и усадьбой большой глубокий овраг, на дне которого течет речка Ожженка. Отсюда видно еще новое здание около самой Ожженки — винокуренный завод, и на склоне — старинная громадная доходная оранжерея. Вид на усадьбу не так правильно распланирован, но зато усадьба кажется еще грандиознее, так как стоит на горе; от нее в овраг спускаются фруктовые сады и весною во время цветения яблонь это особенно красиво.
Но вот въезжаешь, наконец, на усадьбу — въезд один мимо конюшен и конного двора, после идет шоссе, кончающееся в воротах дома. Гулко простучит экипаж под воротами. Двор очень большой, с трех сторон дом, а с четвертой — каменная ограда парка с большими красивыми воротами. В середине двора большой стриженый газонный круг, кругом него защебененная дорога, посыпанная красным песком, и две большие цветочные клумбы; вдоль ограды парка от ворот до ворот старые липы и вдоль боковых флигелей дома — стена стриженых акаций. Без шума подкатывает экипаж к одному из подъездов, их два: один парадный, другой для подвоза дров. Только подъехав ближе к дому, понимаешь, что во втором и третьем этажах среднего корпуса нет окон, заменены они крашеными ставнями. В этих этажах, никогда не достроенных, должны были быть четыре залы, две по 13 окон и две по 11. Подъезд — в двухэтажном корпусе, и как только войдешь в дом, упираешься в противоположную стену, до того дом узок в этой части. Архитектор, строивший этот дом, говорят, был англичанин, придал он ему вид строгий, внушительный, почтенный; места и материала не жалели; стены до того толсты, что в толще одной из них устроена потаенная лестница с чердака в подвал, тянущийся под всем домом; подвалы — целый лабиринт со сводами.
Мы занимаем помещение от ворот до ворот; за воротами идут квартиры управляющего, служащих, контора, прачечная и службы. Наше помещение столь обширно, что по плану было размерено: пройти из конца в конец семь раз — сделаешь полторы версты. Средний корпус — приемные комнаты: зала, гостиная, бильярдная, кабинет и т. д., затем идут в обе стороны длинные коридоры с поворотами и начинаются две совершенно отдельные половины; одна называлась «стариков», другая, в которой потом жила моя семья, — «молодых». В доме некоторые комнаты имеют свое название: «шоколадная», «архиерейская», «кофейная», «васильковая», «генеральская», «зеленая», «круглая», «классная». Эти названия сохранились за ними несмотря на перемену назначения. Комнаты поражают с первого взгляда низкими потолками, что особенно неприятно в большой комнате как гостиная с семью окнами и колоннами посередине. Высокие парадные апартаменты предполагались в недостроенных этажах. Как себя помню, помню неизменную переднюю с доморощенной тяжелой ясеневой мебелью и такими же массивными дверями; в ней большое зеркало с продольной трещиной в углу. Где бы мои родители, а потом мы с женой ни жили, вся мебель из этих
38
квартир, по миновании надобности, свозилась в Сергиевский дом, почему меблировка в нем пестрила разнообразием, или, лучше сказать, разнокалиберностью: была и старинная красивая мебель красного дерева, были доморощенные неуклюжие, неуютные громадные диваны, встречались и новомодные экземпляры. Это не гармонично, но зато имеет свою прелесть — воспоминание пережитого. Как в доме старосветских помещиков, каждая дверь, многие половицы по-особому скрипят, имеют свой определенный голос, не бездушны и все знакомы. Верхние недостроенные залы — жутки своей величиной, в них даже нет сплошных полов, а лишь настланы проходы: по ним пробираются, чтобы добраться до бельведера на крыше, откуда и Калуга за 35 верст была видна; потом этот бельведер уничтожили, остался высокий шпиц для флага и люк, из которого выбирались на крышу для обозрения местности, определить, где большой пожар или дать знать о подъезжающем госте, которого ждали. Я так интенсивно переживаю все прочувствованное в этом доме, что невольно увлекаюсь — всего не передать. Да, надо быть художником, чтобы передать его прелесть; при всей его кажущейся несуразности в нем я чувствовал какую-то живую душу — дом не был безличен, как многие другие; он имел свою определенную физиономию, был положительно живым другом всей семьи. Но чтобы не утомить читателя, покинем дом и перейдем в парк, или сад, как мы его называли.
Сад большой, старинный, рассаженный, как я писал выше, на французский манер; в самом начале направо за башней небольшая оранжерея, грунтовой сарай, теплица и парники, тут же несколько особенно ценных плодовых деревьев и ягодник — все это не доходная статья, а для господского стола. В саду дорожки все прямые, только две с изгибами, обсажены они липами. Весь сад огорожен красивой ажурной белой каменной оградой. Когда-то весь сад стригся, когда же перестали это делать, деревья приняли уродливые формы. В разных куртинах устроены гимнастика, площадка для крокета и другая для тенниса. В середина сада две большие поляны со старыми березами, разбросанными без симметрии, и в конце сада — вековые прямые ели. Средняя аллея особенно широка; она шоссирована, посыпана красным песком и летом и зимой ежедневно тщательно разметается. Продолжением этой аллеи, уже вне сада, служит узкая березовая аллея, ведущая к обрыву над Окой.
Господи! Какой вид там открывается! Отчего я не обладаю пером художника, чтобы описать его. Весь склон горы покрыт лесом; дважды на моем веку он сводился и тогда вид еще открытее. Под ногами течет мощная, величавая, но не грозная наша Ока; она течет прямо параллельно хребту обрыва и лишь влево вдали начинает делать повороты, таких видно два. Направо заливной луг, а прямо — противоположный берег, сначала плоский, потом поднимается в гору, на которой село Висляево с белой маленькой церковью; влево же, где начинаются изгибы реки, гористые берега с обеих сторон теснят Оку и видна еще церковь — Дальне-Борщовская. Горизонт на ту сторону, за реку, громадный, кое-где совсем далеко сверкают кресты отдаленных церквей, находящихся уже в Тульской губернии. Висляевское поле слева окаймляется большим перестаревшим лесом; на моей памяти этот лес никогда не сводился, владелица его, г-жа Ивлева, говорила, что растила его не для купца, не для дров, а во славу Божию. Куда ни взглянешь — даль,
39
ширь необъятная, а под ногами Ока; живая, синяя Ока катит свои воды, и по ней плывут то баржи, то плоты, то пассажирский пароход. Все мирно, тихо, но и полно жизнью. У нас там на обрыве стояли излюбленные скамейки, которые всегда кем-нибудь заняты, всегда есть кто-нибудь из семьи, или из служащих, или из Поповки, желающие отдохнуть душой, любуясь этой красотой.
Но не одной усадьбой и Окой красиво Сергиевское, нет — в нем еще леса необычайно живописные. Площадь леса большая — более 2000 десятин, лес разнообразен, на все вкусы. Один на Красной горе, тянется вдоль Комолы при ее впадении в Оку; склоны горы так круты, что напоминают настоящий гористый пейзаж; по горе зигзагами спускается дорога, что напоминает Швейцарию, почему и место это прозвано «Большой Швейцарией». В отличие от нее лес при впадении речки Нахабны в Оку называется «Малой Швейцарией»; там гора не такая длинная, но круче и более походит на миниатюрное ущелье; в просвете ущелья, как в рамке, видна Ока, что придает виду особенную прелесть. Дальние леса со своими вершинами (местное название маленьких оврагов), с красивыми полянами, разнообразными породами деревьев очень живописны, но самое красивое место — это «Каменная гора» над Окой: отвесный берег очень высок в этом месте, в этой горе залежи известняка, названные профессором Белелюбским «русским мрамором». Одно время его и добывали, так что видны входы внутренних галерей. Пластов известняка шесть, от почти черного до белого с розоватым оттенком включительно; около верхнего пласта была когда-то расчищена площадка и образовался как бы балкон над рекой. Стоишь, бывало, на нем, задумаешься и забудешь, что находишься в центре России.
А поля, широко раскинувшиеся, сливающиеся с крестьянскими, окаймленные лишь на горизонте лесами! А деревни, разбросанные по всему имению! Их восемь и каждая имеет свою физиономию. Село, понастроенное как попало вдоль Ожженки, сливается с деревней Зиново; оно поражает своими постройками: дома прочные, иногда самостоятельно, оригинально затейливые, протестующие против общего шаблона, некоторые двухэтажные, другие с мезонинами, придают характер скорее местечка, чем сельской местности. Гладкая прямая Дмитровка без всякой красоты среди полей напоминает степные деревни. Пышково, расположенное в лесу, вдали от проезжей дороги, более серая деревня; она знается с волками, которые часто режут в ней скот; ее характер лесной, одичалый. Поливаново раскинулось несуразно поперек тракта на станции, напоминает кляксу на чистой странице. Алферово запряталось в овраге, там легче шинкарствовать, пьянствовать и разгульничать, чем местный народ не брезгует. Шахово — маленькое, благообразное, зажиточное, лепится около старого погоста и церковной земли бывшего храма, землю эту оно арендует; вид этой деревни почтенный, степенный. Наконец, последняя — Кошурки, на самом берегу Оки, но по-дурацки растянувшаяся не вдоль реки, а перпендикулярно к ней, почему только из двух крайних изб видна река; деревня эта сама себе довлеет, богатая, имеет купленную у соседнего помещика землю, живет как-то на отлете — особняком; в ней народ хотя и почтительный, но не близкий, не родной.
Да кроме деревень для нас и каждая дорога имеет свой определенный личный характер. Безошибочно, не сговорившись, каждый из нас скажет, которая дорога
40
мужчина, которая — женщина. Проспект, называемый нами попросту «Калужская дорога», дорога отжившая, старинная; она, как зачитанная и перечитанная книга, запущена, обтрепана, березы частью срублены, частью от старости свалились; вся она испещрена глубокими колеями, колдобинами. Зато Поливановская стала бойким трактом; она хорошо видна с большой террасы; для этого над изгородью в густой листве лип выстрижено большое полукруглое окно, в котором, как в рамке, видна дорога; на ней спокон веков с правой стороны рос куст, никому не нужный, чахлого вида, какой-то заморошный; все же он так знаком, так сроднился с этим видом, что когда в начале революции какой-то хулиган-пастух его обломал и сжег, всем стало жалко, чего-то недоставало. От проспекта отделяются две дороги: Пышковская и Корьковская. Обе прямые, окопанные канавами, тянутся среди полей, но каждая имеет свой характер: первая более основательная, видно, что ведет она в крупное населенное место, вторая — какая-то легкомысленная, кончается она за лесом, где начинаются запольные поля под названием «Степь»; чувствуется, что она кончается какой-то ширью, каким-то новым видом природы, по ней как-то весело ехать. Была еще дорога от усадьбы, тоже прямая среди полей, вела она к «Малой Швейцарии»; у нас в семье она называлась «Ленточка», и, действительно, в ней есть что-то девическое, наивное: она пряма и узка, как лента, вид с нее на противоположный берег Оки дает понятие, что там дальше есть что-то более положительное, зрелое.
Прервусь, а то и конца не будет моей болтовне. Ведь Сергиевское — это то место, где протекла большая часть моей жизни и от которого я ныне безвозвратно оторван. Сергиевское для меня не имение, не местность, а друг, самый близкий, живой друг, и говорить о нем я никогда не устану.
Ну, довольно, вернусь к прерванному рассказу.
До меня у моих родителей родилась в 1858 году сестра моя Варвара, а в 1860 году — брат Алексей, умерший в том же году. Жили мои родители в наемном доме Бырдина (или Бордина?), прихода Успенья на Могильцах, близ Пречистенки, а по летам — в Сергиевском, посещая ежегодно родителей моей матери в Радушине. С моими родителями жила и бабушка Варвара Андреевна с незамужней еще дочерью тетей Соней. В Сергиевском молодые занимали отдельную от матери половину, хозяйкой была моя мать, но первенствовала всегда бабушка. Когда ее не было и приезжали дедушка и бабушка Волконские, первенство переходило к ним. Они уже были положительно гостями, но после обеда благодарили их и целовали у них ручки. Мои родители, а потом и мы, дети, говорили им «Вы», мои родители называли их «папенька и маменька», бабушке же Осоргиной говорили «ты» и «Maman». Моя мать рассказывала мне, что в эти лета она много читала со своей belle-mère разные французские руководства по воспитанию детей; библиотека сергиевская была полна таких книг, по совести сказать, сентиментальных, напыщенных и наивно-экзальтированных. Отец мой хозяйничал по-старинному, больше приказывал, зная, как всякое барское слово немедленно исполнялось, и не учитывая того, как иногда это было трудно. Однажды моя мать и бабушка Варвара Андреевна сказали ему, что проезжая дорога, проходившая тогда рядом с домом мимо трех террас, мешает им и пылит их работу, тем более что в то время барщина возила навоз. Отец мой приказал управляющему
41
обдумать, как это устроить. Тот постарался вовсю: в одну ночь, пока господа почивали, дорога была отнесена далеко от дома в середину плодового сада, где она и теперь; построена изгородь, подсыпаны курганы ко всем трем террасам, которые до того были на столбах, и бывшая дорога, а также свеженасыпанные курганы застелены свежим дерном и перед террасами разбиты новые клумбы. На следующий день велико было изумление моей матери и бабушки, когда они вышли утром чай пить, увидать всю эту метаморфозу. Утренний чай бабушки был всегда какое-то священнодействие, к нему допускались лишь мои родители. Подавал ей ее собственный камердинер особо настоенный чай — смесь цветочного и зеленого — с несколькими бисквитами, ежедневно свежевыпекаемыми. На этот раз церемониал был нарушен: бабушка велела позвать управляющего, выразить ему свою благодарность, что было совершенно неслыханной милостью. В этот и следующие дни этот вновь воздвигнутый забор доставлял много веселых минут, когда проезжающие, упершись в него, недоумевали, куда же им ехать? Через несколько дней был и трагический случай. К балкону бабушки (этот балкон был впоследствии террасой моей жены из ее уборной), где она сидела с моей матерью и читала, легко перескочив забор, подскакала лошадь моего отца Гремолиус (это была любимая, еще полковая лошадь моего отца) за обычной подачкой сахара. Перескакивая забор, лошадь оборвала повод, и седло свернулось набок; моя мать решила, что с моим отцом несчастье и он где-нибудь лежит искалеченный. Невзирая ни на какие доводы быть благоразумной, так как она была беременна моим старшим братом, моя мать остановила первую попавшуюся навозницу, велела выбрать часть навоза и, умостившись на оставшемся удобрении, поехала разыскивать мужа; отец мой был цел и невредим, лошадь просто от него вырвалась; воображаю, как он был тронут, но и как смеялся, увидав свою жену на навознице совершенно в растрепанных чувствах.
При одной поездке в Радушино, которое мой отец очень полюбил, случилось несчастье, которое положило начало боязни матери лошадей. Ехали они в карете шестериком по Рязанскому шоссе; один из мостов чинился, проезд был только по одной его половине, но по небрежности шоссейного сторожа разобранный настил не был огорожен и освещен фонарем. Дело было ночью; ямщик и форейтор, увидав это слишком поздно, не справились с грузным экипажем и въехали на мост, так что правая пристяжная сорвалась и потянула за собой остальных лошадей и экипаж, который, перевернувшись, очутился на дне оврага. Моя мать была извлечена из кареты чуть ли не задохнувшаяся от упавших на нее вещей и в глубоком обмороке, но без всяких повреждений; отец мой тоже остался невредим; пострадали, и то довольно легко, Афанасий и ямщик, две же лошади были искалечены и тут же издохли.
В 1860 году родители мои надолго застряли в деревне. Отец мой предпринял большие переделки в доме, настилку новых паркетов, переделку всех рам в окнах по новому фасону; работала целая артель столяров-плотников, и решено было провести в Сергиевском часть осени, чтобы наблюсти за этим. В конце октября моя сестра Варя заболела скарлатиной; ее отделили от грудного брата (его уменьшительное имя было Леля); с братом поселилась бабушка Волконская, а моя мать всецело отдалась уходу за дочерью, состояние которой внушало
42
серьезное опасение. Выписали из Калуги доктора Шайтанова, который потом нас всегда лечил; сестру выходили, оставалось лишь выдержать карантин, почему отец поехал в Москву устраивать новую квартиру, где ожидалось мое рождение (моя мать была беременна). Вернулся отец в декабре, ехал он на почтовых на Подольск, Серпухов, Тарусу; под городом Тарусой он видел пасущийся скот — до того, несмотря на декабрь, было еще тепло. Торопился он воспользоваться этим теплом, чтобы перевезти семью, но не пришлось ему это исполнить. Заболел мой брат Леля тоже скарлатиной и через три дня скончался. Похоронили его около церкви близ алтаря, отец мой сам нес гробик, моя мать была в ужасном состоянии и за нее очень боялись. Когда она немного оправилась, в конце января двинулись в путь; морозы настали жестокие, говорили, что галки на лету замерзали; ехали с остановками, ночевками; моя мать не переносила возка; для нее соорудили особенную высокую кибитку; сестру Варю везли в возке, в котором помещались бабушка Волконская, доктор и нянюшка Анна Сергеевна; возок перед посадкой нагревали самоварами, вперед ехал ряд слуг, устраивавших ночлег или остановку для обеда, для чего выбранное помещение завешивали коврами, а повара и буфетчик готовили обеды и ужины. Путешествие длилось довольно долго, и наконец достигли Москвы, где и поселились на Пречистенке в доме, принадлежавшем до революции княжне Салтыковой-Головкиной (рядом с казенным зданием Штаба округа).
Моя мать всегда желала иметь сына Михаила, почему, лелея эту надежду, она особенно себя берегла, боясь за свое здоровье после перенесенного горя. С ними поселилась в Москве, дабы оберегать мою мать, и бабушка Варвара Андреевна, которая только что выдала замуж свою последнюю дочь Софию за Дмитрия Аполлоновича Жемчужникова (гродненского гусара, адъютанта московского генерал-губернатора Тучкова и бывшего товарищем по школе моего отца).
Большинство того, что я описал, передано мне моей матерью. Теперь же перейду к личным своим воспоминаниям.
43
Глава II
МОЕ ДЕТСТВО (1861—1875)
Родился я, как сказано выше, 16 апреля 1861 года; крестили меня Дмитрий Дмитриевич Ахлестышев (дядя моего отца) и княгиня София Аркадьевна Волконская (жена князя Николая Дмитриевича, дяди моей матери). Крестины были обставлены, как мне рассказывали, благолепно и торжественно. Участие в них Дмитрия Дмитриевича Ахлестышева, старика-генерала, героя войны 1812 года и Севастопольской кампании, как бы связывало это семейное событие с глубокой стариной. На войне он командовал Софийским Гренадерским полком, особенно отличившимся, и незадолго до моего рождения удостоился редкой в то время награды: государь Александр II назначил его шефом этого полка. Сделал это государь с обычным своим сердечным тактом и вниманием. В бытность государя в Москве был назначен высочайший смотр полку, квартировавшему в Москве. Через дежурного флигель-адъютанта его величество повелел Д. Д. Ахлестышеву, бывшему сенатором Московского присутствия, присутствовать на смотру. Когда смотр уже окончился, государь подъехал к фронту и громко объявил, что их когда-то бывший командир, стяжавший в боевом крещении благодарность императоров, славу полку и уважение всех, генерал от инфантерии Ахлестышев назначается шефом полка. Затем скомандовал церемониальный марш и сам продефилировал во главе полка и отсалютовал новому шефу. Говорят, дедушка (мы его звали дедушкой, потому что родство grand oncle непереводимо одним словом на русском языке) Дмитрий Дмитриевич расплакался и чуть не упал в обморок, до того это было и неожиданно и, по его словам, превосходило его заслуги.
Воспоминания мои до 1868 года очень отрывочны и непоследовательны, проверить же мне их теперь не с кем: я остался один в живых из тогдашних членов семьи и близких к ней.
Помню в раннем детстве пребывание за границей, сначала в Карлсбаде, затем чуть ли не на год в Женеве и, наконец, зиму в Вюрцбурге. В Карлсбад поехали мы целым домом: дедушка и бабушка Волконские с девушкой, мои родители с нами, детьми, при коих кроме горничной были немка Эмилия Петровна Фолькман и нянюшка Анна Сергеевна. Кроме того с нами была двоюродная сестра моей матери Лидия Николаевна Волконская (младшая дочь моей крестной матери). Жили мы на Alte Wiese в пансионе, помещавшемся в том доме-покоем, в котором последнее время был «Hotel Poupp» (дом этот я тотчас узнал, когда мне в 1908 году пришлось самому лечиться в Карлсбаде, ездил я туда уже со
44
взрослым сыном). Занимали мы в этом пансионе целый большой апартамент с двумя балконами, выходящими на площадку, где играла по утрам и после обеда музыка. Очень мы любили с сестрой слушать эту музыку; тогда же я пристрастился к Reveil du lion Конского, который как эффектный садовый номер часто исполнялся. Особым удовольствием было вечером пить на балконе молоко с карлсбадскими облатками (местная специальность).
Все, кроме отца и нас, детей, пили разные воды. Моя мать — Sprudel. Она должна была держать особо строгую диету, которую потихоньку часто нарушала, в чем ей способствовала тетя Лидия, принося запрещенные торты и сладкие жирные пирожки. Содержательницу пансиона звали почему-то «Mutterchen», и так как мы были главными постояльцами, она нас исключительно обдумывала.
Дедушка от скуки свел знакомство с табачным торговцем, беглым поляком из России, и приносил самые фантастические слухи о том, что в России скоро восстановится крепостное право, о чем он не переставал мечтать, совершенно не умея примениться к новому порядку вещей. Известия передавались дедушкой таинственно. Предшествовало такому сообщению неизменное его приказание: «Enfants, fermez la porte».
Помню камер-обскуру на «Harschpring». Нас, детей, ввели в полутемную комнату без окон, в которой на круглом столе, занимавшем середину комнаты, мы увидали, благодаря отражению зеркал, всю окружающую местность; когда же на столе, среди пейзажа, появился отец, поднимавшийся в гору и подходивший к зданию камер-обскуры, нашему восторгу и дикому визгу конца и предела не было.
Однажды я провожал мою мать на источник и поражен был видом кипящего и бурлящего Sprudel’а. При мне моя мать бросила в него свежую розу, почти тотчас вынутую из него в окаменелом виде; эта роза долго потом у меня хранилась.
Ходил я одетый по-русски — в шелковой рубашке, подпоясанной поясом из золотого с серебром галуна, в бархатных шароварах, мягких сапогах немного ниже колен, в складках-гармоникой, и в фетровом гречепнике с павлиньими перьями на голове. У меня была фотография — группа всей семьи, снятая тогда в Карлсбаде. Вообще, не погибни все во время революции, я мог бы эти записки иллюстрировать самым подробным образом: каждая личность, упоминаемая в моих воспоминаниях, всякое выдающееся событие, наконец, каждая местность имела бы свою иллюстрацию, до того была богата моя коллекция фотографий. Но, увы, все уничтожено с неудержимым вандализмом. Не уничтожена лишь моя память, и к ней я обращаюсь, чтобы хотя в письменных образах сохранить старое, дорогое.
В Карлсбаде у меня появился первый в жизни товарищ и приятель, мальчик Денис Давыдов, на два года меня старше, внук известного партизана 1812-го года. Впоследствии он был и моим товарищем-одноклассником в Пажеском корпусе. Я назвал его приятелем — это не совсем верно, ибо дружба была односторонняя: в то время я к нему льнул, он же как старший, а в этом возрасте два года это целая пропасть, меня третировал свысока. Как я за него страдал, когда однажды с ним случилось неприятное происшествие! Отцы наши завели нас обоих в тир; мы там
45
стреляли не пульками, а какими-то деревянными пробками с маленьким острием, вонзающимся в мишень. Мишени были разнообразные: были выскакивающие кувыркающиеся куклы, одна средняя фигура при удачном выстреле издавала звук наподобие крика. Димка Давыдов (так я его по-товарищески звал) не дождался разрешения и, пока содержатель тира еще устраивал мишени, взял со стойки приготовленное ружье, выстрелил и попал этому содержателю в спину; пробка не пробила всего платья, но все же острием больно уколола. Димку, сконфуженного, тотчас же увели из тира, а я чуть не плакал, болезненно переживая его конфуз, и сам попросил вернуться домой. Помню еще в Карлсбаде как моя мать играла у себя в четыре руки с приглашенным для сего директором оркестра Лабицким. Вообще по своему общительному характеру Мама́ и там завела себе и друзей и знакомства, но я их по своему малолетству не помню.

Церковь Покрова пресвятой Богородицы
в усадьбе Сергиевское. 1810.
Частное собрание, Париж
В Вюрцбурге мы были уже одни, остальные, то есть дедушка и бабушка, вернулись в Россию (может быть, это было просто другое путешествие?). В Вюрцбурге мы провели зиму. Мать моя была постоянно больна, ее лечил и часто посещал д-р Сканцони. Жили мы не в пансионе и имели целую квартиру. Окна ее выходили на какую-то площадь, мы с сестрой наблюдали приезд молочниц, привозивших свой товар на собаках. Когда выпал снег, что случилось в том году как редкое явление, мы наслаждались катанием на санях. Сани имели какой-то совершенно средневековый вид: они изображали лебедя, причем кучер помещался
46
на шее птицы. Помню, что это было очень оригинально и фантастично. К сожалению, санное развлечение длилось недолго — дня три, не больше.
О Женеве у меня гораздо больше воспоминаний. Поместились мы на площади Plein Palais в пансионе Boa; Monsieur Boa рекомендовал моей матери свою belle-soeur — Elise Tagan, заменившую Эмилию Петровну. Последнюю мой отец недолюбливал, считая, что она меня слишком балует и изнеживает. В пансионе этом мы обедали за table d’hôtes. Стол президировался хозяйкой дома пансиона, M-me Boa, и все сидевшие за столом были хорошо между собой знакомы. За обедом бывало очень весело. Ненавидели мы с сестрой часто подававшийся суп — простой бульон, в котором плавали куски белого хлеба, но зато только там ели вкусное пирожное из шоколада: оно состояло из довольно жидкого шоколада (его разливали суповой ложкой), к которому подавался lait de poule, попросту сказать взбитые белки яичные, посыпанные сахаром. Семья Boa была из французской Швейцарии. Наша новая гувернантка, которую мы, дети, скоро прозвали Тагочкой, приходила к нам утром на целый день; я с трудом к ней привязался, тоскуя по Эммочке. Та, хотя и ворчала на меня каждое утро, пока не выпьет свой cafe (она очень аппетитно произносила это слово), но зато и любила и баловала меня исключительно. Помню прическу Эммочки с двумя accroche coeur’ами на висках; только на ней и на моей крестной матери я видал такую прическу, но эта прическа появлялась только после кофе, до того же она только ворчала, а я ей отвечал, показывая поочередно на правое и на левое ухо: «Emma! Wenn du brumst, es kommt herein und geht hinaus». Тагочка вначале, чтоб меня привлечь, хотела и себе устроить accroche coeur’ы, но это так не шло к ее молодому лицу, что я сам это забраковал и вскорости и без этого к ней очень привязался. Водила она нас гулять на Quai des Anglais, откуда широкая насыпь в виде бульвара ведет на остров Jean-Jacques Rousseau. Часто она заходила с нами в домик, где показывалась подробная модель Монблана, который к тому же [был] ясно виден с набережной. На дилижансе она нас возила в Carouge, Muhlhause, откуда мы делали красивые прогулки. Для этих дальних прогулок она покупала какие-то очень вкусные хлебцы, козий сыр под названием tome и круглые плитки шоколада, употребляемые, как она уверяла, для школьных завтраков. Так в моем детском представлении и осталось понятие об особенно вкусных gouters швейцарских школьников, и я им завидовал. Раза два, с разрешения Мама́, она нас водила к своей матери, где нас угощали вишневыми тортами (tarteaux cerises).
И здесь у моей матери установились дружеские отношения с несколькими семьями, преимущественно русскими. Среди них была английская семья, фамилии ее я не помню, но зато хорошо помню, что дочь, Adèle, покорила мое детское сердце своими длинными волосами. Она была одних лет с моей сестрой и обычно с нами гуляла. Жила в Женеве вдова светлейшего князя Петра Михайловича Волконского, бывшего когда-то опекуном моего деда. Она была глубокая старуха и особенно любила моего отца за то, что он как-то вывел ее из затруднения. Она была очень скупа и из-за скупости отказалась вносить какой-то установленный местными законами платеж; ей грозил по этому поводу неприятный процесс, от которого мой отец ее избавил, разъяснив в чем дело и внеся требуемую
47
сумму. Моя мать часто навещала ее по-родственному и ублажала, но нас, кажется, к ней не водили.
Была в наше время в Женеве еще г-жа Тютчева, старая дева, фрейлина Императорского Двора. По ее недостаточному знакомству с немецким языком или же по ее рассеянности с ней в Германии часто бывали недоразумения: стучатся к ней в номер, а она вместо того, чтобы крикнуть «herein», отвечает на стук словом «hinaus»: стучащий обижается и уходит. Про нее рассказывали следующий анекдот: на каком-то немецком курорте, не разобрав надписи, она направилась в мужскую уборную, напевая довольно громко романс «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и вместо продолжения «Не входи, родимая, попусту в изъян» из уборной послышалась реплика мужского голоса: «Не входи, родимая, здесь сидит Иван». Как оказалось потом, давший столь остроумную реплику был известный поэт и шутник Иван Мятлев.
Помню необъяснимое детское жуткое чувство, когда, бывало, раздавалась дробь барабана, и crieur public на площади и перекрестках выкрикивал обыкновенно о какой-нибудь пропаже. Этот страх и жуткость имели, быть может, основанием то, что однажды мы слышали, как таким способом разыскивали потерявшегося ребенка. Раз барабаны затрещали одновременно по всему городу — население оповещалось о назначенном на следующий день смотре местного гарнизона, в состав которого входило большинство мужского населения города, облекавшегося по этому случаю в военные мундиры. Родители нас повезли на этот смотр, но повез нас не обычный наш извозчик, а какой-то незнакомый нам старик, хотя в том же ландо, на обычных лошадях. Мой отец все время смеялся и критиковал швейцарское войско; я мало помню этот смотр, но вспоминаю радость и восторг наш с сестрой, когда мы увидали во главе какой-то части в качестве командира нашего обычного кучера-извозчика, приветствовавшего нас своей саблей, а в рядах солдат этой части самого г-на Воа, содержателя нашего пансиона, которого мы привыкли видеть всегда изящно, элегантно одетого и с которым в нашем детском воображении никак не вязалось представление о простом солдате. Помню, что в этот вечер за обедом моя мать смеялась, вспоминая нашего извозчика Lapierre в роли командира, на что Monsieur Воа возразил, что он не Lapierre, a Monsieur Lapierre, после чего мой отец горячо с ним спорил о республиканских нравах и обычаях.
Последнее мое воспоминание заграничного путешествия — уже на обратном пути, подъезжая к русской границе. Отец увидал у меня в руках карты, коими я строил домики, резко вырвал их у меня из рук и выбросил в окошко, а я расплакался. Меня успокаивали, объясняли, что за них пришлось бы платить на таможне большой штраф; я был безутешен и никак не мог усвоить логику больших: кому я мешал, казалось мне, зачем же лишать меня удовольствия?
Ярким воспоминанием детства сохранилась для меня жизнь в Хамовниках в Москве, в доме дедушки Волконского. Живали мы там, вероятно, несколько раз, так как я помню в этой обстановке своих гувернанток: и Эммочку и Тагочку, а это были разные периоды моего детства. Дом этот до сих пор существует, в нем до революции помещался Ксениевский приют. Когда мы жили там, переулок был немощеный, экипажи утопали в песке. Парадный подъезд выходил
48
в переулок, но главный фасад дома обращен был во двор, который поперечным переулком отделялся от Хамовнической пожарной части. На этом дворе были службы. Двумя другими фасадами дом выходил в большой тенистый сад площадью в несколько десятин: в нем были и оранжерея, и парники, и такие поляны, что даже на них косили сено.
Прихожая в доме была полутемная, обставленная ларями, на которых всегда восседал целый ряд слуг. Из прихожей шла широкая мраморная лестница между двумя стенами, из которых одна была наружная, вдоль переулка. Лестница отлогая — потому очень длинная, с большой площадкой посреди для отдохновения. Наш излюбленный детский наблюдательный пост был фонарь над самой прихожей, большим внутренним окном выходивший на лестницу. Из этого окна видны были спины подымающихся по лестнице, которая упиралась в большое, во всю стену, зеркало. В это зеркало мы узнавали, кто к нам приехал. Первая комната была столовая, выходившая окнами в сад; в этой столовой, между прочим, никто никогда не обедал; затем большая гостиная, из которой и был ход в вышеописанный фонарь. Гостиная вечером освещалась карселями, стены в ней были увешаны картинами, мебель, старинная, громоздкая, была симметрично расставлена вдоль стен. От одного из диванов шли два ряда кресел перпендикулярно к нему. Из гостиной была дверь в бальную залу, которая мне казалась необъятной величины. Собственно, в этой зале, имевшей, кажется, больших семь окон во двор, и сосредоточивалась вся жизнь семьи. В ней обедали и принимали гостей. У среднего окошка было традиционное кресло дедушки и такое же, через маленький столик — бабушки; в одном из ее углов мы, дети, играли, когда дедушка спал. А по вечерам в этой же комнате играли в карты на нескольких столах все съезжавшиеся к дедушке и бабушке родственники, которых потом кучера дедушки развозили по всей Москве. Спальня дедушки и бабушки была рядом со столовой; в ней был большой выступающий в сад фонарь. Комната эта очень большая, всегда полутемная от тени сада, имела какой-то специфический запах, и я ее очень боялся. Родители мои жили в антресолях, где было несколько комнат, все разной высоты, с приступочками и кое-где со ступеньками. Водили нас туда только утром поздороваться, когда мать просыпалась. Царством же нашим была большая комната рядом с большой залой; комната очень светлая, высокая, с двумя окнами, выходившими прямо на пожарную каланчу. Мы с сестрой тогда знали все пожарные сигналы, и жутко было, лежа в кровати, видеть красный фонарь, означавший сбор всех частей. По одной походке и остановке пожарного на каланче мы предугадывали, простая ли это остановка для отдыха или же он всматривается, и судя по темпу его движений всегда могли заранее сказать, ближайший ли это пожар, на который Хамовническая часть обязана выехать, или же неторопливо поднимет он сигнал отдаленной части города, где пожар. Часто требовал я, чтобы сидели около моей кровати, когда я знал, что в городе пожар, и до настоящего времени я никогда не остаюсь равнодушным к слову «пожар».
Из соседней комнаты, где помещалась Тагочка, видно было Замоскворечье, то есть Нескучный сад с дворцом и Голицынская больница; очень любил я этот вид, и до сих пор он переносит меня мысленно в детские годы.
49
Строй жизни в доме дедушки был самый безалаберный: в прихожей сидели люди грязные, небритые, иногда и за вязанием, по-старинному, чулок. А метрдотель был негр во фраке, к обеду он появлялся в коротких штанах, чулках и туфлях. Дед мой заставлял его мыть руки при себе, чтобы убедиться, что он некрашеный. Внизу был кабинет дедушки и бильярдная, но я не помню, чтобы кто-нибудь не только там занимался, но и входил бы, — комнаты были всегда заперты на ключ.
Приезжали без зова, кто и когда хотел. Обед, подававшийся в 2 часа, а если дедушка проголодается, то и раньше, накрывался, на всякий случай, человек на 10 лишних, причем метрдотель-негр, наблюдавший за сервировкой, никогда не имел достаточно посуды.
Дедушка был старший сын в семье Волконских, а бабушка — старшая в семье Кутузовых. Почему-то по тогдашним обычаям, по крайней мере раз в неделю, каждый родственник, живший в Москве, бывал у них. Перед моими глазами проходит целый калейдоскоп родственников, из коих многих не встречал потом в жизни. Помню стариков Чарторижских — Надежду Дмитриевну, сестру бабушки, и ее мужа Павла Николаевича, страшного обжору. Вспоминаю брата бабушки Александра Дмитриевича Кутузова, игравшего с нами, детьми, для чего наступал на нас, изображая, что нас не видит; его маленькую, тщедушную, с вечно обиженным видом жену, которую дедушка недолюбливал и над которой смеялся. Их дочь, Мария Александровна, стала впоследствии мать Евпраксия, казначейша Новодевичьего монастыря. Вижу свою крестную мать, княгиню Софию Аркадьевну, в белой наколке, в шумящем шелковом платье с кринолином, сидящую против бабушки, которая в домашней обстановке была всегда простоволосая, и притом вспоминаю их всегдашние пикировки; обе нюхали табак и, когда горячились, постукивали пальцами по табакерке. Помню дядей Наумовых, тогдашних львов московского общества; появлялись они в доме дедушки лишь по чувству долга и почтения; оба они были магистрами — один международного права, другой — какого-то еще права, — и считались очень учеными. Помню жену Дмитрия Дмитриевича Ахлестышева Пелагею Павловну, приезжавшую с официальными визитами, — с ней считались. Часто бывал Александр Иванович Казначеев, всегда гладко выбритый, в длинном старомодном сюртуке со стоячим воротником, повязанный шарфом, подпирающим подбородок, с Владимиром на шее, а в праздник и при звезде. Пахло от него табаком и одеколоном; ногами шаркал, опираясь на костыль; он по годам был старше всех. Его друг, московский генерал-губернатор Закревский, через него предлагал и уговаривал моего отца идти к нему на службу, говоря, что у него blanc-seing императора, почему может продвинуть отца по службе головокружительно. Была еще парочка стариков, собственно, совершенно чужих, но почему-то считавшихся в числе ближайших родственников: жена троюродного брата дедушки Загряжская Настасья Ивановна, которая, овдовев, вышла замуж за Геннадия Владимировича Грудева, чуть ли не управляющего ее; и вот эту парочку стариков почему-то считали особенно близкими. Настасью Ивановну я не помню, но Геннадия Владимировича хорошо знал и по детской привычке звал дедушкой. Он до того уверовал в свое родство с нами, что будучи 98-летним стариком приехал в Калугу на мою
50
свадьбу. Но мы, дети, главное, любили молодых тетушек, дочерей князя Николая Дмитриевича Волконского: красавицу тетю Наташу Маслову, всегда хохочущую, веселую, с ее замечательно породистым мужем Михаилом Дмитриевичем, значительно ее старше, тетю Катю Мельгунову, очень добрую и очень несчастную, потому что ее муж Александр Сергеевич был не кутила, а просто горький пьяница, пропивший и свое громадное состояние, и приданое жены, и еще несколько полученных в течение жизни наследств. У них были дети, наши ровесники, но мы с ними редко видались, нас туда не пускали. Как сейчас вижу недалекую, но остроумную тетю Ольгу Норову; муж ее Дмитрий Петрович, когда-то блестящий конногвардеец, потом рязанский предводитель дворянства, под конец не только разорился, но и нравственно совершенно опустился. Он, покинув семью после смерти старшего сына, уехал и исчез бесследно, и бедная тетя Ольга в нужде кончала свою жизнь у младшего сына. Этот сын, не окончив Пажеского корпуса, чтобы прокормить мать, поступил на службу в полицию и в качестве станового нанимал в бывшем имении своего отца квартиру во флигеле — бывшей конторе. Здесь и умерла у него на руках его мать. По иронии судьбы, имением владел и в главном доме жил в это время бывший норовский управляющий, выигравший будто 200 тысяч рублей в лотерею. Но самая любимая из тетушек была для нас, детей, тетя Лидия Небольсина, ездившая с нами до своего замужества в Карлсбад. Она с мужем жила в собственном доме на Пречистенском бульваре. Они были бездетны. Дом их отличался светом, чистотой, уютом, полы блестели как зеркала; это было тем более удивительно, что у них всегда было несколько комнатных собак, за которыми наблюдала горничная тети по прозвищу «Додо». Очень мы любили бывать у них, особенно весной, и, лежа на открытом окошке, слушать музыку на бульваре. Нас там очень баловали: возвращались мы от них всегда нагруженные подарками и сластями.
Воспоминания об этом периоде моего детства были бы неполны, если не упомянуть о нашем докторе Станиславе Онуфриевиче Мандзелевиче, которого мы на нашем детском языке прозвали «Пластырек». Он был маленького роста, с кругленьким брюшком, всегда в темно-серой паре сюртучного покроя, совершенно бритый; пахло от него сигарой, с которой он не расставался даже когда она тухла, тогда он ее дожевывал. Вызывался он при всяком, даже пустяшном заболевании; мы заранее знали, что он пропишет: если болело горло, что со мной случалось часто, намазывали гланды мазью с дигиталисом и обматывали горло ватой. До сих пор вспоминаю с отвращением ощущение жирной мажущейся ваты кругом шеи, которой тогда старался я не ворочать. Когда бывал жар, что определялось им на ощупь (градусников еще не было), назначалась красная микстура acidum muriaticum, подслащенная малиновым сиропом. Она была столь противна, что надолго отбила у меня охоту есть малиновое варенье. Мы, дети, очень любили нашего старичка, часто целовали его маковку, когда он нагибался нас выслушивать. Умер он уже когда я был офицером. Родители мои, пока он был жив, всегда к нему обращались.
Точно определить не берусь, в каких годах начинаю вспоминать жизнь в Сергиевском. Помню, что моя сестра Варя уже училась, а я только слегка занимался. Кроме гувернантки, нашей Тагочки, были англичанка miss Schow и учитель
51
русского языка Смирнов, по бедности своей носивший довольно обтрепанное пальто неопределенного цвета, которое мы называли «холерным». Для уроков музыки был ученик консерватории по фортепьянному классу Петр Андреевич Щуровский, а для танцев — бывший учитель моей матери Николай Валерианович Сарти. Последний, в виде сюрприза для Мама́, выучил мою сестру цыганскому танцу с ложками, а меня — «Matelotte». Кроме того, мы вдвоем исполняли «pas de deux». Танцевали мы в соответствующих костюмах под аккомпанемент Щуровского. Такое обилие педагогии не обошлось без романа: Щуровский сделал предложение Тагочке и, когда получил от моей матери отказ, закутил вместе с Сарти. Помню, что последствием этого было увольнение Сарти и кучера Ивана; но как и в какой степени был замешан кучер, мы никогда не узнали. На нас с сестрой эта история оставила щемящее жалостливое чувство к Сарти, уже глубокому старику, и к тому же совершенно нищему.
Летом было особенно весело в Сергиевском. Моя комната была круглая, рядом со спальней моих родителей. Сестра жила неподалеку в большой комнате вместе с Тагочкой. За мной почему-то ходила Catherine Picard, горничная-швейцарка при ключах моей матери. Она была веселая, но я ее ненавидел, потому что на ее обязанности было обливать меня по утрам холодной водой. Занимались мы лишь до 12 часов, после чего играли в саду, где у каждого из нас был свой плетневый дом с окнами и дверями, и мы изображали разных Робинзонов. Но самое веселое было, когда за обедом (обедали мы в 2 часа) Папа́, переглянувшись с Мама́, подзывал Афанасия и отдавал приказание готовить чай в таком-то лесу, причем тут же обсуждалось, кто, как и в чем поедет. Мне иногда разрешалось ехать на Гремолиусе верхом. Это была маленькая вороная лошадь, подаренная мне дедушкой, с седлом и беговыми дрожками, и названная мною в честь отцовской лошади, о которой я упоминал выше. Отец после обеда ложился отдыхать, а мы, дети, с восторгом следили за приготовлением к отъезду. Сначала подавалась к подъезду телега, на которую Афанасий со своим помощником нагружал посуду и разные припасы и отъезжал. Часам к пяти подавались экипажи и во главе их большая линейка на дрожинах с особым приступком на левой стороне рядом с козлами — место моей матери. Когда все было готово и набрано достаточное количество теплого платья для нас, детей, все рассаживались, и отец давал указание, куда ехать, а моя мать предупреждала кучера, где на какой горе остановиться, чтоб ей выйти и опасное место пройти пешком. Приехавши на место, которое отыскивалось по дыму от костра, находили все уже приготовленным, оставалось лишь снять подушки с экипажей и разбросать их кругом расстеленной на траве скатерти. Чего-чего на ней только не было расставлено, и как мы завидовали большим, которые всего брали вволю, а нам давали, и то не все, в ограниченном количестве. К вечеру возвращались мы набегавшись, усталые, и как сладко дремалось в линейке под звон поддужного колокольчика!
Пикники эти особенно часто устраивались, когда приезжал мой крестный отец Ахлестышев, который их очень любил. Но ввиду его почтенного возраста в лес привозили складной стол и стулья, и однажды мы с сестрой почти час сидели под этим столом, спасаясь от дождя. Для Д. Д. Ахлестышева вместо линейки
52
подавалась допотопная коляска с фордэком под названием «рыдван»; покойное колыхание этой коляски еще лучше убаюкивало меня при возвращении.
Когда приезжал дедушка Волконский, пикники устраивались другого рода. Тогда паром на реке преобразовывался в беседку, украшался срубленными деревьями, расстилался ковер, ставились стол, стулья, кресла, и в этой импровизированной столовой пили вечерний чай, пока паром плыл вниз по течению реки до границы имения — верст 5, где ожидали нас лошади и экипажи. На время этих пикников прекращался перевоз, так как мы брали паром, и почему-то никто никогда не решался заявить претензии.
Помню один не приезд, а оригинальный отъезд дедушки; в этот раз он был один, без бабушки, оставшейся в Радушине или Чичкине. Накануне отъезда за обедом дедушка Волконский стал упрекать моего отца в отсутствии предприимчивости и тут же заявил, что он покажет, как нужно жить, и поедет к «княгине Марии Дмитриевне» (бабушке) не обычным путем, проторенной дорожкой, на почтовых, через Москву, а на лодке, по Оке, до самой Рязани. Во исполнение его прихоти послали буфетного мужика Семена Степанова Рогозина (впоследствии моего верного камердинера, почти друга) снаряжать большую лодку, на которой должны были разбить офицерскую походную палатку моего отца. На следующий день мы все проводили дедушку на реку; пустился он в путь в сопровождении своего камердинера, двух лодочников и Семена. Очень мы с сестрой ему завидовали, до того казалось уютным внутреннее устройство палатки, где стояли походная кровать, стол и кресло. Просили мы позволения проводить дедушку хотя бы до границы имения, в чем получили резкий отказ от матери с многозначительным обдергиванием, что означало: не сметь приставать при дедушке. На следующий день или через день — не помню — дедушка вернулся к нам на простой телеге из Алексина (25 верст вниз по течению). Оказалось, его настигла гроза, лодку начало сильно качать, а дедушка и воды побаивался и к тому же подвержен был морской болезни, почему предпочел вернуться и от нас уже ехать прежним обычным способом на лошадях.
Как мы, дети, любили переезды в Москву на лошадях! Железной дороги, даже Курской, еще не было. Езжали мы, бывало, в большом дормезе, который я уже описывал; останавливались где-нибудь в лесу на большой дороге, вытаскивали из дормеза стол, стулья, подушки, и устраивался неожиданный чай вдали от станции, куда экипажи ехали менять лошадей. Помню, как сладко спалось на устроенной в дормезе кроватке: моя мать сидит напротив, пропустив руку в висячий локотник, читает книгу, освещенную внутренним фонариком. В открытое окно вместе с ночной прохладой и лесными запахами влетают ночные бабочки и бьются об этот фонарь, а мягкое поскрипывание рессор и мерный топот лошадей убаюкивают.
Зимой 1868—1869 и 1869—1870 годов мы жили в Москве на Подновинском (так назывался тогда теперешний Новинский бульвар) в доме Ахлестышева. Я уже учился по-настоящему. Из учителей помню математика Щеглова, учителя по всем остальным предметам Блонштейна, переехавшего с нами потом в деревню, учительницу музыки Ольгу Владимировну (фамилии не помню) и крупную личность законоучителя протоиерея Якова Даниловича Головина,
53
профессора Петровско-Разумовской академии, куда мы ездили к нему исповедоваться. Там же у главного садовника и профессора no садоводству жила моя бывшая гувернантка Эммочка. Жила она у него не только в качестве гувернантки, но, скорее, как мать его детей, лишившихся рано своей родной матери. Помню с волнением мое первое свидание там с Эммочкой: она плакала, обнимала меня, потом позвала отца этих детей и при мне сказала: «Я свое обещание сдержу, Ваших детей никогда не покину, но любить их так, как моего Мимуленьку (и она показала на меня), — не смогу». И за такое обещание он ее благодарил; в его доме она и умерла.

Четыре поколения Осоргиных: Е. Н. и М. М. Осоргины с сыновьями Сергеем и
Михаилом, Мария Алексеевна, урожд. Волконская, ее мать Мария Дмитриевна
Волконская и Михаил Михайлович Осоргин (ст.) 1890. Частное собрание, Париж
От зимней нашей жизни в доме Ахлестышева самое яркое воспоминание — это балаганы, устраивавшиеся на Масленице и на Пасхе по всему Подновинскому. К сожалению, они строились к нам затылком, так что выход для привлечения публики всей труппы актеров на балкон и их обычные при этом шутовские выпады мы не могли видеть. Все же к концу Масленицы по музыке и выстрелам мы могли довольно точно определить, какая часть представления идет в каком балагане, а по одному разу на Масленице и Пасхе нам разрешалось по собственному выбору, под охраной выездного лакея, со всеми гувернантками, посетить один балаган. Я всегда стремился к тому, где шла арлекинада, но это было столь шаблонное представление, повторявшееся из года в год, что со мной часто спорили и не соглашались.
54
Летом 1870 года до переезда в Сергиевское поехали мы всей семьей к Бенкендорфам. По железной дороге доехали до Рославля, а оттуда в их дормезе по шоссе в город Чириков. В Чирикове у дяди Сережи была своя постоянная квартира, там нас ожидали более легкие экипажи для переезда — около 30 верст проселком, по вековым лесам, где свободно разгуливали медведи, — в Молостовку.
Это было особенно радостное и счастливое время. Все родственники нашего дяди считались как бы нашими родственниками, так что детей, как бы наших кузенов, было много. Старшими были две девочки Муромцевы — Лизина и Лина (Лизина вышла потом замуж за Пихельаура, а Лина — за князя Абхази), много старше меня, но, как я вспоминаю, заставившие биться мое 9-летнее сердце. Обе были высокие, стройные, с длинными волосами: Лизина — темная брюнетка, а Лина — светлая блондинка. Мальчик — Митя Кропоткин, старше меня, перед которым я млел. Он был коренастый, курносый, весь в веснушках, большой шалун, почему мою любовь к нему моя мать не очень поощряла. Младшие братья и сестры дяди Сережи были сами еще совсем молодые, звали мы их по именам: Андрюша, Ольга, Даша и Саша (Александр), чем очень гордились перед двоюродной сестрой Лизочкой, дочерью дяди Сережи, которая их всех звала «дядя» и «тетя». Попали мы в эту компанию, когда из Молостовки переехали все вместе гостить к родителям дяди Сережи в Пропойск.
Пропойск поражал своей грандиозностью. Самый дворец к тому времени сгорел, я его не знал. Остался флигель на крутом берегу, как бы обрыве, над Сожем. Флигель был очень большой, со старинной мебелью. В мою детскую память врезалась одна комната с золоченой мебелью, золотыми зеркалами и широкими багетами по стенам, тоже золочеными. Как ни был велик дом, все же не было достаточно большой комнаты для обеда всей семьи и приезжавших родственников, почему старик Александр Иванович построил большую стеклянную галерею, в которой все и обедали. Кругом обеденного стола проложено было что-то похожее на деревянные рельсы, по ним человек катил вагонетку, на которую ставилось блюдо, подвозившееся таким образом к каждому сидевшему за столом; это всегда нас очень забавляло. Вообще в обычаях стариков Бенкендорфов было много оригинального. Когда они жили в своей подмосковной Виноградовке, в определенный час подавался к подъезду большой экипаж, вроде омнибуса, для желающих ехать в Москву (от станции Химки). Раздавалось три звонка, и после последнего экипаж отъезжал, не ожидая ни минуты, хотя бы в дверях показался член семьи, замешкавшийся почему-либо. Таким образом все приучались к аккуратности.
В этот наш приезд был устроен в честь Александра Ивановича Бенкендорфа детский спектакль в галерее, где была устроена настоящая большая сцена, а обеды перенесены на воздух и на балкон дома. В этом спектакле принимали участие все внуки Александра Ивановича, в том числе и мы с сестрой, а из больших его дочерей — Ольга и Даша во французской пьесе «Fugitif», а в русской пьесе — его зятья князь Николай Дмитриевич Кропоткин (мы его звали дядя Триколаша) и Петр Петрович Муромцев. Первый — необъятной, уродливой толщины — играл роль швейцара, а второй — худой и рыжий — очень удачно без грима изображал английского лорда. Обе пьесы были с пением: дуэты, ансамбли и хоры
55
чередовались один за другим. Режиссировала старшая сестра дяди — Елизавета, старая дева, обладавшая громадным голосом и имевшая репутацию законченной певицы. Помню ее коронную арию Grace из «Роберта Диавола» Мейербера. В пьесе «Fugitif» моя сестра, тогда 12 лет, играла одну из главных ролей и премило пела. За этот спектакль я был окончательно покорен Лизиной и Линой, игравших роли мальчиков и прелестных в своих костюмах школьников. До сих пор звучат у меня в ушах мотивы как отдельных арий, так и в особенности хоров этой пьесы, в которых и я участвовал, так как по малолетству я был допущен лишь участником толпы на сцене. Моей сверстнице княжне Кропоткиной выпала роль обезьяны. Она, зашитая в кожу, с длинным хвостом, бегала по сцене, а за кулисами бросалась на малышей и пугала нас. Как я ей завидовал!
Эти шумные увеселения в Пропойске сменились по возвращении в Молостовку более спокойной жизнью, с ежедневными уроками, но и с большой прелестью от ласки и баловства дяди Сережи. Тетя Маша нас очень любила, но она была очень сдержанная, импонировала, и мы ее в детстве очень стеснялись. Слышу, как сейчас, скрип от открываемых поутру ставень, крик лягушек на озере, вижу яркое солнце, широко, ослепительно врывающееся по открытии ставень в комнаты. Поневоле глаза зажмуришь. Дом был настолько невелик, что вся жизнь протекала на террасе, скорее, даже не на террасе, а на площадке под крышей вдоль дома, обсаженной столетними липами. Утром здесь пили кофе, который каждому подавался отдельно в маленьких ярко вычищенных медных круглых кофейниках с выштампованной на них рябью, и при каждом приборе два плоских черных глянцевитых молочника с запеченными сливками. На столе стоит гора горячего дымящегося хлеба, выпекаемого каждое утро, масло в красивых формах, сыры и яйца на все вкусы — и крутые, и в мешочке, и всмятку. Кругом чирикают воробьи, один из них, прирученный, на зов «Ванька! Ванька!» прилетал, садился на плечо и клевал из рук крошки.
Все собирались одновременно. Одна тетя Маша вставала позже и пила кофе у себя. Кроме наших гувернанток и Платона Евграфовича — неразлучного с нами спутника — за столом сидела Miss Warwick, которую Платон Евграфович называл за спиной: «Это, батюшка-отец, моя тетка!». Она была безобразна, чуть ли не столетняя старуха, американка, воспитательница еще сестер дяди, совершенно выжившая из ума, когда говорили о современной жизни; зато по познаниям научным — настоящая ходячая энциклопедия. Ее комната и комната Платона Евграфовича окнами выходили в оранжерею, причем все благоухание последней не могло победить и заглушить запах ее комнаты, в которой проживало всегда много всякого зверья, преимущественно больного, ободранного или увечного. Из таких ее питомцев помню хромого горластого петуха, которого она звала «Captain», и ободранную, на трех ногах, кошку. Платон Евграфович всегда дразнил свою тетку, а она начинала его бранить по-английски, причем от возбуждения плевалась на весь стол. Нам Miss Warwick давала уроки английского языка, всегда для нас очень тягостные именно из-за ее вони и нечистоплотных привычек. Тут же за столом сидела гувернантка моей двоюродной сестры Лизочки Бенкендорф M-lle Gendre, швейцарка, которую мы звали уменьшительным Gendrette, и еще Marie Christ; Gendrette была подруга нашей Тагочки: обе из Женевы и сверстницы.
56
Она была очень добрая, но, к сожалению, глухая и потому общение с ней было довольно трудное. Marie Christ, молодая, просто подруга Лизочки, и взята, главным образом, для практики языка. Жизнь наша в Молостовке проходила по расписанию, разнообразясь катанием по озеру, где при нас отец мой с дядей охотились на уток, пикниками на целый день на дальнюю водяную мельницу, где устраивалась ловля раков, и, наконец, посещением местечка, в котором можно было у евреев купить все, что вздумается, как в любом городе.
Под конец нашего пребывания там заболела Тагочка. Откладывать отъезд было нельзя; были уже выписаны лошади на станцию Ивановскую (ныне Тарусскую) Курской дороги для следования в Сергиевское, и мои родители оставили Тагочку на попечении Бенкендорфов; у нее оказался потом брюшной тиф. По пути в вагоне и сестра моя заболела. Моя мать забила тревогу и потребовала ехать прямо в Москву. Так мы в Сергиевское и не попали. С грустью я посмотрел на наш уютный дормез, ожидавший нас у подъезда станции, успел расцеловаться с Афанасием, выехавшим нас встречать, позавидовал сеттеру моего отца Чуплику, которого высадили из вагона и передали Афанасию со всеми ружьями и охотничьими принадлежностями для отвоза в Сергиевское, и покатили мы среди лета в пыльную шумную Москву, на нашу зимнюю квартиру, где нас совсем не ждали. Окна были замазаны белым, мебель в чехлах, жара невыносимая.
У моей сестры оказался также брюшной тиф. И для меня это последнее посещение Молостовки оказалось неблагоприятным: через год выяснилось, что я захватил неприятную изнурительную болезнь — солитер, от которой меня лечили несколько лет.
Сестру мою лечил, понятно, наш Пластырек, консультировал Варвинский. Болезнь была тяжелая, все внимание было обращено на мою сестру, и я был совершенно заброшен. Не помню даже, кто при мне был за отсутствием Тагочки.
Лето было жаркое. Я почти весь день проводил в саду Д. Д. Ахлестышева, где мне был отведен угол для копания гряд. Но что это было сравнительно с простором Молостовки и взамен прелестей Сергиевского?
В этот период жизни я испытал первое детское горе от несправедливости, оно было столь живо и ярко, что и теперь, в старости, я его помню. Варя после кризиса стала выздоравливать, и я, желая ее обрадовать, купил, как сейчас помню, в маленьком часовом магазине на Арбате большой бронзовый будильник за 6 рублей — мои последние гроши. Мне, не имевшему тогда часов, это казалось особенно прельстительным и верхом совершенства. На Варю же мой подарок не произвел особого впечатления, и она отбросила его в сторону. Когда я на это обиделся, моя мать меня же прогнала из комнаты с запрещением входить к сестре. Долго я после этого плакал в одиночестве и никто не знал о моем горе...
Когда доктора позволили перевезти Варю, мы переехали на дачу близ Сокольников, на Ширяевом поле. Сестра целыми днями лежала на балконе, а я играл или в палисаднике или на дворе с дворовыми собаками, которых было много. В то время Франко-Прусская война была в разгаре. В нашей семье все симпатии были на стороне Наполеона III, имена Trochu, Mac-Mahon, Bazin и т. д. были мне особенно милы, почему их именами я и назвал своих собак. Отец мой часто отсутствовал, ездил по делам в Сергиевское. Говорили, что жутко жить на даче;
57
дачники стали уже разъезжаться, стало пустеть, а кругом, рассказывали, шли воровства и грабежи. Правда, что поздно вечером часто раздавались крики: «Караул!». Помню общий испуг, когда однажды вечером, в полную темноту, неожиданно раздался стук в дверь террасы, и мы увидали прилипшее к стеклу окна лицо с мокрыми волосами. Оказалось это простее простого и совсем не страшное: мирный прохожий, быть может и обыватель, сбился с дороги, промок под дождем и постучал на огонек, надеясь получить нужные указания. После этого я долго не мог заснуть в своей кровати, и каждый вечер, когда уложив меня, от меня уходили и оставляли одного, я мучительно боялся. К счастью, мы скоро и переехали. Мою сестру со всякими предосторожностями перевезли, наконец, в Сергиевское, где мы и прожили безвыездно три года — с осени 1870 года до осени 1873 года.
Эти три года жизни в Сергиевском были, пожалуй, самыми счастливыми годами детства. С нами же поселились Жемчужниковы (младшая сестра моего отца с мужем и сыном). Сын их Поля (Аполлинарий) был всего на три года меня моложе.
Первую зиму с нами жили и Бенкендорфы. Дядя Сережа один год слушал курс медицинского факультета в Дерпте (Юрьеве), считался опытным по вопросам медицины и компетентным по части гигиены. Моя мать радовалась, что моя сестра будет после ее серьезной болезни под наблюдением не только ее самой, но и дяди Сережи, который внушал ей такое доверие, что при нем она всегда была спокойнее.
На зиму половина дома закрывалась. На оставшейся, отапливаемой, было довольно тесно, понятно, относительно, но зато было и очень уютно. Будили нас в 7 с половиной часов утра, в 9, по звонку, начинались уроки, которые продолжались до 12 часов. С 12 часов мы гуляли до двух, затем обедали и в 3 с половиной садились за вечерние уроки и за приготовление их; продолжалось это до 7 часов, когда подавали чай, после которого до 9 часов устраивались общие игры, иногда танцы. Когда в них принимали участие большие, особенно дядя Митя Жемчужников, было особенно весело.
Учителями нашими были: Тагочка, преподававшая французский язык, Исидор Григорьевич Блонштейн — по русскому языку, арифметике, истории и географии, местный наш священник Дмитрий Васильевич Извеков — по Закону Божьему, Анна Ивановна Кандриан, мать нашего сыровара, — по немецкому языку, а по воскресеньям приезжал из Калуги Иван Михайлович Дербенев, преподаватель рисования и черчения. Уроки музыки моей сестре давала моя мать. Меня от этого предмета отставили, мой отец говорил, что это не мужское дело, а моя мать не настаивала, находя, что у меня никаких способностей нет. Впоследствии мне пришлось уже самоучкой выучиться играть на фортепьяно, до того я любил музыку и стремился, хоть для себя, разбирать все, что попадалось мне под руку, чтобы следить за всеми вновь появлявшимися операми.
Исидор Григорьевич поселил у кого-то из духовенства на Поповке особу, которую он выдавал за свою сестру. У нее были очаровательные левретки, которых она приводила к нам по воскресеньям. Звали ее Анна Ардалионовна, она про себя рассказывала, что она с Исидором Григорьевичем от той же матери,
58
но разных отцов. Она давала моей сестре уроки рукоделья. Надо же было быть такими доверчивыми и чистыми, как мои родители, чтобы поверить этому родству. Впоследствии, когда Тагочка вышла замуж за Исидора Григорьевича, выяснилось, что эта Анна Ардалионовна была его содержанкой.
Весной производился наш экзамен в присутствии родителей, в торжественной обстановке, по билетам, после чего давался нам полный вакант недели на две. Летом занятия были облегченные, без всяких приготовлений уроков.
Строй жизни нарушался во время болезни моих родителей, то есть, главным образом, матери, часто страдавшей жестокими желчными приступами. Отец мой, как помню, страдал только мигренями, длившимися три дня, во время которых все в доме ходили на цыпочках.
Мой отец в наше воспитание не входил. Помню, впрочем, что однажды он меня наказал за детскую шалость, получившую широкую огласку. Совпало это с отъездом Тагочки, уехавшей на месяц к себе в Швейцарию, почему за нами не было неотступного надзора. Мне было лет десять. Случилась в это время в нашей церкви покража, в которой народная молва обвиняла барщевского крестьянина Коновалова. Все разговоры об этом меня очень взволновали, и я начал сообщать дяде Мите Жемчужникову свои предположения. Детское мое воображение работало, и я уже представлял себе целую шайку, следящую за нашим домом. Дядя Митя вместо того, чтобы меня осадить, поощрял меня и поручил сообщать ему все, что мне покажется подозрительным. Я увлекся своей ролью сыщика и начал придумывать и разбрасывать в саду угрожающие письма, которые потом сам находил и приносил дяде. Первое сомнение в моей правдивости появилось у него после того, как я таинственно сообщил ему, что видел в поле за садом верхового, он же следов там не нашел, а в поле была посеяна рожь. Выдал же меня окончательно мой почерк на разбросанных записках: я по глупости и не старался его видоизменить. Моя мать, как только ей, наконец, показали эти угрожающие письма, которые долго от нее скрывали, боясь ее напугать, сейчас же узнала мой почерк и заставила меня во всем повиниться. Положение моего отца было очень неприятное, так как во все это дело была замешана полиция, которой было сообщено обо всем творящемся у нас, и были даже командированы какие-то чины для охраны усадьбы. Вся эта история сделала на меня сильное впечатление: я был в ужасе, когда понял, как я запутался сам и других вмешал в глупую историю с моими выдумками. С тех пор я во всю свою жизнь боялся не только лжи, но малейшей неправдивости. С этого дня отец мой больше стал мной заниматься. Каждый вечер, когда я был в постели, он приходил и требовал, чтобы я ему рассказывал весь свой день, все мои поступки. Насколько мне всегда легко бывало с матерью, настолько я чуждался отца, и с этих пор еще более; я стал его бояться, почему очень обрадовался, когда он прекратил свои вечерние посещения и требования от меня как бы исповеди. Мой отец неоднократно в моем присутствии упрекал мою мать, что я слишком изнежен и нуждаюсь в мужском влиянии, почему в моем воображении родилось представление, что все, касающееся мужчин, жестко и неприятно.
Крупным событием в эти годы была серьезная болезнь тети Сони Жемчужниковой. Дядя был в отсутствии, когда она заболела. Как только она почувствовала
59
первое недомогание, она попросила моего отца, чтобы ее перевели на дальнюю половину дома и изолировали бы ее. Такое ее желание казалось тем более странным, что она отличалась всегда полным отсутствием мнительности, недомогание же казалось совсем пустяшным. Ее отговаривали, но она настаивала, утверждая, что у нее будет оспа. Наконец, чтобы добиться своего, тетя Соня рассказала, что ей во сне явился старец и объявил ей, что Господь посылает ей испытание — серьезную болезнь, и пусть она сама выберет: тиф или оспу. Она во сне вскрикнула: «Только не оспу, чтобы не быть навеки обезображенной!». На это старец ответил: «За то, что ты боишься потерять телесную красоту, Бог пошлет тебе именно оспу, но если ты с терпением будешь переносить страдания, ты не будешь обезображена»... Все это сбылось точка в точку: у тети Сони была оспа, и, как говорили, в очень жестокой форме. Дядя, выписанный телеграммой, тотчас вернулся и на 6 недель заперся с тетей в дальних — генеральских — комнатах с преданной горничной тети, красивой старухой Агафией. Мы ходили под их окна во время гулянья и переговаривались жестами через двойные вставленные рамы, так как была осень. Тетю несколько раз причащали и соборовали. Надежды на ее выздоровление было мало, а в конце концов она не только выздоровела, но, как старец в сонном видении обещал, на ее лице не осталось ни одной отметины-рябинки.
Соседей у нас было мало, да и то моя мать с большинством не была знакома. Видались мы чаще с семьей Полторацких и раза два были у нас дети Лосевы. У Полторацких были дети, наши сверстники Матя (Мария) и Аника (Анна), сыновья же — Митя, Сережа и Миша — были значительно моложе. Приезжали они и мы к ним дня на три, и тогда все уроки прекращались: весь день было сплошное веселье. Очень мы с сестрой любили ездить к ним за 18 верст в село Авчурино. Это было старинное родовое и в мое время уже разоренное имение. Дом, в котором жила семья, раньше был флигелем для приезжающих, самый же дом сгорел в год моего рождения. В этом флигеле было комнат 30, но часть из них была закрыта за ветхостью потолков и полов, все стены коридоров и лестниц (флигель был двухэтажный с башней на одном конце) были заставлены шкафами с остатками громадной библиотеки известного библиофила Сергея Дмитриевича Полторацкого, деда наших сверстников; самую же библиотеку он пожертвовал в Румянцевский музей.
Семья Полторацких была очень интересной, развитой и образованной. Она состояла из отца упомянутых наших сверстников Дмитрия Сергеевича, его жены Ольги Михайловны (урожденной Мезенцевой), матери его Марии Петровны (урожденной Киндяковой) и его сестер Марии, Анны и Веры (последняя вышла потом замуж за Киселева). Были еще замужние сестры: Александра — за Сомовым и Наталья — за своим двоюродным братом, вдовцом Александром Леонтьевичем Гурко (первым браком он был женат на той Лярской, за которой в молодости ухаживал мой отец). Дмитрий Сергеевич, блестящий кавалергардский офицер, вдруг неожиданно получил словесное повеление императора Николая Павловича понаблюдать и успокоить свою мать и сестер, увлекшихся каким-то модным великосветским религиозным учением и потому отправленных по высочайшему повелению на жительство в деревню. В силу этого Дмитрий Сергеевич
60
очутился совершенно еще молодым в Авчурине, женился там на бедной родственнице, воспитаннице своей матери, скинул свой блестящий мундир и облекся в русскую рубашку и поддевку, которую уже больше никогда не снимал. Увлекся он хозяйством и пытался завести интенсивную культуру. Выписал для этого сельскохозяйственные машины, бывшие в то время в России новинкой, ввел целый ряд улучшений по части скота, лошадей, семян, что при отсутствии оборотного капитала привело его к разорению. Как я уже сказал, семья была высокообразованной; живопись, рисование и музыка были обычным занятием сестер Дмитрия Сергеевича, и они вместе с тем были единственными учительницами своих племянников и племянниц.
Наше пребывание там было всегда и веселое и интересное. Само имение связано было с несколькими историческими преданиями. Был каменный памятник вблизи старого дуба Мафусаилова возраста; рассказывали, что этим отмечено было то место, где императрица Екатерина II при проезде изволила отдыхать и чай кушать. Другое место, также обозначенное каменной тумбой, показывалось как место борозды, проведенной императором Александром II в бытность его наследником, новым плугом, изобретенным Дмитрием Сергеевичем Полторацким, получившим впоследствии большое распространение в нашей местности под названием «плуг Полторацкого» и удостоенным золотой медали на сельскохозяйственной выставке.
Много мы там катались по замечательно красивым окрестностям. Авчурино, как и наше Сергиевское, расположено на самом берегу Оки, но между усадьбой и рекой на полусклоне горы — два больших пруда с островком, что еще более оживляет местность. К усадьбе ведет широкая дубовая аллея, прямая как стрела; тянется она версты на полторы и в середине ее красивый чугунный мост с литыми перилами с гербами Полторацких. С этой аллеи открывается вид на Калугу с ее 36-ю златоглавыми церквами; звон церквей ясно слышится на усадьбе. Рядом с домом церковь, небольшая, но очень уютная; под ней фамильный склеп.
Накатавшись, набегавшись, наигравшись за день, вечером собирались мы, все дети, в общей детской, пили там особо вкусное топленое молоко и слушали рассказы старой нянюшки Полторацких, высокой красивой старухи, одетой всегда в юбку и кофту серого цвета и с черным шелковым платком на голове, повязанным в виде повойника. В церкви у них вся семья пела на клиросе, Дмитрий Сергеевич читал Апостола, а сыновья его прислуживали в алтаре и выходили со свечами. Мы с сестрой всегда завидовали обычаю, установленному в Авчуринской церкви, громогласно поминать новорожденного или именинника во время большого выхода. Ввел этот порядок их диакон Раич. Произносил он это поминание после поминания Синода и епархиального архиерея. Этот Раич, на редкость красивый человек, был к тому же и очень умный. Он устроил в Авчурине частную сельскую школу с общежитием и привлек для преподавания почти всю семью Полторацких. Школа эта была в то время исключительным явлением; выходили из нее школьники сравнительно довольно развитые. На почве преподавания Мария Сергеевна Полторацкая очень сблизилась с Раичем и положительно до конца своей жизни была к нему неравнодушна. Она всегда о нем заботилась и кончила тем, что подарила
61
ему хутор с порядочным куском земли, выделенным ею из имения ее отца Сергея Дмитриевича, которым она управляла по доверенности.
К нам в Сергиевское Дмитрий Сергеевич приезжал часто один, без своих. Он был мировым судьей нашего участка и иногда разборы дел назначал у нас в конторе; тогда он застревал на неделю, на две. Он был страстный любитель машин, интересовался всем в этой области. В Сергиевском, кроме винокуренного завода, была паровая мельница; машин было достаточно для любознательного изучения для такого любителя, как Дмитрий Сергеевич. Целыми днями он возился с этими машинами, изучал, рекомендовал всякие приспособления, улучшения, подолгу разговаривал с машинистом. А по вечерам занимался музыкой, певал с моим отцом дуэты: он — красивым тенором, а отец мой — низким басом. Хорошо помню и теперь еще мог бы напеть дуэт, исполненный ими из оперетки «Voyage en Chine».
He помню, в каком именно году приехали на Рождество дедушка и бабушка Волконские. Ввиду их приезда весь дом был открыт и отапливался. Остановились они, как всегда, в «архиерейской» (впоследствии — моем кабинете), где ясеневой перегородкой комната делилась на две части, спальню и кабинет, а в соседней «васильковой» поместилась горничная бабушки. Прожили они довольно долго.
Захотел дедушка нас по-своему повеселить и решил 6-го января устроить сюрпризом для всех детский праздник. Приглашены были Полторацкие и Лосевы с детьми и некоторые соседние помещики, уже без детей. В три часа был подан нам, детям, отдельно шоколад с пирогом под названием «galette des rois». В этот пирог запечен был боб, и тот, кому он достанется, объявлялся королем или королевой и имел право выбирать себе королеву или короля. Их обязаны были все слушаться и исполнять их прихоти. Боб достался Анике Полторацкой, которая выбрала меня королем, и мы вдоволь наигрались. Но это было только началом веселья. Часов в шесть нам велено было переодеться, и каждый из нас нашел на своей постели костюм. Мне достался костюм поваренка. Когда мы все были одеты, дедушка повел нас в столовую, и велико было наше удивление очутиться в саду! Углы были заставлены группами деревьев в кадках — и лимонные, и апельсиновые деревья (наши оранжереи славились декоративными растениями), спереди кусты роз и между ними целая клумба цветов в горшках. По стенам были разбиты четыре палатки в виде ярмарочных магазинов: были булочная, цветочный магазин, кафе-ресторан и кондитерская. Наши костюмы определяли, в каком магазине надлежало нам быть. Я был помощником продавщицы в кафе-ресторане, а моя сестра — булочница: у нее на стойке стояли два гигантских пирога. Когда она, по требованию дедушки, их разрезала, оттуда вылетело несколько живых птиц, которые, летая по комнате, еще более поддерживали иллюзию сада. Большие все ходили и покупали у нас, нам тоже позволено было лакомиться. Всем было весело и все благодарили дедушку. Митя Полторацкий, тогда лет восьми, не больше, ходил с лотком и продавал папиросы, выкрикивая очень остроумно разные прибаутки. Большой баловщик был дедушка, и его приезды для нас были всегда долгожданным праздником.
62
Хорошо помню в детстве нашего ближайшего соседа Александра Семеновича Раевского, владельца Тимофеевки. Он был старый холостяк, высокий старик, очень красивый, но, к сожалению, с постоянным тиком, который его очень портил. Когда мы с сестрой прочли «Войну и мир» Толстого, нам таким представлялся дядя Наташи Ростовой. У А. С. Раевского были красивые незаконные дети от менявшихся в его доме экономок. При нем был старый крепостной, которого все, даже и он сам, звали по батюшке Иван Иванов (впоследствии он был у меня ключником). Ездил Раевский только верхом на доморощенном иноходце, другого способа передвижения он не признавал. Был он страстный любитель певчих птиц и считался по этой части знатоком. Для него ничего не стоило съездить верхом в Калугу (27—30 верст) на часок-другой послушать в трактире какого-нибудь хваленого соловья. Он всегда ездил с ружьем и по дороге, как отличный стрелок, стрелял, не слезая с лошади, попадавшуюся случайную дичь. Каждое воскресенье он приезжал к нам к обедне (он был одного прихода с нами). Оставлял лошадь и ружье на усадьбе, отстаивал всю обедню, забившись где-нибудь в угол, а после обедни со всеми нами ехал к нам. Хотя церковь совсем близко от дома, мы всегда ездили туда в нескольких экипажах. Дома Александр Семенович за кофе сообщал моему отцу о всех недочетах или промахах нашего хозяйства, о которых слышал в течение истекшей недели, тут же подтрунивал над какой-нибудь охотничьей неудачей отца, а после кофе играл с моим отцом в бильярд (карамбол). Последняя партия перед обедом иногда устраивалась общая, даже с нами, детьми, тогда играли в два шара «à la guerre», маркером при этом всегда был Платон Евграфович. К Александру Семеновичу мы всегда ездили всей семьей раз в лето, во время сбора вишен, которыми славилась Тимофеевка. Устраивал он нам чай со всевозможными угощениями, главное — с вишнями всех сортов и во всех придуманных кулинарией видах; стол был накрыт на площадке перед домом под развесистой яблоней, откуда чудный вид на Оку и необъятный горизонт. Обычно перед отъездом он приводил нас с сестрой в свой темный кабинет, где можно было видеть через стекла между окном и ставней целую колонию летучих мышей разных размеров, от почтенного предка до новорожденного включительно. При нас же он особо приспособленным засовом открывал из комнаты ставню, и летучие мыши улетали. Сознаюсь, что это доставляло мне мало удовольствия: я питал к этим животным гадливое чувство отвращения. Обыкновенно старик Раевский (он был лет на десять старше моего отца) провожал нас верхом, иногда до самого дома, где, бывало, и засидится, но никогда не оставался ночевать.
На Святках нам устраивалась сюрпризом елка в разные дни и в разных комнатах, так что для нас елка была всегда неожиданностью. Хотя нас, детей, было всего трое: сестра моя, двоюродный брат Поля Жемчужников и я, моя мать всегда умела придать этому событию много веселья и, главное, оживления, в чем ей очень способствовал, когда бывал в духе, дядя Митя.
Я еще очень любил осенний период охот моего отца, потому что меня всегда на одну из них брали. Помню одну облаву на волков, во время которой я стоял на номере с дядей Сережей Бенкендорфом; при мне он и соседний стрелок
63

Усадьба Сергиевское. Одна из двух башен парадного двора.
Частное собрание, Париж
убили двух волков. На охоту меня сопровождал всегда кучер Трифон, бывший как бы вроде моего «дядьки». Он выезжал для меня верховую лошадь Брильянта, прослужившую мне чуть ли не до самого офицерства, он же учил меня верховой езде и стрельбе. Мать моя в него окончательно уверовала, когда он на ее глазах спас меня от падения. Я торопился что-то объявить и пустил лошадь в галоп. Подъезжая к дому, я уже справиться не мог, к тому же седло стало как-то сползать. Подскочил ко мне Трифон, всегда меня сопровождавший, близко-близко... схватил меня за шиворот поддевки и крикнул, чтобы я бросил поводья и стремена, а сам приподнял меня, и Брильянт из-под меня ускакал, а Трифон, сдержав свою лошадь, мягко спустил меня на ноги на землю. Правда, что все крючки и петли поддевки лопнули, но я был совершенно благополучен. Тут же Трифон потребовал от моей матери, чтобы я немедленно сел опять на Брильянта и продолжал бы прогулку. «А то барин трусом будет», — настаивал он, и моя мать сдалась. Однажды мы с Трифоном сопровождали моего отца на подвывку волков. По дороге я его расспрашивал, почему некоторых лошадей называют жеребцами, а других меринами, но отец очень резко прервал его объяснения и заставил его замолчать. Трифон со мной нарочно отстал и продолжал шепотом объяснять, но я его не понял и переспросить боялся. Подвывал волков лесничий Оскар Менгес, по прозванию Карл Иванович. Делал он это талантливо: молодые волчата сейчас же отзывались, и жутко становилось,
64
когда они с воем приближались, но мы спешно уезжали, чтобы не напугать выводка, который предполагалось скоро обложить.
Карл Иванович был очень своеобразной личностью: отец мой пригласил его на службу во время одной из своих заграничных поездок. Намереваясь завести правильное лесное хозяйство по всем требованиям науки, мой отец обратился в одну лесную школу, и ему рекомендовали Менгеса, окончившего в ней блестяще курс. Одновременно с ним отец привез несколько других саксонцев, уже в качестве лесников, но все они скоро спились, одичали среди лесов, затосковали и уехали, остался один Карлуша (как мы его звали в раннем детстве), тоже не без греха по части выпивки. Жил он в лесном домике, построенном в виде швейцарской избы, где была чистая половина для охотников. При нем была женщина из деревни Висляево, с которой он прижил много детей. Говорил он на жаргоне полурусском, полунемецком, был крив на один глаз, ходил зиму и лето в той же тирольской шляпе с пером на затылке. Вся округа его знала и посмеивалась над ним. Выступал он обвинителем по лесным порубкам, случавшимся в наших лесах, почему его знали и власти, с которыми у него нередко бывали quiproquo из-за незнания русского языка. Так, он, например, однажды подал иск о взыскании с крестьянина «комода», и только на суде выяснилось, что предметом иска был в действительности «хомут». Однажды он всю залу Окружного суда рассмешил, председатель даже пригрозил удалить публику, хотя сам не мог не улыбнуться на заявление Карла Ивановича. Дело заключалось в следующем: висляевскую бабу, о которой я говорил выше, Карл Иванович почему-то прогнал, и она искала с него деньги на содержание детей. Он же в ответном прошении, уже соскучившись по ней, обязывался кормить и ее, и детей, если она согласится к нему вернуться. На суде истица возражала, что половина детей прижита ею с другим лицом, почему она не может их ему отдать, а не желая расставаться ни с одним из них, требует на содержание денег. В ответной заключительной речи Карл Иванович, при гомерическом хохоте всей залы, на своем оригинальном наречии выпалил: «Все равно! Пол мой — пол чужой, все ко мне ..., а денег — nein!».
Был он очень храбр и находчив. Вернувшись раз из конторы к себе в лесной домик, находившийся близ Молчановской вершины, он застал в нем волка, а на печке плачущих в испуге детей. Закутав во что-то левый кулак, он бросился на волка и успел воткнуть ему этот кулак в пасть так глубоко, что волк стал задыхаться, а подоспевшая мать детей зарубила его топором. Рассказано это было самим Карлом Ивановичем, так что, быть может, он кое-что и приврал, но последствием было то, что его долго возили по знахаркам за заговорами, опасаясь, что волк был бешеный; о прививках тогда и понятия еще никто не имел.
Кончил он свою жизнь у нас совершенно неожиданно. После более чем 20-летней службы у нас он уехал однажды в Москву поговеть на недельку и более не возвращался. Все розыски его через полицию были напрасны, пропал он бесследно. Его родные из Саксонии запрашивали о его судьбе, так что ясно, что он и туда не вернулся, а где-нибудь безвестно погиб. В Сергиевском он оставил по себе прочную память: все деревья на усадьбе, кроме липового сада и бальзаминовых тополей, посажены им под руководством и по плану моего отца.
65
Все обстоятельства жизни Карла Ивановича, Исидора Григорьевича Блонштейна и А. С. Раевского я узнал гораздо позже. В то время нас держали настолько строго, что когда наш законоучитель, священник Д. В. Извеков, попытался объяснить нам слова молитвы Богородицы: «Плод чрева Твоего», моя мать ему немедленно отказала и взяла эти уроки на себя. Все книги, которые нам давались для чтения, тщательно процензуровывались моей матерью, целые фразы, а иногда [и] страницы замазывались чернилами или заклеивались. Даже учебник Ветхого Завета не избег этой участи: тот отдел, где описывались еврейские обычаи и данные им законы, почти весь состоял из склеенных страниц. Сознаюсь, что я подглядывал и задумывался, главное, над одним запрещенным нам местом; почему? — и до сих пор не пойму, а именно это касалось запрещения евреям есть мясо, сваренное в молоке: причем тут же объяснялось, что это запрещение предусматривало жестокую возможность хотя бы случайно сварить козленка или теленка в молоке его матери. Мы часто с сестрой беседовали об этих запрещенных местах в книгах, но она честно их никогда не открывала. Когда моя мать опровергла нам те объяснения молитвы законоучителя, которые повлекли за собой его увольнение, Варя тотчас же поверила Мама́, я же остался в сомнении, за что она меня очень упрекала. Близости у нас с сестрой в детстве особой не было, хотя и игры и уроки у нас были общие, только по языкам она была значительно впереди меня и брала уроки отдельно. Двоюродный брат Поля Жемчужников, моложе меня на три года, был мальчик добрый, но очень тупой; с ним у нас дружбы никакой не было, хотя мы и не ссорились. Он до своего приезда к нам был держан совершенно иначе: наказывали его очень часто, меня же почти никогда. Играл он в былые времена с дворовыми детьми, от коих перенял много дурных выражений и познаний, нам это строго воспрещалось. Стыдливости у него не было никакой, у нас же она была болезненная.
Не знаю, полезна ли вообще такая тепличная атмосфера, охраняющая детей от прозы жизни, зная, что вне семьи они столкнутся с другим строем, но на нас с сестрой, не имевших других друзей, кроме Полторацких, сродных с нами по духу, такая жизнь оставила впечатление какого-то исключительного мира душевного, довольства и счастья. Все живущие с нами способствовали этому настроению, все были мирны, радостны и довольны.
Только когда мой отец уезжал в симбирские имения, что случалось раз в год, моя мать волновалась, грустила, тосковала, не находя себе места. Каждый день посылали на почту и телеграф в Калугу за 35 верст, для чего к обыкновенному почтарю Ивану Макарову назначался еще помощник, а иногда и два; всем им назначалась денежная награда за привоз письма или телеграммы от моего отца. Какое это было счастье и ликование, когда получалась телеграмма, что он выехал обратно; начинались расчеты, когда он может приехать, высылались лошади и подставы по дороге от станции Ивановской, дабы избежать почтовых перепряжек, могущих его задержать, и, наконец, в самый день приезда расставлялись верховые махальщики по дороге в Ферзиково, а кто-нибудь залезал под шпиц на крышу и оттуда высматривал появление экипажа. Моя мать почти не отходила от окошка бильярдной, откуда хорошо видна Поливановская дорога. Напряжение ожидания к моменту появления экипажа доходило до крайних пределов:
66
все бежали на подъезд, двор наполнялся служащими, которых при доме и усадьбе было человек сто; только старшие размещались на ступеньках крыльца или же за нами, остальные держались в некотором почтительном отдалении. Наконец экипаж гулко застучит под воротами дома, и мой отец, уже наполовину высунувшийся из экипажа, подкатывает к крыльцу. Первые продолжительные объятия, понятно, моей матери. Помню однажды угрызения совести и мучения моего отца после одного из таких возвращений зимою, когда он, торопясь домой, не позволил остановиться оказать помощь крестьянину, завязшему в сугробе со своей клячонкой, куда он залез, уступая дорогу моему отцу. Такие возвращения кончались всегда благодарственными молебнами и исполнением моей матерью какого-нибудь тяжелого обета, наложенного ею на себя в случае благополучного возвращения мужа.
Итак, эти года, проведенные в деревне, оставили на нас с сестрой глубокий, неизгладимый след. Семейное счастье, супружескую любовь мы видели в живом примере родителей, причем у каждого из них были свои особенности: моя мать была олицетворением любви и ласки с очень прямым и правдивым характером. Хотя она была вспыльчива, но так умела приласкать, загладить свою вину, что ее не боялись, а все искренно любили; гувернантки наши и учителя относились к ней как к родной матери. Отец мой был значительно менее экспансивен, зато был совершенно исключительного ровного характера; я положительно не помню в детстве, чтобы он возвысил голос. Он был замечательно терпелив, никогда ни на что не жаловался, вместе с тем был и к другим разумно требователен, почему его все боялись. Тетя Соня была какая-то святая молитвенница, она почти совсем была глухая и всегда про себя шептала молитвы. Дядя Митя представлялся нам олицетворением смелости и ловкости. Необычайно красиво, картинно скакал он на своей башкирской лошади Мурзе, кусачке, никого кроме него к себе не подпускавшей. На пожарах, бывавших в деревнях, дядя всегда играл какую-нибудь героическую роль.
Еще в раннем детстве научились мы ценить бабушку Волконскую, которая уже в то время из-за слоновой болезни почти не могла ходить, почему всякий приезд ее к нам был подвигом, актом горячей любви. Она никогда не жаловалась на свою болезнь, даже никогда не удерживала насильно около своего кресла внучат, понимая, что нам может быть с нею скучно, но каждую ласку и внимание ценила. Большую часть дня она проводила в молитве и чтении душеспасительных книг или в какой-нибудь работе, вроде вязания или шитья по канве и т. д. Дедушка Волконский помимо веселья вносил в нашу детскую среду хорошие вкусы, великолепно декламируя стихи, и, несмотря на свою резкость, был настолько добр и отзывчив, что показывал нам в этом хороший пример. Тагочка, направляемая моей матерью, оберегала нас от всякого дурного влияния, сама была очень религиозна, очень хорошо читала и всегда умела заинтересовать нас серьезными разговорами. Исидор Григорьевич Блонштейн изо всех был менее подходящ к нашему entourage’у; он был типичным евреем и безумно боялся моей матери. Мы воочию убеждались, как он ей лгал и менялся в ее присутствии, но уроки он давал вполне удовлетворительно и, главное, сумел приучить нас самостоятельно работать.
67
К слугам мы никогда особенно близки не были, но некоторые из них, несомненно, имели на нас влияние особенно серьезным отношением к своим обязанностям, свято соблюдая все семейные традиции как некий завет прежних поколений, неисполнение которых равносильно неуважению стариков, установивших их. Перечислю некоторых: Афанасий и Василиса Шишковы, приставленные к моим родителям с раннего детства, поженившиеся почти одновременно с ними, принимали самое живое участие во всех событиях нашей семьи. В дни семейных праздников Афанасий, разлив по бокалам шампанское, несмотря на присутствие гостей, во главе других лакеев обходил нас, поздравляя с новорожденным или именинником и целуя Мама́ и Варе ручку, а нас с Папа́ в плечо; на нас всегда производил сильное впечатление его торжественный вид при исполнении этой традиции. Кучер Трифон познакомил меня своими рассказами с военным бытом: он был отставным старшим унтер-офицером армейского Уланского полка, прослужил более 20 лет. Полк, по его словам (в рассказах своих он сильно подвирал и хвастал), держался, главное, на нем как на знатоке устава. Я был еще недостаточно велик, чтобы уметь отличить фантазию от истины, и потому всегда его небылицами восхищался. Любили мы с сестрой очень двух старых крепостных садовников — Ивана Степанова и Ивана Тарасова; обыкновенно они жили у нас врозь, чередуясь; при первом процветала оранжерея, фрукты — персики, сливы, чернослив, которых при нем было изобилие. Посещая его в оранжереях, бывало, не наслушаешься его рассказов про семью Каров, которую он очень почитал. Иван Тарасов был специалист цветов и, главное, умел разводить розы, как никто, за это его особенно любила бабушка Варвара Андреевна; он много интересного с любовью про нее рассказывал. Еще была и до сих пор жива прачка Варвара Егорова; она была крепостная Полторацких, вышла замуж за нашего крепостного столяра Василия Петрова и определена была помощницей горничной к бабушке Варваре Андреевне. Варвара была живая хроника: чего-чего она не рассказывала, притом была прямо святая женщина, терпя со смирением и кротостью все измывательства мужа, горького пьяницы. О ней я еще в подробности буду писать впоследствии, потому что и в дальнейшей моей зрелой жизни она была мне близка и многому хорошему научила. Когда нас в разгар революции выселили из Сергиевского, она, эта старуха, как пережиток старины, как представительница прежних поколений, со скорбью провожала нас. Никогда не забуду, как она обливалась слезами, стоя на подъезде, и когда наш экипаж отъехал, осенила нас, как родной человек, широким крестом.
Вспоминая нашу жизнь в Сергиевском, для полноты картины следует упомянуть о тех традициях, которые сложились для семейных праздников. Мы с Варей задолго готовились к празднованию своих рождений и именин — для нас это было радостное событие. В самый день виновника торжества никто не поздравлял до просыпления родителей: они первые его крестили, целовали, после чего уже остальные могли поздравлять; все люди целовали либо руку, либо плечо. Когда родители встанут, мы все в нескольких экипажах ехали в церковь к обедне. Во время целования креста новорожденному или имениннику, который в этот день подходил первый, диакон из алтаря выносил просфору на серебряном подносе, и Мама́ тем временем просила священника с причтом придти к нам
68
служить на дому молебен. По возвращении домой дверь в столовую для виновника торжества закрывалась, пока все не соберутся, и, наконец, под общий крик «ура» он входил в залу, где посреди стола, как раз против двери, ставилось ему кресло, украшенное цветами, перед его прибором расставлялись подарки с билетиком на каждом — от кого. На столе всегда лежал традиционный громадный крендель с инициалами празднуемого, сделанными из глазури, а середину стола занимало большое цветочное плато с соответствующей надписью — подношение садовников. Когда это был наш с сестрой праздник, подарков было особенно много, все нам дарили, до старших старых слуг включительно. Помню одно свое личное большое разочарование. Войдя в залу в один из моих праздников, я увидал рядом со своим местом сидящего на кресле желтого сеттера отца — Чуплика, о котором я всегда мечтал. Чуплик был разукрашен гирляндой цветов и с запиской в зубах... Я первым делом бросился к нему и чуть не расплакался, когда на записке прочел только: «Je vous felicite!»...
Обед в такие дни откладывался, а среди дня, после молебна, подавали шоколад со всевозможными печениями, тортами, сладкими пирожками, которые накануне, так же как и обед, заказывались повару виновником торжества. Обед для большей торжественности, даже если гостей было мало, подавали в этот день в два блюда, а так как у нас, включая Афанасия, было только три лакея, приглашался четвертым от Раевского Иван Иванов Новиков, появлявшийся в допотопном фраке и также принимавший участие в принесении поздравления после шампанского, о коем я писал выше. В старомодном же фраке приходил к обеду и Платон Евграфович и подносил празднуемому члену семьи расписание вечернего фейерверка, если праздник был не зимой. Обед длился долго, и повар хотел чем-нибудь отличиться, отметить день и удлинить меню. В виде исключения в эти дни нам, детям, разрешалось подходить к закусочному столу, что в другие дни было для нас запретным местом.
В день именин моей матери, 22 июля, все было как-то еще торжественнее. Съезжались соседи, знакомые, приезжали некоторые родные, собиралось человек 20—25 гостей. Только семья Полторацких в этот день не бывала в полном составе — у них были свои именинницы; все же представитель от семьи приезжал поздравить мою мать. Обед накрывался либо в цветнике против большой террасы, если была хорошая погода, либо в гостиной, если шел дождик, так как на дворе — традиционном месте всегдашних обедов летом — в это время устанавливались транспаранты и декорации для вечерней иллюминации. После обеда пили кофе на террасе; она в моем детстве разделялась на две половины лестницей из балконной двери гостиной; все углы, а также и сама лестница были уставлены декоративными деревьями в кадках и такими же растениями в горшках. В каждой половине было по большому столу и такому же большому дивану. Один стол устанавливался ликерами и наливками, а другой — фруктами. Такого изобилия и разнообразия фруктов я нигде не помню: персики были трех сортов (венусы, красавчики и арабчики), желтые сливы, французский чернослив, абрикосы, черные и зеленые ренклоды, фиги, жидовские вишни и т. д.; говорили нам, что в былые времена, когда существовала еще оранжерея на 500 рам (из коей впоследствии было выстроено двухэтажное здание для винокуренного завода), был
69
обычай ставить в комнату каждому гостю лоток с фруктами и ягодами — смотря по сезону. Когда наступали сумерки, все общество переходило на двор, весь освещенный разноцветными фонариками. Над воротами высилась арка с фамильным гербом, а по бокам транспаранты с вензелями родителей, окруженными эмблемами. Все шли в сад по аллее, тоже освещенной фонариками, до середины его, где рассаживались на приготовленных скамейках, и начинался фейерверк традиционной сигнальной ракетой, пускаемый за садом из березовой аллеи. Часто некоторые номера не удавались, и тогда неизменно Платон Евграфович кричал из облака дыма: «Это, батюшка-отец, проклятая прошлогодняя!». Кончался фейерверк декорацией, которую Платон Евграфович считал особенно удачной: на дереве высоко появлялась гигантская сова, освещенная изнутри, машущая крыльями, с шипящим огненным фонтаном в клюве, но за густым дымом редко когда кто эту фантастическую птицу видел. Когда возвращались на террасу, гостей ожидал там вечерний чай, весь цветник перед террасой освещался бенгальскими огнями, а на кургане, где в то время была китайская беседка, зажигался утвержденный на высоких шестах большой вензель моей матери из менявших цвета бенгальских огней.
[В] последний год нашего пребывания в Сергиевском мой солитер дал себя знать; со мной делались обмороки, неожиданные изменения в зрении: все вдруг казалось мне маленьким, чрезвычайно отдаленным, я терял точное понятие о пространстве, почему походка стала неуверенной; несмотря на громадный аппетит, я на глаз[ах] худел. Подвергали меня самым мучительным лечениям, особому режиму: то полной голодовке, то обильной, но очень однообразной и противной пище, как, например, протертая селедка с луком, которую я должен был запивать молоком. Мучили меня много, одно было мне утешение — это две поездки в Калугу и одна в Москву для консультации с докторами. Отделался же я от этой болезни уже гораздо позднее, в Петербурге, но до того мы еще две зимы прожили в Калуге.
Отец мой был избран председателем Мирового съезда, и мы всем домом вместе с Жемчужниковыми переехали осенью 1873 года в Калугу. С Исидором Григорьевичем Блонштейном мои родители расстались, так как решено было приглашать учителей гимназии. Тагочка тоже уехала, намереваясь выйти замуж за Исидора Григорьевича, на что моя мать не соглашалась, почему она поехала в Швейцарию к своей семье, надеясь в ней найти поддержку своим намерениям. К нам поступила новая гувернантка, M-lle Tomi, которая и прожила у нас до своей смерти, когда уже у меня самого были взрослые дети. Одновременно была приглашена англичанка Miss Aldis, и начался новый период в моей детской жизни, где пришлось сталкиваться с новыми разнообразными учителями, где у сестры появились свои подруги, а у меня товарищи.
В Калуге мы заняли на Московской улице дом Астреева — целую усадьбу с большим садом, службами и даже собственным прудом. Но несмотря на обилие комнат, нам с сестрой пришлось занять одну общую, разделенную перегородкой на две половины; отдельной классной у нас не было, занимались мы где попало, иногда даже в гостиной. Впервые мы почувствовали, что у родителей, кроме наших интересов, есть еще какая-то другая жизнь, которой мы должны уступать.
70
Уроки наши были налажены и шли своим чередом, но родителей часто уже не бывало дома, а по вечерам, если они и были дома, были у них гости, так что наше вечернее укладывание спать происходило в одиночестве. Учителей у нас было много, по каждому предмету отдельно: француз — Bidot, немец — Gafner, историк — Симсон, географ и естественник — Данилов, математик и физик — Козляховский, тот же учитель рисования и черчения Дербенев и великолепный учитель русского языка — Яковлев. До него, по внушению своей матери, я всегда гордился своим картавым французским выговором и знанием иностранных языков, а по-русски говорил, как иностранец. Он первый заставил меня понять красоту и богатство родного языка, благодаря этому у меня появился стыд моего незнания оного и плохого выговора. Кто давал мне уроки латинского языка — не помню. Лучшим и наиболее любимым преподавателем был наш законоучитель, настоятель Воскресенской церкви на улице того же названия — протоиерей о. Александр Ростиславов, он был и духовником нашим. Впоследствии он был духовником всей семьи моей жены и нас венчал. Для уроков за ним посылали лошадь. Мы с сестрой ждали его всегда с радостью — сколько добрых восторженных религиозных чувств он в нас заложил! Он до того увлекался уроками, что, беседуя с нами о Страстях Господних, сам плакал и доводил нас до какого-то состояния особого проникновения, восторга и любви. На обязанности нашей было класть нашим учителям билетики, которые, когда их накапливалось десять, они передавали моей матери, а та уплачивала им гонорар. Нам было стыдно и неприятно класть эти билетики о. Ростиславову, нам казалось, что и его коробят эти денежные расчеты после такого урока, такой одухотворенной минуты. Готовился я к экзамену в V класс классической гимназии, почему занятия были довольно серьезны. По окончании учебного года меня посылали одного в коляске объехать всех преподавателей и пригласить их обедать. Такой финальный педагогический обед тщательно обдумывался и устраивался моими родителями и служил выражением благодарности, которую, по старым понятиям, необходимо было явно и демонстративно выказать.
У моей сестры, как я сказал выше, завелись подруги, чаще видалась она с двумя: первая — Катенька Кашкина, дочь Николая Сергеевича, участника истории Петрашевского, за что он был приговорен к смертной казни, потом помилован и разжалован в солдаты. Кашкины жили через дом от нас, видались мы довольно часто. В их доме мы очень боялись бабушки, матери Николая Сергеевича, у которой постоянно тряслась голова; началось это у нее с того момента, когда она узнала, что сын ее приговорен к смертной казни.
Другая подруга моей сестры — княжна Ольга Евгеньевна Оболенская, дочь декабриста; к ней мы не ходили, но она навещала нас. Она жила с матерью и теткой. Тетка ее, княгиня Наталья Петровна Оболенская, была глубокая старуха, очень оригинальная и своеобразная. Вышла она замуж в перезрелых годах за вдовца и однофамильца князя Александра Петровича Оболенского, бывшего когда-то калужским губернатором (князь А. П. Оболенский был прадед моей жены: от первого своего брака — он женат был на Аграфене Юрьевне Нелединской-Мелецкой — у него было много детей, и в том числе Варвара Александровна Лопухина, мать матери моей жены — Софии Алексеевны Трубецкой). Он скончался в Калуге же.
71
Дети его от первого брака не ладили с мачехой, и она после смерти мужа осталась одна в Калуге. Между тем родной брат Натальи Петровны — князь Евгений Петрович Оболенский, декабрист, скончался, оставив вдову Варвару Самсоновну (из самого простого звания) и малолетнюю дочь Ольгу. Их обеих и выписала княгиня Наталья Петровна, поставив себе целью воспитать и образовать как свою невестку, так и племянницу. По отношению к первой цель, кажется, не была достигнута, потому что про Варвару Самсоновну всегда ходили анекдоты об ее грубых, невоспитанных выходках. Оленька Оболенская была очень симпатичная, умная, но на вид какая-то забитая, жалкая, да и не могла ее жизнь быть хорошей при старой тетке, совсем уже выжившей из ума.
Княгиня Наталья Петровна выезжала из дома только в церковь и к архиерею. В церковь, к обедне, она ездила ежедневно. Выезды эти были типичны; ее старинный допотопный экипаж был известен всему городу: летом это была высокая карета на круглых рессорах, а зимой — также карета на высоких полозьях. Кучер — по годам под стать своей барыне, лошади также. На козлах рядом с кучером старый выездной лакей в старомодной ливрее с гербами и с пелеринками, одна над другой, вероятно, для тепла. Все встречные кланялись княгине, которая никого не видела, и отвечала за нее на поклоны ее вечная спутница Варвара Самсоновна. Остальное время Наталья Петровна проводила у себя около окошка в фонаре, выступавшем на самую улицу, которую с этого места легко было обозревать в обе стороны. При ней всегда сидела какая-нибудь старушка-приживальщица, а в 6 часов вечера являлись два неизменных партнера поиграть с ней в преферанс. Вся прислуга в доме была такая же старая, как бы обросшая мохом, как и сама их госпожа. Княгиня утверждала, что во все трудные минуты ее вдовьей жизни она советуется со своим покойным мужем, который прилетает к ней в виде большой мухи или пчелы. Уверяла она, что заранее предчувствует грозу, ибо от нее тогда пахнет серой. Умерла она много позже, в 1887 году, когда я был уже женат на правнучке ее мужа.
Была еще одна девица, посещавшая мою сестру, — Варенька Адеркас, но о ней у меня осталось впечатление лишь как об особе скучной и неумной.
Моими товарищами были Сережа Зыбин и Саша Яковлев, оба старше меня, уже искушенные жизнью, хвалившиеся своими кутежами и ухаживаниями, а потому немного мною пренебрегавшими; я же льнул к ним всей душой. Сережа был гимназист, жил с отцом-вдовцом, который в нем души не чаял. Александр Васильевич, так звали отца моего товарища, сам был, как говорят, беспутнейший и добрейший малый, скорее товарищ своему сыну. В первую же зиму нашего пребывания в Калуге наш сосед по имению (село Брагино) Сергей Александрович Ключарев в театре начал проявлять признаки ненормальности, так что пришлось увезти его и поместить — куда же? Понятно, к А. В. Зыбину, который всем и каждому готов был помочь. Там Ключарев уже явно заболел острым помешательством. Сережу решили удалить и поселили его к нам, где он прожил довольно долго, пока не удалось перевести Ключарева в психиатрическую лечебницу в Москву. Сережа сразу поставил себя у нас в доме на положении родного. Ласков он был необычайно и нуждался, как сирота без матери, в такой же ласке, которую мать моя дарила ему с избытком. Стал он звать моих родителей «Папа́» и «Мама́» — «ты»; сестру мою
72
называл также по имени и «ты», и так с тех пор он и остался «названным» сынком моих родителей, поселившись впоследствии у нас в Петербурге.
Семья Яковлевых, в которой Саша был младший, состояла из отца-вдовца Семена Павловича, тетушки, родной сестры покойной матери Саши — Фелониды Александровны Беринг (хозяйки дома), сестер Софии Семеновны и Натальи и брата Николая. Была еще сестра Зинаида Семеновна, замужем за Тобизеном, но она давно жила вне дома, и еще брат Семен, служивший в Москве и находившийся в ссоре с отцом. Дом Яковлевых был самый открытый и интересный дом в Калуге, всегда в нем были рады всякому гостю и всякий находил себе там удовольствие: умный и интересный разговор на современные и научные темы не умолкал в кабинете старика Семена Павловича; дамская легкая болтовня, не лишенная провинциального посплетничанья, около стола Фелониды Александровны, вечно раскладывавшей пасьянс; в гостиной карточные столы для желающих, а в зале, громадной зале с чудным резонансом, музыка, и серьезная музыка. Мой товарищ отлично играл на скрипке. При нем был постоянный учитель, окончивший Пражскую консерваторию, по фамилии Женишек; и каждый вечер они оба играли, и как играли!... А Софья Семеновна, обладавшая громадным сопрано, пела. Я уже в то время понимал всю прелесть настоящей серьезной музыки и, когда бывал у них, что изредка мне позволялось, заслушивался ею. Семен Павлович, ценитель и знаток музыки, выползал из своего кабинета, держа в руке платок, который всегда концом волочился по полу, и весь растроганный обнимал сына со словами: «Сашка! Когда я умру, играй на моей могиле!». За его игру, талантливую игру, он ему все прощал. Сашка же был, надо сознаться, безалаберный и беспутный малый, лгал немилосердно, из гимназии его выгнали, и он потом уже кончил Петербургскую консерваторию, когда мы там жили. Но Сашу все товарищи любили за его доброе сердце и горячую отзывчивость.
Кончил он свою жизнь печально: прослужив менее трех лет предводителем дворянства, начал так кутить и опускаться, что добывал себе пропитание, играя на скрипке в ресторанах и кинематографах. Умер в полной нищете.
Новая наша гувернантка M-lle Tomi, которую мы скоро прозвали Нюничкой (ее звали Анна Давидовна), приехала к нам в Калугу как-то вечером, когда у меня сидели Сережа Зыбин и Саша Яковлев, а у моей сестры Катя Кашкина. Это была первая особа у нас, взятая моим отцом без предварительного знакомства с нею моей матери. Рекомендовали ее старые друзья моих родителей — Панины. Первое впечатление от нее было неблагоприятное: она была высокая, худая, с большим носом, вся в черном и с большим черным медальоном на груди, в котором находился портрет ее умершего жениха. Мои товарищи сейчас же подняли ее на смех, так что мне стало ее жалко, и я постарался быть с ней любезным и ласковым. Она это тотчас поняла, как потом рассказывала, и отплатила мне столь горячей привязанностью, что стала мне наиболее близким человеком после моих родителей. Она была неумна, очень необразованна и вспыльчива, но сердце у нее было такое, какое трудно встретить. До поступления к нам она прожила довольно долго в Берлине в семье профессора Зибольда, а потом у гофмейстерины Прусского, тогда еще королевского Двора, графини Донау, и всегда вспоминала, как встречала в саду на руках у няни
73
последнего германского императора Вильгельма II и целовала ему ручку. Прожила она у нас в доме не более и не менее, как 37 лет, и под конец своей жизни была не только русская и православная в душе, но и совершенно Осоргина. Раза два в год бывали с ней крупные истории с дутьем на несколько дней; оканчивались эти истории стереотипным письмом Нюнички сначала к моей матери, а впоследствии ко мне, где она сообщала, что видя, что она нам не нужна, она уезжает от нас к «Kola Bagenoff». Этот Коля Баженов был ее бывший воспитанник, впоследствии видный психиатр. Кто-нибудь из нас шел к ней, бранил ее «дурой», убеждал ее, что Коля Баженов давно кончил свое воспитание; кончалось все поцелуями, слезами, смехом, и лад и дружба восстановлялись. Меня в такие минуты размягчения и еще не совсем забытой обиды она упрекала словами: «Ce cochon de Michel, depuis qu’il a diné seul chez Sacha Jakovleff, est devenu impossible — il me déteste». Под конец я уже сам при первых недоразумениях писал от ее имени письмо этому «Kola Bagenoff» и приносил его ей на подпись; она смеялась, и мир тут же восстановлялся.

Церковь Покрова пресвятой Богородицы в усадьбе Сергиевское. 1810.
Рисунок М. М. Осоргиной (до 1918). Частное собрание, Париж
Когда я поступил в гимназию, а сестра моя начала выезжать в свет, Нюничка взяла на себя все хозяйственные и домашние заботы; у нее тогда явилась привычка все прятать: ее кладовые, которые она завела во всех углах дома, были поводом дразнения и многих неприятностей; она, всегда правдивая, готова была на любую явную ложь, лишь бы отстоять какую-нибудь вещь или припас, ею припрятанный.
74
В нашей детской жизни она нас приучила к порядку, внушала нам исключительное преклонение перед нашими родителями, выказывая им нелицемерное почитание, в особенности моей матери. Ее стереотипной фразой нам, детям, было: «Les parents ont toujours raison», а про людей посторонних говорила: «Qu’ils doivent penser à la tranquilité des seigneurs», подразумевая под словом «seigneurs» всю нашу семью. Сама она была до того наивна, чиста, что до конца жизни, а умерла она далеко за 70 лет, была ребенком в разных понятиях житейской прозы. Хотя она была протестанткой, все же посещала нашу церковь, крестила нас, ставила к образам свечи и часто посылала вынимать просфору за чье-нибудь здоровье. Привязанность ее к моей матери была трогательная, безграничная, звала она ее «Madame» или «Мамулинька». Когда моя мать задумывалась и говорила, что, если Бог ее накажет и даст пережить моего отца, она поступит в монастырь — жизни без отца она не понимает и не перенесет, Нюничка стремительно вмешивалась и заявляла, что и она с ней пойдет в монастырь, но одну ее не оставит, а на возражение Мама́, что ее как протестантку туда и не примут, Нюничка, не задумываясь, отвечала: «Mais, Madame, je me ferai orthodoxe!». Со всеми нашими родственниками она была на положении родной, с близкими была в оживленной переписке, сообщая им все сведения о нашей семье. Впоследствии, когда уже при моих детях были гувернантки, она их, этих гувернанток, брала под свое покровительство, научала традициям, обычаям и требованиям семьи, но, надо сознаться, что обдумывая их, заботясь о них, она вместе с тем требовала к себе особого уважения и обращалась с ними нехорошо. Говорила она превосходно по-немецки, писала с ошибками, но очень интересно письма по-французски; но главная ее страсть — это был русский язык, на котором она говорила и писала отвратительно.
С Платоном Евграфовичем она вечно препиралась: разливая чай, она из экономии обделяла его сахаром, а он в отместку называл ее «немка», на что она сердилась; а когда Платон Евграфович болел, она за ним ходила, как наипреданнейшая, сердобольная, после же его смерти плакала, не осушая глаз.
Miss Aldis приехала к нам прямо из Англии, не зная другого языка, кроме английского, с маршрутом, написанным на трех языках. Афанасий, посланный на пристань пароходную ее встречать, так и спросил капитана: «Нет ли среди пассажиров молодой барышни, которая все молчит?», ему и указали на нее. Она была милейшая особа, сразу стала с нами на товарищескую ногу: мы звали ее по имени — Nelly — и обращались с ней как со старшей веселой подругой. Пробыла она у нас недолго, до нашего переезда в Петербург, от нас она перешла к Кашкиным. К концу ее пребывания я не только свободно говорил по-английски, но и читал à livre ouvert Шекспира; другого следа ее пребывание у нас не оставило.
В первую зиму, проведенную в Калуге, меня по просьбе и по настоянию бабушки Волконской, гостившей у нас, повезли в театр на дневное представление. До того я видел и слышал в Москве в Большом театре балет «Конек-Горбунок» и оперы «Жизнь за царя» и «La fille du régiment». В первой опере Онорэ пела роль Вани (Онорэ — жена профессора музыки моей матери), а во второй — Artot, но я был еще так мал, что этих первых театральных впечатлений совсем не помню. Поэтому понятно, как я был благодарен бабушке и как я ждал этого представления. Условием было поставлено, чтобы я хорошо ответил урок из естественной
75
истории. Не помню, почему брали только меня, сестра не должна была с нами ехать, и потому знание урока требовалось только от меня. Увы! урока я совсем не знал, но учитель Данилов, вероятно, жалея меня, не сказал об этом моей матери, и я безо всякого на то права поехал. Но судьба была справедлива и я был наказан. Впервые шла оперетка «Фауст наизнанку», которую мои родители совсем не знали. Пела роль Маргариты известная впоследствии каскадная девица, тогда дебютировавшая в Калуге, Зорина; при первом же ее куплете, довольно гривуазном, меня выслали из ложи в коридор, а через какие-нибудь четверть часа и совсем отправили домой.
В эту же зиму мы были с сестрой на концерте в Дворянском собрании; в этом концерте принимала участие Мама́: она должна была играть в первом отделении с графом Головиным (Александром Ивановичем) увертюры из «Оберона» и «Фрейшюца» Вебера на двух фортепьяно, а во втором отделении в конце концерта играла с ним же в четыре руки тонкую, требующую большой беглости и чистоты пьесу «Balandine». Сыгрывались они у нас дома, почему мы и знали эти пьесы наизусть. Нас посадили с сестрой сбоку в первом ряду у ступеньки, ведущей на эстраду. В первом отделении мы поняли, что что-то неладно; обе увертюры, которыми начинался концерт, прошли безо всякого оживления и entrain. Мы тогда же заметили тревожные взгляды, которые моя мать бросала в сторону своего партнера, сидевшего как-то безучастно за другим инструментом. Но потом наше внимание было отвлечено выступлением Софии Ивановны Храповицкой. Играла она очень сложный концерт для фортепьяно и, несмотря на настойчивые советы моей матери иметь ноты перед собой, захотела блеснуть и явно для всех играть наизусть, почему нот не взяла и играла со спущенным пюпитром. Она была наружностью очень эффектна, вышла на эстраду, приветствуемая аплодисментами, села и начала; проиграла несколько тактов, спуталась, опять начала и опять спуталась и умолкла, пока не принесли ей ноты, которые к тому же не могли долго найти. Она была очень жалка, и мы с сестрой всей душой ей симпатизировали. Кончилось отделение очень удачным пением Софии Семеновны Яковлевой романса «Виновата ли я?». Во время антракта из разговоров больших мы поняли, что граф Головин просто пьян, почему так плохо играл. Отец мой решительно заявил моей матери, что он не хочет, чтобы она играла опять с Головиным в следующем отделении; пусть она придумает предлог, хотя бы головную боль, и откажется, почему Мама́ на это отделение села рядом с нами. Во время последнего номера программы, скрипичного дуэта Саши Яковлева с Женишком, к Мама́ подсел Дмитрий Валерианович Панин, большой сплетник, и я слышал, как он сказал, что Головин очень обижен отказом Мама́ с ним играть и, быть может, вызовет моего отца на дуэль. Как сейчас вижу: Мама́ порывисто встала и ушла в гостиную. Как только кончился скрипичный дуэт, она вышла из гостиной, не ведомая, а скорее волочащая за собой графа Головина, взошла с ним на эстраду, сели они за фортепьяно, моя мать что-то ему сказала и началось исполнение этого труднейшего номера, исполнение столь блестящее, с таким jeu perle, что по окончании поднялся гром оглушительных рукоплесканий и за блестящую игру, и как дань уважения и сочувствия моей матери. Мы же, дети, не только поняли, но и видели, сидя рядом с эстрадой, что Мама́ играла одна за
76
двоих, а Головин сидел покорно рядом и подремывал. Помню, что потом у моего отца было с ним объяснение. Головин приехал просить прощения и даже в кабинете отца плакал. Мои родители, по доброте своей, даже не прекратили после этого события знакомства с ним, жалея его юную жену Анастасию Дмитриевну, урожденную Дестрем.
Лето между калужскими зимами (1874) мы провели, [как] обычно, в Сергиевском, где застряли до глубокой осени благодаря болезни моей матери. Никогда не забуду, как эта болезнь началась, — ее разбили лошади. Случилось это 6-го августа, в праздник Преображения Господня. В этот день мать причащалась. Часов в пять, как всегда, подали лошадей, запряженных в обычную линейку, ехать купаться. Купальня была на реке Оке, приделанная сбоку длинной пристани на сваях, далеко выступавшей к глубокому месту для причаливанья пароходов. Курсировали тогда два парохода Щербачева — «Ока» и «Проворный». В 10 часов утра приходил пароход из Калуги, а в шестом часу вечера — из Серпухова. К этому времени собирались и отъезжающие, и встречающие, и провожающие, и просто приходили поглазеть. Пароходы были у нас еще в новинку. Когда подали лошадей, кучер Родион, красавец собой, из цыган, лихой и опытный наездник, как-то странно и необычно не мог с ними справиться, и уже лакеи, вскочив на ходу, когда линейка проскочила мимо подъезда, помогли ему их сдержать; это тем более удивило всех, что лошади были спокойные, на которых всегда ездила Мама́, известная трусиха после случая ее падения на Рязанском шоссе, которое я вначале описал, а в корне была самая верная старая лошадь Битюг. Отец мой выразил сомнение, не пьян ли кучер? На что Мама́ с негодованием возразила: «Как это можно думать, когда Родион сегодня со мной причащался!». Моя мать так глубоко и серьезно проникалась исполнением своих христианских церковных обязанностей, что не допускала мысли, чтобы другие могли иначе относиться к этому великому таинству. Но оказалось, что прав был отец. Сели в линейку, моя мать на свое обычное место, мой отец на другой стороне, рядом с козлами спиной к Мама́, я рядом с матерью, и еще сели Nelly и девушка. Сестра моя и Нюничка, почему — не помню, в этот день остались дома. Подъезжая к церкви, откуда начинается длинный спуск до самой реки, спуск с заворотами, местами отлогий, а местами довольно крутой, Родион ни с того ни с сего ударил пристяжную кнутом, и они подхватили. Коренник Битюг по привычке стал сдерживать на первом спуске, садиться на задние ноги, не давая накатываться экипажу, и вдруг кучер и его стал хлестать, тогда уже вся тройка понесла, и чем дальше под гору, тем быстрее. На первом же толчке свалилась горничная, моя мать за ней, затем Nelly; я, видя падение матери, сам выскочил, но мы летели с такой быстротой, что очутился я далеко от нее, даже за Nelly. Немного дальше, ближе к реке, отец, боровшийся с кучером, чтобы отнять у него вожжи, на крутом повороте дороги был выброшен вместе с ним в овраг на растущие там кусты. Лошади уже одни с экипажем понеслись далее к реке, где как раз в это время подходил пароход. Пассажиры и публика, увидав пустой экипаж, всем знакомый, прибежали нас разыскивать. Я упал довольно счастливо, ободрав себе только сильно нижнюю губу; недалеко от места моего падения нашел Nelly, раненную в ногу: падая, она наткнулась на острый пенек, который проткнул ей насквозь
77
икру. Я побежал дальше и нашел Мама́, но в каком виде!... Она лежала без памяти на дороге, усеянной в этом месте каменьями, лицом она ударилась о камень и казалась совсем обезображенной и обливалась кровью. Я припал к ней, не зная, что делать, убежденный, что она умерла... Скоро подбежал отец, отделавшийся совершенно благополучно, и послал меня домой за народом. Я помню, как я, задыхаясь, все время бежал, не останавливаясь передохнуть, в гору; бросил я по дороге свое ружье монтекристо, очутившееся у меня почему-то в руках, коробку патронов, свои ключи, даже носовой платок, надеясь этим себя облегчить. На мой неистовый крик, услышанный издалека, выскочили мне навстречу Нюничка с Варей и сейчас, узнав в чем дело, побежали на место происшествия. Я же добежал до конюшни, где мой Трифон нянчил на руках свою младшую дочь Дуняшу, стал перед ним на колени, умоляя скорее привезти доктора. Что дальше было — не помню; по-видимому, со мной сделался единственный в жизни обморок... Следующее осмысленное впечатление было уже глубокой ночью: я лежу в постели, отец около меня, а доктор Ребрик, приехавший уже из Калуги, меня ощупывает и успокаивает отца, утверждая, что у меня все цело, ничто не сломано, а на мой вопрос о матери, сказал, что, даст Бог, скоро поправится.
Какое ужасное впечатление было увидать Мама́ на следующий день: вся левая сторона лица заплыла каким-то сплошным кровавым мешком, все передние зубы были выбиты, и она тихо стонала. Как грустно и тоскливо потянулись дни! Целый месяц шло поправление, под конец мать моя стала выходить в классную посидеть с нами, где приехавшая нас навестить Тагочка читала нам вслух «Daisy Chain», а мы с Варей вышивали какой-то ковер в пяльцах. Затем Мама́ заболела дифтеритом. В те времена не так боязливо относились к этой болезни; нас, детей, даже не отделили. Благодаря этому дифтериту мы зажились в Сергиевском до конца октября, когда чуть ли не шагом перевезли Мама́ в Калугу. С этого случая ее страх к лошадям удесятерился.
Во время второй зимы в Калуге, в 1874—1875 годах, произошли два крупных для нас события: скончался Дмитрий Сергеевич Полторацкий и моей сестре, 16-ти лет, было сделано предложение.
Дмитрий Сергеевич скончался у нас в доме, куда его привезли из гостиницы без языка. Он, бывало, всегда останавливался у нас в кабинете моего отца, а в этот раз, как бы по предчувствию, остановился в гостинице. Вечером он получил давно ожидаемое им письмо от богатых петербургских родственников, отнявшее у него последнюю надежду: они в резкой форме отказывали ему помочь; ему предстояло платить проценты за Авчурино, назначенное уже к продаже с молотка. На следующий день, когда, наконец, вошли к нему в номер, его нашли с этим письмом в руке, но с парализованной правой стороной и без языка, только что-то мычавшего, совершенно непонятное. Дали знать моему отцу, который сейчас же перевез его к себе. Весь день чередовались у его постели доктора; дали знать в Авчурино. К вечеру ему, казалось, стало настолько лучше, что все разошлись, и осталась при нем одна Нюничка, при которой он вдруг внезапно скончался. Жена его почему-то приехала лишь утром и уже не застала его в живых. Это была для нас с сестрой первая смерть в доме близкого человека, мы были ужасно потрясены, боялись покойника и не хотели ходить в кабинет, где он лежал.
78
Но когда вошла к нам его жена Ольга Михайловна, очень сдержанная, приласкала нас и как бы благодарила за наши слезы, наше сочувствие, мне стало совестно и я сам попросился на панихиду, после которой тело повезли в Авчурино. Приехала в Калугу с матерью лишь старшая дочь Матя, других же детей мы так и не видали до лета. Моя мать сумела нас так настроить, что у нас не осталось никакого следа страха. Кабинет отца, где скончался Дмитрий Сергеевич, был рядом со столовой, мы продолжали в нем брать уроки, иногда даже я заходил туда вечером, прежде чем лечь спать, помолиться за упокой его души.
В эту зиму я получил в подарок свои первые карманные часы и зараз даже двое часов. Бабушка Волконская прислала мне маленькие серебряные часы с ремонтуаром, а мой отец, не зная это, привез мне мужские большие серебряные часы, но с условием за такой подарок решить сорок геометрических задач. Исполнил ли я это условие — не помню, знаю только, что это очень отравило мне удовольствие подарка. Надо сказать вообще, что было характерной чертой отца — всякое баловство приправлять моралью, отчего и само баловство его не согревало той лаской, как баловство матери. Своим часам я был очень доволен. До сих пор я живо ощущаю чувство гордости и радости смотреть на часы. Во время катанья в маленьких санках на Брильянтике с непременным Трифоном едешь и щеголяешь наравне с Сережей Зыбиным и Сашей Яковлевым, выехавшими тоже в маленьких санках, и, проезжая мимо часового магазина на Никитской, небрежно, как бы обычная вещь, проверяешь время.
Помню ощущение запаха городской весны, шума ручейков вдоль улиц. Против каждого подъезда перекинут горбатый мостик, ухабы с водой на перекрестках, куда во время масленичного катанья не раз ухнешь и обрызгаешься, а потом перемену настроения Великим постом и заунывный, редкий великопостный перезвон калужских церквей. Может быть, это личное субъективное впечатление как воспоминание детства, но ни один церковный звон не производил на меня такого впечатления, как вообще звон калужских церквей, и в особенности вечерний — ко всенощной. Начинался он всегда по удару колокола собора и затем уже все 36 калужских церквей на разные тоны начинали благовест. Резко выделялся звук колокола нашей приходской церкви Козьмы и Демьяна с особенно высокой колокольней. Когда все в городе сливалось в один общий трезвон, не могу подыскать слов, выражений, чтобы передать охватывавшее меня в это время умиленное настроение. В моей семье не было обычая ходить ко всенощной, а потому мы всегда в это время были дома, очень часто одни с Нюничкой и Nelly, и я лично под этот звон обыкновенно мысленно молился. Впоследствии в жизни, где бы ни случалось мне слышать вечерний городской звон: в Петербурге, в Москве, Харькове, Туле, Гродно…, всегда становилось невыразимо грустно; как напоминание о чем-то невозвратно потерянном особенно остро ощущал эту тоску во время разлук с семьей, в одиночестве. Да, вспоминаю всегда и понимаю слова поэта: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...»
Великим постом приехал к нам в Калугу младший брат дяди Сережи Бенкендорфа — Саша. Какие были у него с моими родителями объяснения — не знаю, и как передано было его предложение моей сестре — не помню; но однажды Варя мне объявила, что Саша сделал ей предложение и что, вероятно, она за него выйдет
79

Церковь Покрова пресвятой Богородицы в усадьбе Сергиевское. 1810.
Рисунок М. М. Осоргиной (до 1918). Частное собрание, Париж
замуж, но что об этом пока не будут говорить. Я был очень взволнован этим известием; мы очень любили Сашу, гордились, что называли по имени человека гораздо нас старше, а потому я не мог освоиться с мыслью, что он ровня моей сестре, а следовательно, и мне. Саша Бенкендорф был на редкость дурен собой, без всякого внешнего обаяния; моя же сестра, не будучи красивой, была лучше того своей прелестью, привлекательностью, в ней уже сказывалась та талантливость, которая впоследствии широко и ярко в ней проявилась. И это сочетание не было мне по душе. Детским чутьем я понимал, что моя мать не симпатизирует этому браку и что в нем сказывается влияние моего отца, особенно любившего всю семью Бенкендорфов. Это предчувствие побудило меня поговорить с моей матерью; насколько помню, разговор с моей стороны кончился слезами. Мама́ меня успокаивала, разъясняя, что еще ничего окончательно не решено, но, видя, как мне трудны скрытность и притворство, разрешила мне говорить и с Сашей, уверенная, что по врожденному конфузу я ничего лишнего ему не скажу; ему же она, по-видимому, посоветовала меня особенно приласкать. В этот день он повез меня в кондитерскую Кандриана покупать конфеты, повез на извозчике, что было для нас необычным. Для нас, детей, был особый кучер, лошади и экипаж; извозчики были запретным плодом — удовольствием. По дороге Саша заговорил со мной по-французски и просил, чтобы я его полюбил. Я очень сконфузился и, не зная, что ответить, только пожал его руку — объяснение вышло настолько
80
неудачно, что до конца его пребывания я его избегал. Жил он в гостинице «Кулон», но все дни напролет проводил у нас. По его словам, чувство его началось еще со времени игры Вари 12-ти лет в пьесе «Le fugitife» в Пропойске. На Страстной мы все говели, и он с нами; исповедовались дома у о. Александра Ивановича Ростиславова, которого для этого привозили. Через несколько лет при встрече с батюшкой Ростиславовым он меня спросил, состоялась ли свадьба сестры; по-видимому, исповедь их обоих произвела на него впечатление; не сомневаюсь, что Варя шла на это как на исполнение воли отца. Встречать Пасху нас в церковь не повезли, но ввиду такого взрослого положения сестры в первый раз разрешили разгавливаться со всеми.
Мой отец, занимавший по служебному положению скромный пост председателя Мирового съезда, по радушному гостеприимству занимал с Мама́ в калужском обществе настолько центральное место и открытый их дом являлся таким объединяющим центром, что вполне естественно было, что все общество собралось у нас, а не как обычно, у губернатора. Губернатором в то время был Иван Егорович Шевич. Он и его жена, Мария Адольфовна, были очень милы, любезны, но скучноваты. Вице-губернатором был князь Гагарин, женатый на гречанке, плохо говорившей по-русски, а потому они мало принимали. Губернский предводитель Евгений Васильевич Розенберг делал лишь те обязательные приемы, которые требовались во время выборов. Уездный предводитель дворянства Николай Семенович Яновский был женат на купчихе Титовой, мать которой только что судилась за какое-то нарушение санитарных правил, совершенных ею по скупости. Яновский держал себя крайне скромно и не мнил соединять у себя калужское общество, которое состояло столько же из людей служащих, сколько из совершенно самостоятельных лиц. Я уже упоминал о семье Яковлевых, княгине Оболенской, [о] Храповицких, Паниных, Кашкиных, Зыбиных и Головиных, прибавлю к ним старушку Сухозанет с сестрой своей Гежелинской и многочисленными племянниками и внуками, сыгравшими впоследствии роль в государственной жизни, почтенного старца Семена Яковлевича Унковского, семью Кологривовых, Сытиных... Всех не вспомню, но знаю, что общество было очень большое, и все те, которые вообще привыкли встречать Пасху в обществе, разгавливались у нас.
Задолго до того повар послан был в Москву на лошадях за провизией: розговни готовились чуть ли не неделю при помощи всех поваров, знакомых нашего. Присылки из Сергиевского были, несмотря на распутицу, чуть ли не ежедневные. Стол был накрыт не в столовой, а в зале и в гостиной; в столовой был лишь чайный буфет. Когда нас с сестрой привели в залу ко времени приезда всех из церкви, я был поражен красотой убранства стола и долго помнил это впечатление. Если бы не присутствие Саши Бенкендорфа, который своим присутствием все напоминал мне возможную скорую разлуку с сестрой и этим отравлял мне всякое удовольствие, я был бы очень доволен, до того вся обстановка была праздничная. Он приехал с родителями прямо из церкви. Просил он до того у моей матери позволение подарить Варе что-нибудь, но получил резкий отказ. Моя мать ему заявила, что он на это не имеет никаких прав, так как дядей он не захотел быть, а женихом еще называться не может. В выгодном положении очутился я,
81
получив от него большую коробку конфет. Моя сестра ходила еще в косе, и хотя многие, я думаю, удивлялись такому продолжительному и беспричинному пребыванию Саши Бенкендорфа в Калуге, никто, кажется, не додумался до истины и не мог предположить, что он сделал предложение сестре.
В течение этой зимы, постом, в Москве произошли студенческие беспорядки. Ввиду этого моя мать испугалась для меня университета, и было решено не помещать меня в калужскую классическую гимназию, как предполагалось, а в какую-нибудь военную. Выбор родителей остановился на 3-й петербургской военной гимназии, только что открытой военным министром Милютиным (впоследствии граф Дмитрий Алексеевич Милютин) на новых началах, без интерната и всесословной. Для этого надо было ликвидировать калужскую жизнь и переехать в Петербург. Я слышал потом, что отцу жаль было бросать свою службу, свою местную общественную деятельность; очень он настаивал отправить меня одного, указывая на пример своего детства, но моя мать ни за что на это не соглашалась. Встретила она поддержку и в Саше Бенкендорфе, который радовался перспективе переезда всей семьи в город, где он жил и служил. Моя мать, помимо нежелания со мной расставаться, выдвигала еще и тот довод, что Варе, прежде чем принимать серьезное решение выходить замуж в 17 лет, надо было видеть молодых людей и пожить в другой, более взрослой обстановке. Последнее соображение, вероятно, и заставило моего отца сдаться.
На Пасхе, после всяких разговоров и обсуждений, наш переезд в Петербург к будущей зиме был решен окончательно. Саша Бенкендорф уехал, обещав подыскать опытного преподавателя военной гимназии, который согласился бы приехать к нам на лето проверить мои знания и исправить все недочеты, причем еще в мае предполагалось ехать сговариваться с этим педагогом. Вскоре получено было известие, что такой педагог нашелся в лице преподавателя французского языка 1-го Кадетского корпуса (переименованного тоже в 1-ю военную гимназию) Витольда Станиславовича Игнатовича, но что последний находит целесообразнее проверить мои знания там же при посредстве специалистов-преподавателей, его коллег, и мои родители пришли к решению ехать нам дней на десять всей семьей теперь же в Петербург. Распростились мы с Калугой, с Nelly, поступившей к Кашкиным. Нюничка с Платоном Евграфовичем и Афанасием должны были перевезти вещи и всю обстановку квартиры в Сергиевское и там нас ждать. В это время Рижско-Вяземская железная дорога не была еще открыта для общего пользования, но дядя Саша Казначеев (сын Варвары Дмитриевны, сестры дедушки Волконского), правительственный инспектор при постройке дороги, устроил нам экстренный служебный поезд до Вязьмы под видом своей собственной поездки по делам службы и в прекрасном салон-вагоне со всеми удобствами довез нас до Вязьмы, где мы перешли в разряд простых смертных — обыкновенных пассажиров.
Провожало нас все калужское общество, заполнившее новый вокзал, впервые увидавший такое стечение публики. Много было высказано моим родителям добрых пожеланий и сожалений с ними расставаться. В Петербурге нас встретили Саша Бенкендорф и его старший брат Андрей. Остановились мы в Hôtel d’Angletter, против Исаакиевского собора, где заняли большой апартамент
82
в 4 комнаты (в 1904-м году я вновь останавливался в той же гостинице, отыскал этот номер и сколько мне вспомнилось, увидав ту же обстановку!). Прожили мы в этой гостинице дней 10 или две недели, не помню. Это время было одно сплошное веселье. Стояли знаменитые майские белые ночи. Каждый вечер мы или ездили кататься на острова, или куда-нибудь на пароходиках, или, наконец, в театр. Днем мы ездили на Петербургскую сторону к Игнатовичу, который приглашал своих товарищей-преподавателей меня проэкзаменовать. Первая поездка к нему мне памятна, но по совершенно особому случаю, не имеющему ничего общего с экзаменами. Поехал с нами и Саша, он с моим отцом на одном извозчике, я впереди их на другом. Мой был старомодный, так называемая «эгоистка», на круглых рессорах, висящий на ремнях; вдруг на одном толчке — выбоинами мостовая в той части города отличалась — меня подбросило на воздух, я не успел ни за что ухватиться и, совершив сальто-мортале на воздухе, распластался на мостовой. Мой отец подбежал ко мне, но я поднялся на ноги невредимый и, успокоив его, просил только нанять мне извозчика на лежащих рессорах, дабы здравым и без сотрясения мозга предстать на экзамен, хотя частный, все же для меня страшный.
При первом знакомстве с Игнатовичем он всем нам понравился. Странно было, что он преподаватель французского языка, так как говорил он на этом языке с дурным польским акцентом. Его учебники пестрили несообразностями. Помню такой пример: он приводил правило, что если к глаголу в неопределенном наклонении придать article, получается соответствующее действию имя существительное: среди нескольких правильных примеров приводил ошибочно и глагол «dormir» и придуманное им существительное «le dormir». Но по другим предметам Витольд Станиславович был очень образован, главное же, по русскому языку и литературе, и в военном педагогическом мире был очень ценим.
Проверив через товарищей-специалистов мои знания и выяснив недочеты, он взялся их исправить при условии усиленных занятий летом и с тем, чтобы до экзамена недели за две, за три я бы с ним приехал в Петербург, где он мне устроит приватные уроки по тем предметам, по которым я не буду достаточно тверд. Моя мать сейчас же его обласкала, расхвалила, отец мой по-старосветски захотел закрепить условие, пригласив его обедать, для чего купил какое-то особенное вино на стороне. Я был глубоко возмущен, когда гостиница вписала в счет какой-то сбор за выпитое вино, купленное в магазине; мне это представилось первым стеснением свободы и вмешательством чужих людей во внутренний наш распорядок. Осмотрев под руководством обоих братьев Бенкендорфов все петербургские достопримечательности и посетив некоторые окрестности, мы уехали обратно через Москву, сговорившись с Игнатовичем, что он приедет в Сергиевское в конце мая. Впечатление от Петербурга было у меня совершенно сказочное, пребывание в нем казалось сплошным праздником; как скоро, однако, увидав его в другой обстановке и при других обстоятельствах, я его возненавидел.
В Москве остановились мы на несколько дней у дедушки и бабушки Волконских в Хамовниках; они сами в это время были в Москве только наездом, так как дедушка со своей обычной стремительностью захотел немедленно заказать от себя моей сестре свадебный подарок. Жили старики внизу, в первом этаже,
83
остальная же часть дома была кому-то сдана, так что мы не могли повидать наши обычные комнаты. Больше мы потом дома этого не видали, так как вскорости он был продан моим дедом Ведомству императрицы Марии под Ксениевский приют. Перед продажей дома моя мать еще раз была в нем у своих родителей без нас; во время ее пребывания у бабушки была совершена крупная кража. Она, бабушка, все свои выигрышные билеты, а их было 80—100 штук, держала в ночном столике вместе со всеми остальными деньгами и бумагами под ключом, но верхний ящик не был заперт, и, выдвинув его, легко, безо всякого труда можно было все взять, что и сделал новый лакей дедушки, только что им нанятый безо всякой рекомендации. Обнаружила эту пропажу моя мать, посланная бабушкой вечером за деньгами для расплаты после карточной игры. К счастью, вор уже удалился, а то, несомненно, моей матери грозила бы опасность, так как у ночного столика нашли оставленные вором орудия не только для взлома, но и для самозащиты. На следующий день на ноги была поставлена полиция, но несмотря на то, что все номера выигрышных билетов были у бабушки записаны, ничего не удалось найти, хотя вор был обнаружен и задержан. На все прошения бабушки и на высочайшее имя, и государыне императрице, и разным министрам, которые она писала до конца своей жизни, получались отказы, ни билетов, ни дубликатов ей не вернули. Большое горе было бабушке, когда, проверяя тиражные таблицы, она удостоверялась, что на какой-нибудь из украденных билетов выпал выигрыш; впрочем, крупных, кажется, ни разу не выпадало. Возвращаясь к последнему нашему пребыванию в хамовническом доме, вспоминаю, как дедушка показывал заказанное им столовое серебро в подарок Варе, причем был спор о вензелях: дедушка хотел сделать по-новомодному, то есть выгравировать буквы «В» и «Б» — по фамилии мужа, а моя мать, как бы предчувствуя, что свадьба эта не состоится, настаивала на вензеле «В» и «О» — по девичьей фамилии [Вари], что, кстати, было и старомодным обычаем. Уехали мы из Москвы в Сергиевское с тем, что мои родители, когда я поеду в Петербург, проводят меня до Москвы, а затем поедут к дедушке и бабушке Волконским в Радушино.
Никогда я не забуду этого последнего лета детства, полного счастия в Сергиевском. Жили у нас Бенкендорфы и Жемчужниковы в полном составе: последние должны были к осени поселиться в своем новом имении Иерусалимском Смоленской губернии Ельнинского уезда, уступленном моим отцом тете Соне, почему этим летом был полный родственный съезд сестер моего отца, и съезд этот оказался и последним в жизни.
В конце мая, как было условлено, приехал Игнатович; отведена ему была кофейная комната, устроенная для него с особой заботливостью моей матерью; она со всем своим горячим материнским чувством хотела прочно к себе привязать человека, которому впервые должна была скоро доверить сына. Через несколько дней после его приезда она из его рассказов уже знала в мельчайших подробностях историю всей его семьи, особенности характера каждого члена той семьи, в которой предстояло жить ее сыну. Игнатович был интересным собеседником, прекрасно умел держать себя с достоинством и почтительной галантностью и, если имел какую-нибудь своеобразность, то только известную закругленность и законченность не только речи, но и действий, свидетельствовавших об особом
84
довольстве самим собой. Носил он длинную эспаньолетку, какие-то совершенно необычайные по длине ногти, курил толстые папиросы, коими затягивался так основательно, что весь дым без остатка вдыхал в себя. По вечерам играл у себя наверху на скрипке, но до перехода в число музыкантов нашей семьи не дошел: моя мать слишком хорошо понимала музыку, чтобы даже в угоду материнскому чувству способствовать Игнатовичу его дилетантской игрой привить нам дурные музыкальные вкусы.
Сколько и когда я занимался, я не помню, знаю, что весь день был занят, и были даже уроки, которые он мне давал, гуляя по саду. Только вечером я был свободен, и как тогда за мной ухаживали Варя, Лизочка Бенкендорф и Поля Жемчужников! Эти вечера оставили во мне какое-то особенное поэтическое и счастливое воспоминание. Часто мы катались и по возвращении вечером домой слушали издали пение горничных. Певали они обыкновенно на балконе моей матери, сидя на ступеньках лестниц, спускающихся в цветник. Замечательный был голос у горничной тети Сони Жемчужниковой — Агафьи, сестры садовника Ивана Степанова. Когда-то, в крепостное право, она была первым дискантом сергиевского церковного хора, голос у нее был чрезвычайно чистый и задушевный, пела она старинные песни, большей частью грустные; Агафья запевала, остальные горничные ей вторили. Заслушивались этими песнями не только мы, дети, но и взрослые. Для меня они были настолько сильным, ярким впечатлением, что остались в моей памяти как бы фоном последнего лета моего беззаботного детства.
В это лето меня, как уезжающего, Мама́ как-то особенно баловала, ласкала, и не раз я ловил ее взгляд, устремленный на меня с какой-то тоской. Папа́ же все рисовал мне перспективы мужского отношения и мужской точки зрения на разлуку с семьей; и как я неоднократно после таких разговоров и утешений отца жалел, что я мальчик, а не девочка!
Даже по воскресеньям я занимался, хотя и облегченно, но 5-го июля дядя Сережа Бенкендорф ради своих именин выторговал мне полный вакант. Уже не мать назначила мне вакант, а Витольд Станиславович, и обидно мне было, что распоряжается мною чужой человек — Игнатович. Свободный этот день я использовал для прощания с Сергиевским, так как через два-три дня назначен был и наш отъезд; объехал я на Брильянте с Трифоном все мои любимые места, осмотрел всех лошадей, вечером по моему выбору был устроен пикник, а накануне отъезда и утром в самый день я обегал всю усадьбу, весь дом, сад, чуть ли не перецеловал все деревья.
Уехали мы какого числа — не помню, знаю только, что двинулись в путь все сразу. Тогда Рижско-Вяземская дорога уже функционировала, из Калуги шел на Вязьму беспересадочный до Москвы вагон-микст 1-го и 2-го класса; в Вязьме от нас отделились Жемчужниковы; Бенкендорфы же доехали с нами до Москвы, где все должны были разъехаться в разные стороны. До Ферзикова (наша станция) я ехал верхом на Брильянте и изо всех сил крепился, чтобы не расплакаться, прощаясь со всеми нас провожавшими. Утром на следующий день часов в десять мы уже были в Москве. Остановились мы в гостинице «Славянский базар» на Никольской улице. В тот же день я должен был уехать с Игнатовичем в Петербург в четыре часа с почтовым поездом. Времени до отъезда было мало,
85
почему моя мать почти тотчас по приезде поехала со мной к Иверской и в часовню Спасителя; по дороге купила мне Евангелие, в котором сделала надпись, завещая мне читать его ежедневно. Поездка была грустная, Мама́ все плакала, да и я тоже. Когда мы вернулись в гостиницу и отец увидал наше состояние, он объявил, что лучше для Мама́ и для меня, чтобы никто не ездил на вокзал меня провожать кроме него и дяди Сережи Бенкендорфа.

Имение Трубецких Меньшово в Калужском Уезде Калужской губернии.
80-е годы XIX века. Частное собрание, Париж
Не помню, как я простился с Мама́, одно помню ясно — ее фигуру в дверях номера, даже без слез на глазах, опирающуюся о косяк двери и поддержанную Варей; обе смотрят на меня и благословляют, пока я медленно, все оглядываясь, спускаюсь с лестницы.
Я не мог не оценить в эту минуту деликатности В. С. Игнатовича, который все утро этого дня стушевывался; впервые я его только помню уже в вагоне, где он как-то хозяйственно деловито меня обдумывал. Устроил он мне свободное место у открытого окна, чтобы я мог до последней минуты разговаривать с отцом и дядей, стоявшими на платформе у вагона. Самое жгучее горе — прощание с матерью — было уже позади, но когда поезд двинулся и я потерял из виду отца, во мне как бы что-то оборвалось.
Потом я ясно осознал, что оборвалось, и безвозвратно оборвалось, мое счастливое беззаботное детство. Это была первая разлука с семьей. В жизни своей я испытал потом много счастья и радостей, но и в самые счастливые минуты
86
были какие-нибудь осадки забот, воспоминания, новое счастье искупалось потерей чего-то старого, которое тоже было дорого. В детстве именно никогда не ощущалось еще этих осадков, отравляющих иногда самые счастливые минуты: забот никаких, и старого, прошедшего не жаль, ибо оно еще не существует, все пока настоящее. Для меня эта беззаботная пора жизни окончилась с первой разлукой с семьей. Отныне мне приходилось жить среди чужих людей, нужно мне было самому завоевать, заслужить свое положение среди них. Впервые я это ясно ощутил с поступлением в гимназию, почему следующую главу и озаглавлю словом «Гимназия», хотя далеко не все, что там будет описано, касается только одной гимназии.
87
Глава III
ГИМНАЗИЯ (1875—1878)
Поезд уже далеко отъехал от Москвы, когда я, наконец, отошел от окна, в которое я последний раз высунулся, надеясь увидать фигуру отца. Отошел я и осмотрелся. В те времена вагоны 2-го класса Николаевской железной дороги были особого устройства: в середине был как бы салон с 4-мя диванами кругом стен и с большими окнами на противоположных стенах, посреди этого отделения стоял стол, что придавало еще больший уют. В таком отделении Витольд Станиславович и занял нам два дивана. Понимая мое душевное состояние, он совершенно оставил меня в покое, только незаметно следил за мной и с любовью обдумывал. Потом уже он разложил дорожную чернильницу и все нужные принадлежности для корреспонденции. За один переезд этот до Петербурга он написал, кажется, три письма моей матери; потом уж он вел дневник, касающийся моей жизни в самых мельчайших подробностях, и ежедневно отсылал отчет предыдущего дня. Конечно, и я писал ежедневно и так же получал письма. Мама́ завещала все мои письма за время этой разлуки положить после ее смерти к ней в гроб, что вспомнила и исполнила моя жена.
Это был первый вылет из гнезда одного из детей. Образ жизни семьи с тех пор начал меняться, и лишь летом, возвращаясь в деревню, бывало короткое временное повторение прежнего размаха, приволья и широты, но все это отравлялось сознанием вновь скорого отъезда и еще более подчеркивало неприглядность стесненной петербургской жизни.
Для меня эта разлука была невыносимо тяжела. Отец мой не принял во внимание разновидность моего с ним характера, а то он не решился бы в такое время, когда требовалось напряжение всех моих сил к предстоящим экзаменам, подвергать меня такому опыту мужского воспитания. Я как ни крепился, в течение всей этой разлуки пользовался каждой минутой одиночества, чтобы обливаться слезами, и все это кончилось болезнью, разыгравшейся осенью после экзаменов и прибытия семьи. Образумило меня отчасти знакомство с одним мальчиком, бывшим в еще худших условиях, но об этом расскажу в своем месте.
Приехали мы с В. С. Игнатовичем в Петербург утром и сейчас же через весь город переехали на Финляндский вокзал, так как семья его жила на даче в Парголове. Ехали мы с различными чувствами: я — убитый горем, он — полный радости от ожидания свидания с семьей, которую он очень любил. Несмотря на бесчисленное количество поездов по Финляндской железной дороге он, с присущей
88
ему аккуратностью и методичностью, точно заранее написал жене, к какому поезду выйти нас встретить на станцию Парголово 3-е, и даже вперед заказал несколько блюд, приноравливаясь к моему вкусу. Меня поразило, как новинка, что мы с ним сели в вагон 3-го класса. На этой дороге были какие-то особые, чуждые мне порядки. Сразу он встретил нескольких знакомых, и я как-то еще более почувствовал свое одиночество.
На перроне станции нас встретила его жена Констанция Львовна со всеми детьми, которых было много: помню Костю и Витю, оба были моложе меня; с Костей потом мы жили в одной комнате. С вокзала пошли мы пешком. Дети меня дичились, я их — еще больше. Родители Игнатовичи шли сзади под ручку и так были счастливы встрече, что забыли про меня; но вскоре Констанция Львовна, добрейшей души женщина и очень чуткая, стала мною заниматься и до конца моего пребывания у них всегда была со мной особенно ласкова. Вероятно, по молитвам моей матери я попал в такую исключительно хорошую семью, где семейный строй и дружба всех ее членов напоминали нашу семью; быт же был, понятно, совершенно другой; в этом отношении мне надо было ко многому, более простому, чем я привык, приучиться. Дача была простая большая чухонская изба, где главной комнатой была терраса во весь дом. Привычки семьи Игнатовичей и обстановка их жизни были самые простые, непритязательные. Помню, как кто-то из детей, желая меня угостить, предложил мне карамельку, которую он сосал, и ввиду моего отказа, передал ее одному из своих братьев, который ничуть этим не побрезгал. Иногда, как исключительное удовольствие, нанималась простая чухонская телега, и, трясясь в ней немилосердно, ехали все кататься. Мне особенно тяжело было в наши семейные праздники: 13 июля — день рождения сестры и 22 июля — день именин матери. Игнатович понимал это, но старался эти дни отличить, позабавить меня. Из его переписки с моей матерью видно было, как он за мной следил. По воскресеньям приезжал Саша Бенкендорф и увозил меня в Петербург, где особенно баловал. Для меня он был кусочком моей семьи отблеском счастливой калужской жизни, и как поэтому я ждал его приезда!
Занимались мы с Витольдом Станиславовичем очень много, и под конец он стал меня возить по соседним дачным местам к своим коллегам по 3-ей военной гимназии, куда только что был переведен преподавателем французского языка в младших классах. Таким образом, были мы с ним у учителя немецкого языка Андриевского, у учителя математики Сербулова и у какого-то законоучителя, но не моей будущей гимназии. У Андриевского я встретился с тем мальчиком, товарищем по несчастью, который, как я сказал выше, отрезвляюще на меня подействовал. Его поместили к Андриевскому тоже для подготовления к экзамену, но он должен был поступить в 1-ю военную гимназию интерном, так как родители его уехали надолго и далеко, если не ошибаюсь, в Америку, и, во всяком случае, разлука с ними предстояла многолетняя. Мне же мои обещались приехать тотчас по окончании экзаменов. Мальчик этот был очень жалок; он был моложе меня на год, ему было 13 лет. Высокого роста, стройный, с замечательно лучистыми глазами, выговор у него был с иностранным акцентом, кажется, он был финляндского происхождения. Разговорившись с ним, я увидал в нем такую же муку, как и я переживал, но с гораздо большей выдержкой и силой воли, так что
89
я застыдился. Больше мы с ним не встречались, судьбы его дальнейшей не знаю, но знакомство с ним, хотя [и] столь мимолетное, меня встряхнуло.
Ко времени экзаменов мы с Игнатовичем переехали в Петербург к Бенкендорфам, которые нас приняли и приютили. Жили они на Сергиевской улице, а 3-я гимназия тогда помещалась на углу Литейной и Кирочной в здании, где последнее время была гостиница Армии и Флота. Дом этот тогда был деревянный и одноэтажный, назывался «Аракчеевским», так как некогда был помещением этого всесильного временщика. Чтобы приспособить здание, довольно низкое, под гимназию и соблюсти требования гигиены о кубическом содержании воздуха, полы понизили так, что при входе надо было спускаться [на] 5 или 6 ступенек, и в рекреационной зале, кроме того, уничтожили потолок и лишь самую крышу и стропила с внутренней стороны обшили нетеплопроводным материалом.
Гимназия еще не имела полного комплекта, в этом году в ней открылся лишь 6-й класс; я держал экзамен в 5-й. В этот класс нас держало экзамен несколько человек, поступило же лишь четверо, из коих помню фамилию одного — Комарова. Первый экзамен был письменный — русский; помню, что результатом его Игнатович был очень сконфужен: я сделал недопустимое количество ошибок и по правилам не мог продолжать экзаменоваться. По усиленным просьбам Витольда Степановича, доказывавшего, что на меня подействовала необычайная обстановка, что я растерялся, мне позволили дальше экзаменоваться. Остальные экзамены были настолько блестящи, что я с гордостью увидал по окончании экзаменов в списке выдержавших мою фамилию первой, несмотря на злосчастную первую диктовку или изложение, не помню, за которую мне с натяжкой поставили 7 (по двенадцатибалльной системе). По окончании последнего экзамена, 5-го августа, довольно поздно вечером вернувшись из гимназии, я увидал в передней знакомую мне шляпу моего отца, которого с Мама́ и Варей я ждал, как они, писали, дня через три. Я взвизгнул от неожиданного счастья и побежал его искать. Помню, что мы раза два обежали квартиру друг за другом, пока не встретились с отцом; это была прямо безумная радость, а когда я узнал, что Мама́ и Варя в Петербурге, я себя не помнил. Как я доехал с Сергиевской до Малой Морской, где в гостинице Grand Hôtel остановились мои родители, как я влетел в их апартаменты, как я повис на шее Мама́ — не знаю, но помню, что я весь день ни на минуту от нее не отходил, что нашел ее и похудевшей, и постаревшей, и смотря на ее изменившееся лицо, действительно, стал понимать, что я любимец моей матери.
16 августа я должен был явиться в гимназию. До этого дня я разъезжал с моими родителями по городу для заказа моей новой обмундировки и в поисках квартиры для всей семьи. Но, наконец, отец мой взял квартиру на Надеждинской улице в доме Благосветлова. Хотя никаких приемов не предполагалось, по старинным понятиям при распределении комнат были выделены, в ущерб жилым комнатам, не только столовая, гостиная, но и зала. Кабинет моего отца был вместе с тем и моей комнатой, чем я отцу не мешал, так как полдня проводил в гимназии. Отец мой, по желанию Ольги Михайловны Полторацкой, был назначен опекуном ее детей; старшие мальчики Митя и Сережа должны были в течение
90
зимы поступить в мою же гимназию в 1-й класс, почему и для них была оставлена комната.
Первая эта петербургская квартира была и первым нашим стеснением. Чтобы по возможности ее обуютить, выписали из Сергиевского Афанасия и столяра, и они вдвоем начали ее устраивать, но трудно было ее приспособить к тому, к чему мы раньше привыкли; комнаты были маленькие, столовая темная, в передней за ширмами спал единственный лакей, а в антресолях, где жили Полторацкие, Нюничка, Платон Евграфович и горничная, было так низко, что местами трудно было выпрямиться. Платона Евграфовича мой отец предполагал оставить в Сергиевском, но когда узнал это наш старик, он пришел к моей матери и вдруг необычно стал просить его взять: «Не могу-с, матушка, без Вас помру-с, ей Богу, помру-с». И решено было и Платона Евграфовича везти с собой.
Первое время моего пребывания в гимназии подробно не помню, но никакого дурного, плохого воспоминания этот первый период моей школьной жизни, во всяком случае, во мне не оставил. 3-я гимназия была первая военная гимназия всесословная, почему среда моих товарищей была самая разнообразная, большинство из них были сыновья мелких чиновников, учителей, был сын извозчика. Не помню, чтоб кто-нибудь из них поражал своей невоспитанностью, выделялся бы; наоборот, все были какие-то мягкие, ласковые, очень дружные, ко мне относились покровительственно и часто отгоняли во время общего разговора, когда сюжетом было что-нибудь гривуазное, неприличное. Особенно дружен я был с Божеряновым, с которым первые два года сидел на одной парте. Большим моим приятелем был некто Ивченко — остроумный хохол, недовольный своим семейным положением, почему напускал на себя какой-то тон непонятого, разочарованного, меланхоличного человека. Он рисовал какие-то фантастические картинки непременно с таинственным лунным освещением и мне он подарил несколько таких своих рисунков. Домами я знаком был с семьей товарища моего Николая Давыдова, двоюродного брата того, с которым я познакомился ребенком в Карлсбаде. Начитанным у нас в классе считался Неслуховский, сын учителя другой гимназии; с ним впоследствии готовился я к выпускным экзаменам. Правофланговыми были у нас Сахаров и Планстон: первый был добродушнейший недалекий малый, над которым весь класс потешался, рассказывая ему всевозможные небылицы, которым он всегда верил; второй — огненно-рыжий — весельчак, но большой дразнила. Общим ментором для всего класса был Руднев с насквозь пронизывающим взглядом и с мгновенно вспыхивающим на лице румянцем, как только он видел самую малую, по его мнению, несправедливость. Помню еще хорошо Грум-Гржимайло, у него были братья чуть ли не в каждом классе; их была в гимназии целая плеяда, все очень худые, с обезьяньими физиономиями, юркие, живые, ловкие и большие шалуны. Самые маленькие по росту были Бушуев, сын содержателя карет, возивших актеров Императорских театров, и Попов. Бушуев был очень усидчивый в занятиях и благодаря этому, несмотря на малую способность, всегда был в первом пятке. Я и Давыдов по тому кругу, к которому принадлежали, по тому воспитанию, которое получили, были серьезнее и основательнее других подготовлены, но к нам и требования предъявлялись более строгие; товарищи же совершенно нас не отличали,
91
только один П... был мне неприятен по какому-то угодливому со мной тону. В 12 часов во время большой перемены мы могли завтракать провизией, принесенной нам из дому. Мне присылали, заботами моей матери и Нюнички, всегда что-нибудь горячее: свежеиспеченный пирог, котлеты, вложенные в хлеб, яйца и т. д.; сейчас же подходил этот П... выпросить себе что-нибудь, так что узнав про это, моя мать стала присылать двойную порцию — на него и меня. По какому поводу, не помню, но этот П... скоро покинул гимназию.

София Алексеевна и Николай Петрович Трубецкие с дочерьми Ольгой, Мариной и
Александрой и Эмилия Алексеевна и Павел Алексеевич Капнисты с сыновьями
Алексеем и Дмитрием. 1889—1891. Частное собрание, Париж
По окончании гимназии мне в жизни пришлось вновь встретиться лишь с одним товарищем — Глушковым; было это в Харькове, я был вице-губернатором, он земский начальник; всех же остальных, за исключением Давыдова, с которым я перешел в Пажеский корпус, я потерял из виду. Я обязан подчеркнуть, что мои родители, и особенно мой отец, голос которого был решающий в этом вопросе, действительно сумели выбрать для меня подходящее учебное заведение: как дух гимназии, так ее строй и все преподавание были глубоко продуманы ее основателем Милютиным, очень часто нас посещавшим. Директором был генерал Дитерихс; в последний год моего пребывания в гимназии он был переведен на ту же должность в Пажеский корпус, а к нам назначен полковник Рудановский. Дитерихс был строгий, педантичный немец, мы его очень боялись, хотя я не помню не только его возвышенного голоса в гимназии, но даже чтобы он сделал кому-нибудь строгий выговор; ограничивался
92
он тем, что лишь укоризненно качал головой. В течение дня не менее двух-трех раз он обходил всю гимназию без всякой помпы, неожиданно появляясь то здесь, то там. Речь его была с заметным немецким акцентом, говорил он публично лишь при общем собрании всей гимназии для объявления какого-нибудь выдающегося дисциплинарного постановления Педагогического совета, и тогда его высокая военная фигура с совершенно лысой головой и с седыми усами производила на нас внушительное впечатление среди всех остальных педагогов в вицмундирных черных фраках. Достойным ему помощником и, пожалуй, и душой гимназии был инспектор Павел Игнатьевич Рогов, тщедушный, среднего роста, с мягкой, неслышной походкой, всегда в образцово сшитом вицмундирном фраке. Он появлялся в классе с руками за спиной или поглаживая свою светло-русую бородку. Нам он преподавал историю. Трудно было себе представить более интересного преподавателя, когда он разбирал какой-нибудь исторический факт и доискивался корней его происхождения. Не знаю, были ли его доводы строго научные, не было ли в них примеси субъективных впечатлений и симпатий, выдержали ли они серьезную, обоснованную критику, не берусь судить, но нас он своим методом приучил к продуманному анализу. Мне казалось, что в душе он был, как тогда принято было называть, либералом. Неоднократно он тонко и зло иронизировал над изнеженностью, в какой бы форме и степени она ни проявлялась, сопоставляя ей грубый самородок. Не думаю, чтобы он меня любил, но отдавал мне справедливость, а впоследствии, удостоверившись в моих математических способностях, горячо уговаривал поступить в университет. Мы все его очень боялись, но любили и исключительно ценили одобрение или похвалу его. Из учителей выделялся законоучитель протоиерей Середонин; он единственный из всего педагогического персонала говорил нам «ты». Каждый его урок был живой нравственной беседой. Помню, как однажды пришел он к нам очень взволнованный и тут же стал рассказывать, что в учительской комнате имел столкновение с нашим учителем танцев Богдановым (он же был режиссер Императорской балетной труппы). Поспорили на тему: важно ли преподавание танцев или нет? Богданов, посвятивший всю свою жизнь этому занятию, очень огорчился мнению о неважности этого предмета, и батюшка наш жалел, что его обидел, и по этому случаю прочел нам длинное нравоучение о том, что всякое занятие «во славу Божию» почтенно и никогда не нужно оскорблять человека, доказывая ему тщетность его трудов. Отец Середонин очень своеобразно оценивал баллами ответы учеников: новичкам в первую четверть по двенадцатибалльной системе он никогда не ставил больше семи, а во второй четверти он ставил либо восемь, либо 12; только и были у него две оценки, притом невзирая на качество ответа, а лишь на личность отвечавшего; при этом, если удивлялись слишком плохой или несоответствующей знанию высокой отметке, он пенял: «Ты, друг мой, хоть все тексты выучи наизусть, меня не убедишь, что ты закон Божий знаешь и понимаешь, если ты себя плохо ведешь, а потому более 8-ми не поставлю, а другой, хоть и текст забыл или не выучил, но ведет себя хорошо и поведением своим доказывает, что Бога чтит и его слушается — значит он закон знает, почему и ставлю ему 12».
93
Я помню, что такое простое и мудрое учение об исповедовании в жизни закона Божия на нас очень влияло. Батюшка не был аскетом, имел вид довольно упитанного человека, но, несомненно, нас искренно любил и мы отвечали ему тем же.
Из других учителей особенно памятен мне математик Гавриил Иванович Сербулов, о котором говорил выше. Он великолепно преподавал математику, формулы выводил блестяще и красиво, очень ясно и логично. Его отношения ко мне были какими-то очень странными: он вдруг совершенно неожиданно, через Игнатовича, с которым я продолжал видеться, попросил меня крестить у него сына. Можно себе представить, как я был сконфужен, когда для этого приехал к нему. Что его побудило меня, незнакомого ему мальчика, позвать в кумовья — не знаю. Когда я был уже в 7-м классе, делалось учебным начальством конфиденциально расследование по поводу моих посещений семьи Сербуловых, у которых я бывал, чтобы навестить своего крестника. Тогда строго запрещалось учителям гимназии давать приватные уроки ученикам своей гимназии. Дозналось ли начальство, в чем дело, — не знаю, но думаю, что всем было ясно, что по своим математическим способностям я не нуждался ни в помощи учителя, ни в его потворстве. Так или иначе, но об этом расследовании скоро и перестали говорить. Помню такой случай: я никак не мог дома решить заданную задачу; наконец, уставши и не добившись результата, лег спать и вижу сон, что сижу в классе, входит Гавриил Иванович, и ему класс заявляет, что никто задачи не сделал; тогда он с укоризной на меня посмотрел и сказал: «Неужели и Вы такую легкую задачу не одолели?» и тут же на доске написал формулу, по которой она решалась. Я проснулся, тут же записал виденную во сне формулу, проверил ее вывод и способ решения по ней, и задача была решена верно уже наяву.
Учителем русского языка был Цветков, стремительный человек, очень вспыльчивый, с зачесанными назад прядями волос, развевавшимися от его быстрой походки. Первый год я был у него на наилучшем счету, но к стыду своему должен сознаться, что домашнее сочинение или поправлял мне, или составлял Игнатович. Как могли мои родители не только допускать и не только потворствовать, но прямо требовать от меня такого надувательства своего учителя — до сих пор не пойму. Быть может, моя мать винила себя, что в детстве пренебрегала для меня родным языком, отчего я мог теперь пострадать, и потому готова была взять этот грех на свою душу. Я сам строго, продуманно и настойчиво, невзирая на неудовольствие товарищей, придерживался правила не только не слушать подсказов, не отвечать по шпаргалкам, но и сам никогда не подсказывал, а лишь дома, по настоянию родителей, пользовался посторонней помощью для сочинения и рисования географических карт. В последнем изощрялся мой отец, всегда любивший черчение. У этого Цветкова я получил единственные за все мое пребывание в гимназии два плохих балла — пять и четыре, последний совершенно незаслуженно. Цветков был особенно не в духе, влетел в класс, вызвал меня первым и велел написать на доске для разбора сложное предложение. Я исписал всю доску и отошел, ожидая, когда он начнет спрашивать. Цветков подошел к доске, ткнул пальцем на описку (вместо «который» я написал «кокоторый») и, не спросив, поставил четыре и посадил на место. Как-то раз он спросил
94
в классе, нет ли у кого сочинений Никитина, последнее издание которого было все распродано. Я, убежденный, что оно у нас имеется, обещал ему его принести к следующему уроку. Придя домой, я узнал, что ошибся тогда, по глупости спутал сочинения Никитина с Некрасовым. Рассказал я про это моей матери, она пришла в ужас, что Цветков поднимет меня на смех или того хуже — начнет мне мстить, и решила во что бы то ни стало, несмотря на трудности и возможную дороговизну, найти и приобрести это сочинение. Дня два или три Мама́ посвятила на эти поиски и, наконец, за огромную цену приобрела сносный экземпляр у какого-то букиниста.
По всем предметам я шел от самого начала очень хорошо, одна естественная история мне не давалась. Правда, что преподаватель Кирпотенко совсем не умел нас заинтересовать своим предметом, до того сухо он его излагал. Среди года он неожиданно задал нам классную письменную работу на тему: почему растение нуждается в дыхании? Я встал в тупик, совершенно не зная, отчего растение дышит. Чтобы вывернуться из этого глупого положения, я написал целый трактат в 4 страницы, доказывая, что между людьми и животными есть переходная стадия в лице обезьяны, а между животными и растениями — в лице губки, а потому, если человек нуждается в дыхании, то и растению оно необходимо. Кирпотенко, по окончании поверки этой работы, отозвал меня и с улыбкой сказал, что за высказанные знания я заслуживаю нуль, но за оригинальный способ выйти из затруднения он мне, чтобы не вредить, поставит шесть (!), надеясь, что во втором полугодии я подзаймусь, тем более что это был последний год преподавания естественной истории.
Учителя физики и географии — Ковалевский и, кажется, Воронецкий — были для нас, гимназистов, слишком крупными величинами, а мы для них слишком мелкими сошками, они нами не интересовались и потому и пользы не приносили.
Фамилии француза не помню; был он громадного роста, прямо великан, в очках, с сабельным шрамом около правого виска. Мы, гимназисты, уверяли, что он тамбур-мажор наполеоновской армии, взятый в плен в 1812-м году.
Немец Андриевский, о котором я уже писал, выбрал из нас несколько человек и заставил разучить наизусть сцены из разных драм Шиллера. Среди выбранных, конечно, оказались Давыдов и я. В сущности, преподавание иностранных языков тем, которые не получили домашней подготовки, ничего не давало, а для меня, говорившего на них свободно и прошедшего дома значительно больше программы гимназического курса, это было потерей времени, но зато давало мне два лишних хороших балла в аттестате.
Из военных предметов проходили маршировку, военный строй и гимнастику, а для хороших манер — танцы, причем Богданов, порхавший по зале, заставлял нас, выстроенных в одну шеренгу, проделывать разные позиции и по его команде выступать chasse направо, два chasse налево и т. д., кончался урок общими танцами под музыку одиночной скрипки. Мне обыкновенно выпадала роль дамы за мой небольшой рост.
Весь строй гимназии держался на трех воспитателях: Ниле Николаевиче Корыстеневе, Трофимове и Моисеенке; между ними поделены были все классы. Нашим воспитателем был Корыстенев; обязанность его состояла в том, чтобы до
95
начала уроков проверить, кто не явился, отметить их для справки почему, заставить при себе пропеть молитву, а после уроков отпустить, сделав соответствующие замечания или указания по поводу нашего поведения или учения; сноситься в случае необходимости с нашими родителями. И как Нил Николаевич делал это мягко и ласково! Мы его исключительно любили. Он был очень высокого роста, худой, с маленькими усиками, со всегда взбитым хохолком на правой стороне головы, почти никогда не улыбался, но также никогда не возвышал голоса. Остальные два воспитателя: Трофимов, по прозвищу «Бульдог», всегда кричал, кипятился; другой — Моисеенко, по прозванию «Лиса», вкрадчиво подслушивал разговоры. Когда один из них дежурил, стоял шум и гвалт, когда же Корыстенев был дежурным, он, не имевший никакого шутливого прозвища среди гимназистов, спокойно расхаживал по рекреационному залу, окруженный нами, с ним беседовавшими; порядок был, так как он не мешал веселью, но многие предпочитали беседу с ним.
Я помню один случай со мной, доказывающий, как он чутко понимал юношескую психологию. После уроков мы всегда довольно долго дожидались: сперва он отпускал младшие классы, мы были у него последние. Однажды, дожидаясь его, мы стали возиться с маленьким Поповым, причем я нечаянно замазал ему спину мелом. Неожиданно вошел Дитерихс, возню нашу не застал, но заметил запачканный мундир Попова и, пока дежурный Комаров ему рапортовал, укоризненно покачал головой и удалился, не сказав ни слова. Пришел, наконец, Нил Николаевич и потребовал дневники Комарова и Попова, объявив им, что по приказанию Дитерихса они оставлены в гимназии на час. Я тогда заявил Корыстеневу, что виноват я, а не Попов, почему просил в таком случае и на меня наложить то же наказание, на что получил ответ, что про меня Дитерихс ничего не приказал; когда же я настойчивее стал доказывать, что в таком случае это будет несправедливость, он взял и мой дневник. В дневниках была графа для сведения родителей, какое и за что наложено наказание; дневники возвращались нам дежурным воспитателем по отбытии наказания. В этот день дежурным был Моисеенко. Все оставленные собирались в одной из классных комнат младшего возраста. Стыдно было нам, пятиклассникам, а может быть, даже шестиклассникам, так как не помню, в каком году это было, отсиживаться целый час с малышами. Моисеенко взглянул на меня удивленно: это было мое первое и единственное взыскание за все гимназические годы. Но какое хорошее чувство овладело мною, когда Моисеенко, наконец, вернул мне дневник, и я прочел надпись, сделанную широким размашистым почерком Нила Николаевича: «Оставлен в гимназии по собственному желанию». Наказание я отбыл, но что я отбыл его добровольно, по чувству товарищества, подчеркивалось этой отметкой. Дневник этот я всегда хранил как немой свидетель чуткости незабвенного, любимого воспитателя. Зато как мы были огорчены, когда при переходе в 7-й класс воспитателями старшего возраста были назначены офицеры. К нам назначен был полковник Бутовский; штатские воспитатели остались в младших классах. Зазвали мы к себе в класс Нила Николаевича, благодарили его, качали, как тогда водилось, поднесли ему подарок и потом, встречая его на улице, несмотря на штатское платье, всегда демонстративно делали ему фронт.
96
При поступлении в гимназию новичкам [в] первую четверть не разрешалось надевать погоны, а если они в это время нехорошо себя вели, то срок этот еще удлинялся. Форма одежды соблюдалась очень строго и менялась приказаниями: до 1-го сентября ходили в белых штанах и если надевали шинель, то только внакидку, застегнутую на одну верхнюю пуговицу; затем черные штаны и обязательно та же шинель внакидку до 1-го октября. С 1-го октября по 1-е декабря полагалось надевать шинель в рукава и с кожаным поясом (портупея), а с 1-го декабря к этому прибавлялся башлык с перекрещенными на груди концами, заткнутыми за пояс. Надевать башлык на уши строго запрещалось, для этой цели были черные наушники, которые обязательно надевались начиная с 10° мороза. Малейшее отступление от формы — выпущенные белые воротнички, такие же манжетки — преследовались жестоким образом. При выходе из гимназии новичков осматривал каптенармус.
Как только я впервые надел гимназическую форму без погон, я отправился с моей матерью на Николаевский вокзал кого-то провожать, хотелось мне покозырять офицерам, но, по своей неопытности, я чуть не влетел в неприятную историю, отдавши честь офицеру и не встав для этого со скамейки, на которую мы с Мама́ уселись на перроне вокзала. Офицер этот оказался добродушный, вероятно, понял, с кем имеет дело, и только крикнул мне, улыбаясь: «Надо вставать!», что я тут же хорошо запомнил. Получил я погоны по окончании первой четверти (погоны наши были белые суконные), и в первый же день захотелось в них пощеголять в театре, куда ехали мои родители. Нюничка поддерживала мое желание на своем ломаном русском языке: «Madame, il faut qu’il montre ses паганы». Самым большим наказанием в гимназии было снятие погон. Пуговица, на которую застегивался погон, оставалась, почему с первого взгляда можно было отличить штрафного от новичка. За три года моего пребывания в гимназии было два таких случая: объявлялось и приводилось в исполнение это наказание торжественно, почему производило всегда сильное, неприятное впечатление. Раздавалась команда по всем коридорам: «Строиться по классам!»; затем под командой своих дежурных классы выходили в рекреационный зал, где строились покоем (на три фаса). Когда вдали появлялся директор с Педагогическим советом, дежурный воспитатель командовал: «Смирно!». Директор по-военному с нами здоровался, после чего громогласно объявлял, что такому-то за такой-то проступок Педагогический совет определил снять погоны на такой-то срок. Виновный вызывался на середину, раздавался барабанный бой, подходил каптенармус и под дробь барабана срезал оба погона. Оба раза наказанные плакали, а многих из нас била мелкая дрожь. Впоследствии, когда я уже был офицером, в военных гимназиях было восстановлено телесное наказание. Полторацкие, в классе которых раз была применена эта мера, рассказывали мне, что впечатление было не более сильное, чем при снятии погон. Упоминаемые мною два случая были последствием следующих проступков: 1) гимназист был уличен в курении на улице и 2) гимназист был встречен на улице начальством не по форме одетым и, что еще хуже, с колодой карт в руке, которую он открыто куда-то нес. Гимназист со снятыми погонами редко выходил из своего класса, где товарищи его
97
оберегали от излишнего любопытства посторонних, относясь к нему, как к тяжелобольному.
Когда я был в 6-м классе, один мой товарищ, а именно Ивченко, чуть не был уволен по недоразумению. Произошло это так: Ивченко возился с Сахаровым и уронил его на спину на парту, на которой лежал открытый перочинный ножик, поранивший Сахарова в спину. Последний пошел обмываться в уборную и, когда снял мундир и увидал окровавленную рубашку, неожиданно, несмотря на свою великовозрастность, упал в обморок. Инспектор наш Павел Игнатьевич, которому об этом донесли со стороны, не разобрав хорошенько, в чем дело, влетел к нам в класс бледный, взволнованный, и прерывающимся голосом приказал Ивченко собрать свой ранец и уходить домой, с тем чтобы более в гимназию не возвращаться. Я помню наступившее гробовое молчание, после этого окрика все мы замерли на своих местах, а бедный Ивченко, уложив трясущимися руками свой ранец, вышел, ни с кем из нас не простившись и только поклонившись инспектору, который, изгнав от нас такую «заразу», тоже ушел вслед за ним. Уроки продолжались, но шли отвратительно, все были взволнованы происшедшим. Учителя нам сочувствовали. По окончании уроков, когда пришел Нил Николаевич, мы все, и Сахаров первый, ему объяснили, как было дело. Он слушал внимательно, попенял на Сахарова, который своей излишней мнительностью поднял весь этот переполох, попутно и разбранил его за возню, совершенно уже неподходящую к его большому возрасту, но определенно ничего нам не обещал. Все же несомненно стараниями и настойчивостью Корыстенева, через несколько дней вся эта история была распутана, приняла должную окраску простой возни, правда, запрещенной, но уже не такой преступной, и Ивченко был вновь к нам водворен в класс тем же Роговым, который сказал несколько теплых слов, пожалев о своей горячности. Понятно, этот случай вселил в нас еще более уважения к нашему инспектору и любви к нашему воспитателю.
Дома я вставал очень рано, доделывая свои уроки утром, иногда в 5 часов. Перед уходом в гимназию поила меня чаем Нюничка, которая когда бы ни легла накануне, всегда вовремя вставала, не позднее 7-ми часов. Затем я прощался с родителями, с Варей, для чего входил в их комнаты и будил их, и уже в 8 и три четверти утра был в гимназии. Возвращался я домой около 4-х часов дня, в передней меня встречали все члены семьи, находившиеся в то время дома, и я тут же в передней должен был сообщить, какие я получил за день баллы, а уже потом рассказать подробно свое времяпрепровождение. Эти рассказы были довольно однообразны, кроме тех дней, когда бывали такие события, как только что мною рассказанные. Еще интереснее были им рассказы в дни посещения гимназии военным министром Милютиным и раз — государем. Милютин часто посещал нашу гимназию, а когда ее перевели на Садовую, через два дома от казенной квартиры военного министра, его посещения еще участились, особенно утром, вероятно, во время его первой прогулки. Обходил он классы в сопровождении директора и инспектора. Если урок его интересовал, он садился на первую попавшуюся скамейку, иногда вызывал гимназиста и сам его спрашивал. Однажды вызвал меня по аналитической геометрии и остался моим ответом доволен,
98
тем более что старался меня сбить, а я не поддавался и отстаивал правильность своего метода доказательств. Был он очень прост в обращении с нами и с подчиненными ему педагогами, почему никто перед ним не терялся.
Государь посетил гимназию при мне один раз, когда я был уже в 7-м классе; гимназия переведена была уже в новое помещение на Садовой, директором был полковник Рудановский. Наш возраст, старшие 5, 6, 7-й классы помещались наверху в 3-м этаже. Мы ожидали прибытия его величества, выстроившись в своем рекреационном зале, ожидали долго, потому что государь подробно осматривал все здание, только что отстроенное по последнему слову науки, так сказать, детище Милютина, бывшего в большом фаворе. Когда государь вошел наконец в нашу залу (я видел его в первый раз в жизни), окруженный целой свитой, среди которой наше грозное начальство тонуло, как пигмеи, окинул нас с высоты своего большого роста добрым, ласковым взглядом и громким картавым голосом, коим отличался Александр II, сказал нам: «Здравствуйте, дети!», я думаю, не я один почувствовал такой прилив любви к нему и преданности, что готов был исполнить любое его приказание и нашел бы силу исполнить невозможное. Когда же он двинулся вниз по лестнице, мы бросились его провожать, все начальство было смято, мы его окружили вплотную. Это был такой энтузиазм, такое «ура», что и описать нельзя. Я, как более слабый, был оттиснут, все же на улице успел прицепиться к саням государя. Вся толпа наша, когда государь отъехал, бежала, крича «ура» вплоть до Невского, где он велел тронуть лошадей крупной рысью и нам крикнул: «Марш домой!»... Мы так были счастливы, так хотели проявить чем-нибудь свой восторг, свою любовь, что увидав своего бывшего воспитателя Нила Николаевича Корыстенева, тут же, еще на улице, стали его качать. Государь, уезжая, отпустил нас на три дня.
Дома мы обедали в 5 часов, после обеда я почти тотчас садился за приготовление уроков, занимался до чая, после чего усталый ложился спать, так что своих я мало видел, и только в те дни, когда я почему-либо не был в гимназии, или же в воскресенье и праздники, видел я нашу семейную жизнь в новой обстановке. Уже в сентябре, как я упомянул выше, я заболел довольно серьезно разлитием желчи и желтухой, как последствие пережитого при первой разлуке с семьей. Страдал я жестоко, пролежал недели две — это было началом болезни печени, от которой я всю жизнь мучился.
Мои родители поспешили в незнакомом городе возобновить отношения с теми родственниками, которые в то время жили в Петербурге. Свиделись они с семьей Ганскау; старший их сын, правовед Яков, и второй — паж были нам сверстники, остальные же значительно моложе. Глава семьи — Федор Яковлевич — был двоюродный брат моей матери, жена его Ольга Яковлевна, урожденная Голубева, была сестра Ивана Яковлевича Голубева, впоследствии товарища председателя Государственного Совета, сыгравшего известную роль в государственной жизни предреволюционного периода. У Ганскау был собственный дом в Басковом переулке; одну из больших квартир этого дома занимали Коробьины. Отец, Владимир Григорьевич, сенатор, был сыном сестры Прасковьи Васильевны Кутузовой и потому приходился двоюродным дядей моей матери, будучи по возрасту одного с ней поколения. Жена его Екатерина Илларионовна,
99
урожденная Бибикова, была через брата в свойстве с Бенкендорфами. Дети Коробьины, Катя, Гриша и Настя, были наши большие друзья; были еще и моложе нас: Владимир, Сережа, Ольга, Женя, но с ними мы мало общались, хотя со временем разница лет сгладилась, и Володя был шафером на моей свадьбе. Учились в Петербурге два мальчика Лопатины: старший, Гриша, был юнкером Николаевского кавалерийского училища, а второй, Саша, — ученик приготовительных классов при этом училище. Отец их, Александр Григорьевич, смоленский в то время губернатор, женат был на двоюродной сестре моей матери — Охлябининой; жена его давно умерла, и при нем всегда жила его дочь, бывшая уже тогда замужем за бароном Энгельгардтом. Вся молодежь по воскресеньям собиралась у нас. Наш дом сделался центром, у нас останавливались знакомые и родные, приезжавшие в Петербург. Помню, как тетя Наташа Маслова прожила несколько дней и по вечерам нас смешила. Дядя Митя Наумов в течение этой зимы прожил у нас около двух месяцев, разделяя со мной кабинет отца. Приехал новый родственник, дядя Миша Устинов (Варвара Герасимовна Осоргина вышла за его деда Михаила Андриановича Устинова, она была его третьей женой); сын их Григорий, отец дяди Миши Устинова, женат был на Марии Ивановне Паншиной, племяннице моей бабушки Варвары Андреевны, так что родство с нами было двойное. Брат этой Марии Ивановны, Платон, женатый на графине Соллогуб (был нашим консулом в Аахене, вышел в отставку в 1850 году, после чего основал в Рославльском уезде Смоленской губернии первый образцовый хрустальный и стеклянный завод, приобретший впоследствии большую известность), — родственник моего отца; он был моложе его и в молодости был красавец; заразившись в юных годах чахоткой, был отправлен родителями для лечения за границу. Там он сошелся с известной красавицей-француженкой Dubail, которая и по нравственным качествам и по привязанности к нему напоминала «La dame aux camélias» Dumas. Сходство это еще усугублялось тем, что, ухаживая за ним, Dubail сама схватила скоротечную чахотку, [от] которой и умерла вскоре после родов двух красавцев-близнецов Миши и Лидии. Дядя Миша за несколько дней, а может быть, и часов до смерти этой преданной ему подруги женился на ней и потом узаконил детей, сам он от чахотки совсем исцелился. Приехал он в Петербург с сыном Мишей, старше меня на год, для помещения его в какой-нибудь пансион для приготовления к дальнейшему поступлению в Морской корпус. Этот новый родственник тоже присоединился к нашей молодой компании. Он был очень красив, высок, но выглядел каким-то увальнем. Уже мальчиком он ходил по морскому — с развальцем; до своего приезда к нам жил всегда во Франции, почему по-русски говорил плохо, как иностранец.
В середине зимы приехала Ольга Михайловна Полторацкая с Митей и Сережей, которые поступили, как я сказал выше, в 1-й класс моей гимназии. Брат Ольги Михайловны — Николай Михайлович Мезенцев — жил у своих родственников Тимашевых, и к нему мальчики Полторацкие отправлялись на субботу вечером и [на] воскресенье (Александр Егорович Тимашев был министром внутренних дел, женат он был на Екатерине Александровне, урожденной Пашковой, кузине и, как говорили, предмете платонического обожания всей жизни Н. М. Мезенцева. Е. А. Тимашева была если не красавица в полном смысле слова, то, во всяком
100
случае, очень видная, привлекательная особа, а Н. М. Мезенцев был маленький, если не ошибаюсь, горбатый, правда выдающийся, умный и, во всяком случае, превосходный человек). Мне как-то было обидно, что наш дом для них то же, что и для меня был когда-то дом Игнатовича, но, с другой стороны, их отсутствие в эти дни было полезно в том отношении, что по субботам моя мать по радушию, безграничному гостеприимству оставляла ночевать столько молодежи, что не будь свободной комнаты Полторацких, не знали бы, как и разместить гостей, иногда ночевавших и в гостиной по диванам. Хлебосольство, гостеприимство остались прежние, но в другом масштабе: была у нас кухарка, а не повар, лакеем был один Егор, очень невзрачный; Афанасий, который мог бы его приучить к службе, оставался с Василисой при Сергиевском доме. Лошадей мои родители не держали: когда надо было куда-нибудь ехать, брали извозчичью карету, преимущественно с биржи, редко со двора, где они были значительно дороже. Моя мать предпочитала явных кляч, и Егор не знал, кому угодить — моей матери, требовавшей лошадей-одров, или сестре, желавшей экипаж получше и поприличнее. Когда ездили в театр, Егор фигурировал в качестве выездного лакея в ливрее, но ничего не умел делать и, скорее, был нам помехой, чем помощью. Многое нас с Варей коробило в новой обстановке; понимали мы, что наша новая жизнь в Петербурге совсем не похожа на московскую, потому что наша семья здесь не имеет ни того определенного положения, ни того веса, как в Москве или Калуге, что здесь надо еще это приобрести, и требования здесь в Петербурге совсем иные. Сознаюсь, что во мне под впечатлением этого родилось много мелкого нехорошего самолюбия, частое прислушивание к «qu’en dira-t-on», которого прежде у меня никогда не было и от которого я потом с трудом отделался.
Родители мои, устроив меня в гимназии, старались наладить дальнейшее образование моей сестры: приглашены были известные хорошие профессора и учителя по французской, немецкой, английской, русской литературе; из них хорошо помню интересного лектора-француза Ruault; русскую литературу читал сестре Игнатович, который ее знал превосходно, гораздо лучше французского языка, на котором он, по непонятной ошибке, специализировался. Сестра моя начала уроки пения у одного известного профессора Эверарди. Мой отец два раза в неделю сам ее к нему возил, в остальные дни Варя упражнялась дома с милой особой — Швальбе, рекомендованной тем же Эверарди. В те редкие будние дни, когда я по болезни оставался дома, я присутствовал при спорах отца с сестрой о том, как надо разучивать урок, заданный Эверарди. Еще была у сестры очень милая молоденькая учительница итальянского языка — Чиарди, дочь солиста на флейте Высочайшего Двора.
Впервые в Петербурге мы увидели, как родителям приходилось считать деньги, урезывать себя. Нюничка, занимавшаяся всем домашним хозяйством, с ужасом по субботам вдруг обнаруживала, что хлеба к вечернему чаю не хватит для всей собравшейся без зова молодежи, и старалась нарезать куски поменьше. Она особенно недолюбливала Володю Ганскау, обладавшего, как она уверяла, неудержимым аппетитом. Правда, что он дразнил ее: забирался раньше всех в столовую и уплетал втихомолку без нее то, что она наготовила. Меня, привыкшего к изобилию всего в Сергиевском, все эти мелочные мещанские расчеты глубоко
101
оскорбляли. Я гораздо более любил в праздничные дни забраться в антресоли в комнату Нюнички, куда никакой шум не достигал, запереться в ней и зачитываться разными произведениями Dumas-père’а, Gustave Aimard’а, Walter Scott’а, Eugène Sue; тут я все забывал, и когда меня звали обедать, с трудом возвращался к действительности.
В конце зимы приехали Жемчужниковы с Полей; они не у нас остановились, так как предполагали прожить довольно долго. Цель их приезда была лечить Полю и подыскать ему учителя для подготовки его тоже в военную гимназию. Помню, что Игнатович, убедившись, как он мало развит, наотрез отказался от такого ученика, несмотря на просьбы и уговоры моей матери. Еще до Пасхи они уехали; как бы им на смену приехал дядя Митя Наумов. Приехал он, собственно, по делам Земства дня на два и остановился у нас. Человек предполагает, а Бог располагает! Остался он у нас почти до конца нашего пребывания в этом году в Петербурге по совершенно неожиданному случаю. По вечерам дядя Митя, большой поклонник Алексея Толстого и хороший чтец, читал нам почти каждый день в столовой свои любимые произведения. Уютно было сидеть вокруг обеденного стола под светло горящей висячей лампой (которая потом перевезена была в Сергиевское и там так же освещала такие же вечерние собрания семьи), и, распивая вечерний чай, длившийся без конца, слушать мастерское чтение дяди Мити. За это время он меня пристрастил к этому поэту: «Грешница», «Иоанн Дамаскин», «Трилогия», юмористические стихотворения «Поток», «Богатырь», «Русская история» (тогда еще запрещенная) сделались моими любимыми произведениями. До сих пор «Трилогию» и «Грешницу» я с радостью готов читать всякому интересующемуся ими хоть каждый день. Во время одного из таких вечеров в перерыве чтения зашел спор о какой-то брошке моей матери, которая хранилась в несгораемом ящике в спальне моих родителей. Для разрешения спора дядя Митя пошел за этой брошкой, и вдруг мы услыхали его громкий крик из соседней комнаты. Оказалось, что тяжелая крышка упала и отрезала как бы ножом крайний сустав одного пальца, который нашли потом в ящике среди драгоценностей. Отец мой немедленно вызвал хирурга, сделали перевязку, но лечение пальца и заживление раны шло так медленно, что дядя Митя зажился у нас надолго.
Пасхальную заутреню мы слушали в своем приходе, [в] Спасо-Преображенском соборе. Моя мать, часто служа дома молебны, успела завести знакомство с приходским причтом; нам была оказана протекция, отведено особое место в храме, огороженное тяжелыми балюстрадами, но, чтобы добраться туда, пришлось идти в церковь очень спозаранку. Это была первая ночная пасхальная служба, на которой мы с сестрой присутствовали. Для меня она была омрачена постоянным страхом от напирающей на балюстраду толпы. Привилегированное положение наше в Сергиевском, даже в Калуге, казалось столь естественным, что никто, и я первый, этому не удивлялись, принимали как должное; здесь же слышались голоса протеста и возмущения, что смущало молитвенное настроение. А потом возвращение пешком домой как-то так не торжественно, так не похоже на привычную сергиевскую жизнь, что меня это окончательно расхолодило, и никакого радостного воспоминания эта первая пасхальная служба во мне не оставила. Глубокая красота самой службы, высота ее символизма да, наконец, и значение
102
этого праздника из праздников для меня еще не были открыты и ими я не проникался, почему внешние впечатления имели на меня в то время преобладающее влияние.
После Пасхи скоро начались экзамены. 1-го мая надели мы белые штаны, предвестники скорых каникул. После каждого экзамена, проходившего у меня вполне благополучно, вечером в виде отдыха и награды я отправлялся кататься на конке (электрического трамвая не было еще). Мы, гимназисты, имели право ездить только на империале. Какие только отдаленные закоулки города я не перевидал за это время! Положительно я проехал по всей сети конно-железных дорог, забирался временами в такую глушь, что забывал, что я в столице, в Петербурге; казалось мне, что я в самом захолустном провинциальном городишке. Что бы сказало наше гимназическое начальство, и в особенности педантичный директор и корректный инспектор, если бы увидали ту сцену, на которую я в одну из таких поездок натолкнулся: наш гимназист, босоногий, играл в бабки среди улицы с мальчишками!
В это время моя мать настаивала, чтобы Варя окончательно высказалась бы об отношении своем к Саше Бенкендорфу, и, не добившись толку, то есть категорического ответа, пришла к заключению, что у сестры моей никакого нет к нему чувства, почему убедила моего отца в необходимости ему отказать. Трудно это было бедному Папа́, он так исключительно любил эту семью. Помню, когда он ушел, энергичное хождение Мама́ по зале с заложенными за спину руками и радость ее, когда мой отец вернулся; она и за него страдала, и счастье дочери отстаивала. Папа́ вернулся взволнованный, сказал одну фразу: «C’est fait», и с тех пор Саша Бенкендорф перестал у нас бывать. Впоследствии он женился на нашей однофамилице; встретился я с ним впервые после этих событий в год его кончины, когда моя старшая дочь была уже замужем. Родители мои решили на следующую зиму начать вывозить Варю; это было очень трудно в Петербурге, где у них было так мало знакомых. Для начала решили они переменить квартиру, подыскать побольше, где можно было бы потанцевать. Отец мой нашел подходящую на Литейной, в доме Тупикова, как раз против моей гимназии, так что из окон залы был виден гимназический сад и окна моего класса; это особенно прельстило мою мать, и квартира была взята. Зала и гостиная были большие, но число комнат было меньше, так что для Платона Евграфовича пришлось принанять на дворе комнату. Отец мой занялся меблировкой новых больших приемных комнат, для чего купил мебель маркизы Инконтри. Этот месяц май вся моя семья занималась устройством новой квартиры: я один, по случаю времени экзаменов, не принимал в этом никакого участия, совершенно этим не интересовался, зубрил и, главное, считал дни до отъезда в Сергиевское. Испытав всю неприглядность петербургской жизни, я так хотел скорее увидать Сергиевское, что мне казалось невозможным дожить до счастливой минуты отъезда.
Наконец этот день настал, простился я окончательно со старой квартирой, не чувствуя ни малейшего сожаления; напротив, я жалел и швейцара, и дворника, даже извозчика, везшего меня на вокзал, — они мне казались такими несчастными, что должны остаться в Петербурге. Поехали мы на вокзал спозаранку, чтобы
103

Петр Федорович Самарин и Лев Николаевич Толстой.
80-е годы XIX века. Частное собрание, Париж
до отъезда почтового поезда там и пообедать. В те времена не только спальных вагонов, но и спальных мест никаких не было. Билеты и багаж брались и сдавались перед отходом поезда, и только до конечной станции каждой железной дороги. Нам предстояло проделать всю процедуру покупки билета, получения и вновь сдачи багажа еще три раза: в Москве, Туле и Протопопове. Занять удобное место при таких условиях было делом удачи, но нас ехало так много, с таким количеством ручного багажа, что нам прислуживало несколько носильщиков, и при соответствующей даче на чай отцу удалось устроиться хорошо и удобно. Мама́ с Нюничкой хлопотали с ручным багажом, по нескольку раз его пересчитывали. Папа́ с горничными и лакеем заботился о билетах, сдавал багаж; Варя читала что-то, совершенно не увлекаясь суетой родителей, и довольно равнодушная к отъезду, изредка делая меткие наблюдения и замечания об окружавшей нас публике; я был счастлив, счастлив без конца! Сознание, что я еду в Сергиевское, опять вернусь к прежним условиям, увижу все мне родное, так наполняло всю мою душу, что я прямо не находил себе места от восторга. Когда же, наконец, мы уселись в вагон, и после обычных трех звонков и свистка под мягкое покачивание вагона Петербург стал удаляться, когда я увидал в окошко сельские пейзажи, я прыгал, визжал, всем надоедал, и никто не умел разделить со мной этого чувства. Надо учиться, быть учеником, чтобы понять по-настоящему прелесть летнего ваканта.
104
Итак, первая зима в Петербурге кончена, и мы на пути в Сергиевское. Наша дорога называлась тогда Ряжско-Вяземской, уже много позже она слилась с двумя другими дорогами и переименована была в Сызрано-Вяземскую. На вагонах нашей дороги в те времена красовались ее инициалы — Р. В. Ж. Д., шутники говорили, что эти буквы означают, что «редко возвращаются живыми домой!». Основанием такой шутки были частые несчастья на недавно открытой дороге, особенно около Алексинского моста через Оку, на тульской стороне, где была большая выемка, бока которой были плохо укреплены и постоянно ползли. Не знаю, шутка ли та или что другое побудило железнодорожное начальство на следующий год перекрасить надписи на вагонах, а именно, вновь было напечатано «Ряж.-Вяз. ж. д.». Проезжая мимо запасных путей на станциях, я постоянно отыскивал глазами вагоны нашей дороги, окрещенные совсем другим именем. Подъезжая к Сергиевскому, звук мостика на конце Поливановской дороги, мягкий толчок при въезде на усадьбу, грохот колес по мостовой и, наконец, заглушенный звук экипажа под воротами дома... Какое все это было милое, родное, дорогое!
На подъезде все служащие, а во главе их Афанасий и Василиса, а также Платон Евграфович, посланный вперед из Петербурга за несколько дней до нашего отъезда с тяжелым багажом. Афанасий легкой походкой сбегает с крыльца, отворяет дверцы экипажа, высаживает всех со словами: «С приездом», кому целует руку, кому плечо. Мы с Варей целуем всех, нас находят выросшими и похудевшими, а моя невиданная еще военная форма вызывает возгласы восторга. В доме все по-старому, только комнаты еще не обжиты, все блестит чистотой, полы все натерты, пахнет воском, еще чувствуется некоторая сырость. Я в один миг успел обежать весь дом и откликаюсь уже издали, где-то около конюшни, на усиленный зов Мама́ и Нюнички чай пить. Все накрыто по-старому, привычки, вкусы каждого соблюдены, и пока на подъезде разгружается одна подвода за другой с вещами, я уже успел и чаю и молока напиться, вырваться и осмотреть всю усадьбу, весь сад.
В этот раз мы, к сожалению, прожили в Сергиевском очень недолго: зимой сгорела башня, где последнее время была контора, а тогда очистная спирта. Отстояли остальной дом только благодаря тому, что перерубили крышу над въездными воротами. Отремонтировать все к нашему приезду не успели, главное, потому, что мой отец хотел отстроить башню по другому фасону, им придуманному, почему до конца обе башни были различной архитектуры. Стоял невыносимый шум от кровельных работ и удушливый запах от малярных работ. Эта ли причина только, или, быть может, желание и потребность повидать дядю Сережу Бенкендорфа после отказа его младшему брату, побудили моих родителей скоро уехать с нами в Молостовку. До отъезда нашего мой отец решил закрыть винокуренный завод, так как народная молва уверяла, что очистная была сожжена, чтобы скрыть какие-то злоупотребления администрации завода, на которые чины акцизного надзора натолкнулись. Действительно, дела в Сергиевском были запущены, управляющего не было, заменял его конторщик Семен Александрович Козлов, женатый на дочери нашего священника Извекова; малый честный, как говорили, хорошо знавший свое конторское дело, но совершенно растерявшийся, когда он остался один во главе большого хозяйства.
105
В это короткое пребывание в Сергиевском я наблюдал единственный раз в жизни сухую грозу, и как это было жутко! Отец мой был у Раевского в Покровском, я с Сережей Зыбиным, приехавшим нас навестить, поехали верхами его встречать. Встретили отца в Облогах, версты за четыре от дома, и тут только, оглянувшись, обратили внимание на поднявшуюся с противоположной стороны и застлавшую половину небосклона черную зловещую тучу; она прорезывалась все время огненными зигзагами. Когда мы доехали до деревни Алферьево, за полторы[версты] от дома, уже все небо было закрыто, стоял непрерывный гул от несмолкавшего грома, по нескольку молний вспыхивало зараз в разных местах, даже мой Брильянт был напуган, жался к лошадям и затащил меня под дышло коляски. На перекрестке нас встретили верховые, посланные моей матерью, хотя она грозы не боялась, так же как и все остальные члены семьи, обыкновенно выходившие на это время на балкон; но на этот раз всем было жутко, особенно ввиду полного отсутствия дождя и ветра и какой-то зловещей неподвижности воздуха, совершенно не соответствовавшей грозовому атмосферическому явлению.
В раннем детстве я пережил такое же жуткое чувство, разделяемое всеми, даже большими, во время северного сияния. Сначала думали, что это грандиозный пожар, хотели от нас это скрыть, опустили в наших комнатах занавески, но и сквозь них просвечивало пылающее небо, а когда по нему пошли огненные столбы, поняли, что это отблеск далекого северного сияния, и нам дали им любоваться. Тогда было особенно жутко, потому что несмотря на яркость освещения нигде не было теней, весь снег одинаково во все стороны блистал. Мама́ и тетя Соня Жемчужникова, помню, шептали «Отче наш» и заставляли и нас, детей, креститься. Так и теперь, во время описанной сухой грозы, моя мать все время молилась, а девушки поспешили затеплить лампадки у образов и зажечь Богоявленскую свечу (та свеча, с которой 5-го января стоят во время освящения воды; по народному поверию, она предохраняет от удара молнии). Необычайная гроза и все это напряжение разрешились ночью проливным дождем, но таким, что и старожилы не помнили такого. Паводок же от этого дождя причинил много неприятностей, главное, лишил нас надолго купания. Мама́ после своего падения, о котором я писал в главе «Детство», так боялась спуска на реку, что отец мой перенес купальню с Оки на заводский пруд, но в нем развелись пиявки, почему он соорудил новую большую купальню с удобной раздевальней и даже балкончиком кругом нее на столбах у березы под названием «Береза дедушки Михаила Герасимовича». В этом месте из-под фундамента бывшей ананасной оранжереи бил сильный ключ. Мой отец воспользовался оврагом, куда стекал ключ, для устройства проточного пруда, для чего соорудил высокую, по последнему слову науки, плотину. Всю весну наблюдали подъем воды; накануне паводка она уже подходила к спуску, и надо было ей подняться вершка на два, не больше, чтобы начать выливаться, и тогда пруд был бы проточным и можно было бы начать купаться. Понятно, с каким интересом еще утром, до нашего просыпления, пошли смотреть, что делается на новом пруду. Увы! его не было: плотина была до материка снесена, купальня, как бы в насмешку, стояла на столбах совершенно сухая, на дне оврага мирно тек ручеек и, что хуже всего, даже соседний
106
заводский пруд, куда должна была стекать вода с нового пруда, был тоже сорван и представлял из себя жалкую лужицу. Отец велел бросить эту затею, перенести купальню опять на Оку, а для моей матери соорудить низкий экипаж, в котором она бы не боялась на одной верной лошади спускаться по этому памятному для нее спуску. Но все это требовало времени, и так мы и уехали из Сергиевского, не покупавшись в этом году.
Как сказано, было решено ехать к Бенкендорфам в Могилевскую губернию. До Рославля ехали по железной дороге и там сели вечером в дормез бенкендорфский; я с Нюничкой ехали в задней коляске, приделанной к дормезу; на спусках я тормозил, в окошко переговаривался с едущими в карете и очень наслаждался. Ехали мы всю ночь. На рассвете, когда я задремал и сладко заснул, я был разбужен гоготом и смехом толпы жиденят. Мы стояли у здания почтовой станции, лошади были уже запряжены, и отец мой давал на чай прежнему ямщику и почтовому старосте — оба евреи. Жиденята хохотали [над] плачевной фигурой старосты, которому отец отсчитывал по копейке. Когда тот просил прибавить, отец отнимал у него даже прежде полученное, а когда он только благодарил, сыпал ему новые медяки. Жид скоро понял тактику отца и уже не просил больше и все говорил, что и так довольно. Отцу это становилось уже невыгодно, если бы долго продолжалось, почему он приказал торопить лошадей. Староста, надеясь еще на какие-нибудь гроши, долго бежал у окна дормеза, пока окончательно [не] задохнулся.
Дядя Сережа выслал нам в Рославль своего доверенного на все руки Мельникова, сам же ждал нас с легкими экипажами в Чирикове, куда мы приехали рано утром. Он как умный и сердечный человек, вероятно, для того нас и встретил, чтобы подчеркнуть, что в отношениях, несмотря на отказ его брату, никаких перемен не произошло, а с самой Варей был особенно нежен. Это было мое последнее пребывание в Молостовке в старом доме, потом я еще раз был там уже отцом семейства в 1910 году, но уже старый любимый дом был снесен.
Пожили мы в Молостовке все вместе недолго. В Пропойск мы, конечно, не ездили. Через несколько дней после нашего приезда была получена телеграмма от тети Сони Жемчужниковой о кончине Поли и смертельной болезни дяди Мити. Немедленно мои родители с тетей Машей через какой-нибудь час времени уже выехали опять на тот же Рославль, направляясь дальше в Иерусалимское, а мы, дети, остались при дяде Сереже. Иерусалимское — смоленское имение Ельнинского уезда тети Сони Жемчужниковой, уступленное ей моим отцом. Это было родовое лыкшинское имение, принадлежавшее бабушке Варваре Андреевне и данное в приданое старшей дочери, то есть тете Кате Охлябининой, а после ее смерти перешедшее к моему отцу, так как у тети Кати детей не было. За это время совместного с ним тесного сожительства я его особенно оценил. Никогда я не забуду, как целый день его осаждала толпа просителей, требовавших или его совета, или помощи. По предписанию доктора, дядя два раза в день купался, и я с ним. Купание его было обставлено целой процедурой всяких привычек, которые строго соблюдались, но с таким добродушием, юмором, что все этому с удовольствием подчинялись. Главное внимание уделялось его золотым очкам: прятались они им собственноручно в укромное местечко, и никто не смел
107
не только их трогать, но и подходить близко к заветному углу. Входя в воду, он кричал и охал так громко, что его возгласы слышны были во всем доме, отстоявшем от купальни саженей на двести; дядя уверял, что только когда вдоволь накричишься и наохаешься, купание полезно для легких. В воде он сидел долго, почему часто просители, наскучившись от долгого ожидания, входили гурьбою в купальню, и он, сидя в воде, выслушивал и разбирал споры. Ему безгранично верили и уважали его, часто одним словом он разрешал запутанные семейные отношения, гражданские споры — все уходили от него удовлетворенными; кто не подчинился бы его решению, был бы осмеян и порицаем своей средой, а солидарность еврейская — не пустое слово.
Только по возвращении родителей мы узнали подробности кончины Поли; это была целая драма, и ужасная драма. У Жемчужниковых гостили друзья дяди Мити: Колокольцов, двоюродный брат дяди, и Никтополион Николаевич Герсеванов, его товарищ по полку. В день этого несчастья Колокольцов был особенно возбужден; за обедом начал с дядей Митей какой-то политический спор, окончившийся крупным разговором; после обеда все пошли переодеваться к предстоящей охоте. Первым был готов дядя, который сел на подъезде поджидать остальных. Комната Поли выходила одним окном на этот подъезд. Поля, сидевший у окна, увидел, что Колокольцов, выйдя на подъезд, вдруг прицелился в его отца, который прикрылся правой рукой; грянул выстрел, и дядя Митя упал, обливаясь кровью. Поля перескочил через подоконник, бросился к отцу со словами, обращенными к Колокольцову: «Дядя, за что ты убил Папа́?». Колокольцов тут же выстрелил Поле в живот из второго ствола в упор. На эти крики и выстрелы выбежала тетя Соня; Колокольцов, увидав ее, дико захохотал и бросился бежать на мельницу, отстоявшую от дома в нескольких саженях; там он заявил народу, что только что убил двоих. Его тут же связали, и он стал выкрикивать какую-то бессмыслицу; выяснилось, что он в припадке острого и буйного помешательства. У дяди Мити оказалась глубокая рана в боку и правая ладонь вся раздроблена. Поля же, промучившись часов семь, скончался на руках своей матери, успев причаститься, в полной памяти. Тетя Соня и Колокольцова защитила от толпы, которая хотела его разорвать, не понимая, что он больной, и негодуя лишь за Жемчужниковых, которым крестьяне были очень преданы; и мужа она успокоила и приготовила к ужасной вести о кончине единственного сына, и раны ему до приезда доктора перевязала, и сына приготовила к смерти и после кончины обрядила, и все это без слова ропота, а когда приехали наши, встретила их спокойная и даже обдумала, как их удобнее поместить. Моя мать всегда говорила, что тут она поняла всю высоту христианского настроения тети Сони, что она совершенно исключительная женщина.
Впоследствии мы узнали, что по дороге в Иерусалимское у моей матери с тетей Машей было объяснение, и довольно бурное, по поводу Саши Бенкендорфа. Мне лично казалось, что потом до конца жизни между ними не было настоящих и искренних отношений, сохранился навсегда какой-то froid. Тетя Маша была оскорблена как за семью мужа своего, так и тем, что мнение моего отца, то есть осоргинское, не восторжествовало. Мы же с Варей благодаря этому были особенно ласковы с Мама́ и глубже оценили ее горячее материнское чувство. Что
108
касается Жемчужниковых, то их убедили покинуть Иерусалимское, а дяде Мите поступить на службу. Вскорости он получил назначение начальником почтово-телеграфного округа, кажется, орловского, но пробыл там недолго: получил крупное наследство от одного дальнего родственника и поселился в полученном имении Лебедянского уезда Тамбовской губернии, где был конный завод, которым дядя увлекся и весь ушел в это дело. Иерусалимское Жемчужниковы передали Лизочке Бенкендорф, которая вскорости его продала.
Во время моего последнего пребывания в Молостовке дядя Сережа решил построить новый дом и поручил мне как любителю черчения спроектировать план, что я и исполнил. Он всегда меня уверял впоследствии, что дом построен по моему плану с незначительными изменениями, проверить этого я не мог, когда последний раз был там: оригинал мой был затерян, а за давностью времени я не помнил его подробности. Одно знаю, что новый дом мне совсем не понравился, отнесли его далеко выше от озера, не было в нем той поэзии, которую я так ценил в старом, который как бы составлял одно с озером и громадными столетними липами, его вплотную окружавшими.
Из Молостовки мы проехали в Радушино к дедушке и бабушке, доехав для этого по железнодорожной ветке Рязанской железной дороги от Луховиц до Зарайска и оттуда 7 верст на лошадях. Рязанская, ныне Казанская, дорога была тогда совершенно своеобразной: отличалась обилием поездов, которые, вопреки общепринятому правилу, ходили по левому пути. Вагоны 1-го класса были все наподобие салон-вагонов с большими отделениями по обоим концам вагона; эти своеобразности дороги в детстве соединялись в нашем воображении со всем характером и особенностями уклада жизни дедушки и бабушки.
По пути, в Коломне, мы всегда покупали изрядное количество пастилы (так называемой коломенской) для бабушки. На зарайском вокзале ждали экипажи, всегда ободранные, лошади нечищенные, разношерстные, иногда в простой пеньковой упряжи, и вот в таком незатейливом виде ехали мы в Радушино. Дедушка ждал нас на террасе, мимо которой проходила дорога, а бабушка — в гостиной у окна, на традиционном кресле. Нам всегда отводилась башня во втором этаже дома, в которой было 4 комнаты. Старый дом, где протекла вся девичья жизнь моей матери, отец мой очень любил и всегда удивлялся, что дедушка построил новый дом на другом месте, бывшем пустыре, тогда как старый на самом берегу Осетра был окружен старинным липовым парком. Новый построен был совсем близко от церкви, фасадом обращен был на Зарайск; с террасы на город вид был действительно красивый. Против террасы предполагался цветник, но только предполагался, потому что это было излюбленное место кур и домашней птицы, которая весь день в нем копалась и начисто все вытаптывала. За цветником начиналась прямая дорога, обсаженная молодыми деревьями в надежде, что со временем они сделаются красивым проспектом. Дорога эта упиралась в большой пруд, огибала его, а на той стороне пруда расположено было село; за селом далеко на горизонте виден был Зарайск, который со своими семью церквами, монастырем и Кремлем казался очень живописным. С террасы открывалась такая необъятная даль, что можно было следить несколько верст за дымком удалявшихся или приближавшихся к Зарайску поездов. С правой стороны виднелся
109
Осетр, текший к тому же Зарайску. Осетр сверкал и причудливо извивался в заливных лугах, на нем был ряд водяных мельниц: из них ближайшая, около самого села, принадлежала дедушке. Но так как терраса не была ничем обсажена и кругом дома не было деревьев, на ней можно было сидеть лишь вечером. Очень портил вид бак, устроенный сбоку террасы на высоких столбах; он закрывал отчасти ближайшее течение Осетра. Его назначение было служить резервуаром, чтобы пускать затейливый фонтан среди цветника, но это редко удавалось, бак так тек немилосердно, что его не успевали накачивать.
Дом был деревянный, построенный оригинально не срубом, а стояком, почему никакая конопатка не держалась, и в холодное время он был необитаем; в нем были внизу большая зала, кабинет и гостиная, выходившие на террасу, затем большая спальня дедушки и бабушки окнами на старый сад и Осетр; в противоположной стороне была большая передняя; против парадного крыльца, только через дорогу — церковь. Это было столь близко, что из дома слышна была церковная служба. Кроме вышеуказанных комнат была еще столовая, комнаты гостевые и людские — все внизу, в одной связи, но окнами во двор, скорее на пустырь, где кое-где разбросаны были здания служб. Из передней шла узкая винтовая деревянная лестница во второй этаж, составлявший квадратную башню над передней и кабинетом. Площадка около лестницы наверху освещалась стеклянным фонарем, прорезанным в потолке; на эту площадку выходили двери наших четырех комнат. Моя комната была крошечная, с одним окошком на церковь. Страшно подумать, как мы могли легко все сгореть в случае пожара! Церковь маленькая, каменная, во имя Рождества Пресвятой Богородицы. На паперти обращал на себя внимание большой образ, изображавший притчу о бревне, которое следует вынуть из своего глаза раньше, чем вынуть спицу из глаза брата своего, почему на первом плане был изображен человек с длинным не то бревном, не то деревом в глазу. На замечание, сделанное в давние времена каким-то архиереем, ревизовавшим церковь, что такое изображение неуместно, дерево это тогда же замазали, но переписать икону не удосужились. Дедушка был в своей церкви церковным старостой, почему свечи, красное вино, ладан и просфоры хранились у бабушки в сундуке под постелью, а церковные деньги, коим счет вела бабушка, — в ее ночном столике. Церковный сторож частенько для заказных служб приходил в спальню будить бабушку, когда она еще лежала в постели, и доставал под ее контролем из сундука все нужное.
Хозяйство имения у дедушки было в ужасном виде: весной он купил сеялку, что тогда было новинкой; чтобы похвалиться ею, а также ввиду скорого озимого посева, он послал меня ее рассмотреть; я нигде ее не нашел и только уже с помощью дедушки обнаружил нижнюю посевную доску, разбрасывающую, расколотой поваром для подтопки плиты. Дедушка даже не рассердился, как-то даже добродушно засмеялся и тут же начал пробовать кушанье и заказывать что-то новое. Он никогда много не ел, но очень любил придумывать кушанья собственного изобретения и требовал еду в неурочное время: днем, рано утром и поздно-поздно вечером, чуть ли не ночью, когда вздумается и захочется. Одобрял он, когда и мы заказывали себе что-нибудь своеобразное, и очень это поощрял. Вставал он очень рано, днем спал часа полтора. Когда он ложился после
110
обеда, ему терли ноги, даже и его belles-soeurs, гостившие часто у бабушки, а кто-нибудь читал вслух. Во время нашего пребывания чтецом была моя мать или мы с сестрой. Читалась всегда одна и та же книга «История 1812-го года» Богдановича. Когда кончали это сочинение, начинали его сначала. Как только дедушка проснется, ему немедленно подавали чай; пил он его в стакане без подстаканника, и притом таким горячим, что трудно было удержать стакан в руках, в противном случае он отсылал чай к экономке с грозным замечанием, что льду ему не нужно. Если утром он не успевал прочесть всех своих молитв, это проделывалось еще до этого стакана чаю. Для этого дедушка садился на кресло посреди спальни лицом к образной и после каждой молитвы посылал воздушный поцелуй в сторону образов. Молитва длилась до тех пор, пока каждому образу не была прочтена подходящая молитва, и кончалась призыванием всех святых и поцелуями по числу икон в образной. Во время чая вместо трубки он курил папиросы несуществующей теперь марки «Мерилэнд»: папиросы, очень длинные и сладкие на вкус, лежали они у него в большом серебряном портсигаре с выгравированным на крышке видом московского Большого театра. Часто посылал он меня за этим портсигаром, приказывал закурить для него папироску, а иногда, чтобы подразнить мою мать, заставлял выкурить и всю папироску, чем постепенно и приучил меня к курению. Когда он вставал не в духе, все и вся ходили на цыпочках, не знали, как ему угодить, как его ублаготворить; зато если выходил он из спальни в духе, был весел, всем было хорошо. Он всех созывал к своему креслу, декламировал стихи, всех смешил, рассказывая анекдоты про свое хозяйство; уверял, что его лошади особой породы: на водопой бегут, их гонят, а с водопоя везут на телегах; а дело в том, что лошади его тощали от бескормицы. Хвалился он своим садовником, который в отличие от других выводил на огороде огурцы не к Петрову дню (29 июня), а к Покрову (I октября), когда их всегда уже побивало морозом. Затем он принимался дразнить бабушку за ее неподвижность, и все это с таким добродушием и смехом, что мы, сидя кругом него, покатывались; это было, собственно, единственное время дня, когда мы сидели с большими, да еще иногда вечером дедушка заставлял мою сестру петь, особенно когда кто-нибудь приезжал, а такие наезды бывали довольно часто; приезжали из Зарайска, то есть из города, или с вокзала, не предупреждая, на простых городских извозчиках. Чаще бывали две старушки Ладыженские, из них одна, Авдотья Ивановна, маленькая, чистенькая, приветливая, была наша особенная любимка. Помню Марию Иисусовну Басову, про отца которой бабушка рассказывала такой анекдот: встретил его как-то один мужик и поклонился в ноги со словами: «Наконец, увидал я Иисуса», правда, что я никогда нигде не встречал людей с этим именем. Приезжал раза два бывший гусар-егерь со своим beau-frère’ом, лейб-егерем Богдановым; дедушка и мой отец говорили с ними как с однополчанами, хотя они годились им во внуки и сыновья. Дедушка настаивал, чтоб моя мать пригласила бы Богданова бывать у нас в Петербурге, имея, очевидно, на него виды для Вари, но знакомство как-то не пошло. Бывал еще молодой человек, с которым мой дед очень носился, — Александр Григорьевич Булыгин; дедушка своим влиянием провел его в зарайские уездные предводители дворянства. Этот Булыгин был потом нашим
111
калужским губернатором и отплатил своим добрым отношением ко мне то, что некогда сделал для него дед.
Проводили мы, дети, день в Радушине довольно самостоятельно, предоставленные более или менее самим себе, иногда катались, когда можно было собрать какой-нибудь экипаж и найти лошадь, способную его сдвинуть. Часто я уходил читать под старые липы заглохшего и запущенного сада на берегу Осетра или же на плотину водяной мельницы. Помню, как раз на эту плотину приехала целая комиссия с судебным приставом и полицией. В это время процесс дедушки с князем Оболенским, о котором я писал выше, повернулся в пользу последнего, и сам Оболенский с этой комиссией приехал на плотину спускать воду, которая подтопляла его миндюковскую плотину, стоявшую выше по течению. Помню, что дедушка был очень взволнован, услыхав стук топора на плотине, и послал меня на эту самую плотину позвать поверенного дедушки Юдина — пренесимпатичная личность, тип земского ярыжки из романа Загоскина или комедии Островского. Мне было очень совестно и конфузно и неприятно на плотине среди всей этой компании, бесцеремонно распоряжавшейся дедушкиным добром; запечатлелось у меня в памяти лицо князя Оболенского, возбужденно и торжествующе проверявшего высоту воды в запруде.
Мы с Варей иногда посещали нашего Платона Евграфовича на селе; обедал он и пил чай с нами и после обеда укладывал дедушку спать, но жил у своего Никифора. Дедушки Платон Евграфович очень боялся, говорил им обоим [с бабушкой] «Ваше сиятельство», дедушка же ему говорил «Платон Евграфов — ты», а бабушка «Платоша — вы». В глаза Платон Евграфович всегда льстил дедушке, и никто как он не умел рассмешить его, вспоминая какую-нибудь старую историю, в которой дедушка оставил кого-нибудь в дураках. Фейерверков в Радушине Платону Евграфовичу пускать не позволялось, он для этого уходил далеко в поле, увлекая за собой толпу ребят, но если это узнавалось, ему сильно за это доставалось. Все же, когда он с нами уезжал из Радушина, бабушка давала ему 3 рубля на чай, и дедушка наказывал ему хорошо служить моей матери, что было совершенно излишней рекомендацией, так как у нас в доме он никакой службы не нес, а жил на положении преданного слуги.
13-го августа я уехал из Радушина с Нюничкой в Петербург: в этом году, как и в последующие, уезжал я спозаранку, а родители с сестрой приезжали позже, так как осень кончали в Сергиевском, где заключалась и утверждалась смета хозяйственная на следующий год по всем имениям, для чего часто съезжались и другие управляющие. В этом же году мой отец должен был окончательно ликвидировать завод, и кроме того должна была приехать в Сергиевское Ольга Михайловна Полторацкая с детьми, переезжавшая в Смоленск, где получила место директрисы женской гимназии; хотела она перед этой ломкой ее жизни, перед переездом, подольше пожить с моими родителями, которым вверила Митю и Сережу. Дороговизна петербургской жизни, расходы по устройству квартиры давали себя знать, почему мой отец стал очень расчетлив, даже как-то в некоторых делах мелочно расчетлив. Перед моим отъездом им подробно составлялась смета наших с Нюничкой расходов, и притом до таких мелочей, что был рассчитан каждый носильщик, было указано, на какой станции и за сколько мы
112
могли по дороге питаться. В виде прислуги полагалась нам та кухарка, которая сторожила квартиру летом, стоимость еды на нас трех была доведена до минимума. Много было споров со стороны Мама́ и Нюнички, чтобы выторговать какой-нибудь экстра в виде удовольствия мне в воскресенье; надо отдать справедливость Нюничке, что несмотря на все она ухитрялась кормить меня просто, но очень сытно, вспомнив для этого разные швейцарские кулинарные рецепты, и кроме того сделать еще такие сбережения, что доставляла мне и неожиданные удовольствия: раз купила мне большую гармошку со всевозможными приспособлениями; гармошку эту я уже давно присмотрел в музыкальном магазине Циммермана, но не смел и надеяться когда-нибудь приобрести: она стоила 10 рублей! Другой раз она дала мне средства нанять шарабан, запряженный двумя пони, в котором я с товарищем поехал кататься на острова; самое удовольствие было в том, что я сам правил.
Отъезд из Радушина был, понятно, для меня невеселый; начинать вновь, без семьи, жизнь в Петербурге было довольно тяжело, но все-таки товарищи, знакомая гимназия, а дома уютность и ласка Нюнички сделали эту разлуку гораздо легче первой; особенно трудно было [в] первые дни, пока не втянулся. В октябре приехали все; их приезд подгоняли к воскресенью или празднику, чтобы я мог их встретить.
В течение этой новой петербургской зимы у моих родителей завелись новые знакомые в самом доме, где мы поселились. На одной площадке с нами жили очень милые старички Левенгагены. Они когда-то выиграли 200 тысяч рублей в лотерею, сами и до того были богаты, почему были вполне свободны в средствах; она была замужем во второй раз; первый ее брак кончился трагично, фамилию первого мужа не помню; при выходе из церкви после свадьбы ее супруг был убит на паперти наповал претендентом-ривалом, перед этим ею отвергнутым. У них был единственный сын, женатый и живший от них отдельно с женой, психически больной. Над нами жила семья Калугиных. Иван Кузьмич Калугин занимал крупное чиновничье место в собственной его величества канцелярии. Родители этого Калугина были зарайские мещане, дедушка их знал и Мама́ помнила самого Калугина еще мальчишкой, играющим босиком на улице в бабки. По окончании им гимназии и [после] поступления в университет он стал стыдиться своей прежней среды и в Зарайск не показывался; поступил репетитором в семью своей будущей жены (если не ошибаюсь — Куприяновой); молодая девушка влюбилась в репетитора и вышла за него замуж. У Калугиных было несколько человек детей: старший сын был лишь немного меня моложе. С этими двумя семьями установились прямо дружеские отношения, не прекратившиеся и после окончательного переезда моих родителей из Петербурга. Моя мать все-таки, по своему открытому характеру, не могла не показывать И. К. Калугину свое неодобрение за его отношение к своим родителям-мещанам. Они часто, в бытность Мама́ у дедушки, приходили узнавать, как поживает их Ванюша, и посылали ему поклоны, что Мама́ ему передавала с особенным подчеркиванием. Думаю, что он им помогал денежно, но, несомненно, стыдился, что возмущало мою мать. С другого подъезда, но в том же доме, жила семья Лошкаревых, с которыми моя мать тоже познакомилась, там была дочь Саня (уменьшительное
113
Александры), которая очень подружилась с моей сестрой. Из родных переехали в ту зиму в Петербург семья Норовых и дядя Саша Казначеев с женой (она была урожденная Княжевич).
Таким образом, круг знакомых увеличился: я перечислил лишь тех, которых я узнал. Мои родители стали устраивать маленькие вечера, не только юношеские по субботам, но и для больших. Моя мать назначила свой приемный день, чтобы Варя научилась принимать и занимать — тогда это входило в непременную часть воспитания молодой девушки известного круга. Занятия ее свелись лишь к урокам пения, французской литературы и итальянского языка. Мой отец абонировался в Итальянскую оперу. В те времена получить абонемент на Итальянскую оперу было очень трудно: все старые абоненты получали право и на будущий сезон возобновить свои абонементы, и только те места, от которых их обладатели отказались или не уплатили в срок полагающуюся плату, поступали вновь в продажу на новый сезон. Самым модным, лучшим абонементом считался первый, в понедельник, и лучшими ложами — bell étage. Перепродавались иногда абонементы по публикациям в газетах, обыкновенно с надбавкой в пользу прежнего владельца. По такой публикации отец мой купил ложу-бенуар 6-го абонемента, самого маленького, но и это было большой удачей (всего 10 спектаклей вместо 20, как в других абонементах; 6-й абонемент шел по четвергам не каждую неделю, чередуясь с балетом в этот день). На следующий год моему отцу посчастливилось обменять этот абонемент с соответствующей доплатой на ложу бельэтажа 1-го абонемента — мечта моей сестры, и ложа эта осталась в нашем владении вплоть до убийства государя, когда все театры по случаю траура были закрыты, а потом моя сестра вышла замуж и родители уехали из Петербурга.
Я очень часто сопровождал своих в оперу и за эти годы перевидал и переслушал всех тогдашних знаменитостей. В течение нескольких лет слушал Патти. В первый раз это было в опере «Динора», или «Плоэрмельский праздник», Мейербера. Когда она в 1-м действии появилась, будто разыскивая козочку, остановилась на авансцене, чтобы начать арию «Ombre légère», ей около четверти часа не давали начинать, аплодируя и забрасывая цветами. Меня тогда поразила ее невзрачная фигура с большой головой, непропорциональной остальному туловищу, с довольно ясно выраженным еврейским типом, но когда она запела, я все забыл — до того этот голос был кристально чистый: в этой арии она проделывает целые каденции, подражая флейте, на которой играл Чиарди, тоже художник своего инструмента; минутами нельзя было отличить, где играет флейта, где поет голос — это было что-то сверхъестественное как чистота и легкость звука, и я понял восторг публики при первом ее появлении; публика отдавала дань необыкновенной певице; с нею спектакли всегда затягивались, так как ее без конца заставляли бисировать и она охотно это делала; но в этой опере она поражала, главным образом, чистотой звука и легкостью колоратуры, в других операх она захватывала зрителей и глубиной чувства. Так, однажды, я слышал ее в «Ромео и Джульетте»; спектакль этот и в ее личной жизни сыграл большую роль. Ромео пел Никколини — и тенор чудный, и красавец писаный. Когда Патти пела, ее муж маркиз Ко, по условию с дирекцией театров, получал в свое распоряжение кресло 1-го ряда, принадлежащее директору театров по должности
114
(тогда таковым был барон Кистер). На этом спектакле маркиз сидел на своем обычном месте, но после дуэта на балконе встал и уехал. Дуэт этот был спет с таким чувством неподдельным, что всем показалось, что это не представление, а настоящая жизнь. Действительно, после этого спектакля маркиз Ко развелся, а Патти вышла замуж за этого самого Никколини. Все эти подробности были сообщены газетой «Голос», тогда самой распространенной и не брезгающей сенсационными сплетнями.
Помню Нильсон, Лукку, коронная роль их была «Травиата»; Мазини на моих глазах дебютировал, сводя всех с ума своим тембром, но зато неприятно поражая отсутствием всякой игры и однообразием жестов, что послужило поводом говорить, что он — башмачник и лишь умеет разводить руками, как бы выдергивая в обе стороны дратву. Какой восторг производил своим пением баритон Котоньи! Помню один знаменательный спектакль: шел «Севильский цирюльник» в таком составе: Розина — Патти, Альмавива — Мазини, Фигаро — Котоньи, дон Базилио — прекрасный комический бас Чиампи; остальные двое, то есть Бартоло и горничная, — тоже хорошие певцы, но без громких имен. Можно себе представить, что это было за наслаждение услышать зараз таких артистов! Котоньи потом заменен был в течение одного или двух сезонов новым баритоном Девойо, дебютировавшим в Петербурге в новой опере «Мефистофель» Бойто.
В те времена петербургское общество славилось как знаток итальянской оперной музыки; певец, имевший успех в Петербурге, приобретал тем самым имя в музыкальном мире. На почве музыки заводились знакомства среди постоянных посетителей театра; ложи бельэтажа и бенуара, а также первые ряды были знакомы между собой хотя бы с виду; всякий новый посетитель обращал на себя внимание. Такие случайные посетители появлялись тогда, когда абонированная ложа или место отсылались владельцем в кассу для продажи на один спектакль. Даже выездные лакеи были между собой знакомы и здоровались при встрече. В фойе и в курительной комнате (в те времена из лож выходили во время антрактов одни мужчины, дамы же до конца не покидали своих мест) только и слышны были разговоры об опере, певцах, тогда умели ценить и настоящий bel canto и умели разбираться в самой оперной музыке. Помню, например, первое представление как раз вышеуказанной оперы «Мефистофель», где так своеобразно трактуется сюжет Фауста, казавшийся избитым по опере Гуно (последнюю, собственно говоря, вернее было бы назвать «Маргаритой», ибо она центральная фигура оперы Гуно, а уж никак не Фауст и его переживания). После пролога и первого действия все встречались с недоумением. Хоры небесных духов с гармонией, все ширившейся, на фоне которой красиво выступал голос Девайо, причем благодаря громкому фону недостаток этого баритона, въезжавшего в ноту, а не вступавшего в нее, точно скрадывался, понравились, но зато квартет в саду, кончавшийся беготней и смехом, всех шокировал; сравнивали с тем же квартетом у Гуно, благородным и поэтичным, говорили, что это не серьезная музыка, а лишь оригинальная, и только последнее действие, в Греции, немного примирило публику с этой постановкой, продержавшейся, впрочем, лишь один сезон, а потом снятой с репертуара.
115

Евгений Николаевич и Вера Александровна Трубецкие. 1889.
Частное собрание, Париж
Помню другую постановку — премьеру оперы «Аида» Верди, имевшую совершенно исключительный успех; в антрактах слышалось, как зрители, расходясь, напевали только что прослушанные мотивы. Действительно, постановка этой оперы была тщательная, а в отношении певцов была обставлена хорошими силами: для роли Аиды приглашена была новая певица Штольц с громадным, хорошо обработанным голосом. Амонасро пел Котоньи, а Радамеса — Мазини; оба любимцы и баловни публики. 3-е действие, на берегу Нила, благодаря применению композитором особой гаммы, необычной по музыке, было особо колоритно и ощущалась couleur locale. В самом деле, оно настолько переносило в Египет, что возвращаться домой в санях или в карете, скрипящей по снегу, было как-то дико; трудно после египетского зноя и неги, которые только что ощущал, очутиться в суровой русской зиме.
В котором году — не помню, любимицей публики была драматическое сопрано Sulla. Ввиду беременности она покидала Петербург и прощалась с публикой в своем бенефисном спектакле. Давали «Гугенотов» Мейербера, где Валентина была ее коронной ролью. Мы были на этом спектакле; почему-то увертюра долго не начиналась, что было совершенно необычно на Императорской сцене, где все было пунктуально. Наконец появился перед занавесью какой-то театральный чин и объявил публике, уже начинавшей высказывать свое нетерпение, что задержка произошла благодаря маленькому пожару в уборной артистов, но он
116
теперь окончательно потушен. Действительно, в первом действии, у Невера, сцена была окутана дымом, и Мазини-Рауль с трудом спел свою арию с аккомпанементом виолы. К арии Марселя и пажа стало лучше, и финал сошел вполне хорошо. В 3-м действии уже не было никаких видимых следов дыма и казалось, что певцам совсем легко, но для бедной примадонны, притом беременной, это не так просто сошло. В ее дуэте с Марселем она во время второй части allegro берет верхнее «до» и тянет его три такта, пока бас делает руладу вниз, что для любителей bel canto одно из интересных музыкальных мест, и все его ждут. Хотя темп быстрый, но счет в 2/4+ удлиняет эти такты. И вот, в середине второго такта бедная Sulla не выдержала и вдруг, сорвавшись, чихнула, вероятно, благодаря дыму; весь эффект пропал, и конец дуэта уже кое-как дотянули. Публика ее так любила, что все-таки аплодировала без конца, а она, бедная, сконфуженно кланялась, показывая на свое горло, и не рискнула повторить дуэт. Зато в 4-м действии в большом дуэте с Раулем превзошла себя и рассталась с публикой тепло, оставаясь, как и прежде, ее любимицей.
Неинтересные спектакли, к каковым относились «Robert le diable», «Linda di Chamouni», ложа уступалась моими родителями Нюничке, которая приглашала с собой своих знакомых швейцарок и швейцарцев. Первую оперу Нюничка слушала, кажется, каждый год, так как ее упорно ставили каждый сезон, и притом с очень слабыми силами. Последние певцы, которых я в Петербурге слышал, были Duran (драматическое сопрано), Зембрих (колоратурное сопрано), Маркони (тенор) и Баттистини (баритон), сводившие потом всех с ума, а для меня после вышеупомянутых корифеев они казались второстепенными. Упомянув стольких певцов и певиц, необходимо вспомнить также бессменного дирижера оркестра того времени — Goula, высокого, очень худого, с длинной черной бородой, в очках. Тогда еще капельмейстерское место было перед оркестром, его пюпитр находился на суфлерской будке, сам оркестр открытый, видный для публики, располагался за спиной своего дирижера. Во время особо сложных ансамблей, как-то «bénédiction des poignards» в «Гугенотах», марш с финалом из «Аиды», финал 3-го действия, в подземелье у гробницы Charlemagne из «Эрнани», Goula дирижировал стоя и с поразительным воодушевлением. Увертюру же «Вильгельм Телль» Россини по традиции дирижировал без нот, стоя лицом к оркестру и публике; эту увертюру, продирижированную им, всегда заставляли бисировать. Когда появлялась около лесенки, ведущей к дирижерскому месту, фигура другого дирижера — Дриго, очень похожего на моего учителя русского языка Цветкова, мы знали, что сейчас будет балет, музыку которого Goula никогда не удостаивал дирижировать. Смена дирижеров производилась незаметно, Goula оставался тут же, ожидая окончания балетного номера, и только обмахивался, до того он, видимо, утомлялся, давая всего себя.
Сезон Итальянской оперы кончался на Масленице, на весь Великий пост все театры закрывались и возобновляли свои представления, кроме итальянской оперы, лишь на 3-й день Пасхи. Великим постом начиналась серия концертов, из которых один в пользу инвалидов давали в Большом театре, ставшем впоследствии театром консерватории. Концерт этот был тоже своего рода диковинкой: участвовали в нем все оркестры гвардейских полков, квартировавших
117
в Петербурге, и все певческие хоры тех же полков. Располагались они все на сцене, на которой для этого строился амфитеатр, и верхние ряды, где были большие трубы, приходились под самым потолком. Для дирижера, коим был Вурм, инспектор военной музыки и солист высочайшего Двора на cornet-à-piston, устраивалось возвышение на месте суфлерской будки, и по бокам его располагались на обычном месте оперного оркестра, закрытом полом, хоры певчих. По силе звука, по количеству участвовавших — это был совершенно исключительный концерт. Понятно, исполнение было, скорее, эффектное, грандиозное, чем вдумчивое, тонко-художественное, но производило, я помню, сильное впечатление; особенно два потрясающих номера: увертюра «Фрейшютц» Вебера, где в одном месте тема исполняется в унисон, и «Maximilien Robespierre» Литольфа, где в одной части вступает тема «Марсельезы», которая потом все ширится, поглощает в себе все остальные темы и, наконец, как бы победившая, с торжеством оканчивает увертюру, является ее финалом; такое публичное исполнение «Марсельезы», гимна революции, в те времена казалось странным.
Из других театров мы бывали только в Михайловском театре на французских спектаклях (там они чередовались с немецкими; в те времена были две иностранные труппы императорские: французская и немецкая). Восхищались мы там Ворсом, Хитминсом и Раймондом; последние два были знаменитыми комиками. Я все время говорю «мы», потому что как гимназист я в театре по правилам мог быть только в ложе, и притом со взрослыми, почему и бывал в театре только с родителями и с сестрой Варей.
В течение второй зимы в Петербурге я был долгое время болен (около двух месяцев) и был переведен в 7-й класс без экзамена, почему из Петербурга мы все уехали довольно рано. Трудно мне теперь сказать, как началась эта болезнь. Мне всегда казалось, что тогда я вначале притворялся и в сущности был здоров, но затем столько было надо мной споров разных медицинских знаменитостей, что боюсь утверждать, и, быть может, я не притворялся, а действительно был болен. Вот как было дело. Я всегда боялся перегибания всего корпуса на параллельных брусьях, почему старался от этого упражнения отделаться. Учитель гимнастики на мой неоднократный отказ, наконец, однажды заявил мне, что так продолжаться не может и для освобождения от гимнастики мне нужно представить медицинское свидетельство. Придя в этот день домой, я все это рассказал моей матери, добавив, что я не могу делать это упражнение, потому что чувствую, что и так вытянул себе жилу в паху. Моя мать перепугалась и немедленно послала за нашим постоянным врачом Пекарским. Это был очень милый человек, но специальность его была акушерство, а потому в моем случае он был мало компетентен. Рекомендован он был новой знакомой моих родителей Софией Дмитриевной Казиной, у которой он принимал единственную дочь, как мы ее все звали, Дудушу, большую нашу приятельницу. Пекарский внял моим словам, положил меня в постель и потребовал консультацию с известным тогда хирургом Николаем Осиповичем Кроженевским. Последний нашел у меня действительно какое-то вытяжение жилы, чему я, по правде сказать, очень удивился, и прописал лежать, лежать и лежать. Мне так было хорошо в постели, балуемому всеми, что я очень легко подчинился и, пролежав несколько дней, мне уже действительно
118
казалось неловко и даже больно наступать на правую ногу. Пекарский навещал меня ежедневно. Время тянулось, и Мама́ стала тревожиться. Дядя Федя Ганскау однажды рекомендовал моей матери другого хирурга, восходящее тогда светило — Николая Васильевича Склифосовского, которого сейчас же и пригласили. Он меня долго осматривал и потом, как мне рассказывали, объявил моей матери в гостиной, где предварительно шла консультация с Пекарским, что у меня коксит. Эта болезнь была его специальностью, лечил он ее своим новым способом — неподвижными гипсовыми повязками. На вопрос Мама́, опасна ли эта болезнь, он хладнокровно ответил: «Обыкновенно она кончалась смертью или уродством, но теперь я применяю новый метод лечения, дающий надежду на полное выздоровление, и этот способ я испробую на Вашем сыне». Конца объяснения Склифосовского моя мать и не слыхала, так как лишилась чувств. Потянулись тяжелые дни, мое лечение приняло очень серьезный и изнурительный характер: запрещено мне было всякое движение. При мне бессменно дежурил фельдшер, мою постель для освежения комнаты выносили, мне же разрешалось лишь приподнимать голову с подушки, сам же я должен был лежать все время на спине. Ногу мою особыми снарядами вытягивали из тазобедренного сустава, что мне мешало спать. Ночью, чтобы заснуть, я, пользуясь недосмотром фельдшера, подтягивал тяжесть, висевшую на ноге, пока она не станет на выступ постели, и засыпал, но, когда эта тяжесть срывалась и нога сразу вытягивалась, я просыпался от боли с криком, чем будил фельдшера, который, не зная в чем дело, относил эту боль к ухудшению моего состояния. После недели или десяти дней такого лечения моя мать, согласно предварительному уговору со Склифосовским, написала ему, прося приехать для наложения гипсовой повязки. Человек Егор, о котором я писал выше, подчеркивая его неумелость, и здесь отличился: спутал адресы и письмо отнес не к Склифосовскому, а к Кроженевскому (тот и другой носили имя Николая, что и спутало Егора, хотя и отчество, а тем более фамилии были совсем несхожи). К великому удивлению моих родителей неожиданно приехал незваный Николай Осипович Кроженевский со словами: «Простите, я нечаянно прочел Ваше письмо, адресованное не ко мне. Чувствую, что Вашего сына лечат не так и что это может быть для него роковым, и почел своим долгом приехать еще раз его осмотреть». Он смотрел меня чуть ли не час, был все время очень взволнован и, кончив осмотр, сказал моим родителям: «Даю свою голову на отсечение, что у него никакого коксита нет. Если наложить ему гипсовую повязку, нога его атрофируется; со стороны Склифосовского недобросовестно применять этот способ лечения в виде рекламы. Понимаю Ваше положение, родителей, Вы не знаете теперь, кому из нас поверить, и потому мой Вам совет: обратитесь к кому-нибудь другому, но специалисту-хирургу, пусть этот третий будет для Вас арбитром спора между нами. Я поступил, как мне моя совесть и мой врачебный долг повелевали. Только прочтя письмо, я понял, что оно было не ко мне адресовано и случайно ко мне попало; может быть, это была судьба, указавшая мне спасти Вашего сына. Счастлив, если мне это удалось». Уехал он, понятно, наотрез отказавшись от гонорара. Мои же бедные родители недоумевали, что им делать, и решили обратиться к лейб-хирургу Богдановскому, который, услыхав про спор двух профессоров, потребовал предварительно осмотра меня хирургом Каде, а
119
этот последний настоял на приглашении доктора Дьяконова, заведовавшего заведением лечебной гимнастики. Таким образом, случай со мной прошумел некоторым образом в петербургском медицинском мире. Дьяконов, получавший практику от всех этих профессоров, наотрез отказался приехать к нам, не желая быть как бы судьей между двумя светилами. После долгих переговоров он, однако, согласился приехать, но лишь с тем условием, что приедет он к нам поздно вечером, чуть ли не ночью, один, и так, чтобы этого не знал Пекарский. Свое заключение он на словах передаст при свидании с Каде, который, со своей стороны, выдаст таковое Богдановскому за свое собственное мнение. Приехал Дьяконов около 12-ти часов ночи. В присутствии моего отца и дяди Миши Устинова, освещавших меня со всех сторон, он проделал с моей ногой самые разнообразные движения, точно указал, какой сустав вытянут и какой мускул страдает, даже, если не ошибаюсь, окрасил его на мне. На консультации Богдановского, Каде и Пекарского диагноз Дьяконова был подтвержден, и мнение Кроженевского восторжествовало. Лечение было радикально изменено: предписано было постепенно приучать меня к движениям, но после слишком энергичного способа лечения Склифосовского я действительно ослабел, поправлялся туго и лет 10 после этого должен был постоянно носить бандаж. Первый мой выезд, уже весной, был с моим отцом в Казанский собор, а оттуда отправились мы с благодарственным визитом к Кроженевскому, меня спасшему.
Во время болезни я все-таки занимался, но, главное, читал запоем, ежедневно посылал в библиотеку менять книги, что исполняла Нюничка. Товарищи мои меня навещали: бывали Давыдов, Бажанов, Ивченко, Неслуховский и вновь поступивший в этом году Плавский, с которым мы очень сошлись. Он был всех нас старше, уже с установившимися взглядами и довольно начитан, так что, несмотря на то, что он был новичок, к нему все относились с уважением. Ждал я их всегда с нетерпеливым волнением, измучивал Нюничку, заставляя ее придавать моей комнате приличный и уютный вид. Заходили ко мне товарищи, обыкновенно выходя из гимназии, поэтому, начиная с трех часов, я прислушивался к каждому звонку. Помню, как раз сердце у меня радостно забилось, когда я услыхал в передней знакомый голос Нила Николаевича Корыстенева, и он вдруг вошел в мою комнату с моей матерью, ласково на меня глядя и, о счастье!, подал мне руку. Я не находил слов, чтобы ответить на его приветствие, так растерялся, что только сконфуженно улыбался и смотрел ему в глаза. А он, между прочим, передавал добрые пожелания и директора, и Павла Игнатьевича Рогова, и их поручение не волноваться, а скорее поправляться. Мне он тут же сообщил, что решено возбудить вопрос в Педагогическом совете о переводе меня в 7-й класс без экзамена. Действительно, через несколько дней он написал моему отцу, что постановление это состоялось и что я могу уезжать в деревню, как только поправлюсь, для чего приложил и отпускной билет уже как ученику 7-го класса.
По вечерам во время моего лежания меня навещали: Ваня Калугин, ученик какой-то гимназии, форма его была черный джерси в обтяжку; Гриша Коробьин, ученик 7-го класса 5-й классической гимназии, собиравшийся поступить в специальные классы Пажеского корпуса, где учился его ближайший друг Спирка Толстой, впоследствии мой товарищ по полку. Коробьин вместе с Толстым и еще
120
студентом Константином Пустошкиным составляли как бы триумвират; между ними была неразрывная дружба, каждое воскресенье и праздник проводили то у одного, то у другого. Коробьин уговаривал меня поступить с ним в Пажеский корпус, к чему я очень склонялся, тем более что и Николай Давыдов, мой товарищ по гимназии, туда поступал. Но увы! я на то никаких прав не имел. В пажи зачислялись дети и юноши приказом по Министерству Императорского Двора по особому докладу каждый раз его величеству. Имели право на это зачисление лишь сыновья и внуки заслуженных генералов или же гражданских чинов в чине не ниже тайного советника. Иногда, по особому ходатайству, государь соизволивал жаловать звание пажа и сыновьям бывших пажей, даже не достигших генеральских чинов, но я ни под одну из этих рубрик не подходил. Деды мои и отец мой имели чины даже не штаб-офицерские, а обер-офицерские, и ни один из них не был пажом, так что мне об этом мечтать не приходилось.
Ваня Калугин был моложе меня, но он первый, а потом и Миша Устинов просветили меня, рассказав мне все то, что от нас так строго матерью скрывалось, что зачеркивалось в книгах, одним словом, ту прозаическую материальную плотскую сторону жизни, от которой меня оберегали в гимназии даже товарищи, отгоняя меня всякий раз во время разговоров на легкие скабрезные темы. На меня разговоры и рассказы Калугина и Устинова произвели впечатление лишь как на удовлетворение любопытства; в дальнейшем товарищи не только в гимназии, [но] и в Пажеском корпусе, куда я все-таки по воле судеб попал, продолжали меня оберегать.
Когда я окреп, перед самым отъездом поехали мы с моею матерью, по ее обещанию, в часовню Спасителя в домике Петра Великого на Петербургской стороне. Эта часовня, как известно, посещается, главным образом, учащимися перед началом учения, а главное, перед экзаменами.
На этот раз моя мать придавала особое значение нашему паломничеству, так как в переводе меня в гимназии в следующий класс без экзамена видела особую милость Божию. По слабости своей я не был в состоянии перенести экзаменационную страду и поневоле должен был добровольно остаться на второй год. А тут и без просьбы родителей, по собственному почину учебного начальства, меня эта неприятность миновала. Всегда, когда я посещал даже взрослым, даже отцом семейства, эту часовню, меня охватывало предэкзаменационное чувство. Нигде я не ощущал с такой реальностью веру во всемогущество молитвы, а сознание, что столько лиц одновременно молятся все об одном и том же, лиц, друг другу совершенно незнакомых, но в эту минуту объединенных в одном порыве, внушало мне чувство любви ко всем. Сознаюсь, что часто эти чувства расхолаживались во время молебна, который всегда служился так заурядно, таким привычным торопливо будничным тоном, что совершенно не соответствовал настроению минуты. Я гораздо более любил время ожидания духовенства, молчаливые молитвы, стоя где-нибудь забившись в угол и взирая на образ, лик на котором так написан, что производит впечатление, где бы ни стоять, что глаза его на вас смотрят.
Уехали мы из Петербурга рано, чуть ли не в начале мая, прямо в Сергиевское, куда возвращение для меня было столь же радостным, как и в первый год. Сестра же моя ехала неохотно, она скучала в деревне.
121
Этим летом 1877 года моя мать познакомилась, кажется, через Яковлевых с семейством Деляновых, проводивших лето в своем имении Железниках под самой Калугой, против Лаврентьевского монастыря. Семья эта состояла из Николая Давыдовича (директора Лазаревского института, брата министра народного просвещения), женатого на Елене Абрамовне, урожденной Хвощинской, и двух дочерей — Ольги и Кати. Первая была на несколько месяцев старше меня, другая моложе; были еще две дочери, но уже замужние, и потому редко бывавшие в Железниках (дочь София за князем Владимиром Михайловичем Голицыным, бывшим потом московским губернатором, а после оставления им этого поста ставшим московским городским головой, и Мария — за Михаилом Григорьевичем Акимовым, скончавшимся на посту председателя Государственного Совета, преобразованного по закону 17 октября 1905 года). С Деляновыми жила старшая сестра Елены Абрамовны Екатерина Абрамовна Акинфьева с внучкой Маней, которую она воспитывала. Эта внучка была единственной дочкой сына Екатерины Абрамовны, занимавшего тогда пост симбирского губернатора; он был в разводе с женой (она вышла замуж за герцога Лейхтенбергского), почему и дочь поручил бабушке (эта дочь вышла впоследствии замуж за Б. И. Алябьева, с которым я потом встретился на службе в Гродно).
Николай Давыдович не играл большой роли в семье, целые дни он проводил у себя наверху в серьезных научных занятиях, сам он был армяно-григорианского вероисповедания и нашей православной церкви чуждался. Только вечером он спускался вниз и появлялся среди гостей, которыми всегда был полон дом, любезно со всеми здоровался, редко кого узнавая, почему часто задавал вопрос, где кто живет; его любезные излияния обыкновенно прерывались каким-либо поручением, которое ему давала Елена Абрамовна. Последняя, несмотря на свои годы (она была значительно старше моей матери), была замечательно красива, все были под ее обаянием. Она была очаровательно гостеприимна, радушна и добра до бесконечности: она всегда за кого-нибудь хлопотала, кому-нибудь помогала. Принимала она всю Калугу без различия в оттенках, для нее все были равны, все были желанными гостями. Она всегда была погружена в какое-нибудь предприятие, сулившее ей скорое обогащение и кончавшееся обыкновенно крупным убытком, но зато выгодным для ее служащих: то она строила шахту для добычи каменного угля, а шахту затопляло водой, и дело приходилось бросить, то она выгодно покупала дом в Москве, а он оказывался построенным наспех и без фундамента, и надо было его продать с убытком, то покупала по совету ловкого дельца на бирже акции какого-нибудь другого предприятия. Всеми своими злоключениями она же, во время игры в карты, со всеми делилась, приводя в отчаяние партнера, так как благодаря рассеянности и посторонним разговорам немилосердно штрафовалась, играя в винт иногда малый шлем в масти противника. Но никогда, даже за такие досадные промахи, никто ни минуты на нее не сердился. Может быть, не все ее одинаково любили — всем не угодишь, но и недоброжелателей у нее не было. Екатерину Абрамовну я мало знал, она мне всегда очень импонировала, была она лет на десять старше своей сестры, так что я знал ее уже совсем старухой. Она была очень высокая, прямая, седая, с очень тонкими красивыми чертами лица, далеко не столь экспансивная, как Елена Абрамовна,
122
но Варя, моя сестра, которая ее больше знала, говорила, что она исключительно ласкова и добра.
Моя сестра подружилась с Ольгой Николаевной Деляновой, и то Варя гостила у нее в Железниках, то Ольга Николаевна у нас. Для меня это был мой первый юношеский сентимент, не скажу, чтобы это было глубокое чувство — нет, но увлечение серьезное и длившееся. Ольга Николаевна этому способствовала, флиртуя со мной при всякой встрече и держась со мной на интимной и дружеской ноге. Сережа Зыбин и у Деляновых был свой человек, называя Елену Абрамовну и ее сестру тетушками, а Ольгу и Катю по имени и на «ты», целуясь с ними по-родственному. Он тоже был влюблен в Ольгу Николаевну, и мы, хотя были с ним ривалы, все же постоянно о ней беседовали. Когда Ольга Николаевна бывала в Сергиевском, она певала с сестрой дуэт «La bianca luna», а со мной играла в четыре руки разные попурри или легкие, мне по силам, увертюры. Играла она гораздо лучше, чем пела, но ее картавый выговор при пении приводил меня в восторг. Днем мы играли бесконечные партии в крокет, теннис тогда еще не был в ходу, а по вечерам катались, причем она большей частью верхом на моем Брильянте, я же был ее кавалером. На одной из таких прогулок чуть не случилось несчастье: на галопе она повернулась в седле, чтобы что-то крикнуть сестре, следовавшей за нами в экипаже, подпруга не выдержала, сдалась, и седло стало переворачиваться; я едва успел схватить ее за талию и скомандовать Брильянту «шагом», он слушался моего голоса, а то падение ее могло быть серьезным. С тех пор между нами установился такой жанр: я ее звал «моя опекаемая», а она меня «опекун». Зимой она прислала мне известный цыганский романс «Чертенок», в котором каждый куплет кончается припевом: «Говорят, я чертенок, но люблю не шутя»; на романсе была ее надпись: «Посылаю Вам мой портрет». Можно себе представить, какое на меня сделала впечатление эта надпись и как я затосковал в Петербурге. Сама она в скором времени прочно полюбила своего двоюродного брата Абрама Петровича Хвощинского, за которого вышла замуж впоследствии.
Когда в Сергиевском никого не было, я наслаждался охотами с моим верным Трифоном. К тяге я опоздал, но зато целыми днями выслеживал выводки. Ездил я с отцом верхом на полевые работы, мало в них понимал толку, но всегда наслаждался широким размахом хозяйства; бывало, в полях работало несколько сот человек, каждый участок был в ведении особого конторского служащего, так что когда мы объезжали конец работ, за нами образовывалась целая свита верховых; тут же отец указывал им их промахи и давал распоряжения на следующий день. Так как все наши восемь деревень работали за разные угодья, почти то же, что барщину, после этого совещания все — помощник управляющего, конторщик, объездчики — разъезжались по деревням давать повестку и наряд работ следующего дня.
Варя все это время жила воображением совсем в другом мире; настолько она жила мыслями в прошлом и будущем в Петербурге, настолько она была общительна и нуждалась в обществе, что когда бывала одна, совсем изнывала. Меня изводили ее прогулки по саду, на которые она выходила в перчатках, с зонтиком, для катания же непременно надевала вуаль. Обыкновенно я ее с Нюничкой
123
катал за кучера в маленькой коляске тройкой. Все теперь измельчало, и эта коляска теперь считается таким грузным экипажем, что последнее время кучер отказывался ее запрягать не только для катанья, но и для поездки на станцию. Во время этих катаний я экзаменовал Варю, требуя от нее названия видимых на горизонте деревень или церкви, что она всегда путала; в случае ошибки с ее стороны я, к великому страху обеих, гнал всю тройку марш-маршем, пока одна из них не вспомнит забытое название.
Лето это быстро прошло для меня, наступил последний учебный год в гимназии. Вернулся я, как и раньше, в Петербург вдвоем с Нюничкой. Очень тяжко было там жить: переделывался передний фасад нашего дома, он весь был в лесах, в квартире было темно, пахло известкой; с раннего утра рабочие поднимали шум и гвалт. В этот раз у нас с Нюничкой произошла оригинальная стычка, еще более оригинально кончившаяся. Причину ее недовольства не помню, но она, не имея возможности за отсутствием родителей угрожать мне своим отъездом «к Коле Баженову», ограничивалась тем, что дулась на меня и звала Monsieur Michel. Мне было прописано принимать вечером соду; она, брюскируя меня, дала мне лекарство; когда же я его выпил, почувствовал вкус квасцов и заявил ей, что она ошиблась, не то мне дала. Она обрушилась на меня за такое подозрение, но, проверив надпись на коробке, должна была сознаться в своей ошибке. Она сразу пришла в отчаяние и смягчилась, я же должен был ее успокоить тем, что такая незначительная доза никакого вреда не сделает, стоит лишь принять побольше соды. Она, убедившись моими доводами, дала мне двойную порцию, но по своей торопливости вновь ошиблась, не соды, а квасцов. Тут Нюничка пришла в полное отчаяние, сама сейчас же выпила вдвое больше квасцов, чтобы если умирать, так обоим вместе. Потом я уже узнал, что когда я заснул, она бегала в аптеку, где ее совершенно успокоили в безвредности квасцов, но она все-таки всю ночь просидела около моей постели. Утром я, к ужасу своему, увидал ее фигуру, бледную, осунувшуюся, в том же платке, в каком была накануне; этим дутье ее окончательно прекратилось, и до приезда родителей не переставала она быть со мной особенно ласковой, мягкой и милой. Страх ее был понятен: до поступления к нам она жила в семье Паниных и присутствовала при драме, произошедшей из-за ошибки в лекарстве; случай этот облетел все газеты. Дмитрий Валерианович Панин, о котором упомянуто выше при описании неудачного концерта в Калуге, был братом того Панина, у которого жила Нюничка. У него было двое детей, близнецы — сын и дочь. Он и жена его Евгения Николаевна (урожденная Бельченко) тряслись над этими детьми, которым минуло лет 6 или 7. Жили они в каком-то уездном городке Владимирской губернии. Дети заболели легкой простудой, и доктор прописал обоим то же лекарство, предупредив, что оно пустячное, но горькое, почему дети будут, наверно, с трудом его принимать. Аптекарь, отпускавший лекарство, как выяснилось потом, ошибся и влил небольшую дозу стрихнина. Родители, помня слова доктора, с уговорами, обещаниями всякого рода баловства одновременно дали обоим это лекарство, и через какие-нибудь четверть часа и мальчик и девочка умерли у них на руках в страшных мучениях. До сих пор я не могу без особого умиления и содрогания видеть их
124
могилу в Новодевичьем монастыре в Москве: она сзади могилы моих родителей, памятник над ней изображает двух спящих детей, осеняемых ангелом-хранителем, стоящим над ними; теперь за смертью стариков Паниных памятник постепенно разрушается.
Не только дома было тяжело этой зимой, но и в гимназии. Гимназия, как я указал выше, в этом году была переведена в новое здание на продолжении Большой Садовой, близ Военного министерства. Здание было громадное, не было в нем прежнего уюта, надо было нам обживать его стены. Помню особый класс рисования, весь построенный амфитеатром, где наш класс, занимавшийся там не в пример прочим отдельно, совершенно пропадал, терялся ввиду обширности помещения. Начальство было новое: наш новый воспитатель полковник Бутовский, сухой, официальный, в темных очках, хотя ничего плохого нам не делал, все же не мог заменить нам любимого всеми Нила Николаевича, которого мы очень жалели, а к Бутовскому не приучались. В середине зимы Дитерихс был заменен полковником Рудановским; последний нам положительно не понравился, ходил он не в форме военно-учебных заведений, а в чужой нам форме — Генерального штаба (?) — в сюртуке с аксельбантами. Меня лично привел он однажды в полное недоумение и даже негодование: встретил меня в рекреационном зале старшего возраста еще до начала уроков, взял меня за талию и таким образом стал ходить со мной взад и вперед, расспрашивая про занятия и дальнейшие планы. Для нас, воспитанных при Дитерихсе в понятиях какой-то недосягаемости директора, такое фамильярное обращение коробило. Но, повторяю, нам оставалось еще несколько месяцев пробыть в гимназии, и наше недовольство происходило не от того, что мы видели что-либо плохое в новых порядках; нет, нам просто жалко было старого уклада.
В этом году предположено было устроить концерты в гимназии и этим иногюрировать грандиозный актовый зал. Я должен был участвовать и играть с Плавским в четыре руки. Во время уроков гимнастики мы репетировали. Меня, давно не учившегося музыке, скорее даже совсем не учившегося, так как мои уроки прекратились с десятилетнего возраста, и то, что я достиг, было достигнуто самоучкой, скоро забраковали, а потом почему-то и концерт расстроился.
В течение моего пребывания в гимназии я был почти всегда третьим, редко спускаясь на четвертое место. Каждую четверть после Педагогического совета наш милейший инспектор вручал нам аттестаты и давал каждому из нас соответственное указание, на что следует обратить внимание. Не помню, в какую четверть, но именно в этом году Павел Игнатьевич, вручая нам аттестаты, первый дал мне как первому ученику, но тут же прочел мне внушительное наставление, чтобы я отнюдь этим не возгордился, так как в сущности я ничуть не повысился в своих занятиях, получив лишь по одному предмету балл, выше предыдущей четверти. Разъяснил он мне, что мое первенство произошло лишь оттого, что мои товарищи Божерянов и Неслуховский, бывшие всегда выше меня, несколько понизились, а потому и заслуги с моей стороны нет. В этой нотации, как и вообще во всем отношении Рогова ко мне, всегда чувствовалось желание подчеркнуть, что надобно гордиться лишь своим собственным трудом, а отнюдь не результатом, который иногда бывает последствием не труда, а лучших условий жизни.
125
Не скажу, чтобы эта нотация, подействовавшая как стакан холодной воды, была бы в эту минуту приятна, почему Рогов, поняв это и желая все-таки меня поощрить, потом вызвал меня и долго наедине беседовал, уговаривая не губить способностей, а избрать какую-нибудь серьезную научную дорогу, не увлекаясь чисто военной блестящей карьерой.
Действительно, наступило время обдумать и решить окончательно, куда поступать после гимназии. Кавалерийское училище, имевшее тогда самую плохую репутацию [из-за] кутежей и франтовства дурного пошиба, мне было страшно антипатичным, тем более что обращение там с новичками было прямо кошмарное: рассказывали о юношах, не выдержавших глумления и издевательства старших товарищей и кончивших самоубийством. Пехотные военные училища пугали меня изнурительной маршировкой, тем более что, увлеченный рассказами отца, я никогда не думал о пехоте. Математический факультет университета и всякое специальное высшее учебное заведение, куда я мог бы поступить по своим математическим способностям, были для меня закрыты ввиду страха моей матери перед студенческими волнениями. Помог случай.
Дедушка Волконский возымел тщеславное желание зачислить меня в пажи. Зачисление это не означало еще поступление в Пажеский корпус, оно было лишь придворным званием для детей и внуков заслуженных лиц, жалуемых государем; такое зачисление делалось иногда с малолетнего возраста и такие малолетние пажи имели право носить пажеское кепи, пока не поступят в какое-нибудь учебное заведение. Дедушка послал прошение на высочайшее имя, ссылаясь на заслуги князя Петра Михайловича Волконского (бывший министр Двора, а когда-то состоявший опекуном моего деда, см. главу о предках моих). Прошение это через дядю Сашу Казначеева и друга его Кривенко, занимавшего видный пост в Министерстве Императорского Двора, удалось вручить министру Двора графу Александру Владимировичу Адлербергу, который обещался лично его доложить государю, воспользовавшись для этого каким-нибудь счастливым событием, располагающим государя быть особенно милостивым. Если не ошибаюсь, прошение это было доложено в день взятия Плевны, и я был зачислен в пажи. Первое известие об этом зачислении привез дядя Саша Казначеев, приехавший для этого даже в театр, в Итальянскую оперу, где мы в этот вечер были. Он никогда не посещал театров, но, не застав нас дома и желая скорее обрадовать всех, превозмог свою антипатию к общественному увеселению и приехал, что было особенно оценено моими родителями; радость всей семьи при этом известии была большая, а у меня впервые появилось даже тщеславное чувство. Этим зачислением в пажи решена была моя дальнейшая судьба. Хотя моя мать ввиду войны начинала уже жалеть, что я выбрал по ее же совету военную карьеру и что менее чем через 3 года я буду офицером, она не прочь была бы допустить и согласиться на мое поступление в университет, но тут уж я, увлеченный всеми разговорами о войне, охваченный громадным энтузиазмом по случаю взятия Плевны, и слышать не хотел о другой карьере, кроме военной. Товарищам в гимназии я тут же объявил, что поступаю в Пажеский корпус. Как только мой отец получил официальное уведомление министра Двора, он подал соответствующее заявление директору гимназии. Отношение инспектора ко мне после этого
126
как-то переменилось, он начал надо мной иронизировать и на выпускных экзаменах был особенно строг. Но меня уже ничто не могло сбить с толку, я чувствовал себя пажом его величества и заэкзальтировался к государю. Никогда не забуду встречу государя Петербургом, когда он возвратился с театра войны: это был такой потрясающий гул «ура» по Невскому проспекту во время проезда государя с вокзала в Казанский собор, что более искреннего восторга мне впоследствии не приходилось переживать. Тогда еще покушения на его жизнь были редки, охрана его особы не была усилена, так что он ехал медленно, в открытом экипаже, окруженный толпой, которая крестила его, бросаясь целовать его экипаж, и он сам, видимо, был тронут.
Вследствие войны моя сестра выездов в этом году не начинала, но у нас по средам вечером устраивались музыкальные собрания; собирались все интересующиеся вокальной музыкой, певали дуэты и целые ансамбли. Впоследствии эти вечера стали привлекать так много желающих участвовать, что удалось ставить даже септеты. Всегда бывала Штраубе, занимавшаяся с Варей сольфеджио, с ней Варя пела дуэт из «Жидовки». В этом же году мой отец познакомился с полковником Иваном Александровичем Кавелиным, который стал у нас часто бывать, и уж по середам непременно. Пел он баритонные партии и, хотя сильно уже спал голосом, брал своей школой, настоящей серьезной школой, почему дуэты с ним бывали всегда крупным музыкальным номером. Он умел подчеркнуть нужные места, дать необходимую экспрессию, одним словом, был настоящий артист. Варя всегда отрицала, но я лично того мнения, что Эверарди образцово поставил ее голос, научил ее им владеть, но настоящее оперное исполнение, драматическое чувство она приобрела, исполняя дуэты с Кавелиным. Их коронные дуэты были: дуэт Валентины с Марселем (3-е действие «Гугенотов»), дуэт Виолетты с отцом из «Травиаты», большой дуэт из 3-го действия «Риголетто», дуэт с мельником (1-е действие) из «Русалки», дуэт с Амонасро из «Аиды», дуэт «La ci daremo la mano» из «Дон Жуана» и многие другие, которых не запомню. Все дуэты они исполняли в совершенстве. Труднее было найти теноров, но их Кавелин привозил, как, например, Гринолевского, Меликенцева и еще одного, фамилию которого не помню, специально для большого дуэта из «Африканки». Басовые партии певали Пустошкин и Пашков Алексей Александрович, адъютант принца Ольденбургского. Для баритонных партий кроме Кавелина выступал еще в больших ансамблях Родионов Александр Петрович; он каждый раз пел тот же самый номер, успевший всем надоесть, — романс «Per qui?». Меццо-сопрано была Швальбе, которую я уже называл, и контральто — Ольга Николаевна Делянова, когда она бывала в Петербурге, или же княжна Волконская. Когда я уже был офицером, кружок певцов увеличился некоторыми из моих товарищей, как-то Глебовым, Левашовым, Жилинским — моим будущим beau-frère’ом; все трое были тенора, но это было, скорее, дилетантское исполнение, художественная сторона наших вечеров пострадала. Аккомпанировала всегда моя мать, и не только аккомпанировала, но и разучивала со всеми каждую партию. Дошла она в этом до такой виртуозности, что без нее все терялись — ею держался ансамбль. Даже Кавелин, опытный певец, которого прозвали в нашем кружке «папа Кавелин», путаясь
127
обыкновенно в счете, сбивался во вступлениях и всегда требовал помощи моей матери. Она была как бы дирижером.
В течение этой зимы поселился у нас Сережа Зыбин, поступив в Петербургский университет. Хотел тоже поселиться Саша Яковлев, он перевелся в Петербургскую консерваторию в класс Ауэра. К сожалению, для него места не нашлось, почему Семен Павлович, его отец, нанял для него во дворе нашего дома комнату, прося моих родителей взять его под свое покровительство. Моя мать хотела привлечь Сашу Яковлева к нашим музыкальным вечерам, но он до того одичал, избегал общества, кроме товарищеского, что это не удалось. Появлялся он только в комнату Сережи Зыбина, где они часами играли вдвоем в пикет, проигрывая друг другу громадные суммы денег, которые, впрочем, они никогда не платили, потому что я все их записи стирал, либо уничтожал. Моя мать от всего этого приходила в отчаяние. Великим постом она всегда вела с ними длинные разговоры, добиваясь с трудом упреками, просьбами, даже слезами, чтобы они говели, сама посещая с ними для этого церковные службы.
В конце зимы мои родители у Левенгагенов познакомились с Дитерихсом, который уже был переведен директором Пажеского корпуса. Он им сказал много хорошего про меня и выражал удовольствие, что я вновь возвращаюсь на будущий год под его начало, поступая в специальные классы Пажеского корпуса.
Через Колю Давыдова я возобновил знакомство раннего детства с его двоюродным братом Денисом Давыдовым, который был в 3-м классе Пажеского корпуса. Таким образом, в следующую зиму мы становились с ним товарищами-одноклассниками; от него я узнал и фамилию, и характеры, и качества, и недостатки своих будущих товарищей. Однажды перед Рождеством он пришел ко мне с повязанной рукой, долго не хотел сознаваться, в чем дело, наконец, рассказал, что накануне пажи разбили все стекла в окнах здания Пажеского корпуса, и он, участвуя в этом, поранил себе руку. Государь посетил корпус. После его отбытия все, по общепринятому обычаю, стали собираться в отпуск на три дня — в этом ни у кого не было сомнения, так как после посещения его величеством своих пажей, что бывало ежегодно, он всегда, уезжая, приказывал отпустить всех на 3 дня и снять все дисциплинарные наказания, отбываемые ими или еще подлежащие отбытию. Все оделись в выпускную форму и пошли являться в специальных классах к дежурному офицеру за билетом. Формула для получения этого билета была немного странная. Паж подходил, взявши под козырек, к дежурному и рапортовал: «Господин (чин офицера), честь имею явиться, уволен в отпуск паж или камер-паж такой-то». В это время в дежурной комнате оказался инспектор классов полковник Алексеев и первого явившегося он озадачил вопросом: «А кто вас уволил?», а на общий ответ всех присутствовавших, что трехдневный отпуск полагается после посещения государя, возразил, что его величество, уезжая, ничего не изволил приказать; времени до праздничных каникул осталось мало, едва успеют окончить все полугодовые репетиции, из коих одна даже назначена на сегодняшний вечер, почему отпуска не будет. Такое заявление полковника Алексеева вызвало страшное негодование, и чтобы вынудить начальство всех отпустить, по общему уговору и по какому-то сигналу, одновременно стали бить стекла во всем здании — и в специальных классах, и в общих; только
128
в лазарете, где был дежурным камер-паж князь Меликов, последний, отстаивая здоровье вверенных ему больных, не допустил этого безобразия. Ротный командир полковник фон Энден, проходя по внутреннему двору, чуть не был убит скамейкой, брошенной с третьего этажа; скандал был страшный. Но начальство не сдавалось и никого не отпустило из интернов. В спальнях все окна были заткнуты подушками, холод был порядочный, но на него и рассчитывали, чтобы охладить пыл расходившейся молодежи.
На следующий день все пажи были собраны в Георгиевском зале, где директор, начав громовой речью, кончил чуть не слезами, говоря, что пажи опозорили свой мундир, что этот мундир и он носил, и потому ему, старику, это больно. Указывал он на стены этой залы, где на мраморных досках золотыми буквами выгравированы имена всех пажей с основания Корпуса, удостоившихся Георгиевского отличия, боевого знака, подчеркивал, что и перед ними настоящие пажи виноваты, и их память они потревожили необдуманным поступком, неслыханным в военном мире; кончил он объявлением, что о вчерашнем происшествии будет особый доклад его величеству, а до решения государя никто не получит отпуска даже и на пасхальные каникулы; но он еще не кончил своей речи, как прибежал швейцар с докладом о приезде из дворца дежурного флигель-адъютанта. Вошел в Георгиевский зал флигель-адъютант и передал директору словесное высочайшее повеление отпустить ныне же всех пажей ввиду близости пасхальных праздников вплоть до 8-го января, что его величество забыл вчера приказать. Раздалось громадное «ура», и через час все здание опустело.
Эта история кончилась тем, что на первом высочайшем выходе государь потрепал за ухо фельдфебеля Корпуса, всегда сопровождавшего государя на всех придворных церемониях, и добродушно сказал ему: «Смотри у меня там, не бунтовать!» Фельдфебель был Родзянко*. По окончании пасхальных каникул и возвращении пажей из отпуска прочтен был в присутствии всех в том же Георгиевском зале приказ по настоящему делу: наказанию подвергнуты все, начиная с начальства и кончая пажами младших классов. Избегли наказания только пажи, находившиеся в тот день в лазарете и отсутствовавшие. Главному начальнику военно-учебных заведений генерал-адъютанту Николаю Васильевичу Исакову был объявлен выговор. Директор, генерал Мезенцев, был уволен от должности, на его место назначен наш Дитерихс. Ротный командир полковник фон Энден подвергнут был домашнему аресту, дежуривший в тот день отделенный офицер — аресту на гауптвахте, а все пажи посажены в карцер: должностные и дежурные на более продолжительный срок. Ввиду неслыханного в практике количества подвергнутых карцеру, таковых, понятно, не хватило, почему все свободные помещения были приспособлены для одиночного строгого заключения. И то была установлена очередь отсидки, так что наказание это отбывалось вплоть до Пасхи и потеряло благодаря этому всякую остроту стыда и горечи.
Очень приятное впечатление осталось у меня от последних гимназических выпускных экзаменов. Мои родители так были спокойны за меня, что уехали чуть ли не в середине экзаменов, и мы опять остались с Нюничкой вдвоем. Ко мне собирались некоторые товарищи для занятий группой. Мне лично
129

Вера Александровна Трубецкая, урожд. Щербатова.
Рисунок М. М. Осоргиной. 1921. Частное собрание, Москва
особенно трудно давалась история — память на хронологию и отдельные факты у меня всегда была плохая, между тем ввиду отношения ко мне Рогова (с тех пор как я пренебрег его советом идти в университет), пугавшего меня, так как я знал, что он будет особенно строг, это был единственный экзамен, на который я шел не со спокойным сердцем. Готовился я к нему с моим товарищем Неслуховским, проверяя друг друга и составляя схему ответов по каждому билету. К великому отчаянию Нюнички, мы просидели всю ночь напролет и ее же заставили варить кофе, чтобы разогнать сон. Экзамен был сдан блестяще. Павел Игнатьевич ничего не мог сделать, но зато подцепил меня на французском экзамене. Отвечал я, понятно, безукоризненно; раз только зарапортовался, производя женский род от титулов: герцог, граф, князь, барон, я сказал вместо baronne — baronesse, но ошибку эту заметил лишь учитель французского языка, поморщившийся лишь от моего ответа; ни директор, ни инспектор, ни председательствующий в Комиссии представитель из Управления главных военно-учебных заведений генерал Ватацци, не заметили допущенный мною lapsus linguae. Последний даже спросил меня, давно ли я говорю по-французски, на что я необдуманно ответил: «От рождения». Рогов стал меня высмеивать, что он первый раз слышит такой феномен — новорожденный ребенок, и уже говорит! Очень меня огорчила эта его выходка, но это был чуть ли не последний экзамен, и я был так радостно настроен, что скоро все позабыл.
130
Наконец наступил последний день выпуска, последний раз я был в гимназии для получения аттестата, отпускного билета и прощания с начальством и товарищами. Когда я пришел, наш воспитатель Бутовский огорошил меня известием, что я выпущен восьмым, так я низко стоял лишь в первую четверть, при поступлении в гимназию! Недоразумение скоро выяснилось — это была ошибка, и я остался на своем обычном месте: третьим. Передал мне Павел Игнатьевич Рогов аттестат, попрощался с нами, сказал нам много хороших слов. Впервые мы тут от него узнали, что начальство считало наш класс первым по успеху и поведению, что он был красой гимназии. Подал он всем нам руку и, видимо, взволнованный, со слезами на глазах пожелал нам счастья и просил нас его не забывать. Прощание такое сердечное всегда сдержанного, казалось, сухого инспектора нас всех разволновало. Дальнейших проводов нас директором и другими совершенно не помню, настолько это первое впечатление было сильно. Всей гурьбой отправились мы к фотографу, где в последний раз собрались, чтобы сняться общей группой; перецеловались мы, обещаясь вспоминать друг друга, и разошлись. Эта фотография висела у меня всегда в Сергиевском около двери кабинета в бильярдной.
В этом году Варя, страстно меня любившая, с экзальтацией переживавшая все события моей жизни, захотела ознаменовать мое окончание гимназии, для чего сделав экономию на выданные ей на ее туалеты деньги, купила мне золотые часы, которые всегда ношу, и когда на них смотрю, всегда с умилением вспоминаю то теплое чувство дружбы, которым она меня всегда окружала дома. Все события моей гимназической жизни она переживала не менее интенсивно, чем я сам, всех моих товарищей она знала если не в лицо, то по фамилии. Носить часы с цепочкой на выпуск было запрещено, кроме жалованных, но тут уж я позволил себе некоторую вольность и не так тщательно скрыл цепочку*.
С моей милой старушкой Нюничкой, переживавшей так же живо радость моего выпуска, я заранее сговорился, что мы поедем в разных вагонах, и она всякими экономиями набрала мне достаточно денег, чтобы мне поехать в первом классе. Теперь мне это совестно вспоминать, а как я тогда радовался быть одному в вагоне, без нее, на положении большого, изображать из себя путешествующего в одиночестве, что до выпуска запрещалось. На остановках я подбегал к окошку ее вагона 2-го класса, она всякий раз совала мне какое-нибудь припрятанное угощение из ее неистощимого швейцарского сака, умоляя, главное, скорее садиться, и следила с замиранием сердца, пока я не вернусь в свой вагон, боясь, что я останусь, а я с молодечеством ждал последнего свистка, чтобы на ходу с ловкостью de plein pied вскочить в вагон. Ехали мы с ней на этот раз в Радушино, где находились мои родители. Не помню их встречи, ни даже своего пребывания, знаю, что отца моего там не застал и, пробыв не более двух дней у дедушки и бабушки, поехал к отцу в Сергиевское через Москву, чтоб и дядю Наумова, болезненно ко мне привязавшегося, повидать. Дедушка Волконский по случаю выпуска подарил мне 50 рублей. Таких больших денег у меня никогда не водилось, почему ехал я со
131
всеми желаемыми удобствами, понятно, в первом классе. Мечта моя была на нашей железной дороге занять маленькое купе, единственное на целый вагон 1-го класса. Чтобы заранее перехватить это купе, я, не дожидаясь передаточного поезда на Протопопово, переехал с Курского вокзала на Ряжско-Вяземский. Поезд сильно запаздывал, пришлось мне ждать довольно долго. Носильщику пообещал рубль, если он займет мне желаемое купе, а сам, очутившись в первый раз один, без надзора, заказал себе обильный обед, в который входили и макароны, и грибы, и ягоды. Никогда не забуду этого переезда — я был хорошо наказан: купе не получил, едва найдя обычное место, и всю дорогу от обильного и негигиенического обеда был болен, ночью совсем и глаз не смыкал, так что возвращение мое в Сергиевское было для меня совершенно испорчено.
Приехал я домой рано утром, без всякого подъема духа, худой, бледный, истощенный от кошмаричной бессонной ночи, застал своего отца еще спящим, потом дня два еще отлеживался. Хорошо, что все это произошло в отсутствие моей матери; отец мой не обратил внимания на мое состояние и, весь поглощенный хозяйством, поверил моим объяснениям, что я просто устал после экзаменов. Скоро приехали Мама́ с Варей и Нюничкой, и летняя наша жизнь потекла своим чередом.
В середине мая приехали к нам Небольсины. Вакант мой должен был продлиться до 1-го сентября, так как в специальных классах занятия начинались позднее, а потому по усиленной просьбе тети Лидии Небольсиной меня отпустили с ними в их имение Петровское Веневского уезда Тульской губернии, чтобы, кстати, повидать свою крестную мать, княгиню Софью Аркадьевну Волконскую, мать тети Лидии. В Петровском жили младшие девочки Масловы — Женя и Верочка, которых после смерти их матери, тети Наташи, Небольсины взяли к себе на воспитание; туда приехали и другие племянники тети Лидии — мальчики Норовы, так что мне было очень весело. Дом у них был небольшой, нас, всех мальчиков, поместили во флигеле под присмотром гувернера Норовых. Кончилось мое пребывание там неблагополучно, отмечаю это, лишь чтобы упомянуть и подтвердить чуткость, почти прозорливую, материнского сердца. После поданной за обедом ботвиньи с рыбой все заболели, и я в том числе, но я лично так сильно, что от меня всю ночь не отходила тетя Лидия и знаменитая по уходу за больными ее горничная Додо. На следующий день, по уговору с Мама́, я должен был уезжать. Боясь меня задерживать и тем более отпустить одного, отвез меня дядя Николай Васильевич Небольсин. Ехали мы до станции с перепряжкой в большом селе Серебряные пруды. Выспавшись до того в коляске, я почувствовал себя совсем здоровым и очень наслаждался. Когда мы уже к вечеру со станции Ферзиково подкатили к подъезду нашего Сергиевского, Мама́, странно, даже не удивилась приезду дяди; меня поразило, как она крикнула мне, еще сидевшему в коляске: «Чем ты болен?». Оказалось, что она в эту ночь видела сон, что я отравился и сильно болен, при смерти, почему решила, если я не приеду, ехать к нам сама. Она не сомневалась в правдивости этого сна, почему и не удивилась дяде, меня сопровождавшему, и первый ее вопрос был о моей болезни. К счастью, ее можно было вполне успокоить, я уже был здоров, и дядя, переночевав у нас, поехал обратно.
132
В Петербург этой осенью, то есть в конце августа 1878 года, я поехал с моим отцом вдвоем. После долгих споров, семейных совещаний мой отец настоял, чтоб я поступил в Пажеский корпус интерном. Он, во-первых, хотел этим побороть мою изнеженность и добиться все того же мужского влияния, о котором он постоянно говорил, а во-вторых, нагнать экономию, так как тогда семья не должна была торопиться возвращением в Петербург. Мой отец получил из Пажеского корпуса официальное уведомление, что по аттестату я принят на казенный счет, а потому я уже ничего не должен был стоить семье, и с поступлением в интернат сокращались и расходы на мою осеннюю жизнь в городе. Я умолял отца этого не делать: с врожденной моей стыдливостью и конфузом интернат меня страшил, и первая разлука во времена Игнатовича заставляла меня бояться ощутить вновь эту муку в непривычной мне обстановке, среди чуждых товарищей, которые едва ли ласково меня примут. Я уже тогда ясно сознавал, что во мне нет данных, требуемых для борьбы за существование, и что при поступлении в новое учебное заведение, а тем более закрытое, особенно нужно уметь за себя постоять; моя дальнейшая жизнь в Корпусе это доказала.
После долгих упрашиваний мой отец, наконец, обещал, что если интернат будет мне не по силам и будет приносить вред моим занятиям, он меня возьмет домой. Я же, со своей стороны, обещал быть благоразумным, не влиять на Мама́ своими письмами и отнюдь не торопить возвращение семьи в Петербург.
Отслужили напутственный молебен, проводили меня по традиционным обычаям. Все собрались в гостиную, и не только семья, ближайшие слуги, но и все даже рабочие, пришедшие проводить. Закрывались все двери, садились где попало, хотя бы на пол, если стульев не хватало, после чего младший по годам вставал первый и все начинали креститься на образ, висевший в углу комнаты, после чего начиналось прощание и целование с каждым. Понятно, первая меня благословляла в этот раз мать, так как отец уезжал со мной вместе. На мои проводы собралась вся усадьба, так что набралось народу много для последнего сидения с закрытыми дверями, и прощание и целование со всеми длились долго. Да и отъезд был не простой, не обычный. Уезжал я впервые поступать на царскую службу, так как пребывание в специальных классах Пажеского корпуса зачитывалось в действительную военную службу.
133
Глава IV
ПАЖЕСКИЙ КОРПУС (1878—1880)
Приехав в Петербург, сговорился я с Гришей Коробьиным, что мы с ним вдвоем явимся в Корпус. Он от Спирки Толстого, выпущенного весной в кавалергарды, узнал все порядки явки, а потому я на него вполне положился. Простился я с отцом, который обещался навестить меня через день — очень жутко было на душе. Подъехали мы с Коробьиным к главному подъезду корпуса, разделись в швейцарской, приветливо встреченные громадным швейцаром в придворной ливрее, полюбовались на традиционную пажескую пушку и, пройдя приемную, к великому удивлению очутились в дортуаре. Коробьин, знакомый с топографией помещения, прошел со мной прямо в дежурную комнату, где мы явились дежурному офицеру. Встретивший нас Димка (Денис) Давыдов разъяснил, что надо еще представиться дежурному камер-пажу и фельдфебелю. Проделав все это, нам объявили, что я назначен в отделение князя Кантакузена, а Коробьин, если не ошибаюсь, к Устрялову, и указали наши койки.
После «помпезной» швейцарской меня поразили убогость и невзрачность помещения роты: все помещение было почти сплошной дортуар, притом много коек незанятых ввиду их обилия. Классных помещений всего три, из которых то, которое предназначалось младшему классу, не имело дверей, а отделялось от темной спальни арками; была маленькая рекреационная зала рядом со спальней, отделенная от нее тоже аркой без двери; в этой зале стояло фортепьяно, из нее одна дверь была в учебную, другая в крошечную читальню, за которой находилась комната дежурного офицера, а за ней коридор с карцером. Но ни рекреационный зал, ни читальня не служили местом сборища пажей: для этого обыкновенно была курилка — длинная полутемная комната со скамейками по стенам. В курилке вечно горел газ и для света, и для закуривания. Первая половина комнаты предоставлена была младшему классу, вторая, [поближе] к рожку газа, — старшему. Только в курилке разрешалось курить, и я, зная это, уже обзавелся портсигаром — опять подарок сестры.
Труден был первый вечер: знакомство с товарищами шло туго; старший класс подтягивал, не было гимназической мягкости, чувствовалась все-таки суровость дисциплины. Все исполнялось по сигналам: и вставание, и умывание, и молитва, и ложение, и уроки, и часы обеда, чая — одним словом, все; один день давали пехотные сигналы на барабане, а в другой день кавалерийские на трубе. В первую
134
ночь я глаз не сомкнул: и койка была ужасная, и разные ночные дежурные при обходе требовали правильной укладки вещей на табурете и мешали спать, а утром — спешное мытье у кранов, которые брались с боя, [что] при моей чисто болезненной стыдливости было прямо пыткой. На следующий день надо было опять представляться командиру роты полковнику фон Эндену, а затем пришлось сидеть бесконечное время в цейхгаузе — подбирать себе казенное белье, одежду и обувь. Цейхгаузом заведовал десятки лет нестроевой в звании фельдфебеля Ефимов, прозванный пажами «Кабаном» за маленькую, но объемистую фигуру. Кто его ублаготворял, тому он подбирал вещи вполне добропорядочные и часто докладывал ротному о необходимости постройки некоторых новых вещей для хождения в отпуск; но в Корпусе принято было, чтобы даже казенно-коштные имели всегда хотя бы один свой собственный мундир. Кроме гимнастерок (простых белых рубашек) были три формы: домашняя, классная, с суконными погонами; городская, отпускная, с погонами, обшитыми золотым галуном; и придворная с грудью, обшитой галуном, а у камер-пажей и фалды с галунами. Первую форму мне подобрали в тот же день, от отпускной казенной я отказался, заказав через того же Ефимова собственный мундир. Придворную же форму пришлось мне шить новую, а также и сапоги, которых на мою ногу нельзя было подобрать в цейхгаузе. На следующий день был медицинский смотр всем — новое испытание моей стыдливости. Мне было разрешено носить очки в классе. Надел я новую форму, преобразился из гимназиста в пажа. В тот же день заехал ко мне отец проститься. Свидание в приемной, на людях, было спешное, натянутое. Отец уехал, и потекла моя новая жизнь.
Будили нас повесткой в половине седьмого; два дневальных нашего младшего класса под начальством дежурного камер-пажа будили, тормошили, так как в половине восьмого все должны были быть выстроены в зале для поверки и молитвы, причем старший класс требовал, чтобы с семи часов в умывальне не было ни одного младшего пажа, а в случае ослушания первый встреченный паж старшего класса наказывал провинившегося лишним дневальством, и дежурный камер-паж накладывал также взыскание на дневальных; все это делалось именем фельдфебеля, который всегда утверждал распоряжения своих товарищей по классу. В половине восьмого рота строилась, старшие выбегали из умывальни, на ходу напяливая куртки и застегиваясь, фельдфебель, сделав перекличку, докладывал дежурному офицеру, что рота готова, последний выходил, принимал утренний рапорт дежурного камер-пажа, здоровался и командовал: «На молитву!»; все пели молитву, после чего под командой фельдфебеля, но в сопровождении офицера шли в другой конец здания в столовую пить чай. По возвращении в роту производилась смена дежурства: фельдфебель проверял у часов (при входе в рекреационный зал) форму новых дежурных и дневальных, заставлял репетировать смену чуть ли не до десяти раз, после чего уже вел смену в дежурную комнату; приходили экстерны, являлись дежурному камер-пажу, фельдфебелю и дежурному офицеру и спешно бежали в цейхгауз переодеваться в классные курточки. В девять по сигналу начинались лекции, длившиеся с перерывом до половины четвертого. Во время большого перерыва в 12 часов был завтрак, на который шли все — и экстерны
135
своекоштные; подавалось одно блюдо, которого каждому накладывалось по куску, но гарнир подавался в изобилии и можно было требовать повторения. Каждый стол президировался по старшинству фельдфебелем и отделенными камер-пажами, а на другом конце сидели дежурные и дневальные, по бокам же рассаживались по ранжиру: сначала старший класс, потом младший. На завтраках и обедах всегда присутствовал эконом — плюгавенький косой господинчик в форменном сюртуке чиновника военного ведомства; кормил он нас хорошо, а в лагерях даже роскошно. Кроме лекций один час посвящался фронтовым занятиям и один час на репетиции. Весь класс для репетиции разделен был на восемь отделений: человек по четыре или пяти в каждом. Отделение имело своего старшего, из коих двое назначались старшими над полуклассом. Каждое отделение сдавало в день одну репетицию по какому-нибудь предмету из прослушанного за две недели курса, а по понедельникам по полуклассам (то есть четыре отделения) сдавались репетиции по очереди по какой-нибудь литературе или по уставам — за четыре недели. На обязанности старших было выяснять, что надо отвечать на репетициях из курса и в этом смысле направлять занятия своих товарищей. Перед Рождеством назначались вечерние репетиции полугодового курса, а весной настоящие экзамены. Читались лекции по следующим предметам: богословие, литература русская, французская и немецкая, высшая математика, статистика, химия, военная история, военная администрация, законоведение, тактика, фортификация, артиллерия, топография, иппология и уставы. Фронтовые занятия, главным образом, заключались в маршировке, ружейных приемах, а в конце года в пехотном строе. Раз в неделю была гимнастика, а по субботам танцы. В старшем классе для выходящих в кавалерию вместо пешего строя назначалась верховая езда и учение пешее по конному в манеже. Маршировка происходила в Георгиевском зале и в соседней аванзале под руководством дежурного офицера, присутствовал иногда и ротный командир, но учили нас камер-пажи и пажи старшего класса. Выбирались для этого лучшие фронтовики и учили они нас немилосердно: каждому вверялось человек десять-двенадцать, и если попадешься к злому пажу, жизни рад не будешь. Особенно допекали нас Гоштофт и Карцев-большой, оба за невзрачное поведение удостоенные камер-пажества лишь перед самым выпуском; от них лишнее дневальство сыпалось как горох.
Гимнастика производилась тоже под руководством старшего класса, но здесь было гораздо вольготнее, на аппаратах упражнялись преимущественно желающие, показывая разные фокусы, чисто акробатические. Танцы преподавал балетный артист Стуколкин, но не так, как в гимназии, а, главное, салонные танцы и придворные поклоны.
Возвращаюсь к распорядку дня: после окончания последней лекции экстерны все уходили, а также многие интерны; каждый камер-паж имел право на три отпуска в будни, а паж на два таких же отпуска, понятно, при условии удовлетворительного учения и отличного поведения. Остающиеся были свободны или гулять в саду, или заниматься чем угодно в роте. Всегда находились любители играть на фортепиано, играть в шахматы, читать газеты, которыми читальня была обильно снабжена, или петь хором в курилке. В пять прежним порядком
136
шли обедать, причем подавались суп с пирожком или щи с кашей, мясное блюдо с обильным гарниром (макароны, картофель, брюква, капуста) и по одному сладкому пирожку на человека; фельдфебелю и дежурному камер-пажу полагалась двойная порция. После обеда требовалась полная тишина в роте, чтобы не мешать заниматься желающим, и лишь после чая в восемь часов разрешались вновь музыка и шумные увеселения; только в одной читальне запрещались даже разговоры. Без четверти девять была повестка, затем в девять — заря, перекличка и молитва, в десять младший класс должен был быть уже в постели, а в одиннадцать — и старшие. По возвращении же всех отпускных из театров, то есть не позднее двенадцати, укладывались и дежурный с дневальным, и только тогда устанавливалась относительная тишина.
Понятно, что эта пунктуальная жизнь всегда на народе, без близких мне людей, без близких мне товарищей, не имея уголка, где сосредоточиться, где я мог бы предаться своим мыслям, воспоминаниям, была мне очень тяжела. Эта бездушная молитва, певаемая по команде, мне была прямо неприятна и мне легче бывало лишь по субботам и воскресеньям за всенощной и обедней в корпусной церкви, но и то хождение туда строем, стояние в шеренгах под зорким взглядом начальствующих лиц, одновременное коленопреклонение лишь в известные моменты церковной службы — все это меня расхолаживало, и я с первых же дней понял, что к интернату я не привыкну. Занятия мои тоже страдали: не имея привычки заниматься на народе, мне трудно было сосредоточиться, а новые учебные предметы, очень интересные, но вполне специальные, требовали большого напряжения ума.
Постановка учебного дела в Корпусе была прямо блестяща: большинство профессоров были выдающиеся. Богословие читал корпусной священник, настоятель нашей церкви протоиерей Селенин, на вид крайне тихий, смиренный человек, с которым мы даже, быть может, обращались недостаточно почтительно. Однажды, о чем речь будет впереди, он показал себя во весь рост пастырского звания. Слабее были поставлены: русская литература, которую читал Мандельштам, немецкая — преподаватель Шмидт, статистика — Карасев, иппология — Лавров, химия, законоведение и администрация — кто их преподавал, не помню. Профессор французской литературы Flint (мы дали ему прозвище «папа Flint»), он же преподаватель и многих великих князей, совершенно увлекал нас чтением драм Victor’a Hugo. Математику читал нам первый год Будаев, ординарный и заслуженный профессор математического факультета Петербургского университета, а второй год — Пржевальский. Будаев был крив на один глаз, всех называл по фамилии, прибавляя «господин» (слово это он произносил в нос — gassin), выводил формулы на доске с какою-то виртуозностью и, по-видимому, любил математику как сродную ему стихию, но в вычислениях делал иногда грубые ошибки. К нам он относился как к студентам, не по-военному, как увидим дальше. Военную историю читал первый год Сухомлинов (столь нашумевший неспособный военный министр последних лет царствования императора Николая II), а второй — Терехов; оба были юные полковники или даже капитаны Генерального штаба с Георгиевскими крестами, читали свой предмет увлекательно, особенно Сухомлинов, и были утонченно
137
вежливы. Тактику читал полковник Скрябин — он был бурбонист, читал скучновато, но чувствовалась в нем самом любовь к своему предмету. Фортификацию не только читал, но и художественно вырисовывал на доске полковник Иохер — высокий, худой, средних лет, с лицом никогда не улыбавшимся, фанатик своей науки. Его лекции сводились к определенному, им защищаемому положению: фортификационные работы — ключ войны, потому что благодаря им, нанося вред противнику, можно спасти тысячи жизней своих солдат, а цель войны — нанести наиболее безопасно урон неприятелю. У него брустверы, гласисы, люнеты, амбразуры и т. п. делались живыми факторами боев. Скучнее других был генерал Андриевский, читавший артиллерию; это был изящный, молодящийся генерал, крайне любезный, всегда с особенной приветливостью принимавший рапорты дежурных. По положению в роте рапортовали командиру роты, инспектору и всем генералам, почему, когда появлялся Андриевский, первый его увидавший паж выкрикивал: «Смирно!», «Дежурного!», и по очереди подлетали дневальный паж, дежурный камер-паж и, наконец, дежурный офицер. Но и генерал Андриевский, когда дело доходило до траектории полета снаряда, оживлялся и нас увлекал. Уставы и топографию преподавал адъютант корпуса штаб-капитан Аргамаков*. Он к уставам не мог ничего прибавить своего, как они были и будут, так и при нем оставались сухим предметом, требующим зубрежки, но и в них он сумел нам дать некоторую руководящую, освещающую нить, благодаря чему заучивание этого скучного материала делалось легче; кроме того, он был замечательный знаток и любитель топографии и нас сумел не только заинтересовать, но некоторых и пристрастить к этому предмету. На нем по должности адъютанта Корпуса лежала обязанность сопровождать нас во дворец, но там его роль была самая ничтожная: доставив нас во дворец, он дальше комендантских комнат не допускался и должен был выжидать окончания нашей придворной службы, скромно скрываясь в управлении коменданта дворца. Но об этих нарядах и службах пажей расскажу подробно в своем месте постольку, поскольку я в них лично участвовал.
Чтобы дополнить список профессоров и преподавателей, надо упомянуть нашего инспектора классов полковника Алексеева. Как личность мы его мало знали, никаких лекций он нам не читал, присутствовал на всех полугодовых репетициях, редко на лекциях, но постановка учебного дела доказывала его заботливый взгляд и педагогический опыт. Мы его побаивались, хотя, повторяю, он
138
общения с нами почти не имел. Бывал Алексеев несколько раз на лекции статистики Карасева. Этот преподаватель, штатский, совершенно не умел себя поставить, и его пажи часто высмеивали. Карасев имел привычку ходить по классу, затем для отдыха опираться на ободок первой парты, раскачиваться, потом вновь ходить, ероша себе волосы и растирая лоб. Шутники-пажи подметили эту привычку и густо замазали ободок парты чернилами — можно себе представить, во что обратилось лицо Карасева к концу лекции. Когда Карасев слишком увлекался и начинал засыпать нас статистическими цифровыми данными, что нам очень надоедало, один из товарищей, обыкновенно Слезкин*, с невинным лицом его перебивал, прося указать и разъяснить, включены ли в эти данные сведения по имению товарища такого-то, причем Слезкин указывал на кого-нибудь из нас, называя при этом указанного какой-нибудь несуществующей громкой исторической фамилией: князь Шуйский, Годунов, Басманов и т. п., так как Карасев никого из нас положительно не знал и не помнил не только фамилий, но и в лицо; при этом Слезкин начинал рассказывать разные небылицы про эти имения, как-то о разводке на севере тонкорунных овец или, наоборот, на юге березовых лесов и тому подобные фантазии. Вначале Карасев прислушивался всерьез, а затем просил Слезкина ему не мешать. Слезкин же обиженно заявлял, что ему не дают образовываться. Когда эти издевательства стали слишком явны, на лекциях Карасева, вероятно, по просьбе последнего, появился инспектор полковник Алексеев, и сразу все прекратилось — при нем не было даже поползновения на такие шутки.
Еще по другому случаю мы узнали взгляд инспектора на преподавателей. Было это так. По понедельникам бывали репетиции по немецкой литературе; происходили они в одном из запасных классов, очень плохо освещенном. Репетиции начинались в 9 часов утра, для петербургской зимы довольно темное время, так что всегда зажигался газ. Уборкой этого класса заведовал служитель по прозвищу «Сашка», старик Мафусаиловых лет, единственный из всех служителей одетый всегда очень неряшливо, никого не боявшийся, всегда на всех ворчавший и гордившийся тем, что многие генералы, занимавшие важные посты, его помнили и посылали через сыновей или племянников ему поклоны. А знакомство это основано было на том, что Сашка заведовал карцером, а во времена еще телесных наказаний приводил последние в исполнение в цейхгаузе, почему все, когда-нибудь в молодости провинившиеся, помнили его хорошо. Сашка не любил немца Шмидта как иностранца вообще, но на этот раз, я думаю, умысла с его стороны не было, а просто по недосмотру он на кафедру поставил надломленный стул. Я как старший над тем полуклассом, у которого в этот день была репетиция, могу заверить, что ни один из товарищей в этом участия не принимал и этого не знал. Пришел Шмидт, уселся и кого-то вызвал, но при первом резком движении покатился вместе со стулом с кафедры при общем смехе. Поднялся наш немец, и к ужасу нашему вместо сердитого лица увидали мы человека почти плачущего. Обратился он к нам с задушевным словом: «Зачем вы меня преследуете? (преследовать его мы никогда не преследовали, но, действительно, ставили
139
всегда ни во что), у меня большая семья, я кормлю своих детей своим жалованием, а полковник Алексеев уже неоднократно мне указывал, что мне придется покинуть Пажеский корпус, если я не сумею заставить учеников себя уважать; он говорил, что это зависит от самого учителя; теперь, когда он узнает, как вы надо мной зло пошутили, мое увольнение неминуемо!». Мы его искренно уверили, и были в этом случае безусловно правдивы, что мы ни причем; извинились мы за неуместный смех, и с тех пор установились у нас с ним очень хорошие отношения, а этот случай замолчали окончательно, но благодаря ему узнали, как Алексеев был требователен и к учителям.
Строевой частью заведовали в роте командир роты полковник фон Энден и два отделенных офицера: Пахомов и Бауэр*, оба штабс-капитаны. Одно время дежурил еще какой-то измайловец (фамилии не помню) с Георгиевским крестом, полученным в последнюю кампанию, но он скоро ушел. Сначала он очень с нами популярничал и держался запанибрата, почему после строгих Пахомова и Бауэра всем очень нравился, но потом, уличив в некрасивом поступке двух товарищей наших, уволенных по его рапорту, потерял нашу симпатию и вернулся в строй, где до того уже показал себя отличным офицером. Энден был очень высокого роста, с рыжеватыми баками, кособокий, считали мы его хитрым, лисой, и очень его недолюбливали; он совсем не был фронтовиком и ротой едва ли умел даже командовать; во всяком случае, ему не приходилось показывать свое умение, кроме одного раза в год на майском параде, ибо в лагере нас прикомандировывали для специального обучения по специальным родам оружия в соответствующие училища и части, а пехотинцев — к образцовому пехотному полку. Но в чем Энден был незаменим — это в деле обмундировки. Ежедневно на всех переменах можно было его видеть около часов при входе в рекреационный зал, осматривающим примерку одежды на пажах. Тут же — Кабан, портной Каплун с закройщиком и целый ряд пажей в приметанных куртках или мундирах, всякий мундир примеривался бесчисленное число раз и одобрялся Энденом лишь когда сидел как литой. Если это нам надоедало, то каково же бывало всей этой команде швальни — их он гонял до седьмого пота, но зато казенная обмундировка была образцовая.
Отделенные офицеры были довольно незначительные личности: Пахомов, громадного роста увалень, в очках, немного грубоватый и всегда страдавший какой-то экземой на лице; Бауэр — типичный немец с очень резким немецким акцентом при разговоре, с яркими рыжими бакенбардами, очень подтянутый. Сидели они в своей дежурной комнате, постоянно бранили Сашку, который и этой комнатой заведовал, и сам немилосердно на них ворчал. Был еще заведующий всем хозяйством Корпуса полковник Бух**, тоже немец. Еще нельзя не вспомнить доктора Юргенсона, толстого, добродушного, всегда страдавшего отрыжкой и рыгавшего немилосердно на всю комнату; он, по-видимому, был большой любитель макарон, всегда рекомендовал их побольше есть, и, действительно,
140
они часто в Корпусе подавались в виде гарнира, очень вкусно приготовленные на какой-то приправке с перцем. Никогда доктор не отказывал пажу лечь в лазарет, когда это по каким-нибудь соображениям требовалось.
Положение всех должностных лиц в Пажеском корпусе было нелегкое. Служба их часто зависела от отцов или родственников пажей*, все сановники и власть имущие в то время имели либо сыновей, либо близких родственников в Корпусе, почему корпусному начальству требовался особый такт, чтобы оставаться в наших глазах импонирующими педагогами, и надо отдать справедливость, что все начальствующие лица Корпуса, а также и преподаватели, за редкими исключениями, держались с большим достоинством.
О директоре, генерале Дитерихсе, я уже писал в главе «Гимназия». В специальных классах Пажеского корпуса мы его почти не видали, и лишь дежурный камер-паж обязан был вечером явиться к нему на квартиру с рапортом. Любовью среди пажей спецклассов он не пользовался. Однажды кем-то из них было напечатано в газетах объявление: «Пропал мопс немецкой породы, без волос, русские слова понимает плохо. Кто найдет и доставит на Большую Садовую в квартиру директора Пажеского корпуса, получит вознаграждение от семьи, которая очень по нем тоскует».
Муштровал нас, главным образом, старший класс: они давали нам, младшим, вместе с привычкой к традициям Корпуса известную общую выправку. В Пажеском корпусе не было обычая Николаевского кавалерийского училища глумиться и издеваться над младшим классом, но считалось необходимым подтягивать младших пажей. В начале учебного года высочайшим приказом часть старшего класса, по представлению начальства, жаловалась в камер-пажи**; из них уже само корпусное начальство лучшего и по учению и по фронту назначало фельдфебелем, пять следующих камер-пажей старших классов — старшими с тремя нашивками: четырем вверялось отделение, а пятому поручалась библиотека.
Надо сказать, что при моем поступлении фельдфебель фон Розенбах и старшие камер-пажи граф Тизенгаузен, Крузенштерн, князь Кантакузен, Устрялов и фон дер Лауниц не были нам так страшны, как пажи старшего класса, не удостоенные камер-пажества; последние вымещали на нас свой неуспех и очень нас преследовали. Нашим страшилищем и общим нелюбимцем был Гоштофт; как мы обрадовались, когда однажды Энден посадил его в карцер. По всей Садовой начал мигать в уличных фонарях газ; Энден, зайдя неожиданно в курилку, застал Гоштофта, приспособившегося дуть в газовый рожок (легкие у него были объемистые), отчего и происходило это явление. Я сидел в читальне, и каково же было мое удивление увидеть нашего тирана, нашу грозу, Гоштофта, идущего робкой сконфуженной походкой в сопровождении Сашки, гремящего ключами, и Эндена, громовым голосом читающего ему, как мальчишке-шалуну, нотацию. На несколько дней мы были от него освобождены, но зато после карцера
141
(таковой при мне для него еще повторился в лагере) он выходил еще сердитее. На следующий год мы сумели тонко, но и вежливо показать ему свое неодобрение. Бывшие пажи после производства в офицеры часто посещали Корпус, и мы этих офицеров радушно принимали, как дорогих гостей, в курилке. Когда в следующем году приехал к нам в Корпус Гоштофт уже офицером, его оставили одного в курилке, и куда бы он ни входил, наш класс, не сговорившись и просто по антипатии, под каким-нибудь предлогом выходил из комнаты, пока наконец, поняв смысл этой враждебной демонстрации, он сконфуженно не прошел к дежурному офицеру, а потом уехал; больше он нас никогда не посещал. Пример Гоштофта нам был полезен и поучителен — мы всем классом обещались, когда станем старшими, отнюдь не притеснять младших, хорошо к ним относиться и давать им нужное военное воспитание без тиранства и придирок. Кажется, с нашего класса и установилось вполне товарищеское, без фамильярности, но и доброжелательное отношение к младшим, подчеркивая, что на службе мы — начальство, а вне оной — товарищи.
Должен, впрочем, упомянуть, что среди старшего класса были милейшие юноши. Первый, фельдфебель Розенбах — совершенно красная девушка, с трудом исполнявший свою роль главного начальства; князь Кантакузен всегда заботился о своем отделении и неоднократно из-за нас поругивался с Гоштофтом и Карцевым. Затем милейший был и замечательно красивый Илья Татищев, впоследствии генерал-адъютант, состоявший при германском императоре. Мои будущие товарищи по полку: князь Шаховской, князь Барклай-де-Толли-Веймарн и Паша Шабельский совсем славные были ребята, особенно последний, с румянцем во всю щеку, Нарышкин, впоследствии служивший под моим начальством в Гродненской губернии в должности мирового посредника, а затем предводителя, был всеми любим, и его плачевный конец меня очень огорчил. По настоянию начальства он должен был после меня покинуть службу. Все мы еще очень любили Козлянинова, высокого стройного юношу, с очень красивыми, мелкими женскими чертами лица и смуглой кожей, что очень выделяло его среди других; вышел он в конную артиллерию и скоро застрелился; тайну своей смерти он никому не поведал, но говорили тогда, что он пал жертвой американской дуэли; все подробности знал один лишь Гриша Коробьин, бывший в то время его однополчанином.
Помню еще хорошо шумливого, но добродушного фон Кауфмана; при взятии Геок-Тепе он был ординарцем при Скобелеве; последний, желая угодить отцу Кауфмана, туркестанскому генерал-губернатору, послал именно его к государю с подробным донесением и ключами города. Во время переезда Кауфмана из Геок-Тепе в Петербурге случилось 1-е марта [1881 года], и привез он ключи уже не императору Александру II, а императору Александру III, который выслушав доклад, сказал ему: «Мой покойный отец намеревался сделать Вас своим флигель-адъютантом, почему и я жалую Вас этим званием». Нельзя не упомянуть еще Теляковского, впоследствии директора Императорских театров: он сочинил к празднику Пажеского корпуса очень красивый марш, приобретший право гражданства; вообще, по вечерам он всегда услаждал нас всех, и младших и старших, своей игрой на фортепьяно. В общем, за некоторыми исключениями,
142
все-таки особенно плохой памяти о старшем классе у нас не осталось, а они уверяли, что раньше было гораздо хуже.
Перехожу к своим товарищам до классу. Среди них общей любовью пользовался князь Оболенский Николай Димитриевич, по общему прозвищу — Котя; он неоднократно застревал в младших классах, почему когда-то в общих классах был не только товарищем, но и старше классом наших старших пажей; не было человека, который бы его не любил. Впоследствии мы с ним породнились. Моя жена была его племянница ненамного его моложе. Вышел он в Конный полк*. В один из полковых праздников (25 марта — Благовещение) государь император Александр III к удивлению всех сделал его, как полкового адъютанта, своим флигель-адъютантом; насколько такая награда была обычна при императоре Александре II, настолько при его преемнике она казалась невозможной. Великий князь Владимир Александрович, командующий войсками округа, видя, что государь говорил с Оболенским, подошел к нему спросить, что ему сказал его величество. Когда Котя сказал, что ему показалось, что он его поздравил флигель-адъютантом, его высочество ответил, что он, наверное, ослышался и что такая награда на государя не похожа; но затем подошел к государю спросить, и близ стоявшие слышали, как его величество ответил шуткой: «Да, правда, я потерял свою невинность, и Оболенского жалую флигель-адъютантом». Это был первый флигель-адъютант нового царствования, если не считать Кауфмана, получившего это звание как бы по предначертанию покойного государя, и тех адъютантов наследника**, которые со вступлением на престол Александра III тем самым стали флигель-адъютантами.
Я лично был дружен с князем Владимиром Мосальским, добрым малым с очень странным произношением, как будто у него была каша во рту. Он и в Сергиевском у меня был, и вся моя семья его очень любила. Его мать, урожденная Мезенцева, была сестра матери князя B.C. Оболенского. Потом, уже в генеральском чине, он по службе пострадал как занимавший какой-то важный артиллерийский пост в Петербурге в тот злополучный крещенский парад, когда салютационный выстрел с Петропавловской крепости был дан боевым снарядом по сени на Неве, и вблизи государя некоторые были ранены. Веселый, но не без интриги и позерства, был Нейдгардт, по прозванию «Мимка». Он потом был калужским вице-губернатором, а в 1905 году одесским градоначальником. После увольнения его с последнего поста он уже более не всплывал, как ни старался пробраться в виленские генерал-губернаторы. Музыкантом и заправилой всего хора, а потому необходимым заседателем курилки, был Тарновский, сын небезызвестного драматурга. Мнил он себя графом, не имея на то никаких прав, и потому свой вензель венчал всегда короною с 9-ю шариками. Засядько, будущий казак, а потом крайне неудачный губернатор, ко всем приставал с разными неприличными шуточками, за что товарищи неоднократно ломали его трубочку, с которой он никогда не расставался. Младшим по годам был Трепов, по прозвищу
143
«Рыжий бэбэшка», единственный из нашего класса достигший положения государственного сановника, так как он был предпоследним премьер-министром в царствование Николая II. Баловень всего класса за свою миловидность и детскую фигуру был Стремоухов. Неразлучными друзьями были Молоствов, Критский и Кашнев, из них первый своей рассудительностью казался много старше своих лет и всех нас вообще.

Знак выпускника Пажеского корпуса, принадлежавший М. М. Осоргину. 1880.
Частное собрание, Париж
Совершенно непонятным явлением в Корпусе был В..., типичный еврей; и как с таким происхождением он очутился в стенах привилегированного заведения — было для всех загадкой. Вышел он в один из дорогих кавалерийских полков, стоявших не в Петербурге, и скоро бесследно исчез с петербургского горизонта. Очень симпатичны были два двоюродных брата Гриппенберга; старший, с черными вьющимися волосами и тонкими чертами, был очень красив. Он замечательно хорошо чертил, почему я был очень рад во время съемки попасть в его партию. Первым по учению и успехам был Ромишевский — маленького роста, сутуловатый, с непомерно громадной головой, с рыжеватыми щеткой волосами; его фигура была настолько невзрачна, что в следующем году фельдфебелем назначили не его, а следующего за ним Немчинова, совершенно заурядную личность. Он не имел в классе влияния, но, к сожалению, для фельдфебеля требовалась, по его придворной службе при самом государе, красивая внешность. Фельдфебели Корпуса, благодаря своей
144
постоянной близости к государю, если были интриганами, всегда умели в будущем устроить себе хорошую служебную карьеру. К чести Немчинова надо сказать, что он пошел обычной торной дорогой, не ища никогда протекции. Хорошими товарищами были и скромный Жуковский, считавший себя близким родственником поэта, и лихой весельчак Головачев, сын адмирала, командира гвардейского экипажа. Немецкий элемент в классе был представлен в лице Розеншильд-Паулина со свернутым правым ухом, Баумгартена с надломленным передним зубом и добродушного, толстого и маленького барона Менгдена по прозвищу «Оскар».
Всех товарищей не перечтешь, но моим любимым, прямо другом, был Вася Булыгин, и так как он имел сильное на меня влияние, остановлюсь на нем подробнее. Был он небольшого роста, очень некрасивый как лицом, так и сложением, ходил сгорбившись, был немного неряшлив, особенно в прическе своих даже не рыжеватых, а красноватых волос, но был очень умный, замкнутый и как-то никогда не [по]давал себя всего в разговоре, почему чувствовался к нему неослабевающий интерес. Среди всей корпусной жизни с ее мелочами, казалось, что он всегда смотрит дальше — вне ее. На меня он производил впечатление юноши из романа Маркевича «Забытый вопрос», хотя, когда я познакомился с его семьей, я убедился, что в этой почтенной семье ничего подобного описанному Маркевичем не могло быть. Отец его занимал видный пост первоприсутствующего в Сенате, но умер рано, оставив большую семью* без всяких средств, и почтенная вдова должна была пробавляться одной пенсией мужа. Между тем ближайшими родственниками были все люди со средствами, а один из них, граф Сергей Дмитриевич Шереметев, считался чуть ли не первым богачом в России. Положение бедного родственника всегда оскорбляло Васю. Семья его жила на Сергиевской улице, самой фешенебельной в те времена, в невзрачном маленьком деревянном домике-особняке, особенно мизерном среди аристократических палаццо этой улицы; как деревянная постройка он был единственным в своем роде в этом квартале, и судьба как бы ожидала смерти матери Васи, после чего дом был уничтожен, возведен громадный домина, и былого уютного места и не найдешь и не узнаешь. А с каким, бывало, биением сердца подъезжал я к этому домику, сколько пережито было мною там хороших юношеских впечатлений!
Я был чуть ли не единственный товарищ Булыгина, которого он ввел в свою семью. Он, видимо, стеснялся скромного патриархального уклада своей семьи, во мне же почувствовал такого друга, который с присущей юношеству экзальтацией все, его касавшееся, считал наилучшим. И, действительно, в старческих годах, анализируя мое к нему отношение, вижу, что это было более чем дружба, а какая-то влюбленность к лицу, стоящему выше окружающей среды если не качествами своими, то теми духовными запросами, которыми он интересовался. Он первый заставил меня читать более серьезные книги, дав мне прочесть «Цивилизацию в Англии» Бокля. Он, видимо, мне протежировал, но и сам был польщен моим преклонением перед ним, я же гордился его дружбой.
145
Его домашняя жизнь доказала, как он вечно всегда что-то искал. Выйдя из Пажеского корпуса в наиболее дешевый полк лейб-егерей, он после кончины своей матери впал в полосу безверия, бросил скоро военную службу, поселился в крошечном родовом имении в Тверской губернии и стал типичным представителем третьего элемента Земства со всеми его недостатками и качествами, то есть вечным исканием правды, исканием пользы для младшей братии, но и непрестанным расшатыванием тех устоев, на которых держалась и строилась земля русская. Кончилась его земская деятельность какой-то крупной историей, после которой он долгое время был под надзором полиции. В этот период его жизни с ним сделался крутой перелом: он женился, стал ярым церковником и поборником всей нашей обрядности, как может сделаться лишь неофит. Его двоюродный брат Александр Григорьевич Булыгин (см. главу «Гимназия») своим служебным влиянием добился, чтобы вся прежняя деятельность Васи была Департаментом полиции предана забвению. В 1911 году я был в Петербурге для зачисления старшего сына вольноопределяющимся и встретился с Васей Булыгиным. Он занимал какой-то важный пост в Департаменте уделов Министерства Императорского Двора, обременен был большой семьей, по-монашески соблюдал все посты, не пропуская ни одной церковной службы, все свободные минуты проводил в чтении духовных книг, был другом и собеседником целого ряда видных иерархов, и все это безо всякой рисовки, по крайнему искреннему убеждению. Во время же революции Вася Булыгин принял сан священства.
Коробьин и Николай Давыдов, поступившие одновременно со мной, очень скоро переменились; мне же, несомненно, вредила невидимая протекция Дитерихса. И не сомневаюсь, что по его указанию инспектор классов назначил меня старшим над полуклассом, что не могло не быть обидным для остальных, так как я был новичок. Я лично, видя в этом только лишние для себя хлопоты, не усмотрел отношения товарищей к этому вопросу и очень был удивлен, когда вдруг увидел, что нажил себе врагов.
Однажды, от нечего делать прохаживаясь в свободное время по помещению, я увидел в стеклянную дверь дальнего запасного класса целую кучку своих товарищей, оживленно разговаривавших, и среди них, как мне показалось, Гоштофта [из] старшего класса. При моем входе все замолчали, и кто-то сконфуженно попросил меня выйти, так как обсуждалось секретное дело. Заметив уже ранее, что товарищи избегают при мне скабрезных разговоров, и думая, что у них шла именно такая беседа, я вышел. Велико же было мое удивление и оскорбление, когда вскорости меня догнали двое или трое и заявили от имени класса, что они требуют от меня прекратить знакомство с директором Корпуса, и на мое возражение, что я с ним никогда знаком не был, они мне ответили, что один из пажей старшего класса им сообщил, что видел мою каску у него в передней. Будь я более искушен жизненным опытом, я бы потребовал доказательств, и тогда этого доносчика легко было бы уличить во лжи, ибо я никогда Дитерихса не посещал — ни в гимназии, ни в Корпусе. Но во мне заговорили прежде всего чувство негодования за такое несправедливое обвинение и обида оскорбленного самолюбия, и я помню, что я с дрожью в голосе крикнул им:
146
«Это ложь, ложь, ложь!... И я порываю с вами отношения, ни с кем, солидарными с вами, здороваться не буду, пока вы все не сознаете свою ошибку и не извинитесь передо мной...»
Мой возбужденный тон, по-видимому, их озадачил, а я побежал к дежурному офицеру и дежурному камер-пажу отпрашиваться к инспектору: без их разрешения нельзя было выходить из помещения роты, но нам, старшим, ввиду постоянных переговоров с профессорами такие разрешения давались беспрепятственно. Нашел я полковника Алексеева в помещении общих классов и категорично заявил ему, что отказываюсь быть старшим над отделением и полуклассом. Он мне недовольным голосом ответил, что я, по-видимому, недостаточно проникся духом дисциплины, потому что никакой военный не вправе отказываться от поручения, даваемого начальством. Я настойчиво возразил, что отныне старшим себя не считаю, а его воля поступить со мной как угодно. На все его расспросы о причинах такого необычного отказа я ответил, что это мое дело личное, что я как новичок, с трудом привыкающий к интернату, к занятиям на народе, чувствую, что от того успех моей работы страдает и потому не хочу отвлекаться посторонними обязанностями. Он, видя мое возбужденное состояние, отпустил меня, сказав довольно резко: «Посмотрим!». Дошли ли до него какие-нибудь слухи по этому поводу — не знаю, но старшими назначены были другие. Для меня же потекли тяжелые дни полного отчуждения от своих товарищей. Лишь человек десять в тот же вечер подошли ко мне и заявили, что считают всю эту гнусную историю плодом недоразумения, среди них был Котя Оболенский, а из старшего класса особенно приветлив был с тех пор Ильюша Татищев. С остальными товарищами своими я не здоровался и не разговаривал. К счастью, эта история совпала с возвращением моей семьи в Петербург, и я настоял, чтоб мой отец взял бы меня из интерната.
Генерал Дитерихс, к которому отец поехал с этой просьбой, долго его отговаривал, разъясняя, что меня, быть может, ждет в будущем году фельдфебельство, для чего необходимо быть интерном. Отец колебался. Я не хотел ему рассказывать мою историю с товарищами, а потому призвал себе в союзники Мама́, разжалобив ее тем, что я там плохо сплю, плохо ем, и наконец отец сдался, и я стал экстерном. Встречаться и общаться с классом, враждебно настроенным, было мне не так мучительно в течение короткого времени занятий, а по вечерам я отдыхал в семье. Но и то все это скоро прекратилось: каждый день то один, то другой подходили мириться, и через месяц вся эта история была забыта всеми, кроме меня, в котором она оставила болезненный осадок.
Экстерном был и Мосальский; жил он недалеко от нас, против собора Спаса Преображения; так как он ездил каждое утро на своей лошади, он взялся за мною заезжать, а я в ответ обязался довозить его обратно на извозчике. Из боязни опоздать я каждое утро поджидал его в своей швейцарской и в это время вел нескончаемые разговоры с нашим швейцаром Матвеем. Это был интереснейший тип, старый военный, служивший в доме до нас еще чуть ли не двадцать лет. В последний раз, как я был в Петербурге в 1915 или 1916 году, проходя по Литейной мимо дома Тупикова, опять увидел на своем посту у парадной двери того же Матвея, но старым-престарым и совершенно беззубым. Он меня,
147
понятно, не узнал, но когда я назвался, бросился ко мне на шею расспрашивать про моих родителей, Нюничку, Платона Евграфовича, которых уже давно в живых не было, и все ахал, что у меня уже три сына на войне. А я ему напомнил, как, ожидая Мосальского, слушал его рассказы про всех квартирантов его подъезда. Для него это был целый мир, с которым он сжился, свыкся, весь его интерес. Действительно, квартиранты его подъезда живали подолгу, и мы, проживши всего четыре года, были для него проходящим эпизодом. С такими квартирантами, как генерал Резвый, Левенгаген, которые в этом доме и детей вырастили, и поженили их, и сами, наконец, умерли, он сжился как со своими господами и очень характерно и своеобразно описывал разные их среды.
В этом году мне пришлось два раза нести придворную службу: первый раз на крещенском параде, а второй раз на похоронах великого князя Вячеслава Константиновича. Камер-пажи несли дежурство при высочайших особах, а мы, пажи, в придворных мундирах и длинных белых штанах (в отличие от камер-пажей, которые надевали лосины и ботфорты), с факелами в руках шли оба раза по бокам процессии. В крещенские морозы, хотя церемония была не длинная, все-таки трудно было быть в одном мундире, но никто не простудился. Сам государь пальто не надевал — люди были другие, закаленные. Оба шествия под звуки гимна «Коль славен», исполнявшегося всеми военными оркестрами, находившимися на пути, производили сильное впечатление: чувствовалось все величие царской власти и особы самого царя, казавшегося нам недосягаемым и потому и совершенно неприкосновенным.
Тем более потрясающее впечатление производили на нас случаи покушения на государя: Соловьева, а потом взрыв во дворце. Спешно камер-пажи отправлялись во дворец, а мы и пажи старшего класса собирались в корпусной церкви на торжественный благодарственный молебен. Как воодушевлена была в эти минуты молитва нашего протоиерея! У меня лично к государю было совершенно исключительное отношение: восторженное, экзальтированное чувство. Он в эти времена вырастал в моих глазах в великую эпическую фигуру Царя-Освободителя, преследуемого кем же? — теми самыми, которых он облагодетельствовал.
О взрыве во дворце мы узнали очень скоро со всеми подробностями через пажа общих классов Дельсаля, отец которого был комендантом дворца. Этот несчастный генерал Дельсаль в момент взрыва спускался на лифте, и лифт, благодаря сотрясению, застрял между этажами, и долгое время нельзя было извлечь коменданта из невольного ареста. Только благодаря опозданию поезда, с которым ехал князь Болгарский, и отсрочке ввиду этого начала фамильного обеда во дворце, никто из царской семьи не пострадал. Адская машина, заложенная революционером, работавшим во дворце в качестве столяра, взорвалась через десять минут после назначенного для обеда часа. Громадная люстра в столовой рухнула на сервированный стол, который был разрушен, но, к счастью, в комнате еще никого не было из царской семьи. Разрушение было столь ужасное, что, говорят, жутко было это видеть: явно промысел Божий охранял государя. Рассказывали, что один из часовых главного караула, чудом оставшийся в живых, но стоявший на таком месте, где ежеминутно могла обрушиться стена и похоронить его живым, не соглашался сойти с поста без разводящего,
148
а последний был убит. Сам государь, по докладе сего, сошел вниз и своим царским словом снял этого часового с поста... Умел наш русский солдат исполнять свой долг и в мелочах доходить до геройства. Командир роты этого часового, он же и начальник караула в тот день — капитан Вольский — был сделан флигель-адъютантом. Про этого Вольского потом ходил анекдот, будто в Вене у нашего посла он встретился с двумя своими соотечественниками, с которыми посол его познакомил, называя фамилии каждого: «Вольский, фон Вольский, Извольский». Действительно, совпадение было странное, но новоиспеченный флигель-адъютант, говорят, обиделся, думая, что посол коверкает его фамилию и смеется над ним.
Вообще в царствование Александра II пожалование флигель-адъютантом стало очень частым, и это звание перестало быть редкой, особенно желаемой наградой. Рассказывали, что государь посетил своего сына великого князя Сергея Александровича в Ильин день в имении последнего в селе Ильинском. Здороваясь с караулом, государь спросил фамилию начальника караула и, когда узнал, что его зовут Илья Ильич Ильин, очень смеялся такому совпадению: «Илья Ильич Ильин в Ильин день в карауле в селе Ильинском» и тут же поздравил его флигель-адъютантом, на что бедный, мало кому известный армейский пехотный офицер никак претендовать не мог*.
В эту зиму моя сестра много выезжала, и у нас устраивались танцевальные вечера. Я их очень не любил и в такие дни переселялся к Небольсиным, нанявшим квартиру в нашем же доме, но с другого подъезда. Много было забот моим родителям привлечь побольше кавалеров. Помню, что когда они познакомились с кавалергардом Федоровым и преображенцем Адлербергом, имевшими репутацию хороших дирижеров, они очень были довольны. Лучшим тапером в те времена в Петербурге был Шмидт, но его почти никогда нельзя было заполучить, он всегда был занят уже заранее; чуть ли не за месяц у него все вечера были расписаны, хотя он был очень дорог: пятьдесят или сто рублей за вечер была его цена. Мои родители приглашали Альквиста, впоследствии с успехом заменившего Шмидта во всем beau monde, он брал за вечер 25 рублей. Я хорошо помню его игру — это был прямо художник в своем роде, и его импровизации заслуживали быть записанными. В те времена царил такой жанр, что дирижеры танцев справлялись, кто будет тапером и vice versa, и соглашались оба, лишь если друг друга знали. Альквист играл с таким brio, entrain, что, казалось, всякий, чуть ли не мертвец, запляшет под его музыку; в антрактах между танцами он опускал руки в холодную воду и так отдыхал. С ним носились, угощали, занимали разговорами, ибо он был капризен. Своих товарищей на эти вечера я не звал и сам, как сказано выше, избегал. В мое время в Петербурге, в отличие от Москвы, учащаяся молодежь не считалась кавалерами — танцорами было юное гвардейское офицерство. Но к себе в семью я ввел многих товарищей, даже, скорее, редкие у нас не бывали, они все немножко поухаживали за моей сестрой, все они были приняты моей матерью попросту, радушно, с некоторым оттенком родственности,
149
а потому многие из них стали своими людьми. Платон Евграфович звал всех «председателями», и когда встречал их на улице, каркал на всю улицу вороной; его оригинальничанью не было предела, почему его многие знали в квартале, где мы жили.
Веселая зима эта была прервана болезнью отца. В то время нашим домашним доктором был уже не Пекарский, о котором я упоминал в предыдущей главе, а Головин, лейб-медик государя. Папа́ заболел лихорадкой, но столь упорной, что она не поддавалась лечению, и вся семья была в тревоге. Мама́ как-то раз в минуту острой тревоги схватила доктора Головина за руку и взволнованно ему сказала: «Доктор, я очень богата, возьмите половину моего состояния, но спасите мужа». Злые языки говорили, что Головин не просил консультации с намерением затянуть болезнь. Действительно, мой отец так ослабел, что совершенно не вставал с постели, его переносили из комнаты в комнату для перемены воздуха. Наконец, настояли на консультации. Приехал знаменитый С. П. Боткин и после подробного тщательного осмотра больного прописал хину, но в такой большой дозе, как в те времена не было принято принимать это лекарство; через несколько дней отец мой стал быстро поправляться.
Крупные траты убедили моего отца, что средств у нас не хватит на такую жизнь: леса продавались, имения закладывались, а моя офицерская служба и приданое как мне при производстве, так и Варе в случае замужества были еще впереди. Моя мать все настаивала, чтобы Папа́ нашел бы себе службу. Николай Васильевич Небольсин, женатый на двоюродной сестре моей матери княжне Лидии Николаевне Волконской, был избран в этом году одним из директоров правления С.-Петербургского — Тульского Поземельного банка и предложил моему отцу постараться провести его в члены-оценщики того же банка, которые избирались общим собранием из среды акционеров. Банку такой служащий, как мой отец, был находкой: он не был делец, имя его было чисто от всяких биржевых спекуляций, вращался он в Петербурге если не в высшем обществе, то, во всяком случае, в почтенных кругах, и потому участие Папа́ было для Банка некоторой рекламой честности и порядочности. Мой отец долго колебался, деятельность банковская была ему не по вкусу, но движимый, как всегда, чувством долга перед семьей, он, наконец, дал свое согласие дяде Небольсину действовать. Мама́ же в шутку обещала Николаю Васильевичу в случае успеха ящик горчаковских сигар (по 1 рублю штука — они назывались у Фейка «канцлеровскими»). Дядя Небольсин, опытный в деле выборов, принялся агитировать среди акционеров, передал моему отцу нужное количество акций для права участия голоса на общем собрании: одни ему продал, другие фиктивно перевел на его имя, и на первом общем собрании мой отец был избран. Мама́ ликовала и должна была, по требованию Небольсина, сделать крупную трату на покупку ему обещанных сигар. Мой отец faisait bonne mine à mauvais jeu, а в душе очень страдал, видя, как вся среда, куда он попал, ему не по вкусу. Больно было за него, и тем более мы чувствовали с Варей к нему умиленную благодарность, понимая, что эта служба есть жертва с его стороны для нас. Всячески он старался ограждать наш дом от вторжения новых сослуживцев; с Небольсиным из-за этого постоянно бывали шероховатости в отношениях; у них все эти банковские деятели были свои люди. Все эти типы с кольцами
150
и брильянтовыми перстнями на указательных пальцах были их завсегдатаями, и мои родители у них с ними встречались, а к себе не звали; если же принуждены бывали это делать, то делали это с большим разбором. В следующем, кажется, году, однажды вернувшись из Корпуса, я застал Папа́ очень расстроенным и узнал, что ему в этот день при оценке дома предложили взятку, чтобы он повысил оценку. Бедный Папа́! Он — всегда хрустально-чистый, никогда не бывший дельцом — попал в такое положение, ему посмели сделать такое гнусное предложение! Даже Мама́ перестала радоваться и одобрять эту деятельность, почему скоро мой отец и покинул службу в Банке. Он дождался лишь первого выпуска акций. По уставу Банка он, как служащий и акционер, имел право получить известное количество акций нового выпуска, если не ошибаюсь, по номинальной цене, во всяком случае, по цене значительно ниже биржевой, и эта разница составляла немалый капитал. Покинув Банк, Папа́ не любил вспоминать о своем там пребывании.
Вернусь к зиме 1878—1879 года. В декабре приехала тетя Маша Бенкендорф (старшая сестра моего отца) с мужем и дочерью для совета с врачами по случаю болезни глаз. Болезнь оказалась, по диагнозу всех знаменитых петербургских окулистов, неизлечимой — ей грозила со временем полная слепота. Лизочка, ее дочь, тогда лет 18—20, в то время имела какое-то увлечение, которое было столь взаимное, что семья ожидала для нее скорой свадьбы. Узнав про вердикт докторов, она заявила, что никогда своей матери не покинет и, действительно, всю жизнь была ее Антигоной, отказавшись навсегда от личного семейного счастья. Мать ее скончалась в 1914 году.
У меня в этом году открылся новый талант дирижера танцами, совершенно для меня неожиданный. Коробьины были знакомы по Рязанской губернии, где в Михайловском уезде было их фамильное гнездо Машково, с семьей графа Дмитрия Андреевича Толстого, в то время министра народного просвещения и обер-прокурора Святейшего Синода. Отец Спирки Толстого, ближайшего друга Гриши Коробьина, Юрий Толстой (не граф) был помощником графа Толстого по Синоду. Таким образом, мой товарищ Гриша Коробьин был интимен в этом кружке и ввел меня в дом министра народного просвещения в качестве юного танцора. Единственная дочь графа Толстого была уже замужем за графом Толем*. Оставался еще сын Глеб** и еще две родные племянницы, молоденькие еще не выезжавшие — Замятины***.
Для этих двух племянниц и устраивались по воскресеньям утром танцы, приглашалась более юная учащаяся молодежь; офицерство по утрам было занято, почему и я как паж попал в этот дом. Чудный был дом (казенный) обер-прокурора Святейшего Синода на Литейной, и после нашей квартиры, где в небольшом зале с трудом, бывало, толклись и передвигались до 20 пар танцующих, так странно было мне видеть большой министерский бальный зал, где танцевало нас пар 10, не больше, а потому простора было сколько угодно. Однажды, за отсутствием обычного дирижера, меня просили его заменить, и я исполнил это,
151
по-видимому, столь удачно, что с тех пор уже всегда дирижировал. Успех этих собраний побудил графиню Шево устраивать их тоже у себя, и с тех пор воскресенья делились между графиней Толстой и графиней Шево.
Графиня Шево была вдовой князя Юсупова и, овдовев, вышла замуж за француза, которому купили в Италии титул графа. В то время, которое я описываю, этот граф или уже умер, или бесследно исчез, но, во всяком случае, его никто не знал. Старуха графиня устраивала эти воскресные танцевальные утра для своих внучек, княжон Юсуповых*. Их было две: старшая Зинаида** и младшая, имени не помню, скончавшаяся в молодых годах незамужней.
На этой семье, более чем на какой-либо другой, сказалась разница аристократии московской и петербургской: первая приобрела свое положение родовитостью и заслугами предков, вторая — богатством и придворным фаворитизмом. Что говорили про род графа Шево, я уже упомянул. Фамилия Рибопьер, как рассказывали, имела родоначальником швейцара Пьери, красивого парикмахера Екатерины Великой. Этот Pierre был особенно красив, когда смеялся, и однажды государыня ему сказала: «Ris, beau Pierre», откуда и произошла его фамилия, к которой затем добавили графский титул. Происхождение фамилии Эльстон относили к фразе государя Николая Павловича, сказанной при вести о рождении сына у графини Тизенгаузен про государыню Александру Федоровну: «Elle s’etonne». Этот Эльстон женился на графине Сумароковой и присоединил фамилию жены к своей, а одному из сыновей последнего, после женитьбе его на княжне Юсуповой, придали фамилию князя Юсупова. И получился новый род князей Юсуповых, графов Сумароковых-Эльстон, занимавший среди петербургского общества по своему несметному богатству настолько видное, почти царское положение, что впоследствии никто не удивился, когда последний представитель этой семьи, внук родоначальника Эльстона, женился на родной племяннице Николая II.
Но в те времена я не об этом думал, напротив, мне льстило попасть в дом графини Шево уже на положении заправского дирижера. Дворец ее на Литейной, против Симеоновской улицы, очень красив, аванзала, где мы танцевали, была больше бальной залы Толстых. Чтобы дойти до этой комнаты надо было пройти анфиладу, уставленную витринами драгоценных коллекций старинных часов и табакерок; каждая витрина была миллионной ценности. Но не это меня интересовало; к сожалению, с таким же пренебрежением я относился к художественным произведениям искусства, рассеянных по всему дому. Я просто веселился, и безумно веселился, ни за кем не ухаживая, а просто отплясывая.
К этим двум домам скоро присоединился третий, а именно дом товарища министра государственных имуществ, светлейшего князя Ливена. Для него уже не хватало воскресных утренников, и там танцевали по вечерам, так что наша юная компания перекочевывала из одного дома в другой. Князь Ливен был первым браком женат на московской Стрекаловой, от которой у него был сын. Затем, овдовев, женился на вдове Мухановой, урожденной княжне Голицыной,
152
у которой был тоже сын от первого брака одних лет с сыном князя, и от обоюдного их второго брака родилась еще дочь. И вот для этих единокровных и единоутробных братьев и сестры и устраивались эти вечера. Квартира была наемная, помещение небольшое, но, пожалуй, именно там мне было особенно приятно. Причиной этому был сам старик-князь. В перерывах между танцами позовет он нас, юнцов, к себе в кабинет покурить — мы были всегда очарованы его умным блестящим разговором и, главное, польщены его отношением к нам как к взрослым. Семью эту преследовал злой рок: старик-князь, назначенный потом министром, через несколько месяцев с треском был уволен за неправильное будто бы приобретение им башкирских земель. Этот высоко образованный государственный муж кончал свою жизнь всеми забытый, в Ялте, в то время когда всякие ничтожества заправляли делами государства. При нем жила его дочь, всегда отличавшаяся отсутствием красоты. Сын его* женился на Васильчиковой, молодой девушке, очень видной, значительно выше его ростом. Достиг он поста управляющего Дворянским банком и умер совсем молодым. Юный Муханов, обворожительный юноша, был впоследствии черниговским губернским предводителем дворянства и уволен с лишением придворного звания императором Николаем II за либеральный адрес, поданный дворянством его губернии.
Раза два у себя собирал и князь Юсупов, но там, кажется, дирижировал не я, а его племянник граф Рибопьер, лейб-гусар. Дом Юсуповых, находившийся на Мойке, по своему размеру и великолепию превосходил все остальные: там особенно насладительно было отдыхать между танцами в большом зимнем саду, где вечно царила прохлада и бил, не переставая, фонтан.
Мне всегда было обидно, что моя сестра не разделяет со мной этих удовольствий и не видит моих светских успехов. Сравнивая ее с молодыми девушками, которых я там встречал, я убеждался, насколько она привлекательнее, талантливее их, и потому, несомненно, могла стать центром нашего общества. Когда после замужества она была введена своим мужем в этот круг, она не замедлила занять в нем подобающее место. Она сама никогда на знала себе цену и своей одаренности недостаточно придавала значения, а отнесись она более серьезно к талантливости своей натуры, из нее многое смогло бы выйти. По существовавшим общественным условностям молодой человек везде бывал, а молодая девушка — лишь в домах знакомых с ее родителями. Мои же родители, вновь приезжие для Петербурга, где не имели никаких связей, не могли и претендовать войти в описываемый мною круг. Мне это было обидно и отчасти отравляло мои удовольствия, тем более что отец мой всегда рассказывал, что этого самого князя Ливена, в бытность его московским студентом, его отец, тогда московский губернатор, привозил рекомендовать к бабушке Варваре Андреевне Осоргиной, прося для него ее благосклонного внимания.
На Масленице в этом году скончался товарищ по классу граф Гавриил Сумароков-Эльстон**. Гаврюша, как мы его звали, был общим любимцем, и его
153
смерть нас очень огорчила: установили мы между собой дежурство при гробе, вся рота провожала его до могилы. Мне очень совестно вспоминать, что в самый день похорон вечером я был в балете... Но получал я от отца всего 25 рублей в месяц на все свои расходы, и потому потерять билет, купленный заранее, было бы очень обидно.
На первой неделе Великого поста разыгралась у нас в Корпусе история, где, как я сказал выше, протоиерей Селенин показал себя на высоте своего пастырского призвания.
По установившемуся обычаю вся рота на этой неделе всегда говела, и экстерны, как и интерны, обязаны были два раза в день посещать в корпусной церкви церковные службы, почему на первой неделе Поста не полагалось репетиций, а читались лишь одни лекции. Вероятно, под влиянием Дитерихса, имевшего поручение подтягивать Корпус после описанной мной истории с битьем стекол, в этом году решено было в нашем классе сделать одну репетицию, почему-то раньше пропущенную. В понедельник во время завтрака явился в столовую инспектор классов. Мы были очень благодушно настроены: мы очень любили постные завтраки, во время которых, боясь для нас голода, кроме одного блюда, вроде рыбных, рисовых или картофельных котлет с обильным гарниром, давали нам еще чай с лимоном и каждому горячий калач с селедкой. Необычный приход полковника Алексеева заставил нас насторожиться. Велико же было наше недоумение и негодование, когда он объявил нам, что в среду по случаю Преждеосвященной обедни лекций не будет, но зато в час дня будут репетиции, и назвал какие. Моему V-му отделению выпала математика (отдел механики в пространстве) у профессора Будаева. Вернувшись в роту, класс обсудил все это и, подзуживаемый старшим классом, послал своих старших к инспектору просить отменить эти репетиции как новшество, мешающее нам говеть. Наши старшие вернулись с отказом, причем добавили, что присутствовавший при разговоре с инспектором директор Корпуса велел передать, что во время говения и надо усиленно заниматься, а не бить баклуши. Класс вознегодовал, особенно на вмешательство Дитерихса, к тому же лютеранина, и решил репетиции не готовить, профессорам заявлять, что отвечать отказываемся. Я всегда был противник таких выступлений скопом, насилующих совесть отдельных лиц, а во время говения я находил такое неповиновение, прикрытое фарисейскими доводами, прямо грехом. Очень я мучился, как поступить, и наконец решил подготовить особенно тщательно эту репетицию, но по солидарности с классом от ответа профессору отказаться. Во времена государя Николая Павловича такой протест целого класса распоряжению начальства мог окончиться для всех солдатской шинелью, и хотя гуманность императора Александра II была известна, мы сильно повесили носы в среду за обедней, ожидая, чем кончится заваренная каша.
У нас в отделении она кончилась совершенно неожиданно. Помню как сейчас, собрались мы на площадке над воротами, на проходе из нашего дортуара в запасный класс и лазарет, ожидая профессора. Так как нас в отделении было всего четверо, именно нам обыкновенно отводилось это невзрачное помещение для репетиций, называлось оно почему-то «собачьей площадкой» и было тем
154
неудобно, что не имело двери и было проходное. Явился грузный, неряшливо одетый Будаев, поднял к своему единственному глазу журнал и вызвал первым меня. Я ему заявил: «Господин профессор, хотя отдел этот знаю, но ввиду решения класса сорвать репетицию, отвечать отказываюсь». Он ничего мне не ответил и вызвал одного за другим остальных, от которых получил приблизительно такой же ответ. Вся процедура длилась несколько минут, после чего профессор поставил всем нам по двенадцати, а на прощание сказал, что, вероятно, у класса были особенно побудительные причины так поступать, нам же он ставит этот балл на веру: в следующий раз будет спрашивать двойной курс и соответственно с еще большей строгостью оценит наше знание. Мы уже, по его мнению, взрослые, так как через несколько месяцев можем, если пожелаем, быть офицерами*, знаем, что делаем; вредить он нам не хочет, а желает нам выпутаться с честью из этой глупой истории...**
Когда мы все собрались, оказалось, что только наше отделение так благополучно отделалось, в других же всем поголовно было поставлено по нолю. Некоторые же профессора ничего не поставили, но заявили, что о таком антидисциплинарном поступке они заявят в Педагогическом совете. На следующий день, в четверг, по окончании вечерни протоиерей Селенин вышел на амвон и сказал нам, что завтра он назначает исповедь и требует, чтобы в этом году и все экстерны младшего класса исповедовались и причащались бы у него. Мы, понятно, поняли, что такое необычное требование имело связь со вчерашней историей. В тот же день через адъютанта Аргамакова, сообщавшего нам всегда все новости, нам недоступные, мы узнали, что на экстренно созванном Совете была целая буря против нас: предлагали исключить зачинщиков, лишить всех отпуска, оставить нас в том же классе, посадить всех в карцер и тому подобное. Наш законоучитель все время молчал и только под конец твердо заявил директору: «Ваше превосходительство! Вы с уставами нашей Церкви не знакомы и потому не знаете, как надо относиться к говельщикам. Настоящий поступок пажей не есть нарушение дисциплины, а явное падение юношей во время говения благодаря искушению. Я требую, чтобы настоящий случай был предан забвению, а мне как духовнику предоставлено было бы самому разобраться в их поступке и наложить ту епитимью, которую нахожу нужной. Те же иноверцы, которые моему духовному водительству не вверены, пусть обратятся к своим аббатам и пасторам или же добровольно примут на себя исполнение того, чему я подвергну своих духовных чад». Аргамаков рассказывал, что твердая, убежденная эта речь произвела должное впечатление, и все согласились с протоиереем Селениным. Он же на следующий день перед исповедью долго с нами беседовал и наложил на нас всех епитимью: до Страстной недели каждую субботу и воскресенье посещать всем классом корпусную церковь, что мы исполнили в точности, глубоко благодарные нашему законоучителю за тот благополучный и нравоучительный исход из того, что наш класс затеял. Многие из товарищей
155
все-таки пострадали, но уже чисто механически: некоторые, получившие ноль, настолько понизили свой годовой балл, что потеряли всякую надежду на переход в старший класс и предпочли после лагеря покинуть Корпус, как-то Слезкин, Исаков и, если не ошибаюсь, оба Гриппенберга.
Для меня эта епитимья была тем неприятна, что я до Страстной не мог посещать церковь Департамента уделов, куда мы всей семьей давно уже ходили. Церковь была домовая, на посещение ее директором Департамента уделов давалось разрешение в виде билета. К церкви примыкало несколько громадных зал, так что никогда не было душно. Постоянные ее посетители были почти все между собой знакомы, если не по-настоящему, то, во всяком случае, с виду. Последнее обстоятельство было неприятно только во время пасхальной службы, когда после заутрени все друг друга поздравляли. Приезжали к своим семьям отслушавшие заутреню во дворце, и эти взаимные поздравления, приветствия мешали слушать обедню. В другие дни служба там была великолепная по стройности и благолепию. Настоятелем церкви был протоиерей Каннидий (фамилии не помню), духовник всей нашей семьи. За диакона служил кто-нибудь из придворных протодиаконов, так как церковь была в ведомстве Министерства Двора. Чаще других служил протодиакон Червонецкий, глубокий старик, совершенно белый, с выразительными черными глазами и с чудной дикцией. На Страстной я ежедневно бывал в этой церкви у каждой службы и вторично говел и исповедовался у отца Каннидия. В Великую среду у него был такой наплыв исповедников, что начиная исповедь в час или два дня, кончал ее глубокой ночью и за это время только раз переходил в алтарь прочесть Евангелие за всенощной; всю остальную службу (возгласы священника пропускались) вел Червонецкий с чтецом и хором, известными на весь Петербург. Отец Каннидий исповедовал в отдельной маленькой комнатке рядом с алтарем, куда никакой звук не долетал, перед огромной иконой Спасителя, освещенной одной лампадой. Любил я к нему попадать один из последних. Это ожидание исповеди в полной тишине, прерывавшейся лишь шагами служителя, поправлявшего лампады, скрипом пера псаломщика, записывавшего исповедников, или стуком отворявшейся двери исповедальной комнаты, так действовало успокоительно, так располагало к собственному анализу и сознанию величия наступающего момента, что я особенно дорожил этими последними минутами говения. С каким трепетом, но и с какой радостной надеждой входил я в комнату, преклонялся перед иконой, и начиналась исповедь. Когда бы ни придти, отец Каннидий никогда не торопил. Вся его строгая, но и добрая фигура как-то не вязалась в воображении с обычной его личностью, и не верилось, что это тот самый, которого через несколько дней увидим у себя в доме в богатой лиловой бархатной рясе, пришедшего поздравить с праздником. Во время исповеди он был человек не от мира сего, знающий все людские слабости светской жизни, но зато и верующий в неисчерпаемое милосердие Божие, которое все покроет. И за то, как он молился, давая разрешительную молитву, и с каким облегченным сердцем я от него выходил, — этого никогда забыть нельзя.
Как-то раз уже весной, во время моего дневальства в Корпусе, товарищи потихоньку от начальства делали опыты внушения, выбрав для сего Гришу
156
Коробьина. Задумали, что он должен пойти в запасный класс, запертый на ключ, найти этот к тому же припрятанный ключ, открыть класс, добраться до отдаленной скамейки, найти в куче книг определенный учебник и открыть его на заранее указанной странице. Не помню, кто составлял цепь — человека три. Коробьин был с завязанными глазами, как для игры в жмурки. Вначале дело не клеилось, Коробьин робко подвигался, но когда он дошел до двери класса, он заторопился, едва за ним поспевала цепь, которую он волоком тащил; когда же он открыл книгу на задуманной странице, он впал в обморок. Мы все перетрусили — и за него было страшно, да и за себя боялись, как нам достанется от начальства, особенно мне как дневальному. Но, слава Богу, Коробьин скоро очнулся, и об этой проделке никто не узнал, зато все мы заинтересовались такими явлениями и мы стали собираться у Коробьина и заниматься, как тогда говорили, «верчением столов». У нас в доме, по желанию Мама́, считавшей это грехом, мы такие опыты не производили, но у Коробьиных, где мы собирались довольно часто, получались удивительные явления: стол начинать ходить через две-три минуты после начала опыта, и однажды при мне один стол высоко поднялся на воздух и стал ножкой на другой стол. Многие искали разгадки этому в недобросовестности производивших опыт, я же твердо верю во все медиумические явления, нахожу их оправдываемыми вмешательством загробного мира, именно тех душ, которые витают близ земли как не успокоившиеся в вечном блаженстве. Думаю, что этот способ с ними общаться — путь греховный, и к тому же лишает эти души того покоя, коего они жаждут, но еще не достигли.
Экзамены переходные я совсем не помню, никогда особенно их не боялся, напротив, очень любил этот период школьной жизни. Дома у нас в это время шли приготовления к переезду на дачу. Мои родители, ввиду того что я все лето проведу в лагере, решили жить в Петергофе на даче и лишь на осень ехать в Сергиевское. Моя мать никогда не любила деревенской жизни, а моя сестра тем более, почему обе были очень довольны решением моего отца, который и сам уезжать не мог — служба его в Банке еще продолжалась и лишь осенью прекратилась. Наняли большую поместительную дачу в Новом Петергофе, недалеко от вокзала и почти рядом с дачей баронессы Сталь фон Гольштейн. Через шоссе против нашей дачи тянулся один из больших петергофских парков. Сама дача была настолько большая, что было несколько запасных спален для приезда из лагеря и моих товарищей. Папа́ купил подержанную четырехместную коляску, заново ее отделал*, решив на лето нанять лошадей. В первый же день их переезда, в то время как я был в лагере на съемке, с этой коляской и лошадьми и случилось несчастье, которое вновь надолго отравило моей матери всякое пользование экипажем.
Приехали они в субботу и начали с богоугодного дела, а именно Мама́ с Варей поехали ко всенощной. Подали вновь отремонтированную коляску; лошади были покойные, по вкусу моей матери, кучер степенный, непьющий. Едва выехали со двора и повернули на шоссе, как лопнул нарыльник на дышле, и коляска
157
стала накатываться на лошадей; те понесли, и только находчивость кучера спасла от несчастья. Он направил коляску так, что одним колесом заехал на тумбу, которая и задержала экипаж, лошади оторвались и ускакали дальше. Мама́ с Варей от толчка были брошены на переднюю скамейку и отделались маленькими ушибами, но испуг был большой; когда коляска стояла уже неподвижно, Мама́ торопила Варю выбрасываться из коляски, находясь в каком-то невменяемом состоянии. Случилось это неподалеку от дачи баронессы Сталь, с их балкона все было видно, и в это время вся семья Сталь была как раз на балконе. Они сейчас же выбежали на шоссе к месту происшествия, перетащили наших к себе, отпаивали их каплями и всячески ухаживали.
Случай этот положил начало не только знакомству, но потом и прочной дружбе обоих семейств. Баронесса-мать была вдова, у нее было несколько дочерей* и два сына**. Сыновья были лейб-уланами, полк стоял в Петергофе, где вся семья Сталь жила безвыездно. Дом их был местом сбора всех офицеров-улан, и мои, таким образом, завели целый ряд новых знакомств. Старушка-баронесса была очаровательна своей простотой. На лето к ней съезжались все замужние дочери с мужьями и детьми, почему семья эта по величине напоминала семью Бенкендорфов в Пропойске. Понятно, и меня в первый же мой приезд повели туда представить, но мне там сверстников не было, и потому я избегал этих посещений. Для моей же сестры это был дом неистощимых ресурсов: летом устроился там спектакль, в котором она принимала участие и сразу завоевала всех своим недюжинным сценическим талантом.
Помню, что у нас бывали то для репетиций, то так, для болтовни, офицеры: Ратаев — будущий видный деятель Департамента полиции, а тогда юный корнет с лицом вербного херувимчика; Струков — сухой, мускулистый, как английская лошадь, впоследствии известный скакун и боевой генерал; барон Дерфельден — очень изящный, элегантный и подтянутый; барон Корф, по прозвищу «Simon»; в отличие [от] целой плеяды однофамильцев и родственников, этот Корф серьезно ухаживал за моей сестрой. Встретились они в последний раз в 1916 году в Варшаве, где мой зять, муж моей сестры, был генерал-губернатором, а Корф — губернатором варшавским. Попал этот бедный Корф, гражданское лицо, в плен немцам, и сколько сплетен и инсинуаций было высказано по поводу этого несчастного случая; а между тем барон был рыцарь благородства и всю свою жизнь, несмотря на свое немецкое происхождение, был честным лояльным русским. В то время, которое я описываю, такие вопросы розни национальности и не подымались, и никому в голову не приходили среди молодежи, которая, главное, стремилась беззаботно, весело прожить.
И так и жилось моим в Петергофе. Приезжали к ним и старые петербургские знакомые, не разъехавшиеся по своим имениям. Часто бывали два артиллериста, неразлучные друзья: Фан дер Флит и Андриевский. Но я лично мало
158
знал жизнь семьи, приезжая к ним лишь в субботу вечером и уезжая в воскресенье вечером же. Приезжал я с одним, двумя, а то и больше товарищами, из коих неизменно был Гриша Коробьин, постоянно, до старости ухаживавший за моей сестрой. Проводил я свой воскресный отпуск, главным образом, в прогулках, каждый раз ходил смотреть фонтаны, к которым, действительно, привыкнуть нельзя; каждый раз новое эффектное освещение, новый какой-нибудь point de vue приводил в восторг.
Но и в лагере мне было неплохо, и я очень наслаждался. Сначала была у нас съемка в течение двух недель. Разделили нас на группы и каждой задали отдельную работу — снять участок инструментальной съемкой. Моей группе достался участок близ Дудергофа. Приятна была полная свобода во время этой работы: уходили мы с утра, снабженные как казенной провизией, так и своими средствами для закупки таковой у маркитантов и лотошников, сновавших всюду в изобилии, и весь день работали по своему усмотрению, имея при себе денщика для посылок. Днем все партии объезжались инспектором классов, заведующим съемкой нашим бравым штаб-капитаном Аргамаковым и по очереди одним из отделенных офицеров. Надо было лишь попасться им на глаза работающими, остальное время можно было делать что угодно. Многие пользовались этим временем для разных любовных похождений, кутежей, но моя группа попалась благонравная, скромная, и у нас ничего такого не происходило. Я как хороший математик взял на себя все вычисления, и потому моей единственной ношей были карандаш и записная книжка, и всю свою работу я мог производить лежа и отдыхая всем существом на лоне природы. В нашу партию входил старший Гриппенберг, замечательный чертежник — он так художественно разрисовал план, что мы все получили по 12-ти.
Как-то раз при своем объезде полковник Алексеев, инспектор классов, завел со мной речь о желательности меня видеть интерном, так как если не фельдфебельство, то, во всяком случае, старшее камер-пажество за мной, по моим успехам и поведению, вполне обеспечены; но я ему вновь повторил что говорил раньше отцу, что интернат мне не по душе, и успешность моих занятий и обусловлена, быть может, моею жизнью дома, а не в Корпусе. Вообще я уже тогда, как и в дальнейшей моей службе, никогда не был карьеристом и не стремился к видным служебным местам.
Сдав съемку, у меня было до начала лагеря около недели свободной. Если не ошибаюсь, по поручению Папа́, а именно по делу продажи подмосковного нашего имения Островни, я поехал в Москву к дяде Мите Наумову, который имел от моего отца полную доверенность на управление этим имением. Со времени продолжительного пребывания дяди Мити у нас в Петербурге он особенно ко мне привязался, и мой приезд был для него всегда радостным событием в его одинокой холостой жизни. Он был очень молчалив, мало высказывался, но я чувствовал его ласковое, любовное отношение ко мне. Жил он со своим братом Александром, оба были старые холостяки, при них жила старая горничная их матери, почтенная высокая старуха, редко показывавшаяся нам на глаза, но вместе с тем заправлявшая всем домом. Дом на углу Пречистенки и Штатного переулка, против церкви Троицы в Зубове, теперь снесен с лица земли, на его
159
месте построен каменный особняк моих троюродных сестер княжон Волконских. Тогда это были два деревянных дома с мезонином, обшитые тесом, между ними был сад, в который выходила терраса большого дома, в котором жили оба дяди Наумовы и эта горничная. Лакей, кучер и повар жили в маленьком флигеле, выходившем в переулок.
Да не подумает читатель, что дом был настолько невелик, что в нем не хватало места для прислуги, отнюдь нет: было в нем комнат 12, не то 13, но уж таков был старинный обычай иметь на дворе особые флигеля для дворовой прислуги, и в доме Наумовых, где ничто не изменялось, так и остался этот порядок. По фасаду дома на Пречистенку выходили так называемые парадные комнаты: зала, гостиная и кабинет со старинной мебелью, расставленной симметрично. В этих комнатах никогда никто не сидел, один я, бывало, гулял по этим анфиладам. Жизнь дяди Наумова сосредоточивалась в антресолях, где у него были две комнаты: одна — его спальня, другая — его рабочий кабинет. Книг была бездна, навалены они были безо всякого разбора кучей, и так же, как у букиниста, можно было неожиданно наткнуться в этом хаосе на сокровище. Дядя Саша жил внизу, он часто отсутствовал, уезжая в Серпухов или Подольск, точно не помню, где занимал по выборам должность непременного члена Крестьянского присутствия. Говорили, он сильно пил, почему дядя Митя как-то всегда за ним следил, немного его брюскировал и, видно, был им недоволен, а дядя Саша его ужасно боялся, всегда при нем молчал как рыба и как мальчишка, несмотря на свои седые волосы, уходил спать по первому знаку дяди Мити. Такое раннее ложение оправдывалось будто [бы] его плохим здоровьем, но мне кажется, что главной целью дяди Мити было остаться со мной вдвоем, и так как тогда я совсем не стеснялся, рассказывал ему все мои обстоятельства, разные случаи школьной корпусной жизни, и он всегда наслаждался. Обедали мы и пили вечерний чай в диванной, откуда был выход на террасу. Комната эта под антресолями была тоже довольно низкая, со стеклянными шкапами (горками), в которых расставлена была какая-то ценная старинная фамильная посуда, а на подоконниках, на этажерках по стенам, даже на полу лежали аккуратными стопками разные печатные труды Московского губернского земства.
Дядя Митя был председателем Московской губернской земской управы с самого основания Земства и весь ушел в земскую работу. История осветит его деятельность, на которую под конец было столько нареканий и нападок, что после своего 25-летнего юбилея он сам решил уйти со службы, но я знаю, что он всю свою жизнь, все свои помыслы отдавал только Московскому земству, ни для чего другого не имея времени; в семье над ним смеялись, говоря, что он на Земстве женился, не имея времени подыскать себе другую невесту. Когда я приезжал к нему, мне, совершенно незнакомому с Земством, мне, еще мальчику, он только то и делал, что рассказывал какие-нибудь свои начинания в Земстве и планы какой-нибудь новой земской работы. Я тогда с особым почтением относился к его рассказам, всегда с интересом осматривал разные кустарные изделия, коими уставлены были комнаты в анфиладе на улицу. Когда я жил у него дня два, он старался приноровить свою жизнь к моим интересам,
160
не упуская вместе с тем и свою общественную деятельность. Спал я у него в комнате; утром я — одетый, он — в халате, пили чай в рабочем кабинете на крошечном уголке стола, свободном от книг; затем мы ехали с ним куда-нибудь на заседание, в котором он оставался, а я отправлялся либо по покупкам, либо по поручениям с условием съехаться в Славянском базаре, где в отдельном кабинете (пажи не могли посещать ресторанов) завтракали. За завтраком он сообщал мне подробности заседания, в котором он только что присутствовал. Мало меня эти подробности интересовали, но я это от него скрывал и, напротив, уважая его, подробно расспрашивал. Затем обыкновенно ехали мы в какое-нибудь земское учреждение, которое он хотел мне демонстрировать; если не чисто земское предприятие, то, во всяком случае, такое заведение, которого он, дядя Митя, был инициатором или душой деятельности. Бывали мы с ним в Земледельческом училище на Смоленском бульваре, где он был попечителем, в Политехническом музее близ Китайской стены, коего он был председателем Правления. Обедал он по-старинному в пятом часу и обыкновенно привозил для меня самые разнообразные угощения — сам он был на редкость воздержанный и, кажется, никаких пристрастий не имел. Вечером ехали мы с ним в театр или куда-нибудь ins grüne, а вернувшись домой и напившись чаю, разговоры продолжались далеко за полночь уже в постели. Искренно любил я дядю Митю и так же искренно мне было жаль его, одинокого в этом большом доме, где он родился, где прошли его детство, юность и молодость и оживленная жизнь семьи. Хотя отец его довольно рано овдовел, все же женская материнская ласка согревала детство его, так как поселилась к ним тетушка, заменившая им мать. Умерла она, когда оба — дядя Митя и дядя Саша — были уже вполне в зрелых годах. Трогательная подробность: до ее смерти они никогда не уходили спать, в котором бы часу ни вернулись домой, не зайдя к ней в спальню, где она их ожидала, чтобы перекрестить на ночь. А теперь в этом доме два старика медленно, одни, доживали свой век. Оба они, по иронии судьбы, несмотря на то, что всегда жили в этом доме, умерли не в нем: дядя Саша скончался чуть ли не скоропостижно в Серпухове, а дядя Митя в своем имении Кузминском Подольского уезда. Последний скончался после дяди Саши, не успев сделать своего завещания, которое, по рассказам родственников, предполагалось написать в мою пользу, почему все состояние пошло в законный раздел. Наумовская часть перешла к каким-то дальним, никому не известным родственникам со стороны его отца, а состояние его матери разделилось на три части: половину получил князь Евгений Николаевич. Волконский, а другую половину — моя мать и дети ее сестры Ржевской. Князь Волконский выплатил эти части деньгами и стал единственным обладателем волконской части наумовского наследства. Грустно всегда подумать, что этот исторический дом навеки уничтожен, что оба эти хорошие старики сошли в могилу, и закрыта еще одна страница старого московского дворянства, положившего и в новых формах, в земской работе, все свои силы на славу отечества и на пользу младшей братии, давая бескорыстно свое время и свои силы.
Вернувшись в Петербург я, к своему большому удовольствию, застал освобожденного от военной службы, на которой пробыл семь лет, нашего бывшего
161
буфетного мужика Семена Степанова Рогозина, который теперь явился к моим родителем с твердым намерением во что бы то ни стало поступить к нам. Это был замечательный человек. Взял его старый наш буфетчик Василий совсем еще мальчиком из артели полотеров, где он выделялся своею расторопностью и понятливостью. Василий, знавший службу в совершенстве, взялся его вымуштровать — это было, когда мы еще жили на Подновинском. И вот Василий умер, а Семена взяли на военную службу, и казалось, ничего из этого не вышло; но Семен нас не забывал, писал с военной службы и, когда мы бывали в Москве проездом, приходил нас проведать, благо его полк квартировал в Москве. Теперь же он, получив чистую отставку, вернулся к нам, как в свой дом. Ввиду близости моего офицерства мой отец взял его ко мне, и остался Семен у меня до самой своей смерти. Знал он службу — подачу, сервировку — по-старинному; манеры его были почтительны, но с достоинством; походка была мягкая, неслышная и неторопливая; фигурой — со взбитым хохолком на правой стороне — был крайне представителен; ростом — выше среднего; одним словом, был картинный дворецкий старых времен; предан же был как друг, а не как слуга. Никогда со мной не расставался, получая жалованье, какое мне было по средствам: часто годами я ему уменьшал жалованье и знал, что никогда не услышу от него протеста, (когда я женился, я сбавил ему месячное жалование с 40 рублей до 25 рублей). Однажды я ему заявил, что ввиду того, что он остался один во всем доме вместо прежних трех лакеев, я его освобождаю от ухода за мной; надо было видеть его горе и слезы: он твердо заявил, что на все поспеет, а за мной будет ходить, пока не умрет, и исполнил это в точности: уже в полубессознательном состоянии, перед отвозом его в больницу, он пришел ко мне в уборную все прибрать. Он был женат, имел единственную дочь, которая с матерью жила в Москве, и изредка они его навещали, но про них он говорил: «они», а про меня и мою семью и мой дом говорил: «мы», «наши» и «наш дом». Я так уверен был в его преданности и привязанности, что раз, когда был разговор о моем назначении в Иркутск адъютантом к тамошнему генерал-губернатору графу Алексею Павловичу Игнатьеву, я даже не задумался спросить его, согласен ли он за мной следовать в такую даль, а просто сообщил ему этот слух (как вообще все, до меня касающееся, никогда от него не скрывал), а он деловито стал со мной обсуждать: «Нам надобно будет с собой взять то-то и то-то». Умер он в 1892 году в январе, перед рождением моей второй дочери. Имел он лишь один недостаток: всегда лечился какими-то мазями от ревматизма и для той будто бы цели вечером, перед ужином, выпивал одну-две рюмки водки, после которых сейчас же слабел. Но я к его слабостям привык, а его качества могли заставить все забыть.
Поступив к нам, он тут же хлопотливо и с усердием стал собирать меня в лагерь, сам он за мной туда следовать не мог, так как частная прислуга в лагере не допускалась, и переехал он с моими родителями в Петергоф на дачу. Лагерь Пажеского корпуса в то время был в Красном Селе, почти на крайнем левом фланге главной линии, недалеко от Дудергофского озера и фасом на военное поле. Так как те из старшего класса, которые выходили в кавалерию и артиллерию, откомандировывались в другие части, мы были немногочисленны. Сзади
162
передней линейки, очень красиво отделанной газоном и деревьями, была раскинута длинная палатка, наглухо прикрепленная и защищавшая от ветра, хотя и далеко не вполне, и почти не защищавшая от дождя, который, бывало, нас немилосердно поливал. В этой палатке расположены были в два ряда широкие деревянные койки, разгороженные пополам высокой дощатой перегородкой. Каждая такая койка служила для двоих — моим соседом был Владимир Мосальский. Каждому полагалась табуретка, а под койкой — ящик для вещей. Пол был земляной. В конце палатки было свободное пространство с несколькими баками для мытья — вот все спартанское устройство нашего летнего помещения. Сзади него расположены были два офицерских домика, большая площадка с гимнастикой для игр, которая окаймлялась тенистыми аллеями со скамейками для отдыха, а в глубине расположено было отдельное здание — столовая с большой террасой и с пристроенным отдельным буфетом, где продавались папиросы, всякие сладости, прохладительные напитки, чай, кофе, молоко и разнообразные закуски. По установившемуся давно обычаю, пажи на время лагеря отказывались от казенного чая, что давало возможность улучшать пищу. Обедали мы в 12 часов, ужинали в 6; обед полагался такой же, как в городе, а за ужином давалось два блюда. Моим любимым ужином было когда подавались рябчики и вареники; это бывало нечасто, но раза два-три такое угощение нам было сделано. Чай мы пили свой, соединяясь для этого в группы. Благодаря заботам моей матери моя группа была всегда обильно снабжена как разным вареньем, так и вкусными закусками и печением.
Все пажи во время лагеря были прикомандированы к образцовому пехотному батальону, расположенному рядом с нами. Батальоном командовал свиты его величества генерал-майор Вилламов, брат композитора небезызвестных тогда романсов. В этом году в его батальоне отбывали лагерный сбор великие князья Сергей Александрович, Павел Александрович и Дмитрий Константинович; первый — в качестве командира первой роты, второй — командиром 1-го взвода четвертой роты, а третий — в качестве командира 4-го взвода той же роты. Жили они, кажется, во дворце, расположенном в самом начале военного поля, но аккуратно справляли службу и являлись своевременно: великие князья Павел Александрович и Дмитрий Константинович — до прибытия ротных командиров, а великий князь Сергей Александрович — до прибытия генерала Вилламова. Мы, пажи нашивочные (то есть камер-пажи) и без нашивок, несли на учении в батальоне службу унтер-офицеров; я — во второй роте. К великим князьям были прикомандированы лучшие фронтовики старого класса. Вставали мы в пять часов утра и все, кроме дежурных, дневальных и больных, в четверть седьмого были уже в батальоне. Затем роты выводились на военное поле, где шло учение до половины двенадцатого. Вернувшись к себе и вымывшись, мы обедали, после чего был отдых до трех часов, причем разрешалось спать на койках, но не раздеваясь. В три часа было вновь учение на плацу батальона до пяти; это учение называлось «одиночное» и было гораздо легче утреннего. В пять часов под командой своего офицера мы шли купаться на Дудергофское озеро, и здесь особые ловкачи показывали свое умение плавать. Помню, как камер-паж Каталей удивлял нас всегда своими фокусами. Он был
163
красивый стройный юноша и несмотря на свою худобу в воде был, как в родной стихии. Он всегда бросался в воду с высокого трамплина, перекувыркнувшись несколько раз в воздухе. Я, как не умевший плавать, предпочитал обливаться дома. В шесть был ужин, а затем полная свобода в пределах расположения. Без четверти девять раздавалась повестка на главном карауле, которую подхватывал весь лагерь, растянутый со всеми кавалерийскими частями верст на двадцать, если не больше; по повестке все выстраивались на передней линейке, делали перекличку и ждали сигнала «зори». В девять по сигнальному пушечному выстрелу дежурной батареи тем же порядком все горнисты и барабанщики били и играли «зорю», затем командовали в каждой части: «На молитву!», «Шапки долой!», и мы хором пели «Отче наш», после чего оркестры музыки, где таковые были, играли «Коль славен», затем следовала команда «Накройсь!», и все расходились с первой линейки. Наступала тишина в лагере, а в десять часов все должны были спать.
В начале лагеря «зоря» эта производилась с церемонией в день переезда государя императора в Красносельский дворец. Государь часов в семь начинал объезд лагеря верхом в сопровождении громадной свиты. Государыня следовала с великими княгинями и княжнами в шарабане четырехместном без кучера, с двумя лакеями. Дневальные на линейке, завидя государя, кричали: «Все на линию!», и все части, а в Красном Селе стояло войск, я думаю, тысяч до восьмидесяти, выстраивались без оружия на передней линейке. Государь здоровался с каждой частью, на что ему отвечали: «Здравия желаем, Ваше императорское величество», а затем раздавалось «ура», и несмолкаемое, и оркестры играли гимн «Боже, царя храни». Офицеры, за исключением дежурного, могли присоединяться к свите, чем всегда пользовались кавалеристы, увеличивая под конец свиту до необычайных размеров. Окончив объезд, государь со всеми сопровождающими направлялся к царскому валику среди военного поля, где на возвышении раскидывался шатер для царской семьи и подавался чай, остальные же из свиты приглашались к гофмаршальскому столу, кроме некоторых высших военных чинов, отдельно указанных самим государем для беседы с ним. В это время собравшиеся военные оркестры, в общем, музыкантов 300 или 400, под управлением Вурма исполняли концертные номера. Без четверти девять по сигнальной ракете оркестр умолкал, а штаб-трубач играл повестку, повторенную по лагерю дежурными горнистами и барабанщиками, после чего концерт продолжался до «зори». Ровно в девять по сигнальному залпу единовременно всей дежурной батареи все штаб-трубачи в унисон играли «зорю», подхватываемую всем лагерем, после чего сам государь, лично, командовал: «На молитву! Шапки долой!». Причем государыня с великими княжнами и дамами вставали и опускали зонтики, а штаб-трубач государя громко и отчетливо читал «Отче наш». По прочтении молитвы все оркестры исполняли «Коль славен», затем государь командовал: «Накройсь!», и все разъезжались. Церемония эта всегда поражала своею торжественностью, на нее приглашались все иностранные агенты, и тем более прибывшие в Петербург иностранные принцы.
Довольно однообразно текла будничная жизнь в лагере, но вместе с тем никогда не ощущалось так живо, реально, наслаждение вечернего отдыха во
164
время прохлады. После вечерней «зори» уже никогда не вызывались на линию, а то при проезде или появлении кого-нибудь из прямого начальства, начиная от своего ротного командира, очередной дневальный, бессменно находившийся на передней линейке, где для него устроена была будка в виде круглой крыши (гриба) на одном столбе, кричал: «Всех на линию!», и мы все, как были, без оружия, выстраивались на передней линейке; если же ехал генерал, не имевший к нам никакого прямого начальственного отношения, вызывался лишь дежурный и выбегали дежурный камер-паж и дежурный офицер, которые и рапортовали в случае остановки этого генерала против нашего лагерного расположения.
По субботам все, кроме назначенных дежурными и дневальными в самую субботу и следующее воскресенье, отпускались, кто к родителям, кто к родным или знакомым. Я с некоторыми товарищами неизменно ехал в Петергоф. На задней линейке уже с часа дня набиралось много чухонских таратаек, которые за баснословно дешевую плату мчали нас на вокзал. Поезда отходили чуть ли не каждые четверть часа. Мне приходилось пересаживаться в Лигоне на ораниенбаумский поезд. Нигде я никогда не видал такого обилия пассажиров, но все были друг с другом вежливы, никто не толкал, а преобладавший военный элемент был изысканно любезен. Мы, пажи, не имели права ездить в 1-м классе и потому все пользовались 2-м классом. Ввиду обилия поездов все находили себе места. В Петергофе пешком доходили до нашей дачи, отстоявшей от вокзала в десяти минутах ходьбы. Мама́ встречала не только меня, но и всех моих товарищей, как может это делать лишь родная мать: кормили нас на убой, думая, что в лагере мы голодаем; подавались блюда такого размера, что Семен с трудом вносил их на террасу, где мы всегда проводили весь день.
Всякий раз со мной приезжал на положении родственника Гриша Коробьин. Однажды, слишком увлекшись ухаживанием за моей сестрой, он сказался больным, остался у нас, а я один вернулся в лагерь. Когда и в следующее воскресенье повторилось то же, начальству показалось это подозрительным. Сам генерал Дитерихс произвел расследование; заехал к нам на дачу, не называя себя, велел дворнику вызвать к воротам пажа Коробьина. Гриша, ничего не подозревая, вышел к нему бодрой походкой, директор, увидав его совершенно здоровым, тут же увез его с собою в лагерь, где посадил под арест, лишив его дальнейших отпусков. Моим родителям эта история была очень неприятна, потому что они все-таки как бы участвовали в обмане моего начальства, а вместе с тем по гостеприимству и радушию не считали себя вправе настаивать на отъезде Коробьина, раз он утверждал, что чувствует себя нездоровым.
Среди лета в лагере раз ночью ударили общую тревогу, которую все всегда ожидали во время пребывания государя в лагере. Обыкновенно государь, никого не предупредив, ночью выходил из дворца и приказывал первому дежурному барабанщику или горнисту ударить тревогу; все соседние сигнальщики подхватывали таковую, и все дальше и дальше, шире и шире раздавался этот сигнал, по характеру своему имевший действительно что-то тревожное, особенно в середине ночи, как-то властно и настойчиво пронизывая тишину. Тут же на дежурной батарее пускались три сигнальные ракеты, так как были полки, как, например,
165
Лейб-гусарский, расположенные в деревнях верст за 15 от Красного Села. Так и было в этот раз. В один миг мы вскочили, и через какие-нибудь пять минут наш батальон под командой генерала Вилламова уже выступал бегом на военное поле к царскому валику, где по заранее составленному расписанию зан[има]л свое место. Артиллерия, гремя орудиями, и кавалерия, на рысях, подъезжали к тому же месту; поразительно, как в таких случаях не было путаницы, принимая во внимание, что происходило это ночью. Впрочем, летние ночи под Петербургом никогда не бывают совсем темными, как у нас в средней полосе России.
Государь объехал войска, поздоровался и скоро отпустил, приказав отменить учение следующего дня и дать всем отдых. Лагерь кончился, как и всегда, большими маневрами, и потом мы, пажи младшего класса, были отпущены до 1-го сентября.
Мои решили поехать в Радушино, как обычно, навестить дедушку и бабушку Волконских, и я выпросил съездить предварительно в Сергиевское, которое я хотел посетить, не допуская возможности прожить более года, не повидав свои родные места. Папа́ был этому очень рад, потому что в Сергиевском был новый управляющий, рекомендованный ему нашим главным управляющим симбирских имений Рошковским, — некто Константин Людовикович Остроух, из польских шляхтичей, уроженец Гродно. Этот Остроух был водворен моим отцом в конце зимы или начале весны, и теперь Папа́ был очень рад, что кто-нибудь из семьи покажется в Сергиевском и лично увидит те порядки, которые завел новый управляющий; сам же Папа́ собирался в Сергиевское осенью ко времени составления годовой хозяйственной сметы.
Итак, я поехал в Сергиевское. В Ферзикове меня встретил новый управляющий, представился и, сев со мной в коляску, подробно стал мне докладывать дела по имению. Мне это было очень конфузно, потому что я ровно ничего не понимал в делах; никогда еще в Сергиевском не обращались со мной, как со взрослым, и мне в сущности было бы гораздо веселее ехать вдвоем с Трифоном, слушать его рассказы про лошадей и самому с ним делиться моими первыми военными впечатлениями после лагеря. Но я видел, что должен уже впервые играть роль владельца, и старался, насколько возможно, быть солиднее. Зато когда Константин Людовикович попросил меня к себе обедать, я, боясь для себя дальнейших стеснений, безусловно отказался, несмотря на его убедительные упрашивания. Мне до сих пор стыдно вспомнить свой отказ, который они могли принять за снобизм, а в действительности он вызван был лишь моим всегдашним конфузом. Потом выяснилось, что они с женой разузнавали все мои вкусы, посылали в Калугу нарочно за разными покупками, и все их старания пропали даром. Впоследствии, когда они стали настоящими друзьями семьи, я с ними откровенно объяснился и сознался в причине моего глупого отказа. Но тогда я остался тверд и, приехав в Сергиевское, отпустил управляющего, обещав днем зайти к нему познакомиться с его женой.
Встретил меня, как всегда, Афанасий; ахал над моей новой для него пажеской формой и, пока я пил чай, расспрашивал меня про лагерную жизнь, вспоминая офицерство моего отца и как с ним живал в лагере. Устроил и по-прежнему убрал он мне мою всегдашнюю круглую комнату и, узнав, что я отказался от
166
обеда у Остроуха, очень одобрил мое решение, так как по психологии старого слуги еще времен Варвары Андреевны считал недопустимым господам обедать у управляющего. Спешно Афанасий побежал хлопотать об обеде, послав для этого и за Варварой-прачкой, и за женой своей Василисой, которые, встретив меня на подъезде, разошлись по своим домам, а я, приведя себя в порядок, пошел бродить по дому и усадьбе.
В первый раз в жизни я приехал в Сергиевское в полном одиночестве. Подъезжая к нему, начиная от Тулы, я испытывал все те же радостные ощущения детства при возвращении в это родное мое место. Мне казалось, что оно, это мое милое Сергиевское, вновь захватит меня всего своими знакомыми мне звуками, запахами, со скрипом дверей, с каждым уголком, связанным для меня с роем воспоминаний безоблачного счастливого детства. Но, очутившись один, слыша и видя все мне милое и дорогое, я вместе с тем был охвачен какой-то безотчетною тоскою; меня давила эта пустота, я ждал вот-вот раздастся знакомый голос Мама́, Вари, вот услышу и смешную перебранку на ломаном русском языке моей старушки Нюнички, и все тоскливее и тоскливее делалось на душе. Я понял тогда ясно, что я любил не само одно Сергиевское, а всю совокупность нашей семейной в нем жизни, и всегда, когда мне и потом приходилось бывать в этом родном уголке, чувство радости от возвращения к своему пристанищу отравлялось чувством тоски о прошлом. Особенно сильно ощущал и ощущаю я это вечером, когда вся жизнь в доме и на усадьбе замирает, и образы прошедшего ясно выступают и манят к себе. В этот мой приезд такое разочарование в счастье очутиться в Сергиевском было так ново для меня, что я сам совершенно растерялся. Пошел я в церковь, на могилку брата, и затем навестил нашего священника Дмитрия Васильевича Извекова. С ним я мог побеседовать о своих. Он же мне расхвалил нового управляющего и его жену, чем напомнил мне о необходимости и их посетить, что я немедленно и исполнил.
Управляющий в то время занимал ту часть дома, где впоследствии устроены были апартаменты для меня и моей семьи. Крайняя комната к воротам была передней и из нее вход в контору, перегороженную проволочной перегородкой, и по ту сторону, где занимались конторщик и управляющий, народ не допускался. В его столовой, впоследствии спальной нашей, было отгорожено одно окошко, и на столе близ этого окошка всегда кипел самовар, так как всякого приходящего они непременно угощали.
Константин Людовикович был маленького роста, очень юркий, с крошечной клинообразной бородкой, говорил неправильным русским наречием: с польскими ударениями. Жена его, Александра Осиповна, хотя, по-видимому, и немка по происхождению, ибо ее девичья фамилия была Миллер, в разговоре и манерах еще более была полькой, чем он. Она была маленького роста, еще меньше своего мужа, очень некрасивая, довольно полная, с черными волосами. У них был единственный сын, совсем еще маленький, по имени Броня (Бронислав), на вид полуидиотик, которого они при моем приходе немедленно спрятали.
Встретили они меня крайне подобострастно; к такому подобострастию я в Сергиевском не привык. Среди наших слуг и служащих всегда царила старая выдержка и почтительность крепостного времени, но к нам, детям, родившимся
167
и выросшим на их глазах, эта почтительность соединялась с особенной покровительственной лаской. Нас с раннего детства, так сказать, с пеленок, все люди, служащие, до управляющего включительно, всегда звали в глаза по имени и отчеству и говорили нам «вы», и так же и про нас говорили, что ничуть не мешало какой-то особенной близости и ласковому обращению. Когда горничная моей жены, новой формации, из калужских мещанок, стала, говоря про моих детей, называть их по имени — мне это резало ухо, и я долго не мог к этому привыкнуть, но жена моя находила это естественным, и постепенно старые формы уступали место новым. У Остроуха же я впервые натолкнулся на какую-то подобострастную льстивость от людей, ничем не связанных с нами в прошлом, и это меня на первое время оттолкнуло; потом, когда я ближе узнал их (Константин Людовикович прослужил у нас около 30 лет), я понял, что это лишь польская манера обращения, и я их искренно полюбил. Они оба были очень сердечны, привязчивы, всей душой были нам преданы, в особенности моей матери. Он был очень умный человек, ставивший своей задачей спокойствие тех господ, у которых он служил, и с предусмотрительностью отстранял от моих родителей всякие заботы и неприятности. Умел он, как никто другой, ладить с народом и, ни в чем не потворствуя крестьянам, действительно был ими особенно любим. Я помню, что когда мировой судья вызывал его в качестве обвинителя по делу о порубке, Константин Людовикович требовал, чтобы обвиняемый, какой-нибудь наш местный крестьянин, вез его на суд на своей лошади, считая неподходящим для этого отрывать барскую лошадь от работы. Обвиняемый добродушно подчинялся такому оригинальному требованию и после какого-нибудь строгого приговора все-таки заботливо усаживал Остроуха и бережно, без всякой злобы, доставлял его домой. Не любили этого нового управляющего лишь старые слуги, как, например, Афанасий, Трифон, но и то не высказывались, а только явно не одобряли, даже порицали вводимые им новшества. Но и то не все старые служащие относились к нему недоброжелательно. При нем первый год был экономическим старостой Харлам, крестьянин деревни Шаховой, бывший еще в крепостное время выборным при конторе от своей деревни. Старик этот был старого закала, громадного роста, носил он еще гречишник (высокая войлочная шляпа, напоминающая великосветские цилиндры). Служил он не за страх, а за совесть. При Остроухе он тяжко заболел и умер. Во время всей его болезни Константин Людовикович кормил его со своего стола и на отказ Харлама пользоваться такой улучшенной пищей уверил его, что делается это по приказанию моего отца, хотя последний ничего про это не знал. Зато когда Харлам умирал, его единственная дочь Авдотья стала его, умирающего, допрашивать: «Тятенька (простонародное название отца в крепостное время), сколько тебе следует получить в конторе, а то как бы после твоей смерти не обочли бы меня!», и получила такой ответ: «Не твоего ума дело, Дуня, что даст тебе Константин Людвикович, то, значит, мне и следует — этот не обочтет, он правильный человек». Этот предсмертный разговор старика Харлама мне передала сама Авдотья, с которой и после смерти ее отца не прерывались отношения, и контора помогала ей при всех трудных обстоятельствах ее сиротской жизни. Когда же она вышла замуж и выросли ее сыновья, им всегда предоставлялись хорошие места в экономии.
168
Константин Людовикович был цветовод и, привыкши к культурности Западного края, кладущей особый отпечаток чистоты на усадьбы, следил за порядком и красотой около дома, что меня тогда же поразило, увидав Сергиевское, где нас все лето не было, с цветниками, вычищенными дорожками, как и в нашу бытность. Александра Осиповна была поразительная хозяйка и притом такой чистоты, как только бывает в Голландии. Держали они одну прислугу, старушку-крестьянку из одной из наших деревень, которая так к ним привязалась, что последовала за ними в симбирское имение, когда мой отец назначил его управляющим наших трех там имений. С одной этой прислугой Александра Осиповна делала такие консервы, зимние припасы, блюда, как в первоклассных ресторанах.
Отказавшись от обеда, я не мог отказаться от чая, и тут хозяйский талант Александры Осиповны сказался вовсю: накормлен я был всевозможными домашними печениями, особенно приготовленными польскими закусками, разнородными вареньями и молочными произведениями. Просидел я у них довольно долго, уговорившись с Константином Людовиковичем, что на следующий день мы подробно осмотрим хозяйство. Хлебосольство четы Остроухов со временем стало настолько известно, что у них всегда были гости; местные воротилы (в лице священника Извекова, волостного писаря Александра Григорьевича Боровкова, занимавшего эту должность с освобождения крестьян, церковного старосты, он же управляющий соседнего имения Экаревых Михайловки, крестьянина деревни Воронино Степана Самсонова Воронова) были у них завсегдатаями. Постоянно гостили у них разные полицейские уездные чины, всякие чиновники и агенты, которые никогда бы не посмели обеспокоить моего отца, купцы, приезжавшие по делам имения, и, наконец, раз в год приезжал из Калуги ксендз и служил в их круглой гостиной (впоследствии туалетной комнате моей жены) мессу, на которую съезжались все соседние католики.
Осмотрев на следующий день хозяйство, побывав с Трифоном на охоте и отслушав воскресную обедню, за которой был тепло приветствуем дворовыми и крестьянами, я через несколько дней без огорчения уехал в Радушино.
Это было в последний раз в жизни, что я там был. Дедушка имел собственный дом в Зарайске, где он и живал, а на лето переезжал в Радушино; в следующем году они свой переезд в деревню все откладывали ввиду трудности передвижения для бабушки и так и остались жить безвыездно в Зарайске; но в этом, 1879 году, мы их посетили еще в деревне. Дедушка заставлял меня смотреть в подзорную трубу, не едет ли кто из Зарайска, и в утвердительном случае, несмотря на жару, заставлял менять летнюю гимнастерку на суконный пажеский мундир с галунами и каждому приезжему объяснял, что это лишь малый мундир, а мой большой, придворный, весь шит золотом. Очень его утешало, что я паж и получил я это звание по его ходатайству. Варю, сестру, он заставлял петь и не столько наслаждался ее пением, сколько гордился ее талантом, заставляя ее подряд исполнять такие разнообразные вещи, как сильно драматический романс «Нищая», у которой на руках умирает с голоду ребенок, бравурную арию из «Макбета» и колоратурную балладу из «Диноры». Дедушка всем подчеркивал этот громадный талант Вари. Действительно, пела она превосходно, и не раз меня, знавшего
169
каждую ноту ее репертуара, прохватывала дрожь и нередко слезы. Я лично особенно любил, как она пела «L’air des bijoux» из «Фауста» и некоторые романсы Чайковского, которые она передавала с неподражаемым чувством.
В это наше пребывание в Радушине мы впервые познакомились с нашей двоюродной сестрой Ольгой Ржевской. Она была из старших дочерей тетушки Кати Ржевской, которая уже давно умерла, и отец ее Петр Семенович прислал ее в Радушино в надежде приблизить ее к дедушке и бабушке. Сам П. С. Ржевский служил в Веневе исправником, единственный его сын, недоросль, служивший урядником, умер, и семья Ржевских, сознавая, насколько она распадается и потеряла все былые связи с лучшим обществом, почувствовала необходимость искать примирения и сближения с дедушкой. Ольга Ржевская была славная девушка с грубоватыми манерами и низким, почти мужским голосом. Мы с ней сейчас же перешли по родственному на «ты», но сближения все-таки не было; были мы уж очень разного воспитания. Дедушка и бабушка так явно подчеркивали разницу, которую делали между нами и ею, заставляя ее чуть ли не прислуживать нам, что постоянно ставили нас в неловкое положение. Но Ольга и сама была виновата, так как держалась больше на положении приживалки, чем внучки. Кроме нее в Радушине жила настоящая приживалка — дальняя родственница моего отца Ольга Николаевна Гурьева*. Она была старая дева, одних лет с моей матерью, и имела к ней экзальтированное, чисто институтское чувство. Мы, дети, почему-то называли ее не «тетя», а просто по имени: «Ольга — вы». Вот эта самая Ольга Гурьева и пристроилась к бабушке, на положении dame de compagnie, а в сущности — просто приживалки. Мы все ее не любили, особенно за ее страсть к сплетням.
При нас еще приехала тетя Соня Охлябинина (см. главу I) со своей воспитанницей, которую звали Душа, а по-настоящему ее звали Авдотьей, и была она дочерью их скотника Поликарпа, по прозвищу «Ширяев». Девочка эта двух лет осталась сиротой. Сестра тети Сони Любовь Дмитриевна, крестная мать этой девочки, взяла ее к себе. Пока Любовь Дмитриевна была жива, она очень заботилась об этой девочке, воспитывала ее, сама учила и намеревалась, как только она подрастет, отдать ее в какое-нибудь подходящее заведение, так как она это уже сделала со старшими ее сестрой и братом, которые впоследствии были: первая — прекрасная городская учительница в Москве, а второй — машинист поездов-экспрессов и [поездов] особых назначений, почему хорошо зарабатывал. К сожалению, Любовь Дмитриевна умерла, не успев привести свои намерения по отношению к младшей сироте в исполнение, а только поручила ее особому попечению тети Сони. Та стала держать ее на положении дочери, совершенно ее испортила, оторвала от своей среды, а в семью ввести не смогла. Когда эта Дунечка** выросла, тетя Соня под влиянием пения моей сестры вообразила, что у ее воспитанницы тот же талант, возила ее за границу учиться. Там профессор пения выработал ей большой гибкий голос soprano, но не мог дать ей того, что дается
170
природой — голос был вульгарный, без всякой экспрессии, а исполнение было лишено всякого темперамента и души — именно то, что самое существенное в пении. После целого ряда лет неудачных попыток в разных городах, удалось, наконец, поместить эту Авдотью Поликарповну Ширяеву в петербургскую императорскую Русскую оперу, где для благозвучия ей дали фамилию «Дальма». Там она года два пела ничтожные третьестепенные партии, без всякого успеха, потом исчезла бесследно, проклиная тетю Соню и бросив ее окончательно.
Бедная же старушка, совершенно разорившись на все эти фантазии, чувствуя себя виноватой перед этой девушкой, на прощанье передала ей последний кусок земли, десятин в 75, оставшийся у нее от родового имения в Рязанской губернии, и кончила свой век во вдовьем отделении, куда принимались и старые благородные девицы при Смольном монастыре.
Все рассказанное уже свидетельствует о необычайной доброте этой старушки, но также и о том, что она была неумна. Была она небольшого роста, с круглым лицом, напоминавшим ожиревшего мопса, была очень полная, но сильно затягивалась в корсет, ходила всегда прямая как струнка, говорила, примешивая к своей речи французские слова, очень дурно произносимые, вся жила в воспоминаниях. По ее рассказам, мать ее, сестра дедушки Волконского, держала их деспотически, живя в Петербурге в пятидесятых и шестидесятых годах, делала все возможное, чтобы выдать своих дочерей замуж, но только, как было сказано выше, пристроила лишь одну дочь за Лопатина. По словам тети Сони, при них всегда было много влюбленных кавалеров, в чем я сильно сомневаюсь, так как зная ее лично, а сестер ее по портретам, всегда удивлялся их безобразию. Последним неудавшимся ее «предметом» был министр финансов Княжевич. Он был настолько старше, что, быть может, искал себе сердобольную подругу для успокоения своей старости, но и это расстроилось, после чего, разочаровавшись в возможности личного счастья, тетя Соня вся отдалась своей воспитаннице. Под конец жизни у тети Сони было еще экзальтированное чувство к какому-то старику, рязанскому старожиле, бывшему аптекарю по фамилии Зейтц. Она на нас очень обижалась, когда мы называли его «аптекарем». Была она с ним в переписке, и зять этого старика, присяжный поверенный Николай Игнатьевич Родзевич, вел все ее дела и спас ее от разорения. Но несмотря на все эти странности и смешные стороны ее характера, тетя Соня всегда всех побеждала своей горячностью и полным отсутствием какого бы то ни было эгоизма. С моей матерью она была очень дружна и играла, как было сказано выше (см. главу I), большую роль в свадьбе моих родителей. Вела она с Мама́ нескончаемые разговоры о прошлом и о старых родственниках, причем они часто спорили, главное, когда вопрос касался года рождения того или иного старика. Мы всегда смеялись, уверяя, что каждый их разговор кончался спором о том, сколько лет было давно уже умершему дядюшке Казначееву*. Мама́ говорила: «Сонечка, ведь дяденьке Казначееву было бы теперь 98 лет», а тетя Соня, с подобранными губками, кипятилась и возражала: «Ах, Машенька, позволь же мне
171
знать, что дяденьке Казначееву было бы 101 год», и начинались нескончаемые споры и высчитывания.
Тетя Соня, проживши всю жизнь, а особенно последние годы, навязав себе на шею Дунечку, в нужде, любила и покушать, так что когда попадала куда-нибудь, где ей можно было не урезывать себе каждый кусок, очень этим наслаждалась. С Нюничкой нашей пикировалась, главное, на почве вечернего чая, так как она всегда критиковала манеру Нюнички разливать чай. Правда, что наша милая старушка наливала только моему отцу сносный чай, остальным — водичку без всякого запаха. У дедушки и бабушки тетя Соня держала себя очень скромно, выслушивая смиренно их упреки за ее воспитанницу, которую они не называли иначе как «Дуняша» и при отъезде давали ей три рубля с наставлением хорошенько служить Софии Дмитриевне. Мы всегда с Варей очень жалели в эти минуты Дунечку, но эта жалость скоро пропадала, когда видели, какие она закатывала сцены тете Соне за спиной дедушки и бабушки.
В этом разнообразном обществе я и провел последний раз в Радушине несколько дней перед началом учения. К 1-му сентября я вернулся в Петербург, встреченный там моим Семеном, и начался для меня последний учебный год до производства в офицеры. Семья наша тоже скоро переселилась в Петербург ввиду продолжавшейся еще службы моего отца в Банке; впрочем, насколько помню, службу отец мой покинул в самом начале осени.
Возвращение в Корпус было мне на этот раз приятно. Вскоре состоялся высочайший приказ о пожаловании меня в числе других 16-ти человек камер-пажом. Из этих 16 человек назначены были: Немчинов — фельдфебелем, а Ромишевский, Булыгин, Молоствов, Нейдгардт и Стремоухов — старшими камер-пажами. Мы с Мосальским, хотя и были выше некоторых указанных товарищей по успехам, не получили третьей нашивки как экстерны.
Очень было ново и приятно чувство полного отсутствия страха к фельдфебелю, своему товарищу, к отделенному старшему камер-пажу, а также и к дежурному; вместе с тем, с какой радостью и гордостью надели мы шпоры. Домашняя форма — курточки — не изменилась, только на погонах были золотые нашивки, зато выпускная, городская форма украсилась расшитыми золотым галуном фалдами, шпорами и офицерской шпагой, только не с серебряным, а ременным черным темляком. Шпага эта, наконец, заменила ненавистный смешной тесак, прозванный нами в насмешку «селедкой». Существовал обычай передачи шпаги из класса в класс, причем каждый временный ее владелец выгравировывал на ручке свою фамилию. Мне досталась, если я не ошибаюсь, шпага от Нератова, вся испещренная фамилиями предыдущих владельцев, а передал ее я после производства в офицеры Владимиру Ганскау. Принято было тоже обмениваться портсигарами, после чего всякий, поносивший портсигар, ставил на нем свой вензель. Варя, моя сестра, узнав про этот обычай, купила мне большой серебряный портсигар с моим золотым вензелем, и он скоро покрылся вензелями товарищей. В курилке старший класс по обычаю сидел в офицерской фуражке того полка, в который каждый собирался выходить. Я себе заказал красную лейб-гусарскую фуражку, так как казалось естественным, что я поступлю в полк моего отца. Папа́ посетил командира полка барона Мейендорфа, которого имя
172
было Феофилакт (многочисленных его дочерей, чтобы было благозвучнее, по отчеству звали Богдановнами). Барон сказал моему отцу, что сообщит обществу офицеров его желание видеть своего сына в родном полку, и в скорости старший полковник Баумгартен приехал из Царского Села к отцу от имени общества офицеров высказать свое удовольствие, что сын старого гусара к ним поступает. К счастью, меня дома не было, а то впоследствии мое положение было бы очень трудное, так как свое намерение поступить в Гусарский полк, как увидим дальше, я изменил.
В эту осень в Петербург приехали Жемчужниковы: сестра моего отца с мужем. Дядя Митя только что получил неожиданно крупное наследство от своего бездетного двоюродного дядюшки. В состав этого наследства входил большой старинный конский завод в Козловском уезде Тамбовской губернии; по делам этого завода он и приехал в Петербург. После очень стесненного положения они на старости лет очутились вдвоем вдруг очень богатыми и старались всячески как-нибудь нас побаловать. Бедная тетя Соня, совершенно к этому времени оглохшая от всего пережитого, понимала только мужа по движению губ, вся была в воспоминаниях о потерянном сыне и мало участвовала в общей жизни. Дядя Митя, сидевший всегда рядом с нею, старался передавать своей «Софке», как он ее называл, нить общего разговора. Помню, как однажды за завтраком мой отец расспрашивал дядю Митю, знаменитого когда-то стрелка, как он теперь стреляет без участия правой руки, кисть и ладонь коей не действовали после ужасного нападения Колокольцова, описанного мною выше (см. главу III), и сделал для этого жест прицела левой руки. Тетя Соня, увидав этот жест, напомнивший ей убийство сына, вскрикнула и лишилась чувств, до того она остро переживала все воспоминания об этом ужасном дне.
Однажды дядя Митя захотел всех нас угостить по-старинному, по-гусарски (он был гродненский гусар), и пригласил всю семью в ресторан Палкина позавтракать. Там его хлебосольству не было пределов. На этом завтраке я впервые решился попробовать устриц, которые мне очень понравились. Не зная их стоимости, без всякого стеснения я съел их очень много, думается, более ста штук, и до сих пор с удовольствием вспоминаю это угощение, которое мои средства никогда не позволили мне повторить в таком размере. Тогда же мой отец попросил Митю как знатока подыскать мне офицерскую гусарскую лошадь, то есть серой масти, и через несколько дней дядя Митя купил мне за 600 рублей лошадь Карася с хорошим аттестатом (арабская полукровка), но еще не вполне выезженную. Отдали ее на выездку берейтору принца Ольденбургского, и когда месяца через три я решился выйти в кавалергарды, я продал эту лошадь за тысячу двести рублей — единственная офицерская лошадь, давшая мне не убыток, а прибыль. Среди коннозаводчиков и кавалеристов существует твердое убеждение, что есть масти, которые бывают «не в руку»; это я и на себе испытал: мне гнедые лошади никогда не удавались, не только в Кавалергардском полку, где эта масть была обязательна, но и у себя в имении, когда я стал хозяйничать.
По случаю моего камер-пажества отец мой стал выдавать мне ежемесячно 30 рублей на мои удовольствия, на извозчиков и мелкие расходы. Так как я никогда никаких кутежей не любил, тратил я почти все на театры. Нам разрешалось
173
сидеть в театре не ближе 7-го ряда. По установившемуся в Корпусе обычаю, мы, если были не в ложе, брали кресла 7-го ряда и отнюдь не далее 8-го. Кроме Итальянской оперы эти места были недорогие, рубля два — не больше, почему я мог часто пользоваться театром, тем более что в Итальянской опере у меня было обеспеченное место в ложе родителей. В это время, кроме Итальянской оперы, о которой я уже писал раньше, я очень увлекался Русской оперой, которая давалась тогда в Мариинском театре. Публика обоих театров была разная: в Большом, где пели итальянцы, бенуар, бельэтаж и первые ряды партера были заняты всем высшим светом, остальные места любителями итальянского bell canto, меломанами, поклонниками и поклонницами отдельных певцов, одним словом, завсегдатаями. В дни же балетных представлений публика Большого театра была преимущественно военная; золотая молодежь демонстративно просиживала лишь те танцы, которые исполнялись теми танцовщицами, которые ими покровительствовались, почему во время представления одни приезжали, другие уезжали. В Русской опере в Мариинском театре публика была случайная, менявшаяся каждое представление, и слушала не столько певцов, сколько самую оперу.
Я помню, какое наслаждение я испытал от первого представления «Вражьей силы» Серова, где Славина с такой поэзией передавала роль Груни. Тогда на этой сцене блистали басы: Васильев 1-й, Стравинский, Палечек; тенора: Орлов и Комиссаржевский; баритоны: Мельников и Пряничников; контральто: Лавровская и Каменская; меццо-сопрано: Бичурина, Аборинова и Славина; гораздо слабее были сопрано, но и то никогда не забуду Велинскую в «Русалке», когда она объявляет князю, что будет матерью. Оперу «Борис Годунов», столь прославленную теперь благодаря исполнению Шаляпина, я и тогда никогда не пропускал. Бориса пел Мельников, тоже с большим драматизмом, но я лично особенно любил сцену в корчме, исполнявшуюся лучшими силами. Впервые я тогда познал прелесть русской оперной музыки и старался привлечь на свою сторону и Варю, для чего преподнес ей ложу на «Вражью силу». Но мои не оценили мой вкус, а любимую мою песнь «Ишь ты, мать» и речитатив матери Даши и Груни просто осмеяли.
В балете я бывал реже, но с виду знал всех офицеров, покровителей танцовщиц. Михайловский театр обыкновенно посещался по субботам, когда давалась премьера. Я там особенно любил спектакли с участием комиков Raynard’a и Hittemans’a; оба они были неподражаемы: одно появление их вызывало несмолкаемый смех. Никогда не забуду Hittermans’a в «Niniche», где он, стоя за ширмами, разливался горькими слезами, подслушивая для дипломатических целей рассказ дамы из полусвета, описывавшей все ею пережитое, не догадываясь, что эта дама его собственная жена, а старый муж, на которого она жалуется — он сам. Затем в том же водевиле он смешил публику до упада, когда в купальном костюме, весь дрожа от холода, он диктует своему секретарю (эту роль исполнял вечно юный Andrieux) дипломатическую депешу о той же даме полусвета, сиречь о своей жене. Raynard был тоже бесподобен в мимических сценах, сосредоточивая иногда на себе все внимание театра, не участвуя даже в диалоге. Феноменом этой сцены была 60-летняя старуха Lagrange Bellecourt, которая до конца
174
жизни играла ingénue, а иногда и travesti. Помню раз ее выступление в одной пьесе, где ее родная внучка играла роль ее матери. Крайне бездарной была актриса Mancourt, но ей покровительствовал великий князь Алексей Александрович, почему она получала хорошие роли, которые неизменно проваливала. Выдающимся актером был еще Dupuis; партнершей его была Dica-petit, но последняя, скорее, годилась для мелодрамы, чем для серьезного репертуара, которого придерживались Императорские театры.
Как я ни говорил хорошо по-французски, но в начале спектакля или, скорее, сезона, я не всегда все улавливал — настолько чисто парижский говор актеров с их быстрой дикцией разнился с обычной нашей разговорной речью.
В цирке сводил тогда всех с ума клоун Таити своими остроумными выступлениями и танцовщица на проволоке Оксана — своей красотой и красивым телосложением, рельефно подчеркнутым трико телесного цвета. В цирке я был раза два, чтобы свозить туда мальчиков Полторацких, которые продолжали у нас жить. Помню, в одно из этих представлений ужасную тревогу, когда на галерке кто-то крикнул: «Пожар», и все ринулись к выходу. Когда начали успокаиваться (тревога была ложная), я очутился с Полторацкими на арене, вытесненными туда напором публики, я все-таки уговорил этих мальчиков вернуться домой не дожидаясь конца представления; меня била мелкая дрожь, да и они были не в лучшем виде, чем я. Кто не испытал вида безумия толпы в панике, тот меня не поймет.
После производства в камер-пажи начальство назначило из нас тех, которые должны были нести бессменную придворную службу, то есть каждое воскресенье являться во дворец к царскому выходу в церковь. Фельдфебель Немчинов по должности был камер-пажом государя. К государыне всегда назначалось двое, в этом году несли эти обязанности Нейдгардт и я, а при нас запасным был в случае болезни одного из нас — Булыгин. В моем назначении ясно сказалось желание директора меня отличить, это считалось самым почетным положением, и, кроме того, государыня своим камер-пажам при производстве в офицеры всегда жаловала подарок, большей частью золотые часы с ее вензелем. Но нам не повезло, государыня была больна всю зиму, вернулась из Ниццы только в декабре, и такой слабой, что не принимала участия ни в одном из выходов, так что мы с Нейдгардтом, ее камер-пажи, впервые увидали ее лишь после ее кончины, в гробу. На докладе министра Двора о пожаловании нам часов государь положил такую резолюцию: «Не стоит, жена была все время больна». Нас в Корпусе утешали, уверяя, что такая неблагоприятная царская резолюция имела совсем другую подкладку, а именно: государь был в давнишней связи с юной княжной Долгорукой, моложе его лет на тридцать, от которой имел детей, жены же своей не любил. Действительно, скоро после кончины государыни Александр II женился на этой княжне Долгорукой, получившей титул и фамилию светлейшей княгини Юрьевской.
Кроме нас для постоянного дежурства назначены были к великой княгине Марии Павловне* Котя Оболенский, а к дочери государя Марии Александровне,
175
герцогине Эдинбургской, проводившей эту зиму в Петербурге, — Стремоухов. Остальные камер-пажи назначались во время придворных церемоний к другим высочайшим особам по мере надобности.
В Корпусе полковник Энден замучил нас примеркой придворных мундиров, особенно лосин, которые надевались без белья, как перчатка, и притом слегка смоченными, чтобы быть совершенно в обтяжку. Перед поездкой во дворец парикмахер Гуллерт, маленький старикашка, кажется, еврейчик, всех нас брил, хотя бы и намека на усы у многих не было, и причесывал, делая при помощи сахарной воды кок на правой стороне. Затем мы одевались при помощи иногда нескольких лиц для натягивания лосин, неоднократно тщательно осматривались ротным командиром и, наконец, под предводительством нашего адъютанта, бравого, красивого, с расчесанными пышными бакенбардами*, штаб-капитана Аргамакова ехали в придворных каретах во дворец. Там мы останавливались у комендантского подъезда, сдавши свои шинели вестовым, и одни уже отправлялись по своим местам. Знали мы дворец как свои пять пальцев. Фельдфебель и камер-пажи государыни в обычные воскресные дни или праздники, когда не было большого выхода, шли через запасную половину к собственным покоям их величеств, где и ожидали вместе с дежурством; дежурство состояло из генерал-адъютанта, свиты генерал-майора и флигель-адъютанта. Первые два обычно делали только acte de presence, а последний оставался на весь день. Государь в эту зиму выходил всегда один, здоровался с нами, говорил, что государыня больна, и отпускал меня с Нейдгардтом. В другие же дни больших выходов мы должны были ожидать в Арабской зале близ Золотой гостиной, откуда начинался выход всей царской семьи. Хотя государыня никогда по болезни не участвовала в этих выходах, все же государь почему-то нас, ее камер-пажей, в эти дни никогда не отпускал и нам приходилось ожидать окончания церемонии и возвращения всех.
Помню, как однажды мы с Нейдгардтом, по уходе всех из Арабской залы, забрались в Золотую гостиную, удобно расположились, собираясь отдохнуть, и вдруг, о ужас! мы услыхали в соседней комнате кашель и поняли, что это государыня там завтракает, и поспешили оттуда ретироваться, пока никто не обнаружил наше присутствие в неуказанном месте. Дядя Федя Ганскау рассказывал мне, как однажды он так же поступил, но только заснул в кресле и был разбужен скороходом, предшествовавшим государю.
Другие камер-пажи должны были ожидать в швейцарской высочайших особ, к которым были назначены, но подъездов было несколько, и часто выходили путаницы. Однажды, за неимением свободных камер-пажей и ввиду болезни и отъезда государыни, меня назначили, по случаю какого-то экстренного высочайшего выхода, к бывшей русской великой княжне, давно вышедшей замуж за немецкого принца и впервые после свадьбы приехавшей в Петербург**. Я ее, понятно, никогда не видал и должен был ее узнать по какому-то наитию. Пошел
176
я ее ожидать на подъезд ее величества, куда обыкновенно приезжали великие княгини, бывавшие нечасто во дворце. Поведал я швейцару, опытному старинному придворному служителю, что я не знаю в лицо той великой княгини, к которой назначен, и просил его мне таковую указать. Он мне на это ответил, что и сам ее не знает, но так как все остальные высочайшие особы ему хорошо известны, когда подъедет неизвестная ему великая княгиня, он мне мигнет, и тогда это будет, наверное, она.
Скоро подъехала придворная карета, я не рассмотрел, как были надеты треуголки на кучере и камер-лакее, (по тому, как надета треуголка с полями поперек, можно было узнать, едет ли придворная дама или великая княгиня). Вышла пожилая дама. Мне показалось, что швейцар мне мигнул, и я последовал за ней. Она на меня как-то робко взглянула, ничего мне не передала и уже наверху лестницы сконфуженно сказала: «Вы ошибаетесь..., я не великая княгиня». Я благодарно ей поклонился и быстро сбежал опять вниз. Только что я вернулся в швейцарскую, как подъехала великая княгиня Мария Павловна, которую Котя Оболенский ждал, по обычаю, на подъезде его величества. Желая вывести Оболенского из беды, я представился ее высочеству, взял ее мантилию, шлейф и последовал за ней. По дороге она меня спросила, где Оболенский. Я доложил ей, что он ждет ее на другом подъезде, и я сейчас пошлю за ним камер-лакея. Входя в ротонду, увидел, что из противоположной двери, соответствующей подъезду его величества, идет в сопровождении Оболенского незнакомая великая княгиня. Пока Мария Павловна с ней целовалась, Котя мне шепнул: «Это твоя», и мы за их спинами обменялись шлейфами и мантилиями, извинившись перед нашими великими княгинями за происшедшее недоразумение.
До того, ввиду пребывания государыни в Ницце, меня назначили на Георгиевский праздник состоять при цесаревне Марии Федоровне, ныне вдовствующей императрице. Так как в этот день, 26 ноября, полагается большой придворный обед, служба довольно утомительна, но зато не так ответственна, потому что дежурства несут и другие высшие придворные чины. За цесаревной, кроме ее камер-пажа, стоит и камерьер. Цесаревны никто не боялся, а напротив, все очень любили, она была необыкновенно добра и всегда боялась из-за себя навлечь гнев государя на кого-нибудь. Помню, как в Корпусе рассказывали, как однажды, по неловкости камер-пажа, кажется Мещеринова, ей облили декольтированное плечо горячим супом, причем камер-паж так растерялся, что не нашел ничего более подходящего, как схватить салфетку ее высочества и начать ею обтирать ей плечо и шею. Она улыбнулась, попросила его прекратить это обтирание и, приложив палец к губам, показала этим, что просит всех молчать, чтобы государь, сидевший против нее через стол и заслоненный цветами, почему и не видал случившегося, не заметил бы этот инцидент. Мое дежурство прошло благополучно, причем я имел возможность и случай насладиться чудной музыкой вокальной и инструментальной, исполненной солистами Императорского Двора во время обеда. По возвращении государыни постоянным камер-пажом цесаревны был назначен Головачев.
Помню еще один исторический выход в день 25-летия царствования государя императора Александра II. Государыня была опять больна, и мы с Нейдгардтом
177
опять остались не у дел, но зато имели полную возможность видеть весь выход. Церемониймейстеры расставили по Арабской зале и по следующим комнатам придворных чинов попарно по старшинству, младшие — впереди. Доложили министру Двора графу Адлербергу, что выход готов, и царская семья в предшествии породистого, видного гофмаршала князя Ивана Михайловича Голицына и первых чинов Двора вышла из Золотой гостиной. В первой паре шел государь с цесаревной Марией Федоровной в сопровождении министра Двора и дежурства. Цесаревна, как и все дамы, была в русском платье с кокошником, около нее, по-детски подпрыгивая, шли ее старшие сыновья — ныне отрекшийся и погибший последний самодержец Николай II и его брат Георгий Александрович; Николай Александрович был в форме прапорщика* Преображенского полка; только что произведенный в этот чин государем перед самым выходом, [он] совершенно по-детски сиял, радовался первому офицерскому мундиру и с братом своим Георгием, одетым еще в морскую курточку, [они] давали много забот нашему камер-пажу Головачеву, несшему шлейф, так как старались нашалить и наступить на него. За государем шла остальная царская семья попарно, и ввиду большого съезда не только своих великих князей и княгинь, но и иностранных принцев, шествие было очень длинное. Выделялся своим ростом принц Александр Баттенбергский, тогда уже признанный князь Болгарский, и смешно было видеть при нем нашего маленького камер-пажа Буха. Можно ли было ожидать, что через какой-нибудь год государь, заслуженно сиявший и счастливый при виде общей любви народа, как бы венчающей его славное двадцатипятилетнее царствование, падет от руки злодея.
В Корпусе дружба моя с Васей Булыгиным все развивалась, росла, и мне грустно было подумать, что с производством в офицеры в разные полки мы с ним разъедемся и потом и потеряем друг друга из вида, тем более что намеченный мною Гусарский полк стоял в Царском Селе, а его будущий полк Лейб-егерский — в Петербурге. Я уже в душе вполне помирился с мыслью идти в пехоту, лишь бы с ним не расставаться, и, вспомнив, что лейб-егерем был дедушка Волконский, решил просить отца разрешить мне выйти в один полк с Булыгиным. Как я ни был балован родителями, все же между нами не было тех простых отношений, которые бы позволяли мне прямо высказать отцу свое желание, когда я знал, что оно не в его вкусе. Ввиду этого я стал действовать дипломатично, и на мне сказалась правдивость пословицы: «Где тонко, там и рвется». Стал я уверять своих родителей, как мне тяжело думать о переезде в Царское Село и разлуке с ними, так как они для Вари должны были оставаться в Петербурге, где она и уроки пения брала, и выезжала в свет. Доказывал я им, как такая жизнь на два дома увеличит расходы, и наконец, как наиболее убедительный довод, я высказал боязнь, что Лейб-гусарский полк по своим традициям и привычкам будет мне не по средствам. В этом полку в то время служил командиром 1-го эскадрона известный богач князь Лобанов-Ростовский, и в Петербурге
178
много шло рассказов про его большие траты и какие-то баснословные кутежи, так что репутация дороговизны и широкого размаха полковой жизни присвоена была и моему полку. Шел я в своих уверениях исподволь, надеясь добиться, что отец сам посоветует мне не выходить в Гусарский полк, а тогда я уже мог бы начать говорить об Егерском полке. Вышло оно так, да не совсем. Однажды Папа́ сказал мне, что вполне со мной согласен, что лучше отказаться от мысли быть гусаром, но, зная мое твердое желание быть кавалеристом, он просил корнета Кавалергардского полка Федорова (Дмитрия Сергеевича), часто последнее время бывавшего у нас, зондировать почву: не примет ли меня общество офицеров того полка к себе. Я был озадачен; робко было заикнулся о пехоте, но получил ответ отца, что надо ждать ответа Федорова. Очень скоро Федоров передал моему отцу, что он говорил с самим полковым командиром графом Алексеем Павловичем Игнатьевым, который приказал мне явиться к нему в ближайшее воскресенье после обедни. Не мог я вторично ставить отца в неловкое положение, как это было с его визитом к командиру Гусарского полка, и я подчинился.
В следующее воскресенье отправился я со страхом к графу Игнатьеву, жившему в казенной квартире в расположении полка. Подъехал к воротам, выходящим на Захарьевскую улицу, прошел по указанию дневального у ворот через весь, впоследствии столь мне знакомый полковой двор, козыряя направо и налево офицерам. Взобрался я по казенной, крайне невзрачной лестнице во второй этаж главного корпуса и введен был вестовым в маленький кабинет командира полка. Через несколько минут появилась высокая тучная фигура графа, совершенно лысого, был он весь бритый, кроме усов, в генеральской форме полка со свитскими аксельбантами. Он очень любезно со мной поздоровался, после чего стал подробно расспрашивать о моих родителях, дедах, где кто служил, на ком был женат, чем занимался, где теперь находятся, какое их состояние и так далее. Пажеский корпус единственный имел ту привилегию, что из него выходили в полки, не справляясь о наличности вакансий, а лишь с согласия общества офицеров, и то последнее условие соблюдалось, главным образом, в гвардии и в некоторых лишь армейских полках, имевших какие-нибудь особые традиции, как-то: нижегородские драгуны, александрийские гусары, прозванные «бессмертными», и т. п. Оставшиеся после пажей незамещенные вакансии сообщались в остальные учебные заведения. Граф Алексей Павлович разъяснил мне этот порядок, который я сам хорошо знал, и добавил, что он лично согласен меня принять, но что все зависит от решения общества офицеров. Тут же он представил меня, объяснив цель моего посещения, вошедшему к нему в кабинет старшему полковнику флигель-адъютанту князю Барятинскому. Князь был сын фельдмаршала, героя и покорителя Кавказа, очень породистый на вид, тонкий, с изящными утонченными манерами, по внешности очень отличавшийся от своего полкового командира. Карьера его, как рассказывали потом, пресеклась неожиданно. Во время коронации императора Александра III, он, состоявший тогда в свите, демонстративно не захотел подчиниться во всех мелочах приказу о новой форме русского образца, надо сознаться, некрасивой и мужикообразной, и при въезде государя в Москву выехал на седле
179
старого, элегантного образца; это заметили завистники его, и недоброжелатели воспользовались этим случаем, раздули целую историю, характеризуя этот факт как явное фрондерство, и ему был объявлен высочайший выговор. Князь Барятинский обиделся и вышел в отставку, после чего выехал за границу. Там он и кончил свою жизнь в бесконечных путешествиях, которые совершал по оригинальности не по железной дороге, а в дормезе — автомобилей тогда еще не было. Князь Барятинский, познакомившись со мной и выслушав сообщение графа Игнатьева, сказал мне, что передаст мою просьбу на обсуждение собрания общества офицеров и решение этого собрания доложит командиру полка, почему граф Игнатьев, отпуская меня, приказал мне придти вновь к нему за ответом в следующее воскресенье. Потом я узнал, что граф Алексей Павлович в течение недели заезжал в Корпус к директору Дитерихсу и подробно обо мне расспрашивал. Когда я явился к нему через неделю в назначенное время, он меня заключил в свои объятия, прижав к пухлой щеке, и сказал, что я — будущий кавалергард; общество офицеров охотно меня принимает в свою среду. Итак, моя судьба окончательно, бесповоротно решена, полк выбран, и отец мой стал обдумывать и исподволь заказывать мою новую офицерскую обмундировку, а я для курилки заменил красную гусарскую фуражку белой кавалергардской.
Решение мое выйти в кавалергарды вызвало совершенно для меня неожиданно новую стычку с моими товарищами по классу, но на этот раз я сумел себя отстоять, тем более что и требования товарищей были чисто мальчишеские.
Из старшего класса некто Булгаков (Александр) хотел поступить за год перед тем в кавалергарды, но так как его брат Николай*, кавалергард, принужден был незадолго перед тем по настоянию офицеров покинуть полк, его, этого Александра Булгакова, полк не принял. Говорили, если не ошибаюсь, что история с Николаем Булгаковым произошла из-за того, что он женился без согласия товарищей. Может быть, такая причина и не была достаточно основательной, чтобы не принять младшего брата Александра, но факт остался фактом, и Булгаков вышел в гусары.
Мой класс через год решил вдруг обидеться на такое постановление общества офицеров Кавалергардского полка и постановил никому из товарищей в этом году не выходить в кавалергарды. Как я ни возражал им, что, во-первых, надо было выносить такое постановление раньше, а не тогда, когда я уже представился в полк, и, во-вторых, что самое главное и убедительное, это то, что Булгаков не наш товарищ по классу; его же одноклассники — князь Шаховской, князь Барклай де Толли-Веймарн и Шабельский, несмотря на отказ кавалергардов принять Булгакова, вышли в полк, почему наша демонстрация будет простым донкихотством; ничего не помогло, и они твердо стояли на своем решении. Котя Оболенский, предполагавший до того тоже выйти в кавалергарды, где служили когда-то все его родственники, отказался от своего намерения и поступил в Конногвардейский полк. Я же, возмущенный всеми этими придирками, твердо заявил, что пусть товарищи поступают, как хотят, но этому их решению я не подчиняюсь и выйду, как намерен, в кавалергарды. По-видимому, мой твердый тон
180
их озадачил, и ко мне больше не приставали, но перед самым выпуском еще раз заявили мне, что ввиду неподчинения товарищескому решению, просят меня не участвовать в традиционном выпускном обеде. Я им резонно ответил, что и без их просьбы я намеревался уклониться от этого обеда, так как тогда буду уже носить офицерскую кавалергардскую форму и не считаю себя вправе появляться в ней в среде, которая к полку относится враждебно. Многие из товарищей к этому времени встали на мою сторону, поняв всю несообразность их решения, и обед совсем расстроился.
Впрочем, вся эта история, кроме нескольких неприятных разговоров, не повлияла на мои отношения с товарищами, и доживал я последние дни в Корпусе если не в тесной дружбе со всем классом, то, во всяком случае, в спокойных товарищеских отношениях. В следующем году, уже будучи офицером, я встретился у Коти Оболенского в день его именин, 6-го декабря, с этим самым Булгаковым*, и дело дошло у нас до такого крупного объяснения, что не вмешайся вовремя, как хозяин, Котя, могло бы кончиться дуэлью. Тогда я понял, что полк, хотя и по другой причине, очень удачно не принял в свою среду человека с таким необузданным характером. Впоследствии, во время моей общественной деятельности в Калужской губернии, о чем будет речь впереди, я был очень дружен с Николаем Петровичем Булгаковым, первым невольным виновником всей этой истории.
Дома мой отец усиленно теперь хлопотал о новом моем обзаведении для офицерской службы, подыскивал новую квартиру, где у меня был бы отдельный свой апартамент, заказал мне экипажи: эгоистку на резиновых шинах — тогда еще совершенная новинка, одиночные сани — выписал из Симбирска хорошего серого рысака. Дядя же Митя Жемчужников подарил мне вороного жеребца своего завода, идущего без секунд. Меня Папа́ посылал заказывать себе обмундировку. И веселы же были все эти хлопоты! Квартира была найдена на Моховой, в доме Мейна. Там к весне освобождался весь нижний этаж с 16-ю комнатами, конюшнями и сараем и всеми службами, причем мне можно было очень удобно прямо от входа отделить три комнаты. Мой отец сейчас же заключил контракт и решил в течение лета сделать все нужные перестройки и поправки.
К Пасхе и Рождеству управляющий симбирскими имениями Рошковский присылал всегда крупную сумму денег. На обязанности Платона Евграфовича лежало ходить за ними на почту по доверенности отца. В этом году, не помню когда, он однажды влетел ко мне в комнату весь бледный и трясущийся со словами: «Батюшка-отец! Ваш отец — апостол Павел!», и на мой вопрос: «Платончик, что с вами?» только повторял: «Нет — апостол Павел, апостол Павел!» Потом уже выяснилось, что у него на главном почтамте, где тогда выдавались денежные пакеты, в толпе вырезали карман с деньгами, и он, не помня себя от ужаса, в полном отчаянии побежал домой, влетел как был в шапке и пальто к отцу в кабинет и, чуть не рыдая, упал перед ним на колени и рассказал несвязно, всхлипывая, все случившееся. Мой отец не только не рассердился на него, не только не стал его упрекать, а всячески успокаивал и, видя его нервное состояние, послал его
181
за доктором; моя мать же сердечно ухаживала за бедным стариком и отстранила Нюничку, боясь, что та его будет брюскировать. Платон Евграфович до конца жизни не мог забыть этого отношения к нему моих родителей, но его уже на почту больше не посылали.
Такая потеря крупной суммы была довольно ощутительна, тем более что отец мой вел довольно большую игру в карты, то в клубе, то у себя, то у графини Мордвиновой. Графиня Марья Алексеевна Мордвинова была родная сестра военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина. Муж ее был генерал-адъютантом, не принимавшим, кажется, никакого участия в государственных делах; всегда говорили о ней, а не о нем. Она была выше среднего роста видная старуха с довольно мужественными манерами, низким голосом и известна была своей бесстрашной правдивой речью. По желанию и настоянию моего отца моя мать с ней познакомилась, и графиня довольно часто бывала у нас. Ее бессменными любимыми партнерами в винт были Владимир Григорьевич Коробьин и мой отец. Помню, как на одном танцевальном вечере у нас мой отец как хозяин дома не хотел садиться за карточный стол, но графиня Мордвинова потребовала его участия в своей партии и кончилось тем, что мой отец выиграл 600 рублей, что с лихвой окупило расходы вечера. Впоследствии, когда, бывало, моя мать в шутку попрекала моего отца за какие-нибудь проигрыши, мой отец напоминал этот выигрыш, и на этом их пререкания прекращались.
Этой зимой мы познакомились с семьей Хвощинских. Знакомство произошло через Елену Абрамовну Делянову, приехавшую в Петербург с дочерью своей Ольгой Николаевной. Петр Абрамович Хвощинский, родной брат Елены Абрамовны, был замечательно красивый старик*, но умом не отличался. Жена его Елизавета Николаевна, урожденная Львова, была всегда больна, никуда не выезжала, но радушно всех принимала и своим умным разговором делала свою гостиную одной из самых приятных. Сестра ее Мария Николаевна Львова, жившая с ними уже старая дева, своим радушием, доброжелательностью и снисходительностью к молодежи заслужила положение общей любимицы и общей тетушки; все звали ее «тетя Маша».
Хвощинские были очень богаты, занимали большую квартиру на Литейной с отдельным апартаментом для своего единственного сына Абрама, кавалергарда, поступавшего в ту зиму в Военную академию. Он был крайне оригинальный тип: высокий, подслеповатый, в очках, совершенно не похожий на военного, хотя только что вернулся с Турецкой кампании, в которой принял участие добровольно, так как Кавалергардский полк на эту войну не ходил. Человек он был неглупый, весьма начитанный и страстный музыкант. С товарищами он мало якшался, всегда имел каких-то особенных знакомых со времени еще студенческих годов, совершенно никому неизвестных, с которыми любил беседовать за бутылкой вина. Поступил он в полк по окончании университета и так в нем и остался. Был он очень рассеян и делал впечатление не то блаженного, не то человека с похмелья, но одно в нем ярко выступало и выделяло из общей среды — это уменье интересоваться не только светской жизнью, не будничными
182
полковыми и военными обстоятельствами, а какими-то другими запросами, которые захватывали его всецело.
В музыке он был ярый поклонник Чайковского, тогда только входившего в славу, и хотя сам не пел, очень недурно играл на фисгармонии, своеобразно передавая на этом инструменте произведения своего любимого композитора, подчеркивая особенности творчества последнего. Талантом и голосом моей сестры он был совершенно очарован, стал постоянным, чуть ли не ежедневным посетителем нашего дома, и заставлял мою сестру серьезно изучать Чайковского. По его настоятельной просьбе Варя приняла участие в каком-то благотворительном концерте в Соляном городке. Он для ее выступления выбрал арию из оперы Чайковского «Опричник»: «Чу! Слышу, думала, Андрюша». Она должна была ее исполнить с оркестром. Это было первое появление ее на эстраде, и мы все очень волновались. Разучивала она эту арию дома с Мама́. Мне с каждым разом ария все менее и менее нравилась. Без сценической игры, без мимики, движения на сцене, без декорации, слова казались какими-то несуразными, нелепыми, и речитативная форма была неэффектна. Дирижер оркестра к тому же оказался недостаточно опытным, не умел аккомпанировать солиста, акустика залы была убийственна. Не только семья, родные, но и все знакомые были на этом концерте. Но все их сочувствие, все их аплодисменты не могли скрыть, что ария сестры успеха не имела, голос ее был совершенно заглушен оркестром. И подумалось мне, как было бы совершенно иное, если бы она слушалась не Хвощинского, а меня и спела бы что-нибудь из своего итальянского репертуара, где оркестр аккомпанирует, а не играет, как у Чайковского, самостоятельную роль.
В этом году моя сестра особенно много выезжала, и за ней многие серьезно ухаживали. Помню сестру в герцеговинском костюме, в котором она была на балу у госпожи Масловой, вдовы брата дяди Миши, в ее красивом особняке на Английском проспекте. Костюм этот очень к ней шел. Подружилась она, между прочим, с одной молодой девушкой, Екатериной Рихтер, жившей с матерью-вдовой очень недалеко от нас. Эта девушка вышла впоследствии замуж за графа Мордвинова, владельца громадных поместий в Крыму и в самой Ялте. Мать ее была вдовой брата Оттона Борисовича Рихтера, командующего собственной квартирой его величества и близкого человека государю.
Если не ошибаюсь, именно у этих самых Рихтеров на танцевальном вечере желтый кирасир князь Урусов во время вальса уронил сестру. Падение было столь неудачное, что сестру пришлось спешно увезти домой, где она слегла. Лежала она довольно долго, около месяца. Днем ее устраивали в гостиной на кушетке, где, когда ей стало лучше, она принимала всех приезжавших к ней, а таковых было много. Виновник этого происшествия, князь Урусов, наведывался чуть ли не каждый день. Ежедневным посетителем был и Абрам Хвощинский. Он был из тех молодых людей, которые никогда не знают, как и когда им уехать, и потому пересиживал всех, оставался иногда обедать и пересиживал весь вечер. Я, на положении будущего кавалергарда, перешел с ним на «ты» и, между прочим, по совету отца купил у него лошадь Марса — мою первую кавалергардскую лошадь. На ней как на лошади гнедой масти и сказалась первая моя неудача,
183
подтвердившая, что эта масть мне «не в руку». Годилась эта лошадь лишь как объездок, Хвощинский же продал мне ее за парадера за 1100 рублей, и я потом перепродал ее и понес крупный убыток.
В семье моей с Абрамом установились совсем простые отношения как со своим человеком, а его семья, несомненно, делала авансы и, видимо, желала с нами породниться. Когда моя сестра совсем поправилась, посещения его не только не прекратились, а наоборот, сделались обычным явлением: приходил он к нам прямо из Академии с лекций, обедал и после весь вечер музицировал с сестрой. Сестре моей его общество было приятно. Не помню по какому случаю, кажется, на Пасхе, Петр Абрамович написал моей матери, что очень бы хотел у нас пообедать по случаю какого-то семейного праздника, но, к сожалению, жена его Елизавета Николаевна, как всегда, нездорова, почему он просит пригласить его с сыном. Мне тотчас пришло в голову, что в этот день произойдет решительное объяснение, что я и сказал моим родителям, почему в этот день никого посторонних к обеду не приглашали. Приехал Петр Абрамович с Абрамом в назначенный день; последний, как свой человек, с Нюничкой перемолвился словечком и над Платоном Евграфовичем подтрунил, а Петр Абрамович с галантностью старых времен особенно любезно обращался к Варе. До сих пор убежден, что и родители Абрама ожидали объяснения со стороны сына и желали его, почему развязка всего этого дела была для них совсем неожиданна.
За обедом Варе пришлось сидеть между отцом и сыном, а я через стол против нее. Под конец обеда я увидал, что разговор между сестрой и Абрамом принимает серьезный характер, потому что оба казались очень взволнованными. Бедная моя мать усиленно занимала Петра Абрамовича, постоянно бросая тревожные взгляды в сторону сестры. С большой выдержкой, к которой Варя приучилась в свете, она, прекратив разговор с Абрамом, вмешалась в общий разговор, а Абрам сидел какой-то понурый и молчаливо пил свое вино. Под конец обеда Петр Абрамович обратился к Варе с каким-то шутливым тостом, где ясно высказал ей исключительное к ней отношение и симпатию всей его семьи. Когда все встали и перешли в гостиную, сестра, видимо, избегала апарте с Абрамом и безусловно отказалась петь, почему они скоро и уехали. Тогда только она нам рассказала, что Абрам сообщил ей как другу, на скромность которого он может положиться, что он жених своей двоюродной сестры Ольги Николаевны Деляновой, но что это тайна, и ей первой он это открывает... Скоро после этого моя мать с сестрой уехали, чем и прекратились посещения Абрама, а месяца через два он женился и следующую зиму жил не в Петербурге.
Я оставался с отцом в Петербурге, он занят был устройством новой квартиры. Но я забежал несколько вперед, вернусь еще к концу зимы.
Раза два у нас обедал калужский вице-губернатор князь Николай Петрович Трубецкой, мой будущий тесть. Папа́ с ним познакомился как-то в Калуге и, встретив его в Петербурге, кажется, в Итальянской опере, зазвал его к нам в ложу, где познакомил с Мама́, а потом он стал у нас бывать и очень восхищался пением Вари. Мы же все были совершенно под его обаянием. Но о нем буду еще писать подробно, когда дело дойдет до моей женитьбы, теперь же я еще камер-пажом кончал свое учение.
184
Экзамены начались в обычное время — я их совсем не боялся. Жил я, как сказано выше, вдвоем с отцом, который целые дни проводил на новой квартире или же разъезжал по разным поставщикам. Мы всегда смеялись над отцом, что он имеет обыкновение с заказами обращаться не в лучшие магазины, а к каким-нибудь бывшим их приказчикам, открывшим собственный магазин, почему они брали много дешевле, но зато и далеко не были столь надежны и опытны. Так было и с заказом экипажа для меня: мастер был неопытный, и Папа́ наблюдал чуть ли не за каждым вбитым гвоздем.
Пора экзаменов совпала с порою белых ночей в Петербурге: заниматься можно было без огня почти всю ночь, и так я и делал. Как-то раз, только что я лег спать, меня разбудил звонок, и ко мне в комнату вбежал Вася Булыгин, весь трясущийся, с известием, что его мать только что скончалась, что он себе места не находит, что он должен был мне это сообщить, зная как я искренно разделяю его горе. Тут же он сказал мне, что послезавтра тело повезут в их имение в Тверскую губернию, где и будут похороны. Страшно потрясен был я этим известием, горем моего любимого друга, оценив, что он даже ночью нашел необходимым поделиться со мной своим несчастьем, ища во мне поддержку.
На следующий день у меня был экзамен, так что я ни на одну панихиду не мог попасть, и только вечером был у Булыгина. Он был в таком тяжелом состоянии, что я твердо решил в день отпевания не покидать его ни на одну минуту до самого отхода поезда с телом. Но человек предполагает, а Бог располагает. Ночью я получил неожиданный приказ завтра явиться утром в Корпус, так как назначен высочайший выход. Убежденный, что за болезнью государыни меня сейчас отпустят, я не волновался, рассчитав, что к отпеванию я все же поспею. Явившись на следующий день в Корпус, я узнал, что по личному распоряжению директора я назначен состоять при греческой королеве Ольге Константиновне, которая только что приехала в Петербург, и самый выход был назначен в честь ее, по случаю какого-то праздника Греческого королевства. Это, видимо, было желание директора опять меня как-нибудь выдвинуть, так как королева эллинов была особенно любезна к своим случайным камер-пажам, впоследствии о них заботилась и всегда жаловала им ценный подарок на память. Но все это меня не прельщало, и я был в отчаянии, что не буду в тяжелые для него минуты с Васей Булыгиным. Стал я просить Аргамакова заступиться за меня, выяснив ему причину, почему я желаю быть свободным. Он мне на это ответил, что это личное приказание директора и что мне следует к нему самому обратиться. Последовал я его совету, но генерал Дитерихс на меня только накричал, да так накричал, как никогда этого раньше не было, и я, понурив голову, должен был подчиниться и ехать. По дороге, сидя уже в придворной карете, Аргамаков сообщил мне, что директор разрешил заменить меня Кашневым, а меня назначить к такой великой княгине, которая обыкновенно не приезжает во дворец на выходы, чтобы благодаря этому меня раньше отпустить. Назначен я был к великой княгине Александре Иосифовне, матери греческой королевы. Великая княгиня Александра Иосифовна была больная женщина и на моей памяти ни разу не приезжала на выходы, почти никогда не выезжая из своего Мраморного дворца. Ввиду этого, прождав ее на всякий случай минут пять, не больше, для проформы,
185
я, не сказавшись даже Аргамакову, уехал на извозчике обратно в Корпус, спешно переоделся в отпускную форму и поспешил в церковь, где должно было быть отпевание матери моего друга. Церковь была уже заперта, служба давно кончилась. Поскакал я догонять похоронную процессию, ее не догнал и не зная, на какой платформе будет погрузка гроба, напрасно проискал и, никого нигде не найдя, вернулся домой огорченный, что не повидал Васю. Мучался я мыслью, что он обвинит меня в равнодушии, в бессердечии.
На следующий день в Корпусе я был огорчен известием, что я чуть не подвел Аргамакова, так как великая княгиня Александра Иосифовна в этот раз как раз на грех приехала, что Аргамаков рвал и метал, узнав, что я уехал, но, на счастье, оказался свободный камер-паж, которого он к ее высочеству и назначил. Пошел я к нему извиняться и лишний раз убедился, какой добрейшей души был этот человек. Попенял он мне за то, что я уехал из дворца, не спросившись у него, но тут же добавил, что, боясь меня подвести, директору он доложил, что меня отпустил он сам и во всей путанице виноват он, а не я.
Горячо поблагодарил я нашего добряка-адъютанта и, вернувшись в роту, где я был дежурным, со страхом ожидал вечернего рапорта, когда мне предстояло идти на квартиру директора и в его кабинете докладывать ему о всех дневных происшествиях в роте. Надо упомянуть, что у нас в Корпусе был давно установившийся обычай: дежурные и дневальные из экстернов обязаны были угощать свой класс после обеда сладкими пирожками. Была особая излюбленная нами кондитерская на Невском проспекте против Аничкова дворца «Радо», которая и поставляла эти пирожки. Специальность этой кондитерской были конусообразные пирожки из бисквитного теста с пюре из каштанов, залитых ромовой глазурью. Этот обычай был настолько известен, что служитель, приставленный к экстернам, когда они по службе ночевали в Корпусе, сам являлся перед обедом за деньгами и спрашивал только, сколько и каких сортов пирожков ему принести, причем давал собственные советы и указания по составу оставшихся в Корпусе пажей, зная вкусы каждого. Так было и на этот раз. Вечером, когда я явился к директору в его частный кабинет с вечерним рапортом, он, вероятно, чувствуя себя виноватым за столь необычайную вспышку, не сказал мне ни полслова о вчерашнем инциденте, а только спросил, сколько сладких пирожков я купил, и на мой ответ (а было куплено много, потому что я сам был большой любитель и потребитель их) заметил, что пора было бы бросить этот обычай, что пажи и так должны быть сыты казенным столом, за которым он лично наблюдает. Счастлив я был, что все так благополучно кончилось! Но все неприятности, пережитые мною от непрошеной протекции Дитерихса, оставили во мне осадок, и я даже не был у него после производства в офицеры с прощальным визитом. Виню себя в этом и очень сожалею, что судил о нем только по последствиям, а не по тому искреннему желанию добра, которое он мне всегда показывал.
Экзамены кончились благополучно, и только огорчил я моего милого Аргамакова, ответив не так блестяще, как он этого хотел и ожидал, почему вместо обычных 12 получил 10.
Дали нам краткий отпуск до начала съемки, и я поехал в Сергиевское повидать Мама́ и Варю, которые были там в одиночестве. Сестра моя никогда
186
не любила деревни, но в этот раз ей был особенно тоскливо: любимая ее подруга Ольга Николаевна Делянова, с которой она в прежние годы виделась особенно часто, то у нее в Железниках, то у нас в Сергиевском, теперь была уже замужем за Абрамом и отсутствовала. Сестра чувствовала свое одиночество и тяготилась им. Любимой темой ее разговоров со мной во время наших прогулок были воспоминания или о зимах в Петербурге, или же о прежних веселых летах здесь, в обществе Ольги Николаевны Деляновой, причем она меня поддразнивала, что увы! она уже замужем и меня совсем забыла. Рассказывала она то, чего я в Сергиевском не был свидетелем, уезжая оттуда раньше их, а именно, как они устроили церковное пение и пели у нас в храме обедню, о которой потом много говорили. Их было четверо: сестра — сопрано, Ольга Николаевна — контральто, Нечаев, сын барщевского священника, студент Московского университета, проводивший лето у отца, — тенор и наш сосед по имению, кратковременный владелец Тимофеевки Матчинский, артист Московской Императорской оперы, — бас. Действительно, силы были хорошие и исполнение художественное. Способствовал ансамблю и диакон наш Дмитрий Ратмиров, очень музыкальный и обладавший бархатным баритоном. Любила сестра вспоминать свои совместные выступления с Ольгой Деляновой в Калуге, то в концерте, то в домашних спектаклях. На одном концерте в Дворянском собрании Екатерина Абрамовна Акинфьева, тетушка Ольги Николаевны, о которой я уже раньше упоминал, захотела им сделать сюрприз и, так как не могла сама ехать на концерт, поручила выездному лакею по окончании концерта передать им обеим, то есть сестре моей и Ольге Деляновой, лавровые венки. Лакей это забыл, и венки так и остались в карете и чуть ли не были выброшены, когда юные концертантки сели в карету и наткнулись в ней на какой-то никому не принадлежавший и, казалось, ненужный сверток. Когда на следующий день старушка Екатерина Абрамовна, удивленная, что никто ее не благодарит, спросила, понравились ли им венки, недоумение выяснилось, и как же было совестно им вспомнить, как они чуть не выбросили сверток из кареты и как пользовались им в виде скамеечки под ноги.
Вспоминала сестра и спектакль в Железниках, в котором она участвовала. Кавалерами были преимущественно офицеры Киевского полка, квартировавшего в то время в Калуге: Горбатовский, Погорелов, Станиславов, Рудницкий и многие другие. Последний носил редкое имя Эдмунд, а по батюшке — прозаическое Иванович. Он отчаянно ухаживал за сестрой, которая с ним без удержу кокетничала; кончилось тем, что он сделал сестре моей предложение и получил отказ. Очень я осуждал сестру за эту любовь к кокетству и часто ей выговаривал, но она была неисправима. Вся эта калужская военная молодежь и в Сергиевском бывала, но гораздо реже, потому что расстояние было большее от Калуги: Железники были чуть ли не пригородом Калуги, и туда приезжать было то же почти, что сделать визит своим знакомым в городе. Вот почему сестра и скучала в Сергиевском, одиночество ее тяготило: ни интересов, ни вкусов деревенских у нее не было, и скучала она не имея с кем музицировать. Я ей был плохой партнер в этом, любя и понимая музыку не меньше ее, но не имея ни голоса, ни умения играть на фортепьяно. Да к тому же я скоро и покинул их. Перед моим отъездом в Сергиевское приехали тетя Ольга Норова, двоюродная сестра моей
187
матери (см. главу II) с младшим сыном Митей, по прозвищу в семье «Зюзю». Ее приезд был очень кстати: она была и веселая, и остроумная, и очень ласковая, так что всем было с ней приятно, и сестре моей легче было переносить вынужденное одиночество. По настойчивой просьбе тети Ольги я обещал по воскресеньям ездить в отпуск к ее мужу дяде Мите, с которым жили его старшие сыновья Петя и Коля — первый был моим большим приятелем.
По возвращении моем в Петербург наш класс выехал в Петергоф на съемку. Будущим кавалеристам предстояло каждому отдельно сделать глазомерную съемку: мне досталась какая-то дорога, ведущая в Бабьи горы. Разместились мы в двух кавалерских домиках. Ожидали мы много удовольствия от этого пребывания в Петергофе, но на следующий день пришло известие о кончине государыни императрицы Марии Александровны, и по телеграфу было вытребовано несколько камер-пажей для дежурства при ее теле. Отправили нас четверых, из коих Нейдгардт, Булыгин и я — как бывшие ее личные и запасные камер-пажи. Меня для этого долго разыскивали, так как я уже далеко было проехал верхом, начав съемку с дальнего конца. Поздно вечером мы уже были в Петербурге во дворце, куда уже без нас заранее служители привезли наши придворные мундиры. Вместо Аргамакова, оставшегося в Петергофе руководителем съемки, приехал дежурный офицер Бауер. Бауер был совершенно неопытный в придворной службе, почему ни во что не вмешивался, а мы, как опытные, знающие свое дело, сами распределились на пары: я с Нейдгардтом, Булыгин, кажется, с Ванновским, сыном Петра Семеновича, военного министра в царствование Александра III, и вступили мы на дежурство, сменяясь каждые два часа и кроме того отдыхая в часы семейных панихид и утренней уборки комнат. Дежурство оказалось столь утомительным, что скоро нам прислали на подмогу еще четырех камер-пажей, а с перенесением гроба во дворцовую церковь вернулись все камер-пажи, поселились в Корпусе, откуда уже ездили во дворец на дежурства и на церковные службы.
В день перенесения праха в Петропавловский собор меня назначили состоять при великой княгине Ольге Федоровне. Это была моя последняя придворная служба и надолго она мне осталась памятной. Великая княгиня Ольга Федоровна имела репутацию очень требовательной, служба при ней была неприятная, почему мне, личному камер-пажу покойной императрицы, показалось очень обидным вместо дежурства при гробе получить такое назначение, но я столько раз уже скандалил, что на этот раз промолчал.
Встретил я ее высочество на подъезде дворца, представился и, проводив до двери церкви, где едва могли поместиться высочайшие особы, остался дожидаться окончания церковной службы в одной из зал запасной половины. Во время церковной службы пришел в эту залу сын ее высочества великий князь Николай Михайлович и, узнав, что я камер-паж его матери, передал мне ее поручение: взять у камер-лакея, который должен был вперед ехать в собор, ее мантилию, так как день очень свежий, и она боится простудиться. Пошел я его разыскивать по всем подъездам — знал я этот громадный дворец в несколько сот комнат как свой собственный дом, и нигде его не найдя, пошел на Посольский подъезд у главного караула, где должно было проходить шествие, чтобы
188
доложить ее высочеству, что ее камер-лакей уже уехал в крепость; но в вестибюль этого подъезда попасть не мог, внутренние боковые двери были уже заперты — похоронная процессия начала дефилировать. Бегом пустился я кратчайшим путем на Иорданский подъезд, выходящий на Неву, где против дворца нас ожидал паровой катер для перевозки всех камер-пажей в крепость для встречи высочайших особ на паперти собора. Меня только и ждали, остальные товарищи уже собрались, и Аргамаков кипятился, ворчал, что меня, как всегда, нет и что я, наверное, опять без спроса уехал домой кого-нибудь хоронить и что благодаря мне все опоздают. Отчалили и поплыли, но ветер был свежий, волнение на Неве порядочное, и наш катер с трудом выгребал, так что подвигались медленно. По дороге я рассказал Аргамакову, в какую неприятную историю я попал и как моя великая княгиня, вероятно, сердита, оставшись по моей вине в такой ветер без мантилии. Аргамаков мне не позавидовал и предупредил, что, наверное, меня ожидает неприятное объяснение. Действительно, мы опоздали и очутились на паперти собора, когда двери храма закрылись за процессией. С тяжелым чувством ждал я свою великую княгиню по окончании службы и, когда государь уехал, я со страхом вглядывался в глубину собора: когда появится моя великая княгиня? Наконец, увидел я ее маленькую, совершенно не великокняжескую фигуру, [и] остался ждать ее на паперти. Когда она вышла, я подошел к ней и готовился доложить о происшедшем недоразумении, как вдруг она вскрикнула: «Миша!» и с распростертыми объятиями бросилась вперед. Так как это и мое имя, можно себе представить, как я опешил. Но недоразумение сейчас же выяснилось: за мной стоял великий князь Михаил Николаевич, только что прибывший с Кавказа, и великая княгиня так радостно и просто приветствовала своего мужа, которого искренно любила. Сели они вдвоем в экипаж, я своего носа не показал, и инцидент был исчерпан. Впоследствии только я о нем рассказал великому князю Николаю Михайловичу, часто посещавшему нашу артель и как-то вечером пришедшему ко мне с товарищами помузицировать и послушать игру на двух фортепьянах в восемь рук, что иногда я у себя устраивал. Он много смеялся и грозил передать это своей матери, чтобы она меня вызвала и разбранила. В день погребения я с Нейдгардтом стоял на дежурстве при гробе и больше никогда придворной службы не нес.
Перед выступлением в лагерь переехали мы с отцом на новую квартиру. Проводив меня в Красное Село, отец уехал в Сергиевское, оставив на Семене заботы о дальнейшем устройстве и отделке моего будущего помещения.
Квартира наша имела ту особенность, что в ней не было передней и заменяла ее общая большая швейцарская, служившая как для нас, так и для хозяина дома Мейна, занимавшего весь второй и последний этажи. Из швейцарской входили прямо в широкий и красивый коридор со скамейками и картинами по стенам. Коридор разделялся большой аркой со штофной занавеской; до арки были две двери: направо — ко мне, а налево — в большую залу с лепным потолком, из коей налево был маленький будуар сестры, а направо — гостиная и затем кабинет отца. За аркой было темное помещение, всегда освещенное китайским фонарем и очень уютно обставленное тахтами. Там моя мать любила принимать интимных знакомых. За этим уголком шла большая столовая и из
189
нее длинный коридор во внутренние комнаты, которые размещались в двух этажах: внизу — кухня, людские и комната Платона Евграфовича, а в верхнем этаже кроме ванной и буфета — комнаты Нюнички и Вари, и последняя — очень большая спальня моих родителей в глубине коридора. Мой апартамент состоял из большого кабинета с камином, спальни, отделенной от кабинета аркой, и просторной уборной с большой ванной. Я так подробно остановился на описании квартиры, желая подчеркнуть ее дешевизну в сравнении с последними годами до революции. За эту квартиру, при которой были две конюшни, два экипажных сарая и отдельные кучерская и прачечная, мы платили 3000 рублей в год с отоплением.
Для меня куплены были моим отцом новый кабинет черного дуба с громадным письменным столом [и] большой персидский ковер. Небольсины на новоселье подарили мне для кабинета покойную качалку перед камином. Вся эта обстановка впоследствии всюду за мной переезжала, куда меня ни бросала судьба, и оставалась она без изменений до самого моего последнего и окончательного выезда из Сергиевского. На моем письменном столе, столь мне дорогом как спутник большей части моей жизни, я и начал писать эти записки.
Не было границ заботливости и баловству моего отца, все им было так до тонкости с любовью обдумано, что в день производства, когда я из Красного Села приехал в Петербург, меня на Балтийском вокзале ждал собственный экипаж с красавцем-кучером цыганом Михайлой и дома — Семен со всей готовой обмундировкой и даже новым изящным чемоданом с полным туалетным набором для путешествия. Для меня, ни в чем не принимавшего участия, кроме как в примерке разных мундиров и военного снаряжения (каска, фуражка, кирасы, ботфорты, шарф, лядунки и т. п.), все сделалось, казалось, как бы по щучьему велению, но об этом времени самого производства будет речь еще впереди, а теперь вернусь к отъезду в лагерь.
Камер-пажи, выходящие в кавалерию, на лагерь прикомандировывались к Николаевскому училищу, и это было настолько трудное время, настолько отношения между юнкерами и пажами были невозможные и неприятные со стороны первых*, что такая прикомандировка больше не повторялась; в следующем году пажи-кавалеристы отбывали лагерь при офицерской кавалерийской школе. Кто-то из наших офицеров отвез нас в лагерь Николаевского Кавалерийского училища и представил нас всех новому начальству. Начальником училища был генерал Бильдерлинг, имевший очень мало значения в лагере. Он появлялся во время учения на энглизированной лошади с обвязанным хвостом, здоровался с эскадроном, но ни во что не вмешивался.
Душой дела во всех отношениях был командир эскадрона, бравый смелый ездок и душа-человек полковник Клюге-фон-Клюгенау; этот умел и выбранить и похвалить, он весь ушел в строевое учение своего эскадрона, где он раньше и воспитывался, чувствовалась в нем такая любовь и преданность к кавалерийскому
190
делу, что никто не был в претензии на его крики, а напротив, все его любили. Моим отделенным офицером был ротмистр Трегубов, тоже хороший кавалерист. Понятно, в сравнении с юнкерами мы были плохие кавалеристы, ну и доставалось же нам на одиночной сменной езде! Отношения с юнкерами были настолько обострены, что нам в бараках были отведены отдельные комнаты для спанья, и с юнкерами мы имели мало общения; только во время учения, обеда и ужина и при дежурстве по эскадрону. На обязанности дежурного было будить утром эскадрон и обходить для этого все спальни, и какие только не приходилось нам тогда переживать издевательства! В дежурного летели неизвестно откуда сапоги, раздавалась по его адресу самая грубая брань, а виновного никогда нельзя было найти. На мое счастье, вахмистр училища Львовский тоже выходил в кавалергарды. У него в полку не было знакомых, и потому ко мне, знавшему многих будущих товарищей, он очень льнул и старался быть мне полезным. Его однокашник барон Гюне-фон-Гойнинген тоже выходил в кавалергарды, и с их помощью мне жилось легче.
Особенно имела для меня значение протекция Львовского. Положение вахмистра в училище совсем не похоже на положение нашего фельдфебеля в Корпусе. У нас это старший товарищ, грозный лишь для младших, а уж никак не для своих товарищей по классу. В Николаевском кавалерийском училище вахмистр действительно начальство; его все, не исключая и товарищей по классу, боятся и беспрекословно слушаются. Редко с кем он на «ты», окруженный каким-то ореолом грозного начальства. Львовский своей высокой фигурой очень подходил под тип такого начальника; лицо его было если не красивое, то, во всяком случае, с очень правильными чертами, он никогда не улыбался, так что общее выражение было холодное, требовательное. Ко мне, повторяю, он относился, не в пример другим, очень любезно, предупредительно. Не раз нас можно было видеть вдвоем, сидящих у маркитанта за чаем и беседующих о будущем офицерстве. Присутствовавшие юнкера стушевывались и удалялись, чтобы не попасть под какое-нибудь замечание своего строгого вахмистра. Львовский распространил свою любезность до того, что в тот единственный раз, когда мне пришлось дежурить по эскадрону, он встал одновременно со мной и будто невзначай пришел в спальню, когда я по обязанности должен был будить эту враждебно настроенную против нас толпу, в числе которой, надо признаться, встречались и личности недостаточно хорошо воспитанные; понятно, что в его присутствии все сошло благополучно, и все встали даже раньше обыкновенного.
Мое значение в его глазах скоро поднялось еще больше, когда общество офицеров Кавалергардского полка через меня передало одному из юнкеров, Х..., что оно не желает его принять. Сделано это было через меня, потому что ни у Львовского, ни у Гюне не было, как я сказал выше, знакомых офицеров в полку; мои же фонды там были очень высоки, особенно после моего противодействия бойкоту, проектированному моим классом, слух о чем, как и обо всем происходившем в выпускных классах, дошел до кавалергардов. Мне было очень щекотливо передавать такое поручение, и сделал я это через Львовского, который посоветовал этому юноше поступить в Конногвардейский полк, что он и сделал. Жаль мне было, что X... не вышел в кавалергарды; он был очень милый малый, скромный
191
как девушка, всеми любимый и крайне воспитанный. Причина нежелания его принять в полк была, если не ошибаюсь, лишь то, что он не был русским дворянином, а сыном богатого иностранного негоцианта, принявшего русское подданство.
По воскресеньям я ездил в Петербург к дяде Мите Норову, где он и его сыновья всегда меня встречали очень радушно. Боясь потерять свой портсигар и часы, так как в нашем помещении в бараках Николаевского Кавалерийского училища уже было несколько случаев пропаж, я оставил их Дмитрию Петровичу, но потом никак не мог получить их от него обратно; всегда был у него какой-нибудь предлог: то он ключ стола потерял, то он забыл, куда их спрятал, то еще что-нибудь, пока я, наконец, однажды не нашел на столе его кабинета, где я спал, квитанцию ломбарда на заложенные им мои портсигар и часы. Я до того переконфузился, что не мог лично с ним переговорить, а уже вернувшись в лагерь, написал ему, что я видел эти квитанции, почему прошу его сообщить, где и за сколько заложены мои вещи, которыми я особенно дорожу как подарком сестры, и что я сейчас же пришлю ему нужную сумму для выкупа заклада. Родителям же своим я написал все подробно и сообщил, что к Норову я больше в отпуск не поеду и чтобы они объяснили как-нибудь тете Ольге происшедшую перемену, скрыв от нее настоящую причину: очень уж жалка она была. Вся жизнь с ним, часто уличаемым и обвиняемым в неблаговидных поступках, чему наша семья до этого не верила, была тяжелый крест. Получил в ответ на мое письмо Норову мои вещи с пояснительным письмом, что это сплошное недоразумение — никаких вещей он не закладывал и хотел лишь сюрпризом поставить на портсигаре вензеля своих сыновей, что он, наконец, исполнил. Я на это ему и не ответил: виденная мною квитанция была неоспоримый факт. К тому же я не только никогда не выражал желания иметь вензеля Пети и Коли, но и считал это совершенно неподходящим: они были значительно меня моложе и уже совсем мне не товарищи. Все же мне жаль их было, до того они ко мне льнули. На следующий год судьба, как увидим дальше, вновь столкнула меня с ним при очень грустных обстоятельствах.
Кончился лагерь большими маневрами, на время которых я был откомандирован ординарцем к генералу Вилламову, командовавшему на этих маневрах целым отрядом, в состав которого входили, кроме образцового пехотного батальона Николаевского кавалерийского училища, еще и другие части, какие — не помню. Я был очень доволен такому назначению, благодаря которому я вместо ненавистной среды училища очутился в распоряжении хорошо воспитанного начальника, знавшего меня еще по предыдущему лагерю. Маневры прошли быстро; был я со своим генералом во время дневки, 8-го августа и на традиционном высочайшем смотру Преображенского полка по случаю его полкового праздника, после чего поехал со всеми товарищами-пажами в Петербург, где мы снялись общей группой нашего класса в разнообразных формах Корпуса.
На обратном пути я заехал с товарищами в наш собственный пажеский лагерь, главным образом, чтобы повидать Булыгина. Предстоявшая разлука с ним отравляла мне радость производства. Повидал я на прощание и пажей младшего класса, которые все относились ко мне очень хорошо: правда, что за все годы
192
моего камер-пажества я ни одного из них не только не наказал, но, кажется, и выговора ни разу не дал. Впрочем, вспоминаю один случай во время моего дежурства: дневальным был князь Гагарин, его класс шумел порядочно, так что я сам должен был прийти водворить порядок и сделал замечания дневальному. Этого Гагарина, действительно, как-то обижали, он был великовозрастный, годами старше своих одноклассников, говорил по-русски с иностранным акцентом, прозвище его в классе было «Каштанка». Семья его не жила в Петербурге, он ходил в отпуск к светлейшему князю Меньшикову, тогда генерал-инспектору всей пехоты. Впоследствии племянник его женился на младшей сестре моей жены. Мой beau frère не хотел верить, что его дядя, тогда уже почти пожилой человек в генеральском чине, когда-то был моим подчиненным. Славный малый в этом классе был Радецкий, сын героя Турецкой кампании. Особенно ко мне привязался, а в полку потом был со мной очень дружен Саша Шереметев, граф Александр Дмитриевич, младший брат графа Сергея Дмитриевича Шереметева, но от другой матери; мать Сергея Дмитриевича была урожденная тоже Шереметева, но в той линии, которая графского титула не носила, мать же Александра была Мельникова.
Красавец был Георгий Карцев с выразительными глазами, прямым, как бы точеным носом и замечательным цветом лица. Одно его портило — это его сложение: какое-то квадратное. Он вышел тоже в кавалергарды, но служил недолго, вышел в отставку и женился на Панаевой. Панаева была известна своим голосом, она часто выступала в концертах и всех с ума сводила тонкой фразировкой исполняемых ею романсов. Только благодаря ее художественному исполнению такие незначительные музыкальные вещи, как романсы «Осень — осыпается весь наш бедный сад; листья пожелтелые по ветру летят» или «Vorrei morire», стали общеизвестными. Потом, уже в зрелых годах, я встретил Карцева, состоявшего на службе Департамента уделов, где под его редакторством издано был художественное описание Беловежской Пущи. Очень любил я некоего Максмонтана, мне он казался таким же несчастным, как тот бедный одинокий мальчик, которого я при первом моем приезде к Игнатовичу встретил у учителя Андриевского (см. главу III). Он был финляндец, плохо говорил по-русски, не имел в Петербурге ни родных, ни знакомых и все праздники проводил в Корпусе. Был он очень высокого роста, стройный и тонкий как тростник, с очень красивыми женоподобными чертами лица. Такая его фигура вполне гармонировала с его мягким характером. Ко мне очень льнули, как будущие кавалергарды, еще огненно-рыжий Раух, фон Кауфман и граф Менгден, впоследствии гофмаршал Двора великого князя Сергея Александровича, а затем и командир Кавалергардского полка. Очень было приятно после всей атмосферы Николаевского кавалерийского училища очутиться хоть на несколько часов среди своих пажей.
8-го августа, в последний день маневров, генеральный бой, все завершавший, происходил близ Ропши. Не могу передать красоту картины отбоя. На этот раз эта минута была для меня и знаменательная: за отбоем следовало и производство нас в офицеры. Мой генерал, а следовательно и я при нем, были как раз вблизи местонахождения государя. Когда штаб-трубач его величества заиграл «Слушай!», все поблизости стало умолкать, и тогда ясно раздался сигнал того
193
же штаб-трубача «Отбой», немедленно подхваченный каждым штаб-трубачом отдельного начальника и сигналистами частей. Недавние противники стояли вольно друг против друга. На меня очень подействовала и запечатлелась в памяти резкость перехода от кипучего боя, хотя и фиктивного, но не менее шумного, чем настоящий, к полной тишине.
Мой генерал поблагодарил меня за службу и, пожелав счастливого производства, отпустил, приказав явиться в эскадрон, находившийся неподалеку. Только что я вступил в ряды эскадрона, как вдали показался государь, ехавший со своей свитой шагом. Наш лихой командир Клюки-фон-Клюгенау скомандовал: «Смирно, шашки вон, пики в руку!» и «Господа офицеры» и, взяв свою шашку подвысь, поскакал навстречу его величеству. Не доезжая несколько шагов, лошадь его споткнулась и свалилась; он, перекувыркнувшись с ней вместе, уже пеший подошел к государю с рапортом, приложившись левой рукой к козырьку, так как правая висела как плеть — ключица была сломана. Государь заботливо отнесся к нему: тут же его кто-то из свиты государя повез в экипаже домой, куда немедленно прибыл по повелению государя его лейб-хирург. Государь, поздоровавшись с нами, сказал, как он опечален, что этот день омрачился таким несчастным случаем, и приказал выпускным ехать в Ропшинский дворец. Эскадрон повел домой ротмистр Трегубов, а мы, выпускные, поскакали ко дворцу, где побросали лошадей вестовым училища, нарочно для сего присланным. Прежней дисциплины — как не бывало. Построились мы во внутреннем дворе Ропшинского дворца в каре уже по училищам, и Пажеский корпус стоял как старший на правом фланге к проходу государя из дворца. Вышел государь Александр II в сопровождении наследника (будущего императора Александра III) и большой свиты, вошел в середину каре и своим громким, очаровывающим всех голосом с красивым грассированием сказал нам: «Поздравляю вас офицерами! Как ваши отцы служили мне верой и правдой, так и вы служите мне, а после меня — моему сыну!» и указал на наследника. Мы загремели такое «ура», какое могли только издать наши молодые восторженные голоса. Потом государь дал знак умолкнуть и, когда все затихло, обратившись непосредственно к Кавалерийскому училищу, сказал: «Жалко, что этот счастливый для вас день испорчен несчастным случаем с вашим эскадронным командиром, но могу вас порадовать: ваш бравый полковник, как мне доложил мой доктор, скоро поправится»; и еще сказав всем нам: «Желаю вам всякого счастья и успеха», государь удалился во дворец опять под наше громовое «ура».
Умел этот великий государь сочетать царственность с таким иногда сердечным вниманием, что благодарное, умиленное чувство оставалось как светлое воспоминание на всю жизнь. Мы были последнее производство этого царствования, и потому его завещание служить верою и правдою его сыну было как-то знаменательно для нас впоследствии. На балконе дворца (мне это потом рассказывали, я же смотрел только на государя) стояла княгиня Юрьевская, уже жена государя, окруженная дамами, и это было как бы пробным доказательством состоявшегося уже супружества государя.
Адъютанты училищ между тем вручили каждому из вновь произведенных офицеров высочайший приказ, где моя фамилия как выпущенного из Пажеского
194
корпуса в кавалергарды стояла первой. Поскакали мы кто в училище, кто прямо на вокзал. Я, не имея никакого желания видеть еще раз эти ненавистные мне бараки Николаевского Кавалерийского училища, поехал, кажется, с Васей Булыгиным, на вокзал. Поезд был битком набит вновь произведенными офицерами, которые для отличия надели лишь офицерские фуражки. В Петербурге на Балтийском вокзале меня уже ждал Михайло-кучер с моим новым экипажем, запряженным вороным рысаком Бархатным, подаренным мне дядей Митей Жемчужниковым, и помчались мы с Булыгиным ко мне. Я его затащил к себе, его семья отсутствовала, и он эти несколько дней до отъезда в отпуск и жил у меня. Встретил меня Семен, расцеловались мы с ним, облекся я в офицерский китель и поехал посылать телеграмму родителям о своем производстве. Весело было, когда солдаты козыряли, а один кавалергард и во фронт стал*. Но зато, когда я встретил кавалергардского офицера, удивленно посмотревшего на мое незнакомое лицо, весь пыл мой прошел, и я перестал ощущать удовольствие, конфузясь каждой белой фуражки.
На следующий день мы должны были все явиться в Корпус кончать с ним свои расчеты. Дело в том, что каждый паж при выпуске получал из сумм его величества 500 рублей. Этими суммами начальство Пажеского корпуса и заставляло каждого из нас пополнять убытки от потери или порчи нами казенного имущества. Ходила легенда, что одному пажу вычли 100 рублей за потерянную им казенную кровать. Довольно трудно предположить, что он взял кровать в карман и по дороге ее обронил. Наиболее правдоподобно, что Кабан и служители цейхгауза сваливали на нас свои собственные грешки. Мы же, понятно, ничего не проверяли, ни о чем не спорили и с радостью подписывали требуемые от нас счета и бумаги и еще щедро одаривали своих служителей, и в том числе и самого Кабана. Мне досталось много денег, благодаря тому что пробыл в корпусе всего два года, и то экстерном, все же и от меня вычли около ста рублей за какие-то испорченные учебники.
Простились мы с начальством уже как равноправные офицеры, пожали руки и Эндену, и отделенным офицерам, и с Аргамаковым дружески расцеловались и поехали домой, чтобы на следующий день явиться в полной парадной форме в Зимний дворец для представления государю. Представить должен был каждый выпуск свой директор, называя его величеству фамилию вновь испеченного офицера. После этого представления принято было делать прощальные визиты своему директору, и я тогда, как писал выше, от этого уклонился, что мне неприятно вспомнить даже теперь, уже стариком. До представления государю еще накануне мы все, кавалеристы — и бывшие пажи, и бывшие юнкера — не сговорившись, а по какому-то влечению единодушному, навестили больного полковника Клюки-фон-Клюгенау, чтобы выразить ему наше соболезнование и сочувствие. Он был очень тронут такой любезностью, особенно со стороны нас, бывших пажей, которых он за весь лагерь допекал ежедневно. Но мы умели ценить настоящую преданность военному
195
делу и его беспристрастность, понимая, что, если нам и доставалось больше, чем юнкерам, то вполне заслуженно, потому что мы были значительно слабее их по верховой езде.
На следующий день все вновь произведенные офицеры в полной парадной форме явились во дворец, где в ожидании выхода государя мы в одной из зал выстроились по училищам, и в каждом училище по старшинству полков, так что мне как кавалергарду, бывшему пажу, пришлось стать на самом правом фланге у самой двери, из которой должен был выйти его величество. До выхода государя обходил наши ряды великий князь Николай Николаевич-старший, родной брат Александра II, только что назначенный генерал-инспектором всей кавалерии. Когда ему генерал Дитерихс назвал мою фамилию, его высочество спросил меня, не родственник ли я бывшему офицеру конногвардии*, на что я ответил, что нет, что отец мой лейб-гусар. Великий князь тотчас вспомнил моего отца, велел ему от него поклониться и напомнить, как мой отец был мал ростом в Николаевском Кавалерийском училище, где в то время и он, великий князь Николай Николаевич, и его младший брат Михаил Николаевич тоже обучались как прикомандированные и каждый день приезжали туда на время лекций и строевых учений. Мой отец был очень тронут этой памятью, когда я при свидании передал ему свой разговор с великим князем.
Государь вошел в зал так неожиданно, что генерал Дитерихс и генерал Исаков не успели подойти ко мне, и я сам назвал свою фамилию. Его величество вспомнил, что я был камер-пажом почившей государыни императрицы Марии Александровны. Со мной государь больше не говорил, но с другими товарищами, которых его величество знал отца или семью, говорил довольно долго, так что представление затянулось. Нас начальство предупреждало не забывать, что мы уже офицеры, а потому встретить государя глубоким поклоном, а не кричать: «Здравия желаем»; все же чуть не произошло этой неловкости, но, опомнившись лишь когда его величество вплотную подошел ко мне, я отвесил глубокий поклон, а то по привычке ждал его возгласа: «Здорово, пажи!». Этим представлением кончалась наша связь с Корпусом; отныне мы — полковые офицеры, предоставленные самим себе, и нам надлежало уже самим представляться своему полковому командиру и новым товарищам. Но новая офицерская служба началась лишь в сентябре, по возвращении из отпуска, так что до этой минуты — начала действительной службы — мы были офицерами больше по мундиру, чем по существу.
Поехал я прежде всего в лагерь, в Красное Село, представиться командиру полка графу Игнатьеву. Он вновь заключил меня в свои объятия, представил своей жене, графине Софье Сергеевне (урожденная княжна Мещерская), и велел зайти в канцелярию полка получить уже заготовленный мне по обычаю отпускной билет на 28 дней, который мне вручат в обмен на мой рапорт о явке в полк.
196
Сделав все по указанию, получил я билет в канцелярии, где мне еще вручили список с адресами всех офицеров, которых мне надлежало объездить в парадной форме еще до отъезда в отпуск. Не уезжая из Красного Села, я проехал по Павловской слободе, где чуть ли не из дома в дом жили кавалергарды-офицеры во время лагеря. Насколько помню, ни одного из моих будущих товарищей не застал, почему ограничился лишь тем, что у каждого расписался. Последующие дни посвятил в городе этому занятию; затянулся этот объезд на несколько дней: большинство офицеров жило в одиночестве или потому, что были холостыми, или же их семьи на лето отсутствовали, и приходилось терять много времени, добиваясь в пустой квартире какого-нибудь денщика, чтобы расписаться. В памяти моей у меня не осталось ни одного из впечатлений первого знакомства, настолько потом все эти товарищи были мне близки и дороги, что мне кажется, не было времени, когда они были мне чужие. Помню только, что все это время страшно конфузился офицерской белой фуражки*, боясь встретить кавалергарда, и зато радостно видел вдали белую бескозырку, после чего иногда имел удовольствие «отмахать» нижнего чина кавалергарда, ставшего мне во фронт.
Забыл сказать, что в день представления государю императору наш пажеский выпуск надел каждый традиционный железный перстень с золотой подкладкой: на железе было вырезано «один из 27» (сколько нас было в классе при выпуске), а с внутренней стороны было выгравировано «8-е августа 1880 г.» (день производства) и фамилия каждого. Заказом этим заведовал Котя Оболенский и он же еще во дворце роздал нам эти кольца.
На деньги, полученные мной из Корпуса, я первым делом купил себе собаку, подыскав таковую по газетным объявлениям. Купил я датского дога мышиного цвета, с обрезанным хвостом и ушами, громадного роста, так что он свободно садился на кресло по-человечески, кладя на него лишь задние ноги и передними оставаясь на полу: это была его любимая поза у моего письменного стола, когда я писал письма, а он подремывал. Звали его Тосик, что и послужило моему прозвищу в полку, где меня товарищи впоследствии так и звали. Отдал я Тосика Семену, чтобы он его приручал к дому, потому что когда его прежний хозяин ушел, оставив его у меня, эта громадная зверина не только затосковала, не ела, но и никого к себе близко не подпускала, рыча и скаля зубы при виде каждого из нас.
Наконец, окончив все свои мытарства и объехав всех офицеров, я уехал в отпуск, гордый своей офицерской формой, беззаботный, веселый, готовый обнять в своем счастье весь мир. Но, увы, ехал я не прямо в Сергиевское, а сначала в Зарайск к дедушке и бабушке Волконским, которые потребовали, чтобы я к ним по дороге заехал. А в те времена к требованиям старых родственников относились не так, как теперь; их желание было как бы законом, почему мои родители, жаждавшие меня скорее увидеть, в ответной поздравительной телеграмме все-таки велели мне сначала заехать в Зарайск.
197
Потом уже мне рассказывали, что мою телеграмму о производстве привез ямщик со станции, когда мои родители с сестрой и Нюничкой гуляли в саду. Так как содержание телеграммы, понятно, было известно на станции (события нашей жизни интересовали всегда всю округу), Афанасий, получивший ее, знал, что она от меня, и побежал, бездыханный, в сад, махая этой депешей и крича во весь голос: «Телеграмма от корнета Осоргина!» Папа́, Мама́, Варя и Нюничка, прочтя телеграмму, и целовались, и обнимались, и с Афанасием целовались, и у всех от счастья глаза были на мокром месте, как выражался дедушка.
Все служащие, вся усадьба, все люди в доме и многие крестьяне в этот же вечер приходили поздравлять моих родителей с таким радостным событием, каждого в конторе угощали, и никто не уходил в этот день из нашей усадьбы как-нибудь не обласканный. Телеграмма моя читалась и перечитывалась. Понятно, был отслужен торжественный благодарственный молебен. Вот как моя семья относилась к моему производству и все-таки потребовала, чтобы я раньше заехал к дедушке и бабушке, настолько была сильна дисциплина семейная и выдержка.
Итак, я приехал в Зарайск, поезд приходил вечером, встретил меня какой-то экипаж дедушкин в духе уже раньше мною описанного, то есть оборванный, лошадь худая, нечищеная и кучер в пародии на кафтан. Повез он меня к дому дедушки, находившемуся на главной улице. Издали можно было отличить этот дом, так как по случаю моего приезда он был освещен «a giorno», и свет из окон освещал и всю улицу. На балконе дома кто-то стоял и, когда я подъезжал, крикнул в дом: «Приехал!». Когда же экипаж мой завернул на двор и подкатил к подъезду, дверь была уже открыта, и меня принял в свои объятия дедушка, сошедший по этому случаю вниз. Все ему целовали руку, что и я исполнил; повел он меня наверх к бабушке, сидевшей, как всегда, на традиционном кресле в гостиной.
Дом был двухэтажный, каменный: наверху были залы, гостиная, спальня дедушки, кабинет и буфет, а внизу комнаты для гостей и людские. При моей встрече народа было много, дедушка созвал всех своих знакомых, «la ville et les faubourgs», как он говорил, относя к последнему приходское духовенство и некоего Ярцева, жившего через улицу в своем доме и причисленного дедушкой к именитому купечеству. Действительно, Ярцев в доме дедушки не появлялся иначе как с громадной серебряной медалью на шее, полученной им за какое-то пожертвование на приют. Были тут и прежние знакомые, старушки Ладыженские и Басова, и еще один новый тип, который посещал дедушку ежедневно вечером: это был зарайский нотариус (фамилии его не помню). Он когда-то был облагодетельствован дедушкой, выведен им в люди и отплачивал ему тем, что ежедневно вечером являлся, скромно садился в зале у дверей гостиной, пил там чай из блюдечка и слушал рассказы дедушки в гостиной, прибавляя ко всякому его слову: «Совершенно верно-с». Однажды дедушка рассказывал что-то про себя смешное и кончил свой рассказ словами: «И какой же я был дурак», как вдруг нотариус, не расслышав или не поняв смысла последних слов, изрек свое обычное: «Совершенно верно-с». Он, бедный, чуть
198
не поплатился за такую рассеянность, и только вмешательство бабушки спасло его от полного изгнания из дома.
В день моего приезда была еще новая, незнакомая мне парочка: землемер с женой, молоденькой и очень миловидной. И этого землемера дедушка поставил на ноги, купив ему нужные для его работы инструменты, почему и они стали завсегдатаями, посещая и ухаживая больше за бабушкой. Молодая женщина была довольно бойка и держалась почтительно, сообразно своему возрасту; не проявляла в своем обращении ни малейшего подобострастия, что резко выделяло ее от остальных посетителей дедушки.
Я был героем вечера: дедушка заставлял меня несколько раз повторять все инциденты моей придворной службы и каждое слово, сказанное мне государем, хотя он, всецело принадлежа эпохе Александра I, считал его племянника Александра II лишь слабым олицетворением царской власти вообще.
Когда я все рассказал и тысячу раз повторил под общее ахание всех присутствовавших, когда мы все поужинали какими-то новыми, сочиненными в мою честь блюдами, названными дедушкой «кавалергардскими», мне было объявлено, что завтра дедушка повезет меня в полной парадной форме делать всем визиты. На мое возражение, что колета, орла и палаша у меня с собой нет, что я захватил лишь вицмундир и каску, как обязательную форму для явки воинскому начальнику, дедушка на меня рассердился и надулся. Бабушка всячески старалась смягчить его, ласкала меня и, наконец, в сердцах, заявила: «Alexis, пойми же, что он не мог взять для тебя целый сундук, и так он своих родителей, Машеньку (мою мать) еще не видал, а к нам приехал; ты же на него ворчишь, я просто уйду к себе!». Последний аргумент имел, как всегда, решающее влияние и, проговорив: «Ну, ну, Мария, сиди, высиживай яйца!», дедушка рассмеялся, и все пошло опять по-хорошему. Поздно уже отвели меня к себе, где ко мне приставлен был дедушкин бессменный камердинер Рязанов. Этот Рязанов был плут сверхъестественный, но ловко умел подладиться под трудный характер своего барина. Его специальность была набивать, чистить и раскуривать трубку с длиннейшим чубуком, которую дедушка предпочитал всем другим. Нужно было особое умение, чтобы курить такую трубку, держа ее в правой руке между трех пальцев. Эти трубки были так длинны (в запасе для гостей был целый ассортимент), что когда курящий сидел, трубка опиралась на пол, и надо было зажигать ее, стоя на коленях и прикладывая горящую бумагу, которую Рязанов свертывал особым манером; янтарный мундштук был очень объемист, почему очень трудно было обхватить его ртом — я лично, как ни старался, никак не мог этому научиться.
Утром, чуть свет, дедушка меня разбудил. Вставал он часов в пять, зимой топил сам печи и немилосердно напускал везде угар, а летом и в теплое время перебудит всех тем, что ходил по комнатам узнать, кто проснулся и, застав обитателя комнаты спящим и разбуженным его приходом, немедленно уходил, приговаривая: «Спи, спи, я думал, ты уже проснулся». Понятно, после такого пробуждения не до спанья было, а дедушка, успокоившись, выходил на улицу, где в туфлях на босу ногу, в накинутом сверх рубашки неизменном беличьем халате и без шапки, садился с трубкой на скамеечке у ворот дома. Он в то время видел
199
уже довольно плохо; у него назревал катаракт и вследствие этого, не имея возможности разглядеть проходившего или проезжавшего, каждого опрашивал: «Кто идет? или [кто] едет?» Иногда же он заводил громкий разговор с Ярцевым, отпиравшим на другой стороне улицы свой лабаз.
Моего деда настолько все знали, что каждый ему кланялся — проезжий ли на базар крестьянин или проходивший по тротуару пешеход — и объяснял ему: «Я такой-то, Ваше сиятельство». Крестьянин же, едущий, должен был объяснить, из какой он деревни и что он везет, и по какой цене собирается продавать. Часто дедушка тут же и покупал что-нибудь и посылал Рязанова к «княгине Марии Дмитриевне» за деньгами. Бабушка не давала, отговариваясь, что совсем этого покупать не нужно, дедушка настаивал, и таким образом Рязанов несколько раз должен был перебегать от одного к другому, пока дедушка не поставит по-своему.
Эти сцены в это утро я наблюдал из своей комнаты в открытое окошко, через которое слышно было все, что дедушка, сидевший под ним, говорил. Надо сознаться, что только что пережив последние дни маневров, близость государя и, наконец, самое производство в обстановке всего величия Царского Двора, контраст для меня был резкий, но и эта жизнь доживавших свой век стариков, принадлежавших к другой эпохе, не была лишена для меня прелести. А теперь, когда я вспоминаю их простоту, их доброту и полное в них отсутствие чего-либо показного, я с еще большим умилением думаю об этих стариках и с уважением отношусь к их памяти; в них рядом, может быть, с некоторым самодурством, укладывалось столько любви к людям, настоящей, деятельной любви, что от них всем было тепло.
День в Зарайске, и в особенности день дедушки, начинался рано, почему чуть ли не в десять часов утра мы поехали с визитами. Вытащили из сарая какую-то допотопную карету с большими серебряными гербами Волконских, выгнали из нее наседку, сидевшую на яйцах, карета была внутри наполовину ободрана и немилосердно бренчала и визжала, лошади были разнокалиберные: одна высокая длинная, другая маленькая, короткая, и к довершению картины по всему городу сопровождал нас жеребенок, сосун одной из них, пользовавшийся каждой остановкой, чтобы пососать мать. Сели мы с дедом в карету. Рязанов, в чем-то наподобие ливреи, влез на козлы, и старый-престарый кучер Сидор, белый как лунь, покатил нас с грохотом и лязгом по улицам Зарайска. Дедушка не видел, а я наблюдал, как все встречные, завидя нашу карету, снимали шапки и кланялись ему, я же за него прикладывался к козырьку, отдавая поклоны.
Как я ни объяснял дедушке, что я обязан по службе явиться воинскому начальнику в его Управление и не имею права делать ему визит на дому, дедушка ничего и слушать не хотел, а повторял, что это честь воинскому начальнику, что старик с внуком делает ему визит. Воинский начальник, как всегда в те времена, был заслуженный, раненный старый полковник, я же — только что испеченный корнет, но переспорить деда нельзя было; по его настоянию первый визит наш был к этому полковнику. Я все-таки за спиной деда по форме ему явился, извинившись, что по требованию деда, сопровождая его, приехал к нему прямо на квартиру вместо того, чтобы явиться в Управление. К счастью, воинский начальник
200
был вполне воспитанный человек, бывший гвардеец, и не только не сделал мне выговора, но, напротив, был отменно любезен.
Остальных визитов не помню, кроме посещения землемера и его жены. Они, завидев в окно наш экипаж, спешно стали открывать ворота, сняли подворотню, чтобы карета подкатила бы к самому крыльцу и дедушке не пришлось бы хотя несколько шагов пройти пешком, а он на них громко ворчал и все выговаривал: «Нет у вас, молодежи, понятия: вы бы выслали сказать, что вас дома нет, я бы и не трудился вылезать из экипажа, а мне все это трудно. Эх, вы, непонятливые, хотел вам честь сделать, а теперь эта честь меня утомляет!» А бойкая землемерша возражала: «Ничего, Ваше сиятельство, я вам зато и кофейку приготовила, и всякие закуски вас ждут». Дедушка же продолжал ворчать: «На что мне ваш кофе? Я и дома мог бы напиться». Но все-таки под конец дедушка, обдуманный ими со всех сторон, смягчился и, так как это был последний визит, посидел у них довольно долго и отдохнул.
Вернувшись домой и прочтя дедушке для его послеобеденного сна «Историю 1812-го года» Богдановича, я остался сидеть с бабушкой, которая в это время всегда любила рассказывать что-нибудь про старину. Прерван был наш tête a tête приездом с ответным визитом ко мне воинского начальника, облекшегося для сего в мундир при всех орденах. Понятно, что я, не привыкший еще к своему офицерскому положению, очень сконфузился. На счастье, сидели мы у бабушки, которая и занимала милейшего полковника. При просыплении дедушки первое, что он спросил: отдал ли мне визит воинский начальник? И когда узнал, что да, и даже в мундире, был вполне доволен и удовлетворен.
Уехал я в тот же день вечером, обласканный моими дорогими стариками и напутствуемый их благословением. Бабушка вручила мне при прощании бисерный кошелек (она их мастерски вязала), а дедушка вложил в одну из его половин золото, а в другую серебро, что составило, насколько помню, солидную сумму. А они, бедные, всегда нуждались в деньгах. Помню, что дедушка часто говорил, что недостаток денег его никогда не заботит: стоит лишь пойти за угол, в любую лавку, и там ему, князю Волконскому, всегда дадут взаймы. Впоследствии увидим, к чему привела его эта теория.
В Ферзикове меня никто не встретил. Мама́ так боялась лошадей, что поездка на вокзал за 8 верст была для нее мучением, без нее же никто не хотел ехать, не желая лишать ее счастья первой встречи. Но зато на крыше дома у шпица был поставлен человек с биноклем, и лишь только мой экипаж выехал из леса перед спуском в Комолу, как мои родители уже приготовились к встрече. Помню, что стараниями садовников и сюрпризом даже для моих родителей, весь подъезд был разукрашен гирляндами. Радость встречи и гордость моих родителей видеть своего сына офицером были большие. День прошел в постоянных рассказах, прерываемых лишь для того, чтобы выйти поздороваться с кем-нибудь, пришедшим меня приветствовать. День закончился традиционным фейерверком, заранее заготовленным Платоном Евграфовичем с помпезными названиями: «Букет — приветствие молодому офицеру», «Салют кавалергарду» и т. п.; в действительности больше было дыма, чем огня, и многие ракеты и римские свечи оказались
201
«проклятые прошлогодние» и лишь шипели. Один шарик римской свечи чуть не угодил в глаз нашему пиротехнику, на счастье, обжег ему лишь веко. Одна же ракета, пущенная очень близко, вместо того чтобы подняться наверх, полетела на публику, попала в ствол елки, которую и сожгла, отчего в начале главной аллеи получился просвет, до конца не засаженный. Переполох был порядочный, но все утешались, что для меня это хорошее предзнаменование — тревога без всяких дурных последствий.
Очень жалка была тетя Ольга Норова. Она так ко мне приставала, что заставила объяснить причину моего охлаждения к ее мужу, доведенного мною до того, что я перестал у них бывать. Когда она узнала о его проделках с моими вещами, она безутешно плакала. Тут в первый раз у нее вырвался ропот на судьбу, и она откровенно созналась, как всеми силами оберегает своего младшего сына Митю от пагубного влияния отца, почему я предложил до ее возвращения в Петербург взять Митю к себе на квартиру и наблюдать за ним. Это ее немного успокоило, и была она всем нам безгранично благодарна.
Отпуск мой пролетел как один миг. Помню, с каким удовольствием посещал я в своей офицерской форме соседей. Был я у Полторацких, покойный отец их был когда-то кавалергардом, как я писал выше в главе II. Посетил я Морица Дмитриевича Дестрема в Ферзикове, он тоже был кавалергардом и жил с матерью в деревне, где поправлял пошатнувшееся состояние. Брат его Дмитрий был лейб-улан и продолжал служить в Петербурге. Вдвоем с сестрой ездили мы к близким соседям Раевским. С этими Раевскими нас потом жизнь как-то сблизила. Александр Дмитриевич был когда-то женихом графини Головиной, сестры того Головина, который себя так позорно вел на концерте, где выступал с моей матерью (см. главу II), затем эта свадьба неожиданно расстроилась, и Александр Дмитриевич часто приезжал к матери, которая всячески его утешала. Он был тогда еще студентом; окончив университет, поступил на службу в Петербург в канцелярию Ведомства императрицы Марии. Часто бывал у нас, где моя мать часто его бранила и ласкала, до того он минутами был жалок в своем одиночестве. Посещая семью одного из своих сослуживцев или старых товарищей, он встретился со своей будущей женой Екатериной Григорьевной. Она получила образование в Смольном институте и, хотя и не принадлежала к так называемому обществу, обратила на себя его внимание и, говорят, даже первая в него влюбилась. Он это заметил и, считая себя виновным в смущении покоя молодой девушки, сделал предложение, предварительно посоветовавшись с моими родителями. Выбор его оказался удачен, и были они оба счастливы до конца своей жизни. Свадьба их была как раз зимою в этот год, и я даже, если не ошибаюсь, был у него шафером в своем камер-пажеском мундире. Свадьба была, как помнится, в домовой церкви графа Сергея Дмитриевича Шереметева, посажеными были у него его дядя Андрей Семенович Раевский, владелец соседнего с Сергиевским имения Покровского, и сестра его княгиня Максутова, а у нее — ее родители, простые, но очень почтенные старики. Отец ее был придворный служитель, состоявший в штате ближайших слуг государыни императрицы.
В мою бытность в Сергиевском они приехали к Андрею Семеновичу, который был бездетный и считал своего племянника своим единственным наследником.
202
Понятно, они были и у моих родителей. Жена Андрея Семеновича Любовь Васильевна, урожденная княжна Горчакова, была женщина очень недальняя и с какими-то странностями. Моя мать безумно боялась большой Комольской горы, разделяющей наши имения, не водила с ней знакомства, почему извиняясь и на сей раз перед молодыми Раевскими, вместо себя послала нас с сестрой отдавать им визит.
На этот раз я, главное, был горд, что как большой делаю с сестрой визиты, горд был своими офицерскими погонами. Какое это было счастливое, беззаботное время! В нем не было ясности детства, но зато было веселье самостоятельности. Уехал я из Сергиевского с Митей Норовым без сожаления. Новая полковая офицерская жизнь меня манила, и к ней я теперь и перейду.
203
Глава V
КАВАЛЕРГАРДСКИЙ ПОЛК (1880—1886)
<…>*
Вернулся я <…> уже после полкового праздника, представился командиру полка и был зачислен в 3-й эскадрон, коим командовал ротмистр Мусман, замечательно видный офицер, очень большого роста, совершенно седой, несмотря на свой молодой возраст, и с черными как смоль усами. Товарищи приняли меня очень радушно, видимо, моя настойчивость в Корпусе выйти в кавалергарды была зачтена мне полком в заслугу. Первое время я очень конфузился и первое свое дежурство, во время которого весь день проводил в артели, я ждал с некоторым страхом; но очень скоро после моего приезда общество офицеров устроило «мальчишник» штаб-ротмистру Ковалькову по случаю свадьбы его с девицей Барановой. На этом мальчишнике почти все офицеры захотели выпить со мной брудершафт; от такой чести не отказываются, и пришлось мне выпить около 50 бокалов или рюмок разнообразного вина. Я никогда не был любитель вина, а с тех пор стал просто его ненавидеть, потому что последствием такого знакомства с товарищами было то, что кто-то утром меня доставил домой и сдал на руки Семену, в то время когда Митя Норов уходил в Пажеский корпус; Семен, уложив меня спать, оставил Тосика меня караулить, и с тех пор эта собака признала меня своим хозяином и, когда я был дома, ни на шаг меня <…> с полковой средой облегчило отношения с товарищами, а я сам стал часто бывать в артели, избегая домашнего одиночества, кроме как вечером, когда я был нужен Зюзю Норову. Очень быстро я подружился со многими товарищами, полюбил же положительно всех; только впоследствии двое или трое стали мне настолько антипатичными, что я старался от них уклониться; ближайшим моим другом в полку стал Саша Адлерберг (граф Александр Васильевич умер петербургским губернатором во время уже войны); отец его, граф Василий Владимирович, был слепой и жил в доме брата своего, министра Императорского Двора, графа Александра Владимировича; там же жил и отец их, дед моего товарища, граф Владимир Федорович, женатый на графине Барановой. Саша был очень добрый, хороший малый, совсем другой тип, чем Вася Булыгин; в свою семью он
204
меня и ввел; апартамент у него был отдельный в доме министра Двора, и я часто у него бывал. Мне казалось, что у них в семье, действительно, происходит трагедия, которую я когда-то предполагал, совершенно напрасно, в семье Булыгиных; очень он от этого страдал и даже, когда мы были с ним более дружны, не скрыл своей муки, когда у него родился еще брат или сестра; но [кроме как] со мной, как я думаю, ни с кем другим он никогда по этому поводу не говорил. Сблизился я с Михаилом Челищевым и впоследствии стали с ним очень <…> Тимашев и Гернгросс и меня приняли в свою компанию; Гернгросс, впоследствии начальник Генерального штаба, был очень положительный и уравновешенный человек; в полку его не особенно любили, но зато все безусловно уважали; <…> скончался за границей, он мне отрицал, чтобы какой-нибудь рапорт им <…> которая в такую минуту опятнила <…> помочь я ему не мог, но сама судьба <…>; Тимашев, единственный сын Александра Егоровича Тимашева, бывшего министра внутренних дел, к которому, как я писал выше, Полторацкие ходили в отпуск, был года на три старше меня и как-то исключительно ко мне привязался. Он только что пережил, до моего поступления в полк, большую неприятность, и меня, свежего человека, не напоминавшего ему пережитый укол самолюбия, несомненно, было приятно видеть; выпущенные одновременно со мной Львовский и Гюне, без самомнения могу сказать, вначале как-то совершенно не подходили к общей среде полковой, а потому в этот выпуск я был наиболее выпуклый новый товарищ, и только благодаря этому Саня Тимашев на первых порах меня к себе и приблизил, а впоследствии это сближение перешло в прочную дружбу. За год перед этим он потерял своего старшего брата, умершего от рака, развившегося после неудачного падения с лошади; когда полковой адъютант Пашков получил 4-й эскадрон, граф Игнатьев, по просьбе отца Сани, выбрал его в полковые адъютанты; должность эта требовала помимо служебной <…> умеющего <…> с товарищами и быть буфером между ними и командиром; выбор Тимашева был особенно удачный, потому что он соответствовал всем этим требованиям; но это назначение вызвало много завистников, а главное, в лице Сергея Сумарокова, сам[ого] мечтавшего об этом месте. К сожалению, Тимашев был в чине корнета, а потому мог быть назначен лишь исправляющим должность адъютанта, не нося даже адъютантских эполетов; положение тянулось около года; на всех воскресных разводах он со всеми адъютантами петербургских гвардейских полков являлся государю, как вдруг на одном разводе его величество обратился к графу Игнатьеву с вопросом: «Когда же ты назначишь себе адъютанта?»; Игнатьев так растерялся, что ничего не сказал в защиту Тимашева. Все потом утверждали, что это была интрига Сережи Сумарокова, который через свою бабушку графиню Тизенгаузен навел государя на эту мысль в надежде, что он, Сумароков, как поручик получит это назначение. Игнатьев попал между двух огней и, видя возмущение всех офицеров, избрал себе адъютантом еще третьего — Дмитрия Яковлевича Дашкова (по полковому прозвищу «Митушок»), совершенно скромного, не светского офицера и никак уж не претендовавшего на такое видное назначение. Общество офицеров реагировало на это бойкотом Сергея Сумарокова, теплым ужином <…> Сане Тимашеву; все полковые адъютанты гвардейских петербургских полков демонстративно дали ему обед, и вышел громадный
205
светский скандал. Государь, недовольный всем этим шумом, выказал свое явное неудовольствие нашему полку; воспользовался для этого его величество празднованием своего 25-летнего юбилея зачисления его в ряды кавалергардов; на высочайшем смотру полка по этому поводу летом в лагере он был крайне хмурый и пожаловал в свиту лишь одного Пашкова; командир 1-го эскадрона и адъютант Дашков, коим были приготовлены от полка в подарок вензеля, остались ни при чем и почему-то все как-то холодно стали относиться к Тимашеву, как бы виновнику неудовольствия государя. Сережа Сумароков скоро умер, кажется, в октябре. Умер он от скарлатины. Я, знавший его семью еще со времени смерти его младшего брата Гавриила, моего товарища по Корпусу, посещал его мать во время его болезни. Мы все дежурили при его гробе, и с его смертью инцидент с Тимашевым скоро забылся. Сестра Сумарокова, Елизавета Феликсовна, была замужем за кавалергардом Лазаревым Петром Михайловичем, командиром 2-го эскадрона. Лазарев был заика, очень смешной, но принимавший к сердцу все дела своего эскадрона; на место Сережи Сумарокова он просил перевести меня во 2-й эскадрон. В это время Мусман сдал эскадрон Михаилу Константиновичу Языкову по прозвищу полковому «Капай». Тот, как новый эскадронный командир, сейчас же согласился, и я перешел во второй эскадрон.
Дальнейшему сближению с товарищами способствовали эскадронные праздники; каждый эскадрон праздновал того святого, икона которого стояла в эскадроне: 2-й эскадрон праздновал 23 ноября Александра Невского, 4-й — 26 ноября Георгия Великомученика, 3-й — 8 ноября Архангела Михаила, а 1-й и 5-й (запасный) — не помню когда. В день такого праздника после молебна в помещении эскадрона эскадронный командир давал завтрак офицерам своего эскадрона и начальствующим лицам, а вечером все офицеры эскадрона давали в артели ужин всем товарищам по полку. Артель нашего полка была совершенно особое учреждение, имевшее свой собственный устав, послуживший прототипом учрежденных впоследствии в гвардейских полках офицерских клубов, но у нас название «артель» так и сохранилось. Помещение было довольно большое, внизу около швейцарской было помещение дежурного офицера, тут же всегда торчали парикмахер и разносчик Матвей, появлявшийся на всех учениях, смотрах, маневрах; как только командовалось «вольно» и «слезай», с коробом <…> питания; часто в швейцарской можно было видеть фотографа Диго; носил он форму, кажется, Управления государственных имуществ, но примазался он, собственно, к нашему полку, где ежедневно что-нибудь снимал, увековечивая всякое полковое событие; однажды случился пожар во время моего дежурства, горела обстановка в квартире Дубенского над квартирой полкового командира, и на следующий день Диго предложил мне купить две большие фотографии (они у меня висят в Сергиевском): приезд пожарных и отъезд их. Сама артель помещалась во втором этаже: в первой комнате — проходной — один вестовой писал все счета, и тут же на стене вывешивался в начале каждого месяца список долгов каждого из нас за предыдущий месяц; затем шла большая столовая, из которой направо — читальня и парадная гостиная для приема почетных гостей, а налево из столовой — большая карточная комната с каминами и мягкой мебелью и большая бильярдная с двумя бильярдами; из столовой же был выход в большой буфет
206
с комнатой для вольноопределяющихся и громадная, монументальная кухня. Собрание офицеров выбирало одного заведующего офицера, который и был помощником старшего полковника, считавшегося по должности хозяином артели; уборкой, имуществом и сервировкой заведовал метрдотель — негр Мишель <…> было несколько вестовых, числившихся денщиками офицеров, которые в таковых не нуждались, так, например, числившийся за мной денщик служил в артели, звали его Симонсом; был он самый главный и заменил вскорости метрдотеля; ходили они в ливрейных фраках цвета полка, а Мишель — в черном с белым жилете. Кухня была в ведении повара-японца (Дмитрия Иванова), сам он только надзирал, а человек десять-пятнадцать поваров готовили под его руководством; жалования он и его помощники никакого не получали; аккорд был с ним следующий: завтрак из двух блюд с обильной закуской и разнообразной водкой стоил 75 коп., обед из четырех блюд с такой же закуской — 1 руб. 55 коп., ужин, такой же, как завтрак, — 1 руб. 25 коп., причем артель гарантировала повару и платила ему ежедневно за 30 ужинов, хотя бы таковым был один дежурный офицер; если же ужинало случайно более 30, платилось по числу ужинавших; эти ужины, а равно и все то, что заказывалось отдельно по порциям, или же какие-нибудь торжества, как-то праздники, мальчишники, а также заказы со стороны, и составляли доход повара, благодаря которому он мог так дешево брать за обед и завтрак; правда, что завтраков он отпускал до 60 в день. На взнос в 250 руб. каждого поступившего офицера полагались или серебряный прибор, или же какой-нибудь другой серебряный предмет сервировки с выгравированными именем, отчеством и фамилией и днем выпуска этого лица. Стоимость ужинов, то есть 37 руб. 50 коп. в день распределялась по полумесяцам по числу наличных офицеров, что в осенние месяцы, когда многие в отпуску, выходило довольно дорого, а мне, никогда не ужинавшему и не пившему водки, очень обидно, но зато дешевизна завтраков и обедов все искупала; трудно поверить, что закуска, входившая в эту цену, состояла не менее как из десяти сортов, часто менявшихся, причем зернистая икра была не редкость.
Вот в этой артели и происходили ужины в дни эскадронных праздников; офицеры эскадрона принимали как хозяева; президировал командир полка как почетный гость, а иногда еще и высшее начальство, если оно служило в эскадроне, коего был праздник, как, например, граф Александр Иванович Мусин-Пушкин, начальник дивизии, бывший кавалергард; каждому из нас, праздновавшему свой праздник, такой ужин стоил 200 рублей, остальное приплачивал эскадронный командир. Ужин был с оркестром музыки, трубачами и <…> Традиционно кончались эти ужины двумя маршами: персидским и Черноморским из «Руслана и Людмилы»; во время первого носили по комнатам корнета де-Каррьера, которому прозвище было «Царь персидский», хотя в его облике, его фигуре ничего персидского не было, разве только необычайно черный цвет волос; героем второго марша был поручик Панчулидзев, имевший прозвище «Черномор»; для этого соединялись оркестр с трубачами вместе под общим дирижерством капельмейстера Гюбнера. Этот капельмейстер был замечательный музыкант, и наш бедный оркестр доведен был им до совершенства; в нем участвовали, кроме солдат-музыкантов, дети из нашей полковой школы «солдатских
207
детей», которая содержалась на средства офицеров, и наиболее способные мальчики опять на те же средства помещались в консерваторию. Гюбнер имел только слабость к вину, за что попадал под арест. Трубачи были у нас слабые, старший из них, Никульцев, произведенный в мою бытность в полку в чиновники после чуть ли не пятидесятилетней службы нижним чином, был очень почтенная личность, но без всякого темперамента, а потому и дирижерство его не отличалось огнем. Я, хотя никогда не любил песенников, но все же считал наших полковых совершенно выдающимися: запевала, старший унтер-офицер сверхсрочной службы Каюда, был мастер и любитель своего дела, и в этом солдате были, действительно, огонь и темперамент, и, бывало, не наглядишься на него, когда он каким-нибудь незаметным броском рук и взгляда в один миг переводил свой хор с заунывной песни на залихватскую плясовую; но, повторяю, я солдатские песни никогда не любил и не люблю. Вечер часто прерывался возгласами кого-нибудь из начальствующих лиц: «Кто виноват?», и тогда трубачи хором отвечали: «Паулина»; раздавался удар в большой барабан [и] литавры, и сразу играли марш «Паулина» без всякого дирижерства: веселья было много, и редко расходились раньше 3-х — 4-х часов утра. Передо мной так и встают облики старых товарищей, тогда еще или юных, или молодых. Выше всех грузная, доминирующая всю толпу фигура Миши Родзянко, последнего председателя Государственной Думы; говорил он всегда хриплым баском и немного нагнувшись, чтобы видеть лицо собеседника, а не его маковку. Затем его шалый брат Павлик, отбивший у своего товарища Хитрово жену Марию Павловну, урожденную княжну Голицыну, после чего оба должны были выйти из полка, и через несколько лет Родзянко вернулся в полк, уже женившись на Марии Павловне, сорил деньгами направо и налево, безбожно кутил, но весел был бесконечно.
Как сейчас вижу одинокого Николаева, весь день проводившего аккуратно на службе, а ночью проигрывавшего в карты в яхт-клубе, где подружился со всеми великими князьями и кончил свою жизнь старым холостяком генерал-адъютантом, оплакиваемым всей царской семьей, коей он был настоящим другом. В противовес ему вспоминается всегда корректный Митушок Дашков, адъютант полка, про него говорили: «Светит, да не греет», что относилось к его совершенно лысой голове, но могло фигурально отнестись и к его характеру; сидит он за столом артели, поглаживает свои выхоленные усы и скрипучим голосом что-то резонерствует. Потом он состоял при великом князе Михаиле Александровиче и, говорят, очень ему надоел своими нотациями. Брат Митушка Андрей был совершенная противоположность — довольно неряшлив по внешности, душа-человек, всегда веселый, всем готовый услужить, только держался одного принципа: никогда никому не давать взаймы, хотя бы заплатить за извозчика; над ним смеялись за это, но никогда не сердились, он же возражал своим произношением в нос: «Это мой принцип». Старшим полковником после князя Барятинского был полковник Сатин, необычайной толщины, с тремя дрожащими друг под другом подбородками; он мог садиться на лошадь только с тумбы, и его пребывание на военной службе казалось совершенно необъяснимым. Потом по старшинству шли два брата Дубенских; старший, Николай Николаевич, был лошадник, вечно продавал или покупал лошадей и скоро ушел
208
в ремонтеры; младший, Александр Николаевич, так и умер холостяком, всю жизнь оригинальничал, считая все недостаточно хорошим для себя; его квартира походила на будуар молодой женщины, по городу ездил не иначе как парой, а за городом — четверней, считая езду одинокой и тройкой недворянской. Пашков, о котором я раньше говорил, был добрый веселый малый, но страшный педант по службе; именины его были 8 ноября, в день эскадронного праздника третьего эскадрона, коего эскадронный командир Языков был тоже именинник, и вот, по настоянию Пашкова, несмотря на все мои отговорки, что мой святой празднуется 21-го мая, было признано, что я именинник тоже 8-го ноября, и за компанию с ними меня и праздновали и чествовали в этот день. Довольно бесцветную роль в полку играл Безобразов, столь нашумевший впоследствии статс-секретарь государя и один из виновников Японской войны; я был тогда уже гродненским губернатором и, встречаясь с бывшими товарищами, удивлялся прыти и значению Безобразова. Крайне скромный до женитьбы на княжне Юсуповой Феликс Сумароков старался, по-видимому, загладить дурное впечатление от поступка брата его Сергея. Триумвират в полку составляли мой будущий зять Жилинский, Федоров и Киреев, причем Киреев был не только другом Жилинского, но и обожателем его; Федорова помню уже в роли казначея полка; этот только и думал, как бы кому-нибудь услужить; при переходе полка в лагерь или еще куда-нибудь Феденька (полковое прозвище Федорова) ехал вперед квартирьером и каждого из нас обдумывал с любовью и лаской; от него мы, молодые офицеры, бегали в дни получения жалования, потому что мы получали столь мало, что должны были ежемесячно приплачивать к своему жалованию на всякие обязательства, как-то содержание бального оркестра, школы солдатских детей, полковые подарки и тому подобное, и кончалось тем, что по докладу Федорова печаталось в приказе: «Командир полка приказывает таким-то корнетам явиться к полковому казначею для получения жалования за такие-то месяцы», и идешь, бывало, раскошеливаться, бранишь тут же Федорова, а он так добродушно посмеивается, что никогда на него не рассердишься. Толстых у нас было два, друг другу не родня; мягкий, безалаберный, всегда занятой какой-нибудь женской интригой Михаил, которого почему-то звали в полку Павел; он вечно был в долгу, как в шелку, занял у великого князя Николая Михайловича что-то около миллиона, отбил жену у Языкова и исчез с горизонта; другой Толстой — Спирка — настолько был беден, что не думал выходить в кавалергарды, тем более что перед его выпуском умер у него отец, занимавший пост товарища обер-прокурора Святейшего Синода, но наследница-цесаревна Мария Федоровна, коей, кажется, Спирка был камер-паж, настояла на его выходе в кавалергарды, так как это было желание и его покойного отца, и выдавала ему ежегодно три тысячи рублей; он был крайне скромный, отличный служака, но кончил неудачно, уже служа в Департаменте уделов и будучи замешанным вместе с бывшим кавалергардом Еремеевым в каких-то неблаговидных делах по управлению Мургабским государевым имением. Сошелся я с неким графом Старжинским, он тоже был во 2-м эскадроне, и сблизился я с ним по поводу его горя, когда скончался его отец; он был поляк, но в Петербурге в полку никакой национальной розни не чувствовалось, зато, когда мы с ним встретились вновь в Гродно, я уже был губернатором,
209
и с его стороны никакой искренности не было, и мне казалось, что его кто-то подменил. Всегда очень корректный, но отлично всех передразнивавший, смешил товарищей граф Василий Гендриков, ставший потом гофмейстером императрицы Александры Федоровны; с ним я потом часто встречался в Харькове, где он по выходе из полка был волчанским уездным предводителем дворянства. Когда, как харьковский вице-губернатор, я встречал государя в Борках, я заметил, что его величество на приветствие губернского предводителя дворянства графа Капниста улыбнулся и переглянулся с Базей Гендриковым; оказалось, что по пути в Борки Гендриков за завтраком в царском поезде в лицах представил приветствие Капниста, и столь похоже, что государь, увидя оригинал, улыбнулся. При мне же поступил в полк и другой Гендриков, племянник первого, который получил в полку прозвище Comte de Comohr, оригинально было видеть одновременно в том же корнетском чине дядю и племянника. Кроме Абрама Хвощинского были еще два брата Хвощинских, его далекие родственники; старшего звали Трошю, а младшего — Белый Мишель; они не были моими симпатиями, особенно первый. Также не особенно я любил Казнакова, прогремевшего в 1905 году как временный генерал-губернатор какого-то усмиряемого города; очень уж он резок был, и раз Александру Николаевичу Дубенскому пришлось вмешаться со всем своим авторитетом старшего полковника в наш разговор, который иначе мог бы перейти в серьезную ссору; не помню даже сюжета нашей размолвки, одно осталось в памяти — это задорное дразнение Казнакова и моя необузданная вспыльчивость. Не будь постоянно умиротворяющего и надзирающего влияния старших товарищей, юная молодежь часто творила бы много бед; ведь я вышел в офицеры 19-ти лет. Следующий за мной выпуск был в декабре из юнкеров полка; из тех, которых я застал юнкерами, помню князя Василия Кочубея, оставшегося у нас и офицером, и Свербеева, неудачного потом посла в Берлине, проморгавшего объявление нам войны немцами. Всех товарищей не перечтешь, забыл упомянуть про трех братьев Берновых: Эммануила, Евгения и Бориса, получивших в полку прозвища: «Маничка», «Вотэ» и «Барбарис»; из них второй был потом командиром синих кирасир, когда отбывал там мой сын воинскую повинность, почему о них и упомянул. На первой же офицерской езде, которую ежедневно в 11 часов производил командир полка, я понял, что мне надо еще много практиковаться, почему вошел в соглашение с берейторским офицером нашего полка Фердинандом Федоровичем Кегелером, дабы он давал мне частные уроки, что и продолжалось ежедневно почти всю зиму. Страшный картежник был этот Кегеллер и, если не был в манеже, то уж наверное его можно было застать в артели за карточным столом; многие товарищи были с ним на «ты», я избег этого, считая, что такая интимность в обращении допустима лишь при настоящей товарищеской близости. Сознаюсь, что он, не в пример прочим остальным должностным лицам, не принадлежавшим к офицерской среде, но приглашавшимся на все полковые торжества, как-то полковые врачи, полковое духовенство, ветеринар, командир нестроевой роты и т. д., умел себя держать без фамильярности, но с большим достоинством; выделялся еще полковой священник Желобовский, занявший потом пост военного протопресвитера; он, дабы никого не стеснять, старался
210
удаляться вовремя, пока еще веселье не перешло тех границ, которые могут шокировать духовное лицо.
В ноябре начинают поступать новобранцы и с тех пор, собственно, начинается более интенсивная зимняя служба. У нас в эскадроне заведовать новобранцами был назначен Сергей Салтыков, очень строгий подтянутый офицер, отец которого вывез из Японии мальчиком нашего артельного повара Дмитрия Иванова; Салтыков был англоман, педантичен и требовал от своих подчиненных неуклонного исполнения службы; я был назначен к нему помощником и был очень рад попасть в его школу. Заранее в приказе по полку манеж распределялся по часам, начиная от 7 часов утра до 6 часов вечера между всеми эскадронами, и на мою новобранническую команду 2-го эскадрона выпадал 1 час во дню, а в остальное время занятия шли в самом помещении, распределяясь на занятия грамотой, уставами, фронтом и верховой ездой; мы должны были к марту месяцу представить на смотр начальника дивизии совершенно готовых обученных кавалеристов, которые после приведения к присяге вливались в эскадрон. И, действительно, я целый день, иногда с семи часов, а иногда с девяти до трех обучал свою команду; только от 11-ти до половины первого была офицерская езда в малом манеже и от половины первого до половины второго — завтрак в артели; освобождался я окончательно лишь часам к 5-ти, так как после занятий в команде я брал свой урок верховой езды у Кегеллера. Занятия эти разнообразились или дежурством по полку, или дежурством в каком-нибудь военном госпитале, или внутренним караулом во дворце. Кроме того частые бывали наряды по гарнизону на похороны; в случае смерти важного лица наряжался и весь полк, но большей частью приходилось провожать тело умершего кавалерийского офицера, и тогда ограничивались нарядом одного эскадрона с оркестром трубачей. Чаще всего в декабре и январе приходилось с пешей командой отдавать последний долг умершему в госпитале нашему новобранцу. Несмотря на всю гуманность обращения, несмотря на улучшенное питание, которого мы, офицеры, заведовавшие новобранцами, добивались, приплачивая к казенному пайку для лишнего блюда новобранцам, многие не выдерживали и умирали; в нашем эскадроне из первой партии, я помню, умерло трое. Причиной этого было неправильное распределение людей; каждый воинский начальник посылал по наряду в гвардию особенно рослых. Прибывшие партии в Михайловском манеже распределялись командующим войсками округа по полкам, причем полковые адъютанты предварительно отмечали мелом на спине пригодных им людей, и принимались во внимание лишь внешние признаки: в кавалерию назначались длинноногие; из назначенных в пехоту самые рослые — в Преображенский полк, курносые, по традиции императора Павла, — в Павловский полк, наиболее юркие — в стрелковые полки, а из кавалеристов самые рослые — в Кирасирскую дивизию, причем со светлыми волосами — к нам в полк, а с темными — в конный. Не справлялись ни со вкусами, ни со здоровьем новобранца; иногда еще играло роль его мастерство, и хорошего мастера всякий полковой адъютант старался заполучить к себе; в одном только случае голос новобранца выслушивался — это когда он заявлял, что он просится в такой-то полк, потому что в нем у него есть брат или близкий родственник. Великий князь, командующий округом, всегда исполнял такие просьбы, и так как
211
полковой адъютант не знал всех солдат по фамилиям, часто надували великого князя. В моей команде, между прочим, умер один помор, до того всегда плававший с отцом по Белому морю на шхуне; попади он во флот, из него вышел бы прекрасный матрос, а он лошадей боялся, никогда не видав таковых на берегах Белого моря; после нескольких уроков верховой езды стал чахнуть, отправлен был в госпиталь, где скоро и скончался; мне было назначено провожать его до могилы, и помню, что его бледное лицо мертвеца долго мне чудилось как укор за напрасно погубленную его молодую жизнь.
По госпиталям назначались четыре дежурных офицера, из коих двое назначались в Николаевский госпиталь, [причем] младший из них дежурил в отделении арестованных и при нем состояла команда, охранявшая этих арестованных; мне, как младшему, приходился всегда этот последний пост; и в первый раз, когда я там очутился, мне показывал старший фельдшер камеру, где содержался князь Кропоткин, и демонстрировал на дворе, каким образом он бежал, перескочив через забор; на мое счастье, в мои дежурства не содержались политические, и вообще арестованные принадлежали к категории обыкновенных военных преступников. Но не обходилось и без курьезов. Однажды, когда все утихло и все улеглись, я тоже в своей дежурной комнате прилег, не раздеваясь, на диван, и вдруг, когда я начал задремывать, над моим ухом раздался голос как бы из преисподней: «Что ты молчишь? Мне скучно». Я вскочил, но никого в комнате не было; вышел в коридор, где все было в порядке, и часовой, состоявший при секретной камере, стоял на посту. Повторилось это несколько раз, и не скрою, что мне стало очень жутко, а вместе с этим сознаваться офицеру в чувстве страха было еще стыднее. Все-таки пошел я обхаживать отделение и, обходя таковое с дежурным фельдшером, расспросил его, не наблюдали ли они такое явление, и он тогда мне объяснил, что в секретной камере содержится на испытании нижний чин, симулирующий, по мнению врачей, сумасшествие, и несомненно, это его проделки; действительно, когда мы стали наблюдать за ним в окошко двери, увидали, что он, лежа на полу, говорит что-то в отдушину пола. Хотя объяснение было налицо, но для меня жуткость явления только увеличилась, потому что сумасшедших я боялся еще больше всяких сверхъестественных явлений. В это же дежурство я еще больших страхов натерпелся. Старшим дежурным по Николаевскому госпиталю был Саша Адлерберг, и когда пошел я ему доложить о событиях ночи, застал его в саду, обходящим остальные корпуса; подошли мы с ним к одному корпусу, где на открытом окошке сидел пожилой больной, который с нами заговорил; увидав нашу форму кавалергардскую, рекомендовался он как полковник такого пехотного полка, стоявшего где-то на Кавказе, и спросил наши фамилии. Узнав, что Саша племянник министра Двора, рассказал нам всю свою историю, которая сводилась к тому, что родственники его, желая завладеть состоянием его детей, над которыми он опекун, выдают его за сумасшедшего, и первым делом перевели его из Тифлиса в Петербург, чтобы отдалить его от того места, где друзья его могли бы за него похлопотать. Все это было сказано так правдиво, настолько подробно и убедительно, с упоминанием стольких военных имен, нам известных, что Саша, отзывчивый на все доброе, взялся за записную книжку, чтобы записать за ним все подробности и сообщить таковые
212
своему деду — графу Владимиру Федоровичу, который имел гораздо более влияния на государя, чем сын его — министр Двора, а вместе с тем, как занимавший совершенно независимое положение, не боялся ходатайствовать за обижаемых сильными мира сего. Но пока Саша записывал, наш полковник вдруг соскочил с подоконника и начал строить нам невозможные рожи, плеваться и обдавать нас потоком извозчичьих ругательств; увы, оказывается, не напрасно его там держали, а я обратился в постыдное бегство и, весь дрожа, добежал до своей дежурной комнаты, из коей и носа не показывал до смены.
Помню еще одно дежурство в госпитале гораздо уже позднее, в котором я, оказавши услугу, не по достоинству был награжден. Это было весной перед выступлением в лагерь, когда уже все дежурства и наряды по гарнизону прекращаются. Жил я уже один в пределах полкового расположения и возвращался часов в 6 домой переодеться, чтобы провести где-то с кем-то очень приятно вечер, как вдруг встречаю Митушка Дашкова, который отчаянно мне машет, останавливает извозчика и возбужденно сообщает, что с ним случилась беда: он просмотрел вчера бумагу из Комендантского управления, на основании которой наш полк обязан сегодня нарядить дежурных офицеров в госпитали, что ввиду его оплошности вчерашний наряд до сих пор не сменен, и ему уже был запрос от того полка, когда мы их сменим; в ближайшие госпитали он уже нашел и послал наших офицеров, остался лишь один, самый дальний, где-то на Выборгской стороне, куда мне и следует ехать. Как ни трудно было расставаться с приятными планами на вечер, но, чтобы спасти Митушка, надел я дежурную форму и поехал разыскивать этот злополучный госпиталь, где никогда прежде не бывал. Попал я туда часам к девяти, и пришлось еще выслушать совершенно незаслуженную отповедь от сменяемого мною офицера, который был старше меня в чине. На следующий день Дашков объездил с благодарностью всех нас, выручивших его из беды, и с извинением — всех тех, которые по его недосмотру сменены были не вовремя; товарищеская военная солидарность была в те времена так велика, что этим инцидент и был исчерпан.
Самыми же трудными все-таки были внутренние караулы; и утомительны они были страшно, и ответственность была такая громадная, что я охотно бы менялся за каждый караул на несколько дежурств, но это не было принято, так как охрана особы государя считалась почетной. Был случай (не в нашем полку), что государь, заметив одного и того же офицера часто в карауле, спросил, почему это так, и, узнав от него, что он подвергнут дисциплинарному взысканию на столько-то внеочередных караулов, государь велел передать командиру полка, что он удивляется, что охранять его считается наказанием.
Перед отправлением в караул, как я ни знал гарнизонный устав, я вновь штудировал главу о внутреннем карауле. В 10 часов осматривал я в казармах свой караул, проверял их обмундировку, знание службы, распределение по сменам, затем после такой же поверки, сделанной эскадронным командиром, вел я караул во дворец, где в помещении главного караула люди раздевались, чистились и без пяти 12, когда во двор вступал с музыкой и знаменем главный пехотный караул, я внутренними ходами шел сменять караул от тяжелой кавалерии, занимавший посты около внутреннего помещения государя. Один пост стоял около
213

Михаил Михайлович Осоргин, 1880.
Частное собрание, Париж
внутренней лестницы, через которую шло движение всей царской прислуги, и это было самое ответственное место, ибо часовой, не зная в лицо всех близких слуг государя, мог или одного не пропустить, или же пропустить непричастное к этой службе лицо; два выходных часовых стояли наверху лестницы собственного его величества подъезда. По одному часовому стояли собственно для вызова караула в соседних от помещения караула комнатах; помещение караула было рядом с Арабской залой, и слышны были иногда шаги государя, прогуливавшегося по этой зале. Каждый день государь невзначай открывал дверь и выходил здороваться с караулом, и после рапорта офицера задавал ему несколько вопросов; обыкновенно его величество выходил со старшим сыном княгини Юрьевской, с которым потом обхаживал запасную половину, всю увешанную батальными картинами, которые он и объяснял сыну. За нашим караулом стояли посты от караула легкой кавалерии, а все наружные посты содержались пехотным главным караулом. Ночью вокруг опочивальни и кабинета государя ставились еще посты от собственного конвоя; вызывался караул тихим заунывным выкриком одного из часовых «Вон» и полагалось это для каждого генерала гражданского чина, имевшего орден Андрея Первозванного, для дежурного по караулу всего города, коим назначался полковник от того полка, от которого был главный караул, и для своего эскадронного командира. Так как приезжали к государю ежедневно много генералов, караул строился раз 10 в час, но редко кто заходил
214
в караульную комнату, почему вызовы эти были по большей части напрасны. Все же надо было быть всегда начеку, и обыкновенно треть караула я отсылал отдыхать; офицер же, если уходил, должен был брать с собой трубача, труба вешалась на стену, что означало, что караул превратился в унтер-офицерский. Я предпочитал этого не делать и с моим мнительным характером был прямо мучеником. Форма караульная состояла из длинных гахчир с красными лампасами, белого колета с лядункой, револьвером с шнуром, шарфом и палашом, каски с белым султаном и застегнутыми под подбородком чешуйками, и на руках краги с большими раструбами; обмундировка была столь сложная, что, чтобы поспеть вовремя по вызову, можно было снять одновременно либо каску, либо краги. Отдельного помещения для офицера не полагалось, так как мог он для своего отдыха, как я сказал выше, уходить в главный караул. В самой комнате, где стоял караул, близ двери в Арабский зал стоял стол и близ него кресло для офицера; по стенам же — скамейки для нижних чинов. Офицеру полагался стол от гофмаршальского стола, а за определенную плату 8 рублей камер-лакею он доставлял от царского стола. Не скажу, чтобы эти обеды очень разнились друг от друга, оба отличались обилием кушаний, но всегда разогретых; на день полагалось: бутылка красного и белого вина, меда, пива и квасу; вино я целиком отдавал солдатам. Я лично всегда наслаждался чаями и кофе, которые подавали с большим обилием придворных печений, сладких пирожков и бутербродов; только там я и ел бутерброды со слегка поджаренными устрицами. Прислуживавший камер-лакей доставлял все газеты, но днем мало приходилось читать, потому что вызывался караул. Некоторое успокоение наступало во время дневного выезда государя. До обеда обыкновенно он выходил здороваться с караулом, как я описал выше. В 7 часов он обедал, и к обеду неизменно являлись некоторые его генерал-адъютанты, из коих я каждый раз помню графа Перовского, дядю той самой, которая участвовала в убийстве государя. Вечером, если его величество ехал в театр, вновь наступало некоторое успокоение, а в 12-м часу все окончательно утихало. В 2 часа ночи являлась артель полотеров в несколько десятков людей, и шла совершенно бесшумная уборка всего дворца. В 4 часа зажигались огни в помещении Генерального и Главного штаба, и это было провозвестником скорого наступления дня. В 6 часов приходил часовщик для проверки всех дворцовых часов; с какой радостью, бывало, его увидишь, зная, что жуткая ответственная ночь на исходе, и, бывало, тут только и задремлешь в кресле. Когда же время подходило к 12-ти часам, весь караул уже в сборе, и прислушиваешься к уличным звукам, не слышно ли военной музыки идущего на смену главного караула. Наконец слышишь уже более радостный, а не заунывный вызов: «Во-о-он», и по внутреннему коридору показывается караул, тебя сменяющий. Три дня караул был от нашего полка, три дня — [от] Конного; построится новый караул против твоего караула, выйдут по уставу офицеры друг другу навстречу, передаст старый караульный новому все обязанности по этому караулу; обыкновенно в это же время раздавалась сигнальная 12-тичасовая пушка, и поведешь свой караул в казармы с облегченным сердцем, а сам, вернувшись домой, где Семен уже ждет с готовой ванной, а Тосик радостно приветствует лаем за еще затворенной дверью, завалишься спать до самого обеда.
215
При первом вступлении моем в караул присутствовал Лазарев, и, убедившись, что я устав знаю, мое полковое начальство меня больше не проверяло. Однажды часов в 12 ночи вошел в помещение караула какой-то полковник и, видя, что я караул не вызываю, сделал мне замечание, а на мое возражение, что караул вызывается генералом, указал мне на свою форму, и тут только я заметил, что на нем шарф, доказывающий, что он дежурный по караулам всего города. Я извинился, немедленно вызвал караул и отрапортовал ему. Полковник оказался милейший и, вместо того, чтобы дать мне серьезный нагоняй, уговорил меня сойти отдохнуть в помещение главного караула, где и познакомит меня с караульными офицерами своего полка. Я хотя и обещал прийти, но по врожденной мнительности и конфузливости не сделал этого. Поступил я хорошо, время было тревожное; неожиданно в 2 часа ночи появился великий князь Николай Николаевич Старший, которого мой караул встретил в полной исправности, а я ему отрапортовал по положению. Потом выяснилось, что из всех дворцовых караулов только мой караул и был в исправности, офицеры же главного караула были найдены его высочеством за картами, полураздетыми, и с ними был караульный офицер легкой кавалерии. На следующий день в приказе по гарнизону были наложены взыскания на виновных и, между прочим, на милейшего моего полковника, а исправность кавалергардов была особенно отмечена.
Помню последний свой внутренний караул, когда я утром после дремоты очнулся и увидал на столе объявление от гоффурьера о царственном торжественном молебне и высочайшем выходе по случаю взятия Геок-Тепе, а уже в девять часов явился Спирка <…> сменять меня с <…> караулом. Такая ранняя смена произошла от того, что при высочайших выходах внутренний караул должен был быть в особой форме: в <…> поверх колета и в каске с орлом. Взятие Геок-Тепе, несмотря на то, что я мало имел понятия об этой местности, на этот раз доставило мне огромную радость, и я, сменившись, всласть отдохнул дома. Смена караулов по воскресеньям производилась до церемоний в присутствии государя в Михайловском манеже. Все новые караулы собирались в этом громадном манеже, и там же должны были быть пешком все офицеры Петербургского гарнизона, свободные от службы. Съезжалось все начальство по старшинству и, когда вестовой у дверей кричал: «Командир Гвардейского корпуса изволит ехать», все подтягивались, он входил, со всеми гвардейскими частями здоровался, и ждали нового выкрика: «Его императорское высочество командующий войсками изволит ехать» уже здоровался одним общим возгласом: «Здорово, ребята!», так как все части были ему подчинены. И, наконец, за несколько минут до 12 появлялся государь, садился при входе в манеж верхом и, окруженный свитой, объезжал все части; знамя склонялось, оркестры играли «Боже, царя храни», и сколько бы ни повторялось это, всякий раз величие этой церемонии захватывало дух. На левом фланге государь останавливался, и к нему подходили с рапортом несколько адъютантов, а затем ординарцы и вестовые от каждого полка и от военных училищ: кавалеристы верхом, пехотинцы пешком, и отчеканивали: «К Вашему императорскому величеству ординарцем (или вестовым) от такого-то полка прислан». У офицеров государь спрашивал обычно фамилию и нижним чинам говорил или «молодец», или «спасибо»; затем караулы,
216
идя по своим местам на смену, проходили мимо государя церемониальным маршем, имея на правом фланге начальствующих лиц, а на левом — всех свободных офицеров, выстроившихся в две шеренги, и, проходя мимо государя, прикладывали руку к козырьку.
Подготовка ординарцев была всегда серьезной заботой начальства; назначались лучшие офицеры с лучшими лошадьми, а также особенно тщательно подбирались нижние чины; я никогда не был ни хорошим фронтовиком, ни хорошим ездоком, почему ни в Пажеском корпусе, ни в полку ни разу не был назначен ординарцем. Помню, как командир полка Николай Николаевич Шипов (женатый на дочери вдовы Александра Сергеевича Пушкина Софье Петровне Ланской), желая угодить начальнику дивизии графу Александру Ивановичу Мусину-Пушкину, назначил на ординарцы сына его, который в то время был корнетом, двумя выпусками старше меня из Корпуса; он был двоюродный брат Тимашева; их матери, урожденные Пашковы, были родные сестры рэдстокиста Пашкова, основателя Пашковской сексты; Пушкина звали в полку, как и в семье, Джоном, боялся он отца пуще огня, и для него предварительная репетиция начальника дивизии была гораздо страшнее царского развода. Я на этой репетиции не был, но присутствовавшие на ней рассказывали, что когда Джон подскакал к отцу с палашом подвысь, по уставу осадил лошадь в пяти шагах от отца и, опустив палаш, хотел рапортовать, граф Пушкин в него вгляделся и с обычной несдержанностью завопил на командира полка: «Полковник Шипов, я Вам приказал выбрать лучшего ездока, а Вы, что это за безобразие, прислали мне Джона — вон его!» И тут же он подскочил к сыну и хотел носком сапога ударить под брюхо лошадь, но потерял равновесие и со всего размаха упал навзничь; можно себе вообразить общий конфуз — Джон немедленно ретировался и более никогда на ординарцы не назначался. Он, по примеру отца, был большой кутила, и, наконец, отец заставил его выйти в отставку и поселиться в имении заниматься делами, так как сам Александр Иванович был назначен командующим войсками Одесского военного округа, а старший его сын Александр Александрович был вице-губернатором в Смоленске, и дела имения пришли в полный упадок. На последнем полковом празднике, на котором я был, Джон прислал из этого имения, славившегося винокуренным заводом, поздравительную телеграмму чуть ли не в сто слов, начинавшуюся так: «Среди бочек и чанов, аппаратов и котлов пью за здравие полка, чтоб был славен навсегда...» Бедный Джон! Пил он «между чаном и котлом» так, что чуть было не спился совсем, и спасло его лишь то, что он влюбился в свою двоюродную сестру Марию Александровну Тимашеву, сестру Сани, женился на ней и слегка остепенился; последняя война застала его, если не ошибаюсь, нашим генеральным консулом в Берлине.
Николай Николаевич Шипов, о котором я только что упомянул, получил наш полк месяца через четыре после моего поступления; сам он был кавалергард, попал в какую-то очень быструю линию производства и через восемь лет службы был уже полковником; из полка отсутствовал всего года два, прокомандовав эти два года каким-то кавалерийским полком в Рязани; жена его Софья Петровна, урожденная Ланская, была дочерью вдовы Александра Сергеевича
217
Пушкина от ее второго брака; в полку [Шипова] во время его службы товарищи любили, он был довольно светский, не отличался большим знанием службы, но зато хороший ездок и страстный любитель скачек, признававший, что каждый кавалерийский офицер должен был быть прежде всего спортсменом. Сдача полка Игнатьевым произошла очень торжественно: Игнатьев, представляя Шипову офицеров, не должен был называть их фамилий, кроме произведенных в последние два года, так как со всеми Николай Николаевич был на «ты» и лишь теперь, с назначением его полковым командиром, несмотря на его возражения, все перешли на официальное «вы». Граф Алексей Павлович Игнатьев по личному желанию государя и выбору великого князя Владимира Александровича, занимавшего пост командира Гвардейского корпуса, был назначен начальником штаба этого корпуса. Последние истории с Тимашевым, Сумароковым и юбилеем государя настолько испортили отношение офицеров к Игнатьеву, что проводы вышли только приличные, но никакой в них не было теплоты, и многие даже не хотели участвовать в прощальной группе, и только по настоянию старших офицеров был избегнут скандал. Я лично очень жалел уход Алексея Павловича, всегда считал, что он высоко держал знамя полка и с большим достоинством им командовал, а после хотя не военной, но импозантной его фигуры Шипов казался лишь плюгавеньким.
Всю эту зиму в Петербурге чувствовалось страшное напряжение — покушения следовали одно за другим; диктатор Лорис-Меликов никого не устрашил и, хотя выказывал полное бесстрашие, лично арестовав покушавшегося на него, но погасить крамолы не мог. Градоначальнику Федорову, заменившему Трепова, были назначены от всех гвардейских полков офицеры для придачи его деятельности более высокого значения, чем чисто полицейское. От нас, я помню, командирован был Тимашев; в чем заключалась их деятельность — не знаю, но грозные события надвигались и предчувствовались, а Петербург и молодежь продолжали веселиться вовсю. Очень парадно был устроен великосветский базар в Мариинском дворце герцога Лейхтенбергского; все высшее общество было на нем, и сам государь его посетил. Я с другими офицерами помогал продавать Софье Петровне Шиповой и представлен был ее племянницам — княжнам Трубецким, с которыми впоследствии породнился, так как они оказались двоюродными сестрами моей жены; старшая из них, Эмилия, умерла, а вторая, Мария Александровна, вышла потом замуж за Владимира Федоровича фон-дер-Лауница, с которым я потом встретился по службе в Харькове и который потом на посту петербургского градоначальника был убит злоумышленником; тут же на базаре я был представлен Софьей Петровной Шиповой ее единоутробному брату генералу Пушкину, родному сыну поэта, и с трепетом и благоговением взирал на сына этого великого человека, хотя должен сознаться, что в нем ничего великого не было и, судя по портретам, даже не было сходства с отцом. Помню еще один очень веселый бал у министра народного просвещения Сабурова; памятен он мне, главное, потому, что дирижер просил почаще приглашать приехавшую московскую барышню княжну Оболенскую; исполнить его желание было очень легко, так как она была крайне привлекательна, но за неимением общих знакомых разговор не особенно удачно клеился. Никак не думал, что эта княжна,
218
Прасковья Владимировна Оболенская, выйдет потом за брата моей жены и будем мы с ней особенно дружны.
Театром я увлекался по-прежнему, но в эту зиму особенно посещал балет и Буфф, последний для пажей был запретный плод. В балете мы вчетвером — Языков, Адлерберг, Челищев и я — абонировались на ложу-бельэтаж рядом с министерской ложей и посещали каждый спектакль до дневных включительно; Языков в это время ухаживал за какой-то танцовщицею у воды (?) и посылал ей иногда букеты, которые запрещалось передавать через капельмейстера, так как таким способом подношения передавались лишь балеринам и первым сюжетам; очень мы дразнили Языкова, что он преподносит свой букет и отсылает таковой в уборную кордебалета своему «предмету», отмечая тем, что она выделилась из остальной группы, то есть сделала именно то, что преследовалось в кордебалете, которого все жесты должны быть согласны. Балеты ставились один лучше другого, помню первую постановку «Баядерки», «Млады», «Дочери снегов», где в одно мгновение весь пейзаж зимний превращается в роскошный летний день. Прима-балеринами были Вазем и Евгения Соколова; последняя, несмотря на года, с такой грацией и мимикой танцевала [в] «Корсаре», что производила сильное поэтическое впечатление. Характерные танцы исполняли Радина, Мадаева и Амосова; Радина, несмотря на свою толщину, с таким огнем танцевала цыганский танец, что приводила в восторг весь театр; Амосова в польском танце «Конька-Горбунка» влетала на сцену, делая со своим партнером такой боковой прыжок, что, казалось, лежит горизонтально на воздухе. Красотой своей царила над всеми Петипа, ее малороссийский танец, сначала полный томной мимики, а затем задора, кончающийся поцелуем, сорванным хлопцем, заставляли повторять без конца. Всех танцовщиц того времени не вспомнишь; балет Петербургский недаром считался первым во всей Европе; формы его, быть может, были шаблонны, все кончалось вечным апофеозом, но все время было что смотреть на сцене, и каждый отдельный танец был лишь красивым эпизодом на общем фоне пластики, красочных костюмов, чарующих групп, фантастических декораций и неглубокой, но легко слушавшейся и воспринимаемой музыки. Так как наша ложа была вторая от сцены, мы видели все разрисованные на полу мелом линии, по которым должны были двигаться танцующие в сложных фигурах, мы видели всю интимную закулисную жизнь, как танцовщики и танцовщицы готовились к выходу, отдыхали после танца, а балетмейстеры жестами руководили кордебалетами.
Буфф был частный французский театр; в мое время крупных примадонн не было, ни Жюдик, ни Жана Гоансе я уже не застал, но зато были два неподражаемых комика Roux [Ру] и Juteau [Жюто]. Появление первого со своей круглой наивной головой сразу вызывало смех; он постоянно добавлял отсебятину; помню, как раз он, не имея возможности за полным отсутствием голоса взять высокую ноту, которую за него протянула флейта, с поклоном поблагодарил флейтиста, а публике с невозмутимым спокойствием заявил, что Картанов (антрепренер) за эту самую ноту платит ему три тысячи рублей. Доказательством его таланта служит успех, который он имел на Михайловской императорской сцене. Для дебюта, по интригам комиков этой труппы, не желавших
219
принять в свою среду такого опасного конкурента, ему дана была незначительная роль в маленьком водевиле; играл он конфузливого молодого человека, которого дядя приводит сватать в какой-то дом; Ру приходилось говорить лишь несколько фраз, но зато он ввел мимический трюк, от которого вся зала помирала со смеху, и объяснение дядюшки с отцом невесты отошло на второй план; он от нечего делать, как застенчивый молодой человек, не знал, куда девать руки и потому машинально стал ими измерять свои ноги от талии до колен и вдруг изобразил ужас, обнаружив, что одна нога, по-видимому, длиннее другой. Казалось, его успех несомненен, но интриги одержали верх, и на Императорскую сцену он не был принят, зато в Буффе его успех рос с каждым представлением, и он сделался общим любимцем. Жюто обладал недурным тенором и умел петь с большим брио, так что был вполне достойным партнером Ру. Репертуар прежний отличался веселой музыкой, красивыми ансамблями и текст настоящим остроумием; отнюдь не было порнографии последнего времени, и потому смех, вызываемый опереткой, не был тем неприличным смехом, которого приходится стыдиться; «Прекрасная Елена» со своим греческим разрезом на боку была, быть может, самой неприличной опереткой по откровенности. Из последних примадонн Буффа была Шевриё, с ней я даже лично познакомился; она впервые ставила оперетку «La Camargo»; голос у нее был большой, прекрасно поставленный, играла она весело, но с приличной сдержанностью; фигурой она была, быть может, неподходящей к оперетке, потому что была очень высокого роста, с некоторой даже импозантностью, но мне она очень нравилась, особенно когда я узнал от нее ее историю: она была бельгийка из совершенно приличной семьи, некогда очень богатой, училась в Парижской консерватории и, обладая большим сценическим талантом, должна была выступать в Парижской Большой опере, разучив для дебюта роль Валентины из «Гугенотов»; перед самым спектаклем [она] заболела и временно лишилась голоса; в это время ее семья неожиданно разорилась и, когда она поправилась, она должна была искать заработка; вследствие болезни эта бедная девушка утратила силу дыхания, необходимую для больших опер и потому поступила в комическую оперу, а когда и там легкие ее не выдержали, перешла в оперу Буфф, что было для нее и для всей ее семьи настоящей драмой. Прочное знакомство с ней у меня не завязалось, и она скоро уехала; я этому отчасти был рад, потому что она была из тех, которыми вполне возможно увлечься.
Все эти увеселения в корне порвались грозным событием 1-го марта; кто пережил этот день в Петербурге, тот никогда его не забудет. Был развод с церемонией в обыденное время, как полагается в воскресенье; вступил в караул наш полк, так что мы, свободные офицеры, парадировали на левом фланге. Государь был в мундире какого-то армейского пехотного полка, стоявшего где-то в захолустье, но имевшего боевую славу и праздновавшего в этот день свой полковой праздник, почему его величество и хотел его отличить этим вниманием. Государь был какой-то хмурый, озабоченный. Потом в обществе рассказывали, что его предупреждали о готовившемся в этот день покушении и просили отменить развод, но великая княгиня Александра Иосифовна будто бы просила этого не делать, ссылаясь на то, что в этот день от конной гвардии должен был подъезжать
220
ординарцем ее сын, великий князь Дмитрий Константинович, и государь уважил ее просьбу, почему впоследствии молва упорно называла великого князя Константина Николаевича участником покушения, что как бы подтверждалось таинственным пожаром в начале марта дворца великого князя в Ореанде, где сгорел его кабинет со всеми документами и его перепиской. Вернулся я с развода домой вместе с моим товарищем по Корпусу лейб-казаком Засядько и, позавтракав, мы с ним мирно беседовали в кабинете, как вдруг услыхали выстрел, похожий на пушечный; я машинально взялся за часы, дабы проверить их ход, забыв, что уже развод кончился, и думая, что это сигнальная ежедневная двенадцатичасовая пушка, но увидал, что часы показывают уже второй час; вскорости раздался такой же второй выстрел, и мы еще рассуждали с Засядько, что бы это могло быть, как вбежал бледный, с трясущейся челюстью, Семен с воплем: «Говорят, государя убили!» Надеть пальто, выскочить на улицу и поскакать на первом попавшемся извозчике во дворец было делом для нас одной минуты. Извозчик ничего не знал и ничего не слыхал, почему избрали мы путь через Симеоновскую, Караванную и Невскую. По пути ничего особенного не было, движение было довольно обычное, но, действительно, все ехало по Невскому к Адмиралтейству, обратных экипажей почти не было; мы с Засядько стали успокаиваться, так как такие ложные тревоги в последнее время были очень часты; но, подъезжая к Казанскому собору, увидали вдали направо на Екатерининском канале, где теперь храм Воскресения на крови, такую толпу народа, что мы поняли, что что-то ужасное совершилось, а извозчик, перекрестившись и как-то всхлипнув со словом «Господи», погнал лошадь вскачь. Такое нарушение правил езды не вызвало даже протеста, все с этого места как-то прибавляли аллюр, торопясь ко дворцу, и перекликивались незнакомые, спрашивая: «Что случилось?», и стоял крик: «Убит, убит!», причем многие плакали и все крестились. Когда мы проехали арку Малой Миллионной, теперь Большая Морская, ехать дальше нельзя было, вся площадь перед дворцом была море голов; мы пешком стали продираться, и толпа, видя нашу гвардейскую форму, не только не препятствовала нам, а напротив расступалась и подбадривала: «Идите, голубчики, идите, защитите его». Я, первое, посмотрел на штандарт над дворцом: он развевался во всю, значит государь жив (при отсутствии его из Петербурга штандарт совсем спускался, а при смерти до похорон должен быть приспущен наполовину). Добрались мы до Комендантского подъезда в ту минуту, когда из дворца на носилках выносили тяжело раненного конвойца и под руки выводили с перевязанным лицом известного всему Петербургу полицмейстера Дворжицкого, на обязанности которого лежало всюду сопровождать государя. Во дворец войти мне не пришлось, так как встретившийся со мной полковник Шипов приказал мне немедленно ехать в полк передать приказ собраться всем офицерам в казармы и не отлучаться из полка; по-видимому, ожидали с минуты на минуту общей революции в городе, пользуясь растерянностью власти. Я немедленно поскакал обратно в полк, передавая встречающимся товарищам приказ командира полка, и скоро собралось нас в артели довольно много. Не могу даже передать подавленного настроения, дошедшего у многих даже до слез, особенно когда приехавший Базя Гендриков, почти очевидец происшествия, рассказал нам,
221
что он видел. Он ездил верхом, пробуя какую-то лошадь, в манеже Придворно-конюшенного ведомства, расположенного против места взрыва через канал. От первого взрыва лопнули стекла в манеже, и он, Гендриков, свалился; поняв, что что-то случилось, он выбежал и в дверях чуть не упал от второго сотрясения воздуха; когда он, взбежав на мост, добежал до того места, где государь лежал, его уже пытались поднять и уложить в сани, низ его туловища представлял из себя бесформенную кровавую массу, голова была обнажена и по лицу, совершенно белому, сочилась кровь. На приказ великого князя Михаила Николаевича везти государя во дворец великой княгини Екатерины Михайловны, находящийся вблизи, государь очнулся и слабым голосом сказал: «Домой»; Гендриков стал на запятки, надел на государя свою кавалергардскую фуражку и поддерживал его голову до самого дворца; ехали шагом, окруженные каким-то взводом пехоты, случайно проходившим мимо и остановленным великим князем; рядом шел с каким-то бессмысленным лицом и со слезами, катящимися по щекам, высокий паж, в котором, по описанию Гендрикова, я узнал Максмонтана; потом оказалось, что я был прав, а выражение лица Максмонтана, столь красивого, стало бессмысленным вследствие того, что от взрыва у него лопнули обе барабанные перепонки, и он окончательно оглох. В таком виде Гендриков доехал с государем до дворца, где получил обратно окровавленную свою фуражку, которая и хранится у них в семье как реликвия. Уходя, Гендриков встретил уже наследника с цесаревной, прискакавших в Зимний дворец. Скоро вернулся из дворца Николай Николаевич Шипов с известием, что государь скончался.
Он рассказывал, что, когда штандарт начал приспускаться, вся толпа на площади стала на колени, и слышен был как один громадный вздох, а новый государь — император Александр III — и императрица Мария Федоровна при возвращении в собственный Аничковский дворец были остановлены толпой, желавшей отпрячь лошадей и везти на себе экипаж нового царя, но государь этого не допустил и просил даже умолкнуть толпе, неистово кричащей «ура», говоря, что при такой утрате можно только плакать, а крики ликования неуместны; и он и государыня всю дорогу плакали. Шипов передал приказание, данное всему гарнизону, день и ночь двум офицерам быть в казармах эскадрона неотлучно при солдатах, не допуская разговоров с посторонними лицами и строго следя за настроением солдат. Мой черед, как одному из младших, приходился на ночь с девяти часов, почему я поспешил домой передать все подробности семье. Когда в девятом часу, уже в глубокие сумерки, я шел пешком к себе в полк, город казался вымершим, нигде не было слышно стука экипажа, все улицы были пусты, и только фонарные столбы окутывались флером; нервы были настолько напряжены, что заставляли настораживаться от всякого шума и шмыгающих людей; весь город казался полон таинственности. Дежурство мое прошло совершенно благополучно, было только тяжко от непривычки к казарменному воздуху, но настроение солдат было настолько верноподданное, что никаких опасений не внушало, и дня через два самый наряд был отменен. На следующий день был раскрыт подкоп на Малой Садовой, и еще большая паника охватила весь город; местность была оцеплена, жильцы прилегающих домов выселены во избежание несчастий, и саперы со всякими предосторожностями стали разряжать заложенную под улицей мину;
222
она была предназначена злоумышленниками на тот случай, если государь будет возвращаться по этому пути. Домовладельцы этой улицы возымели несуразную мысль отслужить благодарственный молебен о миновании их опасности и соорудить по этому случаю икону, но им было внушено кем следует неприличие их намерения — радоваться убийству государя в другом месте, а не против их дома.
Второго марта вечером состоялось перенесение тела из опочивальни в главный дворцовый собор; мы все, офицеры, присутствовали, и тяжелое впечатление делал общий глубокий траур — на мундирах обшивались крепом все серебряные галуны, а также шарфы, лядунки, перевязь и каска. До выноса можно было наблюдать придворную атмосферу: недавние светила кончившегося царствования, доведшие государя до конституции, которая была уже подписана и должна была быть обнародована как раз в этот день, как-то граф Милютин, Лорис-Меликов, ходили как зачумленные; и другие близкие покойному государю, как граф Адлерберг, чувствовали свою непрочность и далеко не были такими властными, пренебрежительными, как прежде; один граф Перовский оплакивал друга, которому был вечно предан, не учитывая какие это для него будет иметь последствия. Зато приближенные нового государя были предметом общего внимания; скромный князь Владимир Сергеевич Оболенский, любимый адъютант наследника и теперь императора, женатый по желанию Марии Федоровны на ее любимой фрейлине, графине Апраксиной, был предметом общего внимания; он — Владимир Оболенский, по полковому прозвищу «Елка» — никогда не хотел играть роли; был он когда-то безумно влюблен в свою двоюродную сестру княжну Варвару Дмитриевну Оболенскую (она потом вышла замуж за Михаила Михайловича Бибикова), чувство было взаимное, но родители той и другой стороны этот брак не позволили; и Мария Федоровна, тогда наследница-цесаревна, зная, что графиня Сандра Апраксина давно уже влюблена во Владимира Оболенского, устроила этот брак, и с тех пор эта супружеская чета была неразлучна с наследником, а потом императором, видаясь с ним ежедневно, причем, говорят, что в интимности государь и Оболенский говорили друг другу «ты». Вынос происходил при освещении факелами, кортеж был прямо трагический; непосредственно за гробом шла княгиня Юрьевская с опущенной черной вуалью и поддерживаемая графом Адлербергом, министром Двора, одним из немногих свидетелей ее брака с покойным государем; это был последний раз, что она появилась публично; в следующие дни, когда она молилась у гроба, все дежурство удалялось. За ней уже следовал новый государь с государыней и остальная царская семья; такое отступление от этикета было сделано по воле Александра III, который уважал горе жены своего отца и в его последнем жилище не хотел ее отстранить от останков того, со смертью которого она все потеряла; вскорости княгиня Юрьевская с детьми переехала из Зимнего дворца в купленный для нее дом на Гагаринской и ни в каких более церемониалах не упоминалась; новый же царь не переехал в Зимний дворец, а оставался жить в собственном Аничковском дворце.
В обществе и в военной среде только и было разговора о предстоящих переменах. Манифест государя о вступлении на престол, написанный в твердом тоне, подчеркивающий мысль, что царская власть есть бремя, которое он по долгу
223
воспринимает с верой и упованием на Бога, сразу указал на новый курс, и все присмирело. Говорят, что, когда доложили государю, как опасно для него участие в церемонии перенесения тела в Петропавловский собор, он ударил кулаком по столу и сказал, что если кто осмелится помешать ему отдать последний долг отцу, он камня на камне не оставит в Петербурге; сразу почувствовалась такая сила воли и энергии, что все как-то приободрились, а либералы умолкли; диктатор Лорис-Меликов был уволен и место упразднено, граф Дмитрий Алексеевич Милютин был заменен Петром Семеновичем Ванновским, бывшим начальником штаба Александра III в последнюю кампанию; великий князь Константин Николаевич был устранен от всех дел и был в явной немилости; граф Адлерберг был заменен графом Воронцовым-Дашковым, князь Горчаков был в почетном бездействии; всю политику вел сам государь через товарища князя Горчакова Гирса, и над всеми высилась и чувствовалась личность Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода. Рассказывали, что сейчас же после смерти государя Александра II Лорис-Меликов и министр юстиции Набоков спросили Александра III, как поступить с манифестом покойного государя, коим обещалась конституция, и Александр III ответил, что он ничего не изменит из повелений и предначертаний его покойного отца; но в ту же ночь Победоносцев написал государю свое историческое письмо о том, что самодержец не имеет права отказываться от той власти, которую наследовал от предков, и поздно ночью фельдъегерь привез Лорис-Меликову высочайшее повеление остановить печатание того манифеста, на обнародование которого за несколько часов перед этим император дал свое согласие.
Можно себе представить, как все это волновало петербургское общество; не было уголка, который не ожидал бы чего-нибудь; и наш полк вдруг оказался в милости, шефом его была назначена новая государыня, а государь принял на себя лишь второе шефство; зато бедный граф Алексей Павлович Игнатьев, ожидавший блестящую карьеру от близости к великому князю Владимиру Александровичу, оказался ни при чем, так как великий князь получил назначение командующего войсками Округа на место бывшего наследника, а командиром Гвардейского корпуса был назначен граф Шувалов; и положение начальника штаба этого Корпуса в придворном и светском отношении стало гораздо незначительнее места командира Кавалергардского полка, коего шефом была новая государыня. В один из ближайших дней было назначено в Аничковском дворце представление кавалергардских офицеров новому шефу. На представлении присутствовало все прямое начальство полка, из коих многие имели кавалергардский мундир, и ввиду нового приказа о формах все как-то перепутались, и формы начальствующих лиц были самые разнообразные; нельзя было не обратить внимания, как многие старались отпустить бороду, одно из первых разрешений нового царствования; пока это было только некрасиво и производило впечатление не умытых людей. Государыня очаровала всех своим приветливым обращением; каждому, давая руку для поцелуя, она нашла возможность сказать какое-нибудь приветливое слово или задать какой-нибудь ласковый вопрос. Государь к представлению не вышел, но тут же было объявлено его повеление всем шефским
224
частям покойного государя носить его вензель, кованный на погонах, и весь первый наш эскадрон и штаб полка украсились этими вензелями.
Не помню, которого числа состоялось перенесение праха из Зимнего дворца в Петропавловский собор; я был в наряде той части полка, которая стояла верхом шпалерами по пути шествия, день был, хотя не пасмурный, но дул холодный пронзительный ветер и, несмотря на кирасы, было очень зябко. Голова шествия стояла в нескольких шагах от меня в ожидании пушечного выстрела, по которому шествие должно было начать двигаться; пушечный этот выстрел по особому сигналу коменданта генерала Адельсона должен был быть дан, когда траурная процессия из церкви достигнет выходного подъезда. Все шествие, расположенное впереди этой процессии, растянулось версты на три и ждало условленного сигнала; чтобы уместить все, пришлось избрать не прямой путь в Петропавловскую крепость, а более длинный, обходный. Наконец раздался пушечный выстрел, послышалась команда «смирно», полились звуки «Коль славен наш Господь...», и мимо нас стали все дефилировать; из крепости каждую минуту раздавался пушечный выстрел, по всему городу начался траурный перезвон, и слышались мерные удары большого колокола Исаакиевского собора. Впечатление было прямо потрясающее; жутко было видеть эмблемы прошлого и нового царствования, изображаемые двумя рыцарями: сначала шел громадного роста рыцарь, весь в черном одеянии, в черных латах, наколенниках и каске с опущенным забралом, из которого светили два глаза, в руке он нес средневековый меч, перевитой флером, опущенный поперек ног; за ним ехал на белом без отметины коне рыцарь в таком же одеянии, но только все из серебра, а на каске с поднятым забралом были два крыла, сверкающие на солнце. За этими рыцарями шли сановники с ассистентами и несли все ордена покойного и государственные регалии, младшие впереди; чем важнее был орден на подушке, тем важнее был сановник, его несший, и шли они, старенькие, спотыкающиеся и совершенно нарушали торжественность шествия. После них уже шло духовенство нескончаемой золотой лентой, возглавляемое петербургским митрополитом Исидором; перед самым гробом шел духовник государя Баженов с иконой. Гроб был окружен первыми чинами Двора и генерал-адъютантами, и за ним непосредственно вели в поводу коня государя в черной попоне; а потом шел пешком государь со всеми великими князьями и иностранными принцами, приехавшими в Петербург для этой церемонии.
Кончалось шествие траурными каретами, в которых ехали государыня, великие княжны и придворные дамы; кареты высочайших особ сопровождались шталмейстерами и конюшенными офицерами, а на ремнях сидели камер-пажи. Мимо нас процессия шла беспрерывно около двух часов, и вернулся я домой совершенно разбитый и физически, и нравственно; известие, что государь благополучно вернулся во дворец, было большим облегчением. Останки покойного государя оставались в соборе для поклонения около трех недель; прикладывание к телу прекращалось лишь на время царских панихид, которых было две во дню и еще на один час времени, когда даже и дежурство при гробе уходило, и княгиня Юрьевская с детьми молились в полном одиночестве у гроба.
225
Собор весь обращен был в траурную каплицу; на высоком помосте, посреди его, под большим балдахином стоял гроб; лицо было покрыто легким газом, дабы, не скрывая черт, скрыть по возможности поражения, которые, впрочем, при бальзамировке были искусно закрашены; по ступеням и по всему храму стояло духовенство; офицеры Кирасирской дивизии занимали место у изголовья: на второй и четвертой ступени их полагалось два — штаб- и обер-офицер. На мою долю пришлось дежурить дважды, оба раза ночью, и, кроме того, все свободные от службы офицеры должны были быть два раза в день на панихиде, в два и в восемь; для проезда в крепость полагалось два билета: один на шапке кучера, другой у самого лица, и кроме того каждый из нас был снабжен еще билетом другого образца для входа в собор; строгости для проезда были самые большие, и поверка проезда производилась на каждом шагу, что очень усугубляло тревожное и жуткое настроение; все время чувствовалось, что что-то в тиши и подполье подкарауливает благополучие государства. Это чувство особенно усугублялось во время ночного дежурства; приходилось стоять без движения, держа каску «на молитву», в течение двух часов; безмолвная тишина прерывалась лишь монотонным чтением священником Евангелия, освещаемого двумя диаконами с дикирием и трикирием; по стенам стояли бесшумные черные тени дежурных дам, для которых полагались и табуретки; иногда от какого-нибудь движения свечи вдруг ярко блистал алмаз на одной из регалий; народ беспрерывной цепью прикладывался к почившему, и часто слышались всхлипывания и рыдания. В течение всего пребывания праха в соборе это прикладывание не прерывалось, и иногда ночью стояли в очереди часов пять, лишь бы иметь счастье проститься с почившим. Мой Семен одну ночь так и не добрался до гроба и лишь на другой день, ставши в очередь, тянувшуюся версты на две, к утру мог приложиться. Горе было всеобщее. Во время одного из моих ночных дежурств Николаев, тогда уже ротмистр и по недостатку полковников в нашем полку введенный в очередь штаб-офицеров, почему-то не приехал, и я сменил лишь корнета желтых кирасир; полковник же того полка так и остался несмененным и, видимо, едва стоял от усталости. Услыхав какой-то шум при входе в собор, он мне шепнул пойти посмотреть, не приехал ли ему на смену мой товарищ. Я оказался между двух огней: знание придворной службы шептало мне, что я не могу двинуться с этого места, а военная дисциплина повелительно требовала от меня исполнить приказание старшего со мной в паре, и я поддался последнему — пошел узнать, не приехал ли Николаев, и только получил замечание офицера дворцовых гренадер, наблюдавшего под ведением старшего придворного чина за точным исполнением дежурства при гробе. На следующий день, когда я передал Николаеву этот инцидент, он поехал в Царское Село, где был расквартирован полк желтых кирасир, извиниться перед вчерашним полковником.
День самого погребения не оставил особого впечатления, и даже не помню, где я был в наряде, помню только, что ничего особенного не видал, и, когда после прощального салюта штандарт на Зимнем дворце взвился, я почувствовал какое-то облегчение: «Le Roi est mort, vive le Roi».
Теперь только и было разговора о процессе цареубийц, все они были уже арестованы, весь заговор раскрыт, обвинителем назначен был Николай Валерианович
226
Муравьев, заменивший Набокова на посту министра юстиции. Положение его было трагично, так как одна из обвиняемых — Перовская — приходилась ему, как говорят, двоюродной сестрой; она же была племянница любимого генерал-адъютанта покойного государя — графа Перовского; но ни в том, ни в другом она поддержки не встретила, и процесс шел своим чередом; исход его был для всех уже заранее ясен, и смертный приговор всем пятерым никого не удивил; но все были заняты мыслью, утвердит ли государь смертный приговор, и как поступят с той приговоренной к повешению, которая на суде объявила себя беременной. Ходили слухи о письме, написанном Львом Толстым непосредственно государю, умоляющем его во имя Христа не омрачать начало своего царствования казнью его подданных; об этом письме шептались на ухо и передавали, что Победоносцев успел его перехватить и до государя не допустил; сколько было в этом правды — не знаю, но такие предположения свидетельствовали о том, какое значение приобрел Константин Петрович и как в нем видели вдохновителя наступившей реакции. Отец мой через Коробьина получил билет на этот процесс и передавал все впечатления, подчеркивая общую ненависть к обвиняемым и их спокойное отношение, и даже какое-то лучезарное состояние исполненного, по их мнению, великого подвига; он говорил, что в первый раз осознал столкновение двух миров, совершенно различных по верованиям, но одинаково убежденных в своей правоте. Тогда они были в меньшинстве и потому так легко побеждены.
Наконец стало известно, что приговор конфирмирован, и беременной казнь отсрочена до рождения ребенка; день казни был назначен, и многие ночью еще потянулись на Семеновский плац присутствовать при этом зрелище. Меня в эту ночь била нервная лихорадка. Я был и есть монархист и верноподданный своему государю как помазаннику Божию; но в эту минуту все заглушалось чувством беспредельной жалости к тем, которые вот-вот должны были прекратить свое существование; я переживал с ними их животный страх перед этим надвигающемся неизбежным; я терзался тем чувством безысходной тоски, которую должны были испытывать семьи казнимых; я понимал и ощущал вместе с ними тот протест, который они, вероятно, испытывали; я готов был кричать, плакать, и тогда понял глубину христианской морали — любить ближнего, как самого себя, и уметь себя ставить в положение другого. Эта ночь останется для меня памятна на всю жизнь, она была первым толчком к внутреннему моему самоуглублению, увы, потом скоро заглохшему; но сомнение в правоте того строя, которому я служил, и в праве моем пользоваться всеми теми благами, которые давало мне мое положение, остались навсегда. Встал я совершенно разбитый, не с кем было поговорить: отец мне не сочувствовал, смущать покой матери и сестры после испытанных мною мук не хотел, и я себя принудил с большим трудом пойти в полк на обычную службу. Но, Господи, какое там было мучение! Я понимал, что открыть рта я не могу о всех ночных моих думах, и, когда же явился в артель наш берейтор Фердинанд Федорович Кегеллер и рассказывал со смаком все подробности казни, на которой он присутствовал как доброволец, забравшись на Семеновский плац с вечера, я его прямо возненавидел и не мог удержаться вскрикнуть: «Какая мерзость!», за что выслушал должную отповедь старших товарищей; гадливое чувство к Кегеллеру осталось у меня навсегда, и до конца
227
моей службы в полку мне неприятно было подавать ему руку. Описывая подробности казни, он со злорадством передавал, как над одним из приговоренных оборвалась веревка, и он грузно упал на помост; повторилось это дважды, и лишь третья веревка выдержала его груз и он был повешен. Со времени самых жестоких царствований такой случай признавался Божеским вмешательством, и приговоренному даровалась жизнь. При этих рассказах мне невольно вспоминались мои детские впечатления при виде в Калуге старушки Кашкиной, бабушки подруги моей сестры. У ней вечно тряслась голова, и сделалось это с ней в день, назначенный для казни ее сына; сын ее, Николай Сергеевич, только что окончивший Лицей, был приговорен за участие в деле Петрашевского к расстрелу, и она, мать его, желая с ним проститься, пришла на место казни. Прочтен был приговор, надеты на них были саваны, взвод для расстрела был уже выстроен, и она не имела никакой надежды, так как на просьбу ее на высочайшее имя о помиловании ответа не последовало, но что-то медлили, как будто чего-то выжидали; как вдруг прискакал флигель-адъютант с повелением государя заменить смертную казнь разжалованием навсегда в рядовые на Кавказ. Сам Николай Сергеевич всегда рассказывал, что, когда на него надевали саван, он видел в толпе свою мать, но даже не сделал ей прощального жеста, настолько был огорошен словами, сказанными ему шепотом: «Не волнуйтесь, вы будете помилованы». Бедная его мать ничего этого не знала и, несмотря на сверхчеловеческую радость после его помилования, которое было как бы воскресением, на всю жизнь была поражена и трясла головой; каково же было состояние теперь семей этих повешенных!
Новый государь с семьей переехал в Гатчину, штандарт над Зимним дворцом был спущен, жизнь в Петербурге замерла, а полковая служба усугубилась особыми ежедневными нарядами одного эскадрона в помощь полиции на случай беспорядков. Первое время к этому эскадрону относились очень строго, в дежурный эскадрон назначались три офицера, которые круглые сутки проводили в полку, но за все время моей службы я не помню вызова этого дежурного эскадрона, почему под конец относились к этому наряду халатно, зная, что всегда найдутся налицо три офицера из живущих в казенных полковых квартирах, которые не выдадут и заменят отсутствующих товарищей. Кроме наряда по полиции был еще наряд на случай пожара; назначался офицер с пешей командой, который по вызову коменданта города должен был со своими солдатами являться на пожар ближайшего района для охраны имущества. Мне лично пришлось принять участие в двух таких пожарах; оба пожара были грандиозные и представляли из себя такое зрелище, которое никогда не забудется. Раз это было днем, загорелся лесной склад и вслед за ним соседние склады; в общем, площадь огня была около четверти квадратной версты; я сам видел, как по воздуху летали десятки громадных горящих досок, поднятых кверху образовавшейся тягой воздуха. На моих глазах на этот пожар налетела стая голубей, которая, долетев до пожарища, сразу упала с громадной высоты в огонь черными тлеющими комочками. Другой пожар был ночью, часов в одиннадцать, во время уже навигации; горели сенные барки на Неве; их был целый караван, сено на них было сложено громадными стогами в виде дома; и, когда я прибыл на пожар, таких барок
228
загорелось уже более десятка, причалы их обгорели и они носились по течению реки, зажигая по пути другие барки и пароходы и угрожая поджечь существовавшие тогда плашкоутные мосты, Троицкий и Дворцовый, которые спешно разводились; речная полиция на своих пароходиках перехватывала на буксиры эти горящие факелы, и особые смельчаки прорубали бока барок, чтобы их затопить; другие же пароходы буксировали вверх по течению незагоревшиеся барки, лавируя между огнем. Зрелище было необыкновенно красивое, а так как и охранять нечего было, поскольку все горевшее имущество было на воде, внимание ничем не было отвлечено, я как простой зритель наблюдал и наслаждался красотой картины.
Однажды состоялся наряд для оцепления города со стороны Финляндии: говорили, что ожидался привоз оружия для революционеров; нашему эскадрону достался участок близ Лесного. Выступили мы с вечера, еще засветло была расставлена цепь, на обязанности которой было обыскивать всякого идущего и едущего в город; так как в нашем участке находилось шоссе, проезжающих чухонцев было много, наши ритер-офицеры каждую подводу тщательно осматривали, а в возы дров и сена втыкали пики. Рано утром, часа в четыре, было получено распоряжение снять охрану и возвращаться в город; кто говорил, что транспорт попался на другом участке, а кто говорил, что начальство изверилось в целесообразности этой меры, к тому же вызвавшей ропот и недовольство среди солдат; такие наряды больше и не повторялись.
На Пасхе было назначено поздравление офицерами государыни в Гатчине, и мы все рано утром выехали туда, где на вокзале нас ждали придворные экипажи, а во дворце особое помещение для переодевания. Дворец поразил меня своей угрюмостью и какой-то сумрачностью, походил он гораздо более на какую-то крепость или место заточения, чем на резиденцию царствующего государя. Вся служба придворная как-то переменила свой характер, все было проще и безлюднее. Простота и характер Александра III сказались в двух рассказах про него, которые я слышал уже гораздо позднее от моего зятя Жилинского. Яша был как-то назначен состоять при каком-то иностранном принце, который приехал в Гатчину представиться государю и государыне. Когда принц откланялся государю и прошел на половину ее величества, Яша остался беседовать в зале с генералом Ширининым, комендантом царского поезда; беседа была оживленная, но на какой-то вопрос Яши он, не получив ответа от Ширинина, оглянулся и увидал, что тот исчез; вслед за этим раздались шаги и через залу прошел государь на половину государыни; когда его величество прошел, из-за портьеры вылез генерал Ширинин и на вопрос Жилинского, отчего он спрятался, наивно ответил: «Э, батенька! Настали другие времена, покойному государю только и старались попасться на глаза, а этот терпеть не может, если часто ему мозолить глаза; выругает и прогонит, он любит жить просто, по-семейному».
Тот же Ширинин рассказывал, как во время пребывания Александра III в Варшаве ему было доложено вечером, что на следующий день приедет из Берлина, по повелению германского императора, немецкий принц для приветствия августейшего соседа; государь, узнав про это, ложась спать, приказал камердинеру на следующий день к обеду дать ему надеть ленту Черного орла. Камердинер же,
229
чуть ли не бросившись на колени, покаялся, что забыл таковую захватить; государь добродушно рассмеялся и только сказал ему: сказать Ширинину, чтоб последний послал нарочного в Берлин купить эту ленту и привезти таковую к обеду. Он, Ширинин, получив такое повеление и не быв убежденным добиться по Германии экстренного поезда, сговорился с начальником дороги Петербургско-Варшавской, который обещался, если получит распоряжение не более как через час, домчать поезд из Гатчины в Варшаву к назначенному сроку, что составляло почти удвоенную скорость наибыстрейшего экспресса. На всякий случай начальник дороги дал соответствующее распоряжение по линии: заготовить в Гатчине паровоз с классным вагоном, держать под парами на определенных станциях сменные паровозы и частично приостановить движение, дабы пропустить этот экстренный поезд безостановочно; а Ширинин телеграфировал в Гатчину, чтобы фельдъегерь с этой лентой ждал на вокзале, и сам пошел испрашивать разрешение на эту меру у государя. Государь, как всегда, занимал самое скромное помещение и уже лежал в постели, но, услыхав в приемной, отделявшейся от спальни лишь маленьким кабинетом, разговор камердинера с кем-то, спросил в чем дело. Камердинер доложил предположение Ширинина, на что государь возразил: «Что ты тут врешь, это невозможно». Ширинин, услыхав это недоверие государя, громко подтвердил слова камердинера, после чего был позван к постели государя, которому подробно рассказал предположение начальника дороги, прося только скорейшего разрешения, дабы не опоздать. Александр III, подумав, сказал: «Верно, нечего нам одолжаться у немцев, попробуем, но, чур, не опоздать». И телеграмма была послана тут же по прямому проводу из дворца, и гатчинский поезд полетел. На следующий день, когда государь одевался к обеду и камердинер подал ему ленту Черного орла, он только спросил: «Откуда?» и на ответ: «Из Гатчины» промолвил: «Молодцы, немцам нос утерли; дать фельдъегерю сто рублей»; а бедный фельдъегерь лежал чуть ли не в обмороке от качки вагона и узнав, с какой скоростью его мчали.
Но вернусь к рассказу нашего представления государыне — не обошлось на этот раз без курьезов. Дубенский, только что произведенный в полковники, оказался в отчаянном положении: его денщик забыл захватить эполеты, и он с трудом разыскал более или менее подходящие у какого-то жандармского полковника, которые, если не особенно всматриваться, могли сойти за кавалергардские; бранился он так, что все стали его успокаивать, боясь с его стороны какой-нибудь неприличной выходки; другой офицер, князь Василий Кочубей, только что произведенный из вольноопределяющихся, не зная этикета, вместо того чтобы поцеловать руку государыни, только ее пожал; я же, совершенно забывшись, поцеловав ее руку после получения от нее яйца (яйцо хранится у меня в образной), еще потряс ее руку, как shakehand. Ha обратном пути я чуть было не влетел в глупую историю: с Варшавского вокзала, где ждал меня мой Михаил на Бархатном, и забыв или не зная еще тогда, что начальство нельзя обгонять, не остановил своего кучера, который, гордясь бегом лошади, припустил ее, и она, идя с развальцем, легко обогнала всех и, между прочим, командира полка. Обгоняя его, я отдал ему честь и заметил его недовольную физиономию, которую я в то время отнес к тому обстоятельству, что его лошади, коими он гордился, оказались
230
хуже моей. Вернувшись домой, я все-таки сообразил, что что-то неладное, что и отец мне подтвердил, почему я тотчас написал Митушку Дашкову, прося его за меня извиниться перед командиром, которого я в записке назвал тем прозвищем, довольно безобидным, но смешным, под коим он слыл у нас в офицерской среде. На следующий день Митушок мне рассказал, что мою записку он получил, выходя от Шипова, который призвал его, чтобы дать ему приказ посадить меня на гауптвахту на сутки; он, Митушок, сейчас же вернулся в кабинет и дал Николаю Николаевичу прочесть мою записку. На мое восклицание: «Что ты сделал! Ведь там я его назвал даже прозвищем!» Митушок, засмеявшись свои скрипучим смехом, ответил: «Это тебя и спасло, потому что Шипов увидал в этом твою искренность и сейчас же отменил свое распоряжение». Я был очень рад, что инцидент так кончился, потому что никогда никакому взысканию по службе не подвергался ни раньше, ни в будущем.
Описав полковую, общественную жизнь этой зимы, совершенно оставил в стороне жизнь семьи за это время, к которой и возвращаюсь. С вступлением моим в полк я ввел многих товарищей в наш дом. Ввиду длившегося еще траура по государыне никаких танцев не было принято устраивать, но у нас собирались, главное, для пения. Чаще других бывали мои товарищи Глебов, Левашов и особенно Жилинский, все трое были тенора, а этого голоса как раз всегда у нас недоставало на наших музыкальных вечерах. Левашов из них был наименее удачный; Яша Жилинский имел крошечный голос, но на редкость верный; певал он с Варей больше легкие дуэты и излюбленный из них ими был «Пустое вы, сердечное ты»; надоел мне этот дуэт ужасно, и мне обидно было, что Варя растрачивает свой талант исполнением таких пустяков. Певали они, впрочем, и более серьезные вещи, как, например, трио из «Лукреции Борджиа», где баритонную партию исполнял Алексей Пашков, старший брат моего товарища; Алексей Пашков был в то время адъютантом принца Петра Георгиевича Ольденбургского. За ужинами часто Варя, Яша и Кавелин исполняли a capella трио «Ночевала тучка», и это было прямо восхитительно. Лучшим тенором был Глебов, у него был прямо большой и замечательно приятный голос, певал он с сестрой дуэт из «Русалки», но никогда не мог хорошо выучить слова: он вместо «веселый хоровод» неизменно выпаливал «веселый огород»; звали его Федор Петрович, а в полку — «Чемодан»; последнее прозвище он получил по следующему случаю: однажды, зайдя в какой-то магазин кожаных изделий, он велел принести себе на квартиру кожаный портфель; говорил он всегда односложно, цедил слова сквозь зубы, и речь его была столь непонятна, что приказчик не понял и прислал ему чемодан; он, бедный, умер очень молодым; старший брат его женат на старшей сестре жены моей, и через него я уже узнал о смерти нашего милого «Чемодана». Посещения Жилинского делались все чаще и чаще и перешли в явное ухаживание; ривализировал с ним лейб-улан барон Корф, но в середине зимы последний исчез и, как потом оказалось, поехал к своему отцу в его майоратное имение просить разрешения сделать предложение моей сестре; когда он вернулся, уж было поздно, сестра была невеста Жилинского. Но случилось это еще не так скоро, до того пришлось прекратить музыкальные собрания ввиду отъезда моей матери; и тогда Жилинский надоел
231
мне, посещая меня, мало имевшего с ним общего, но это давало ему право быть у нас в доме и предоставляло ему возможность видеть мою сестру; я вполне понимал, почему он так ко мне воспылал и добродушно поддавался. Моя мать должна была уехать в Москву ввиду сделанной дедушке Волконскому операции; ему снимали с обоих глаз катаракты. К самой операции Мама́ не поспела и приехала в то время, когда после удачной операции дедушка сидел в темной комнате с повязкой на глазах, которую не должен был снимать еще несколько дней; услыхав голос Мама́ и несказанно обрадовавшись ее приезду, он, чтобы увидать ее, с обычной своей нетерпеливостью и стремительностью сорвал повязку с глаз, приотворил дверь в соседнюю комнату, чтобы разглядеть черты Мама́, и, увы, окончательно ослеп. Моей матери пришлось его уже слепого отвезти в Зарайск; дедушка бранил докторов, никогда не сознаваясь, что сам был виноват в этом несчастье.
В течение этой зимы умер Петя Норов. Я после инцидента с его отцом к ним в дом не ездил, но тетя Ольга прислала мне записку, что Петя хочет меня видеть, почему умоляет забыть все происшедшее и приехать; благодаря тому, что в этот день я был дежурным по полку, я мог попасть к ним лишь на следующий день вечером и застал, увы, Петю уже в беспамятстве; доктора диагностировали эту болезнь нарывом под черепной костью, и в момент моего приезда их съехалось трое для немедленной операции — трепанации черепа. Родители были удалены из квартиры: тетя Ольга пошла ко всенощной, а при нем была тетя Лидия Небольсина. Трудно поверить теперь, как операция была сделана без всяких антисептических приготовлений: операторы даже не надели халатов, а тут же в его комнате на его постели стали оперировать: один доктор хлороформировал, другой расширял края раны, фельдшер подавал инструменты, а хирург долбил ему череп, как мне казалось, простым долотом с молотком; меня, заявившего, что у меня нервы крепки, за недостатком фельдшеров заставили держать свечки и освещать хирургу; удары молотка по инструменту были настолько резки, что тетя Ольга, вернувшаяся во время операции из церкви, услыхала их из передней и лишилась там чувств. Гноя не показалось, операция оказалась напрасная, и он на следующее утро скончался, не придя в сознание. Его невозможный отец из-под подушки покойника вытащил его серебряный портсигар и в комнате его собрал все мало-мальски ценные вещи, и после похорон сына даже не вернулся домой, а куда-то бесследно исчез, бросив семью на произвол судьбы; много лет спустя в парижских газетах появилась заметка о каком-то богаче русском Норове, поражавшем всех своими безумными тратами. Младший его сын Зюзю, бывший в то время полицейским приставом города Москвы, пытался навести через наше посольство справки, не его ли это отец, но так ничего и не выяснил. Бедная тетя Ольга после похорон старшего сына и бегства мужа была невыразимо жалка, и мы часто ее посещали. Она скоро должна была ликвидировать свою квартиру, поручила сыновей тете Лидии, а сама уехала в Москву и потом куда-то в деревню, и больше я ее никогда не видал.
Ухаживания Яши были так интенсивны, что ждали предложения каждую минуту; он в это время был слушателем Академии Генерального штаба на младшем курсе и был особенно отличаем ее начальником, генералом Драгомировым,
232
героем Турецкой кампании. Жилинский занимался крайне серьезно, но редкий день не бывал у нас, а в дни, когда он не мог приехать, кто-нибудь из триумвирата — Федоров или Киреев — приезжали объяснить его отсутствие. В день убийства государя, 1-го марта, они все трое должны были у нас обедать; я был убежден, что ввиду тяжелого настроения, ужасного впечатления от события, они извинятся и не приедут, но Яша не хотел пропустить свободного воскресного дня и сам приехал, извинившись за остальных. Его поведение было такое явно жениховское, что я не понимал, почему он медлит; но потом выяснилось, что он слышал от сестры, что она всегда хотела стать невестой 16-го апреля, в день помолвки наших родителей, и он, имевший всякие предрассудки и веривший всяким приметам, ждал этого дня, чтобы объясниться, хотя у него с сестрой было все переговорено и без слов решено. 21-го марта, день его именин, он проводил у нас и засиделся очень поздно; в Петербурге зачастую расходились часа в три ночи; чуть ли не в этот час он и уходил в этот день от нас, когда Папа́, вернувшись из клуба, встретился с ним и, желая быть любезным, сказал ему: «Я особенно торопился, Яков Григорьевич, вернуться пораньше домой, чтобы поздравить Вас». Мы потом Папа́ не давали проходу, что он дает ему плохое понятие о нашей семье, если возвращение главы ее в три часа утра считается очень ранним возвращением. На Пасхе разгавливался Яша, понятно, у нас, а также и его триумвират, и Пустошкин, друг Гриши Коробьина; о последнем вспомнил потому, что Тосик сыграл с ним в эту ночь злую штуку. Вернулись мы из церкви Уделов с Пустошкиным раньше других, и на мой звонок, как всегда, выскочил с радостным лаем Тосик, не обратив никакого внимания на моего спутника; пошел я осматривать в столовую стол, уставленный розговеньями, сопровождал меня Тосик, который был настолько велик, что голова его была выше стола, и он сосредоточенно обнюхивал издали все яства; встретившись при обходе на другой стороне стола с Пустошкиным, Тосик тут только его и заметил и так на него рявкнул, что Пустошкин со страха поскользнулся и упал, а Тосик, не обращая на него больше внимания, перешагнул через него и продолжал самостоятельно обход стола, пока я помогал Пустошкину подняться. Это было до того комично и забавно, что мы все расхохотались без удержу, а Тосик с тех пор как-то особенно подружился с Пустошкиным.
Наконец наступило 16-е апреля, и вечером после долгого разговора в своем маленьком будуаре с Жилинским Варя вышла к нам, ожидавшим у меня в кабинете, и заявила, что она его невеста, но только ввиду предстоящих ему весенних экзаменов в Академии, он просит об этом не объявлять, так как иначе на него косо будет смотреть Драгомиров. Мои родители плакали, целовали их, крестили, Нюничка причитала, я их поздравлял, хотя в душе был совершенно огорошен этим желанием скрыть радостное семейное событие, которым, мне казалось, всякий жених должен гордиться. Жил у нас в это время сдававший последние университетские экзамены Сережа Зыбин, от которого, понятно, ничего не скрыли. Вместо шумных радостных дней объявления сестры невестой по желанию Яши все пошло по-старому, все скрывалось, и даже родители поторопились с Варей отъездом в деревню, чтоб не мешать ему держать свои экзамены; я был глубоко огорчен и прямо разочарован, но таил это про себя. Перед отъездом мой отец,
233
знакомый по Калуге с сенатором Николаем Авксентьевичем Манасеиным, назначенным высочайшим повелением ревизовать Прибалтийский край, упросил его взять к себе Сережу Зыбина, что тот и исполнил; это было очень видное положение для начинающего службу. Мама́ как-то обиделась на какое-то замечание, сделанное тетей Лидией Небольсиной об Яше, причем она не подозревала, что он уже жених Вари, и после крупного разговора мои уехали, не простившись с Небольсиными, и ссора эта продолжалась около 10 лет. Таким образом, я оказался совершенно один, и даже без родственной Нюнички дома. Я проводил своих, крайне недружелюбно посмотрел на Яшу, их провожавшего, виновника их раннего отъезда, и с тяжелым чувством одиночества вернулся в нашу некогда шумную веселую квартиру, а теперь столь пустую. С Яшей я почти не видался, он был весь в своих занятиях, а я на него в душе дулся.
В середине мая, насколько помню, полк наш перешел в лагерь; шли мы походным порядком, честь честью, как бы во время военного времени, с продолжительной остановкой на полпути. Семен с Михаилом, Тосиком, лошадьми и вещами переехал рано утром в этот день, так что когда мы прибыли на место, все мне было уже готово. Полк размещался в те времена в Павловской слободе: два эскадрона в нарочно выстроенных бараках и конюшнях и два других по крестьянским домам; офицеры размещались в домах-дачах, расположенных вдоль шоссе, и обыкновенно из года в год каждый занимал прежнее помещение; меня приняли в компанию Гернгросс и Тимашев, занимавшие в центре расположения полка довольно большой дом из трех комнат: в одной была наша общая спальня, в другой — наш общий кабинет, а третью, в мезонине, мы предоставили своим камердинерам; фотография этого дома, снятая Диго с поданным к подъезду моим экипажем, висит у меня в Сергиевском; через шоссе был небольшой дом из двух половин, в котором жили Адлерберг и Мими Челищев; расположение всех офицерских квартир тянулось не более как на версту расстояния, и потому все жили одной общей жизнью, переговаривались и перекликались друг с другом из дома в дом. Женатые офицеры предпочитали быть более на краю расположения, но и то приходилось держать занавески опущенными, потому что в этой полубивуачной жизни офицерство костюмами не стеснялось. Традиционный дом командира полка с порядочным садом, казенный или наемный — не помню, был на отлете по дороге на вокзал. Дубенский со своей обычной оригинальностью занимал второй этаж большого дома, где, если не ошибаюсь, в первом этаже была какая-то лавочка, почему весь дом совсем не имел характера дачи; но он как-то отделал его по своему вкусу и водрузил над ним большой флаг с надписью «Mon Repos»; флаг этот по-царски подымался, когда он был дома, и опускался при каждом его отсутствии из лагеря. Сзади нашего дома местность опускалась к полотну железной дороги, идущей параллельно нашей слободе; недалеко от полотна был казенный большой дом красивой постройки с большой террасой и с садом, спускающимся к железной дороге, тут же текла, если не ошибаюсь, маленькая речка; дом этот занят был нашей артелью, которая функционировала, как и в городе, но в ней за неимением своего хозяйства питались уже все офицеры, женатым завтраки и обеды доставлялись на дом, мы же все, которые жили у себя, только пили чай; перед
234
завтраком и обедом в артели ударяли в гонг, и по этому зову все собирались, несмотря на погоду.
Лагерное обучение войск делилось на периоды: начиналось с эскадронных учений, потом полкового, а затем уже войска объединялись в более крупные единицы, и последние три недели перед большими маневрами посвящены были малым маневрам по особому расписанию. В период полковых и эскадронных учений, часа в три, после солдатского обеда и отдыха, назначалось поэскадронно учение пешее по конному или рубка, или стрельба, на которую офицеры выходили без оружия, лишь руководя занятиями нижних чинов. День начинался рано: без четверти пять утра трубачи проезжали через все расположение Павловской слободы, играя генерал-марш; через три четверти часа надо было быть уже при своем эскадроне, и мне, как младшему офицеру, раньше всех других, так как в присутствии старшего я не имел права здороваться со своим взводом; нашим лакеям предстояло много труда стащить нас с постели, и не обходилось без стаскивания одеяла и обливания водой; утренний чай выпивался чуть ли не на ходу, у подъезда стояла уже верховая лошадь, которую держал мой бессменной рейткнехт Осьмин. Для лагеря я купил себе еще парадера Фаэтона за 1300 рублей; это была уже моя третья покупка; до этого дядя Митя Жемчужников купил мне сырую лошадь, которая вместе с выездом обошлась мне почти в 1000 рублей и оказалась никуда не годной, почему я с трудом ее продал извозчику за 125 рублей. Все эти расходы и покупки, а равно жалованье Семену и кучеру и содержание лошадей платил Папа́, мне же он давал на мои расходы 100 рублей в месяц, а когда я оставался один — 300 рублей в месяц. В шесть часов эскадрон со своим командующим, а если было полковое учение, полк под командой старшего полковника выступал на военное поле, где и начиналось учение; для полкового учения ждали приезда полкового командира. Учение длилось до 11-ти часов; во время отдыха появлялся неизменный маркитант Матвей, и тут, собственно, и начиналось наше утреннее питание. Не понимаю, как он поспевал всех нас накормить, не путаясь в счетах, а аккуратно записывая за каждым его долг, который обыкновенно уплачивался в конце лагеря. Знал он вкусы каждого и каждому подавал что он спросит; для меня у него всегда были в запасе лимонад Газёз и какой-то особый шоколад в квадратных плитках, начиненный каштановым кремом с ромом, уложенный в длинных выдвигающихся коробках; но это был лишь десерт, до того же поглощалось необычайное количество разных горячих биточков, пирожков и бутербродов; лагерный мой счет ему, если не ошибаюсь, достиг 300 рублей, несмотря на дешевизну, когда бутерброд стоил не более 5 копеек; много ему приходилось хлопот, когда эскадроны разделялись, но и то он поспевал со своими подручными всех нас накормить. По окончании учения полк с музыкой возвращался домой. Это являлось для меня загадкой, как Тосик умел отличать нашу полковую музыку: шли ведь и другие полки тем же путем, к ним он и не выбегал, а наш полк всегда встречал версты за полторы от моего дома и приветствовал радостным лаем; все его знали, и не только офицеры, но и солдаты звали его, на что он всем махал хвостом, но не двигался с места, пока не увидит меня, едущего в середине полка в хвосте второго эскадрона, и тогда он с визгом облизывал мне сапог, пристраивался к моему стремени,
235
и с таким адъютантом я возвращался домой, где немедленно обливался, переодевался, так как от пыли возвращался черный, как угольщик. Семен мне уже приготавливал к этому времени ледяное молоко, и мы с Гернгроссом и Тимашевым предавались farniente впредь до обычного звука гонга в час дня, призывающего нас в артель.
В три часа, отдохнувши в артели и прочтя там газеты, мы все шли на занятия по своим эскадронам; происходили они на лугу около полотна железной дороги и продолжались часов до пяти, после чего обыкновенно все отдыхали до обеда, а многие и уезжали в Петербург. Самое приятное время было вечер; некоторые ездили в Красносельский театр, я же предпочитал кейфовать дома или же у кого-нибудь из товарищей; при нашем доме был палисадник, и в следующем году, когда я жил один в этом доме (Гернгросс и Тимашев были в отпуску), этот палисадник был обычным местом сбора товарищей; пили мы чай, обдуманный всякими вкусными вещами Семеном, и беседовали до поздней ночи; раза два с разрешения полкового командира играли у меня трубачи после зари; мой ближайший сосед полковник Николаев приходил иногда в халате и в ермолке, совершенно по-домашнему; вообще ложились мы поздно, редкий день раньше часа, и как трудно было на следующий день вставать в пять часов утра! Эскадронным командиром моим был Ковальков, по полковому прозвищу «Кисун»; получил он эскадрон после Лазарева, который получил пятый запасный эскадрон, остававшийся на лето в Петербурге для охраны казарм. Ковальков был очень добрый малый, был он двоюродный брат Саши Адлерберга, так как мать его была урожденная графиня Адлерберг; женат он был на Барановой, тоже двоюродной сестре Адлерберга, но со стороны матери. Кисун был страшно вспыльчив, и эта вспыльчивость доводила его часто до беды; была у него замечательная лошадь Гаэтан, самая красивая из всех офицерских лошадей, и, бывало, при малейшей ошибке в построении эскадрона летит Кисун, бледный, наскочит на виновного, зацукает бедного Гаэтана так, что тот сядет на задние ноги, и так раскричится, что кажется, сейчас лопнет от крика, а через какие-нибудь пять минут весел и шутит, и обласкает этого самого виновного солдата. Однажды он забылся до того, что в гневе ударил нижнего чина, что-то не то сделавшего; и тут же был посажен на гауптвахту командиром полка, увидавшим это издали. Такое дисциплинарное взыскание эскадронному командиру, как из ряду вон редкое, наделало много шуму. Кисун был очень сконфужен, немножко остепенился, а жена его просила нас, офицеров его эскадрона, удерживать его от необузданных поступков. Солдаты эскадрона, в общем, относились к нему хорошо, кроме вахмистра Попова, которого Ковальков держал в ежовых рукавицах, строго следя лично за довольствием и обмундированием солдат; отношение к Ковалькову эскадрона сказалось, когда последний был вновь посажен на гауптвахту уже не по своей вине, а по вине одного из солдат эскадрона — досталось же этому солдатику от своих товарищей!
Случилось это так: во время пребывания государя в Красном Селе путь от Красного Села до Петербурга охранялся часовыми, стоявшими на расстоянии приблизительно ста саженей друг от друга; на обязанности их лежало не допустить к полотну никого, кроме железнодорожных служащих, и за четверть часа
236
до прохода царского поезда закрывались и все барьеры, и уже никто не пропускался даже на переездах. Во время такого закрытия шлагбаума подошел к переезду солдат моего эскадрона, спешивший домой; часовой от Преображенского полка, стоявший на этом посту, его не пустил, а проверявший этот пост фельдфебель роты Преображенского полка обругал его самыми скверными словами, после чего наш солдат его ударил; скандал вышел громадный: затронута была честь мундиров двух полков, и для всестороннего беспристрастного расследования были назначены два офицера — от нашего полка и от Преображенского; от кавалергардов назначен был я, от преображенцев — Мимка Нейдгардт, и вновь нас обоих, камер-пажей покойной государыни, судьба соединила на общем деле. Пока еще шло дознание и мы выясняли все подробности, приехал в артель граф Алексей Павлович Игнатьев как бывший кавалергард; во время обеда отозвал в сторону Шипова и передал ему совет поскорее наложить какое-нибудь громкое дисциплинарное наказание на виновных, дабы отвести беду от полка, ибо, как говорят, государь очень сердит, а все великие князья, имеющие мундир Преображенского полка, рвут и мечут, и что граф Шувалов, командир Гвардейского корпуса, не прочь отдать под суд эскадронного командира того солдата, который нанес оскорбление преображенскому мундиру. Шипов послушался совета Игнатьева и посадил бедного Кисуна на пять суток на гауптвахту. Затем я был позван к Николаю Николаевичу, и мне было поручено не упустить ни одного обстоятельства, могущего послужить на пользу нашему солдату и во вред преображенцу. Встретились мы с Нейдгардтом как враги или, скорее, как послы двух враждующих держав, но затем старая дружба взяла верх и кончили мы наше поручение совершенно миролюбиво. Виновность моего солдата была неоспорима, он и часового не послушался, и фельдфебеля ударил, но зато удалось точно выяснить, что фельдфебель был выпивши и допустил совершенно неприличное ругательство; прав был только часовой, который и получил какую-то денежную награду, кажется, даже при участии нашего Шипова, а остальные двое были отданы под суд. Судьбу их не помню, но зато помню громовой высочайший приказ по этому делу: одного Ковалькова, уже сидевшего на гауптвахте, этот приказ не коснулся, командиру же полка и начальнику дивизии объявлен был выговор; командиру корпуса — замечание, а командующему войсками округа поставлено на вид; вот каких бед натворил солдат нашего эскадрона.
В середине лагеря, по моему приглашению, приехали камер-пажи, предполагавшие войти в Кавалергардский полк: Саша Шереметев, Кауфман, граф Менгден, Раух и Георгий Карцев; и я их в качестве гостей повел в артель обедать, где представил их командиру полка и всем офицерам. Приняли их очень радушно, очень одобрили меня, избравшего такой путь для представления новых товарищей, и угостили их на славу; каждый обедавший почел своим долгом послать им в виде приветствия по бокалу шампанского, и мне пришлось их разместить на ночь у себя и лишь утром рано отправить обратно в Корпус. Лагерь прошел весело, были незначительные маневры, довольно скоро кончившиеся, и по окончании лагеря я взял всего лишь двухнедельный отпуск, который и провел в деревне. Застал там Варю в тоске по жениху, который в течение лета только раз мог урваться дней на пять, и к началу сентября мы уже все были обратно
237
в Петербурге. Я торопился к полковому празднику 5 сентября, который должен был в этот раз состояться в величайшем присутствии в Петергофе, а Варя торопилась к Яше. Когда я вернулся, полк был еще на траве и возвращался поэскадронно из разных участков, нанятых для скоса травы вдоль Невы. Однажды я был разбужен радостным лаем Тосика, раздававшимся из залы, и, выскочив туда, застал его, высунувшегося в форточку и визжавшего и лаявшего на проезжавшую часть эскадрона, возвращавшуюся с травы; он их узнал и рвался к ним, они все его звали к себе, и, не подоспей я вовремя, он несомненно разбил бы окно и выскочил бы на улицу. Для него не было преград: Семен мне рассказывал, что в мое отсутствие он, уходя из дома, привязал его на железную цепь в спальне моих родителей к массивной кровати, чтобы он не мешал малярам оканчивать работу в зале, поручивши швейцару выпустить маляров, когда они кончат работу. Когда же он довольно поздно вернулся, он нашел Тосика перетащившего на себе эту кровать через всю квартиру, лежавшего между дверью залы и выходной дверью и не пускавшего в квартиру швейцара, а из залы — маляров. Последним пришлось, во избежание скандала, дать на чай за часы, проведенные ими под арестом. С ним было очень неприятно гулять по улице, потому что он не мог видеть лошадь, отъезжающую от тротуара, чтобы не броситься с лаем ее удерживать; он входил в какой-то раж и ничего не слушался, почему немедленно пропадал, возвращался поздно вечером сконфуженный, ложился на свое место и, видя меня, рычал, зная, что сейчас будет наказан. Раз он пропадал таким образом несколько дней, и Семен извелся от слез, после чего выводил его уже не иначе как на цепочке.
По возвращении всех, когда домашняя жизнь пошла своим чередом, родители мои сказали Яше, что так продолжаться не может, и они желают не только объявить его женихом, но и официально благословить. Свадьба была назначена на 8 января, а для благословения решили все вместе ехать в Зарайск к дедушке и бабушке Волконским. Дождались мы окончания полкового праздника, который прошел обычным порядком: в Петергофе на дворцовой площадке был произведен полку государем церемониальный парад, причем государь провел полк церемониальным маршем мимо первого шефа — государыни императрицы, надевшей по этому случаю кавалергардский колет; затем все офицеры были приглашены к царскому столу, а вечером в Петербурге в артели был товарищеский ужин, на который приглашены были все служившие когда-нибудь в полку, а также и великие князья, зачисленные в списки полка; последние, по случаю траура по государю, отказались, и вечер прошел без всяких официальностей в товарищеской среде. Скоро после того мы все поехали в Зарайск, приехали туда поздно вечером; на следующий день должно было быть благословение, на которое дедушка созвал весь город; после него обед, и в тот же вечер мы должны были с Яшей ехать обратно в Петербург; потом через несколько дней Папа́ должен был проводить Мама́ и Варю до Москвы, сам ехать в Симбирск, а они к нам в Петербург. Бабушка нам рассказывала, что дедушка, устроив через улицу против своего дома щит с вензелями «Я. В.» («Яков, Варвара», а в городе говорили, что это обозначало «Я, Волконский»), хотел, чтобы на балконе его дома был бы устроен огненный голубь, который, зажженный Варей, должен
238
был перелететь через улицу и зажечь вышеуказанную декорацию, и кроме того дедушка настаивал, чтобы во время тоста за женихов был бы салют пушечный. Исправник не мог допустить пускания фейерверка по улице города, а начальник гарнизона, командир артиллерийской батареи — стрельбу пушек, и оба, не желая огорчить дедушку, приезжали к бабушке, прося выручить их и отговорить дедушку от его затей. Бабушка тоже побаивалась своего мужа, но вместе с тем понимала положение этих господ, почему порешили на том, что насчет пушек ему скажут, что пороха нет, а что касается иллюминаций, то щит зажгут, но никакого летающего голубя не устроят, а так как он слеп, ему скажут, что он летит. Так и сделали, и дедушка все подсмеивался над батарейным командиром: «Хороша артиллерия без пороха», а когда пришлось зажигать иллюминацию, дал в руки Вари зажженную восковую свечку и только успокоился, когда она ему сказала, что голубь она зажгла и он полетел, а голубя никакого не было, фонариками лишь были устроены вышесказанные вензеля. По случаю этого торжественного дня дедушка облекся во фрак с высоким стоячим воротником, подпирающим его подбородок и щеку, и его фигура в этом необычном для него костюме была необыкновенно сановита и ancien regime; бабушка была в каком-то чепце с рюшами и очень старинной пелеринке. Был торжественный молебен, отслуженный всем городским духовенством, после чего духовник дедушки сказал приличествующую речь, а мои родители и дедушка и бабушка поочередно благословили жениха и невесту. Я, помня прошлогоднее дутье дедушки, уговорил Яшу надеть и сам надел полную парадную форму, коей дедушка не мог уже по слепоте насладиться. Обед был назначен в семь, меню было составлено с названиями, напоминающими торжество: был какой-то суп à la жених, невестинские пирожки, кавалергардские котлеты и т. д. Благословение кончилось раньше ожидаемого, и в таком смешанном незнакомом обществе время до обеда тянулось медленно. Дедушка устал, уселся на необычном месте в зале, усадив меня рядом с собой, зевал и подремывал, а гости бродили по зале в тоске, ожидая закуски. Когда уже стало очень томительно, дедушка без всякого стеснения послал меня на кухню, сказав: «Я так устал и все мне так надоели, вели подавать что готово, мы их накормим и отпустим»; я страшно сконфузился, видя, что многие слышали его слова, но как-то никто никогда на него не обижался. Быстро подали обед, чуть ли не после супа выпили за здоровье жениха и невесты, и бедный старик ушел спать; но, проспав очень недолго, вновь вернулся, на этот раз уже в халате, и был необычайно весел.
В тот же вечер мы уехали с Яшей в Петербург, а через несколько дней приехали и Мама́ с Варей; Папа́ же задержался в Симбирске, пока не заключил купчую крепость на новое имение Покровское в 500 десятин Симбирского уезда, которое он купил на имя Вари ей в приданое. Когда он вернулся, начались усиленные хлопоты по покупке ей приданого. Яша бывал ежедневно, и зима до ее свадьбы прошла очень тихо. По воскресеньям Яша проводил весь день, Мама́ возила их с визитами к нашим близким знакомым и родным; мы перезнакомились со многими его семейными домами, в которых до того Яша был принят как родной; собственных родных в Петербурге у него никого не было. Был у него только один брат Иван Григорьевич с двумя детьми, Лизой и Гришей, живший
239
всегда в деревне и которого я так никогда и не видал; дети его бывали у нас потом. Со стороны отца, давно умершего, у него никого не было родных; мать его, урожденная Муромцева, тоже давно умерла, один ее брат Петр Петрович был женат на Бенкендорф, и о нем я писал в моих воспоминаниях о Пропойске; другой, не помню, как его звали, имел несколько сыновей, которых я встречал, но не помню даже, как их звали; был еще у Яши в Рязани двоюродный дядя Леонид Матвеевич Муромцев, коего единственный сын женился на княжне Голицыной, сестре Муравлина-Голицына, и скоро умер бездетным, после чего предполагали, что Леонид Матвеевич свое майоратное имение Баловню передаст Яше, но впоследствии завещал он его художнику Волкову, объясняя это тем, что у последнего были сыновья, а у Яши только дочь. Таким образом, нам знакомиться с его родней не приходилось, а ему пришлось объехать знакомиться с нашей родней и многим отсутствующим писать рекомендательные письма.
При самом моем возвращении в Петербург в обществе стали ходить слухи, что образовалось какое-то тайное общество, принявшее на себя задачу охраны особы государя, что мысль эта возникла ввиду убеждения в недостаточной силе правительства для обуздания крамолы. Об этом говорили разно: некоторые предполагали, что это особые лица, вращающиеся в обществе, которые обязаны сообщать обо всех разговорах и обо всех слышанных ими антиправительственных направлениях, нечто вроде «слова и дела» в царствование Анны Иоанновны; другие же говорили, что это сообщество людей, всюду сопровождающих невидимо государя при его выездах из Гатчины и рыцарски поклявшихся положить свою жизнь за него, но не дать ему погибнуть. Меня лично эти слухи очень волновали и поэтому очень был счастлив, когда вся эта тайна для меня раскрылась; случилось же это так. Как-то вечером получил я записку от Саши Адлерберга, приглашавшего меня к нему прийти, если я свободен. Я всегда боялся ему наскучить, сам же настолько был к нему привязан, что готов был ежедневно с ним видеться, а потому можно себе представить, с каким удовольствием я сейчас же к нему отправился. Меня удивила та таинственность, с которой он меня принял, осмотрел он все двери, хорошо ли они закрыты, затворил даже соседние комнаты на ключ, дабы никто не мог слышать наш разговор, и затем взял с меня честное слово, что все, что я услышу от него, останется в секрете и никому, даже самым близким, не будет рассказано. Зная его и питая к нему восторженную дружбу, я это слово дал и думал услышать что-нибудь, до него касающееся, и что он нуждается в моей помощи; но он тут же стал мне рассказывать про вновь образовавшееся тайное общество; носило оно название «Святая Дружина», основано было с соизволения государя, каждый новый член общества получал звание брата Святой Дружины с особой кличкой и номером, каждый вновь принятый знал лишь своего начальника, принявшего его, под началом коего было пять человек; каждый обязывался по мере возможности набрать новый пяток, но предварительно должен был через своего начальника попросить разрешения того совета, который управлял и никому из простых членов не был известен. Цель общества — всеми своими силами и жертвой, кто чем может, деньгами, временем и жизнью охранять государя и содействовать подавлению крамолы; обязанность каждого во всем беспрекословно слушаться
240
своего начальника и ни от какого поручения не отказываться. Изложив мне все это более подробно и красочно, чем я это делаю ныне, — тогда еще во всех горел ужас и негодование за убийство государя, и мы, правящий класс и поместное дворянство, значительно обедневшие благодаря его реформам, все-таки были ему преданы по завету Христа как истинные верноподданные помазаннику Божию, — Саша сообщил мне, что только сегодня получил разрешение принять меня в братья Святой Дружины, если я того пожелаю. Предложил он мне обдумать и дать решительный ответ хотя бы через несколько дней, но я ни одной минуты не чувствовал в себе сомнения, готов был всего себя отдать в защиту государя и потребовал от него немедленно меня принять в свой пяток. Вытащил он свой крестильный крест из под рубашки, заставил меня прочесть обещание хранить эту тайну и отдать себя всего охране государя и борьбе с крамолой, после чего поцеловать крест и подписать написанное мною обещание; расцеловал он меня уже как нового брата от лица всей Святой Дружины и передал мне серебряный образ Александра Невского с единственным отличием, что колени его перекрещивались палкой; на обратной стороне была написана моя кличка и номер (№ 27, Ура). «Ура» было название старшего брата, основавшего эту семью, набранный им пяток кончался № 5-м, набранный пяток № 1 кончался № 10 и т. д., так что я был вторым в пятке Саши Адлерберга, имевшего № 5 того же Ура. Тут же он мне сообщил тот внешний знак, которым надо было приветствовать друг друга, когда требовалось объявить другому о своей принадлежности к Святой Дружине; знак этот состоял в том, что кланяясь и смотря прямо в глаза другому, надо было незаметно провести по коленям правой рукой черту в воздухе; не помню точно, было ли у нас письменное удостоверение о принадлежности к Святой Дружине, или же вышеуказанный образ Александра Невского его заменял, но по предъявлении того или иного полицейский чин, к которому мы обратились бы, обязан был нам оказать требуемое содействие. За эту зиму моя деятельность в Святой Дружине свелась лишь к тому, что мне раз поручено было отвезти какой-то пакет графу Шувалову, адъютанту великого князя Владимира Александровича; жил он в своем палаццо на Фонтанке; в обществе носил он название Боби Шувалова, и про него потом рассказывали, что он интерсептировал переписку великой княгини Марии Павловны с германским императором и, найдя в каком-то письме неодобрительные отзывы великой княгини о государе и его политике, представил его величеству само письмо; за такой неблаговидный поступок великий князь уволил его от должности своего адъютанта, и государь через неделю или две после этого увольнения демонстративно пожаловал его своим флигель-адъютантом, а великой княгине было приказано удалиться из Петербурга.
В другой раз мне поручено было отвезти в Калугу два пакета к местному губернатору Ивану Егоровичу Шевичу и к начальнику Жандармского управления Константину Федоровичу Шрамму; содержание всех этих пакетов мне было совершенно неизвестно и, вероятно, было самое безобидное, как, например, разрешение на принятие нового брата, но мне они казались какими-то государственными тайнами, от коих зависело благополучие самого государя, и потому можно себе представить, как я относился к точному исполнению данного мне поручения;
241
дважды Адлерберг приказал мне быть на улице на Невском проспекте при проезде государя; участок, порученный мне и еще некоторым другим офицерам, была правая панель между Караванной и Малой Садовой. Цель Святой Дружины была создать на проезде государя публику, верную ему; но я лично думаю, что мы, как неопытные, только мешали действию наружной полиции, а появление такого количества фланирующих на маленьком пространстве гвардейских офицеров обращало внимание посторонних и только указывало путь следования государя, который всегда тщательно скрывался. Один раз я обратил внимание на какого-то штатского, околачивавшегося на том же самом месте, и когда указал на него как на подозрительную личность полицейскому чиновнику, выяснилось, что это филер Департамента полиции; доказывает это нашу неопытность и подтверждает, насколько мы могли приносить иногда вместо пользы только один вред; но подъем верноподданнических чувств у петербургской молодежи был огромный, и это был очень отрадный факт.
У меня подбор пятка шел очень туго; первый, которого я наметил, был мой товарищ Багговут (Александр Карлович, революция застала его на посту курского губернатора); разрешение на принятие я получил, и он также на это согласился, почему, проделав с ним все то, что со мной делал Саша Адлерберг, я его первым принял в свой пяток; вторым я наметил Митушка Дашкова и получил на это разрешение, но Митушок, приглашенный ко мне вечером для сего, не только резко отказался, но заявил мне, что участие офицеров в тайных обществах строго запрещается присягой, и на мое возражение, что Святая Дружина основана по желанию государя, он настаивал на своем и добавил, что он обязан, собственно, доложить о сем полковому командиру и что данное им в начале разговора честное слово хранить в тайне нашу беседу ставит его в двойственное положение. Я тогда, взбешенный его недоверием, освободил его от этого честного слова при единственном условии — передать Шипову лишь мое участие в этом деле, но отнюдь не цель и технику организации Дружины. Дашков тоже раскипятился и ответил, что он не доносчик и меня подводить не хочет; расстались мы с ним в довольно холодных отношениях. Говорил ли он Шипову или нет — не знаю, но скоро я натолкнулся на недружелюбное отношение Шипова ко мне, и как раз по делу Святой Дружины. Дело было так: Адлерберг передал мне, что я туго набираю свой пяток, но что если я имею возможность привлечь верного брата или в Москве, или, главное, в Риге, где действует в настоящее время министерская ревизия, мне это будет поставлено в заслугу и зачтется за неудачную мою рекомендацию Дашкова; я тогда вспомнил про Сережу Зыбина; потребовал Саша от меня письменного изложения биографии Зыбина, его характера и т. д.; разрешения я долго не получал, и в это время Зыбин, гостивший здесь короткое время у нас, вновь уехал в Ригу. По-видимому, собирали о нем подробные сведения; наконец однажды Адлерберг отвел меня в артели в сторону, передал мне незаметно все требуемые документы и поручил торопиться принять Сережу Зыбина в Святую Дружину, на что я ему возразил, что Зыбин уже уехал, потому пойду к командиру полка просить отпуска на три дня, съезжу к нему в Ригу и ручаюсь, что получу его согласие и приму его по положению; Адлерберг одобрил мое предположение. Отправился я, одевшись по форме, к командиру полка и, к моему
242
великому удивлению, получил резкий безусловный отказ в отпуске. Вернулся в артель сконфуженный, застал еще там Адлерберга и сообщил ему о потерпленном фиаско. Саша меня успокоил, сказал, что он доложит своему начальнику, дело устроится, что был уже один случай такого противодействия со стороны графа Алексея Павловича Игнатьева, который зато постановлением совета Святой Дружины был лишен потомства, то есть права набирать подчиненный пяток; действительно, часа через четыре или пять мне принесли на квартиру отпускной билет, подписанный Шиповым, и записку Митушка, в которой он сообщал, что вышло недоразумение, что ввиду близости отхода поезда я могу ехать, не являясь к командирам эскадрона и дивизии, что он мне сам сообщит об этом в записках; торжество было полное, и я еще более уверовал в силу и значение Святой Дружины. Поездка эта была очень приятная. Сережа Зыбин согласился; передал я ему полученную для него инструкцию, но потом я с ним прямых сношений по Святой Дружине не имел, так как он сносился непосредственно с одним из старших братьев, в район которого входила Рига, я же сам скоро был переведен по другому отделу в разряд братьев первой степени и даже не имел более сношений по делам Дружины и с Адлербергом, о чем будет речь впереди. Пробыл я в Риге более суток, приехал туда поздно вечером, встретил меня на вокзале Сережа Зыбин во всем своем величии чиновника особых поручений ревизующего сенатора, пред которым все власти, особенно полиция, трепетали. Поразила меня оригинальность улиц старого города, узких до того, что двое саней едва разъезжаются; вез нас извозчик с немецкой упряжью и с какими-то гортанными выкриками. Зыбин для меня занял номер в лучшей гостинице, как раз против шлосса; была дивная лунная ночь, и я долго любовался красотой замка; сидели мы с Сережей до утра, беседуя и про Дружину, и про его дела, и про нашу семью, в которой он занимал положение приемного сына. На следующее утро Манассеин, узнавши о моем приезде, освободил его от службы, и днем он мне показывал весь город, возил меня даже на взморье, красоту коего я принял на веру, ибо все было под льдом и снегом. Посетили мы семью Тобизенов, жена которого Зинаида Семеновна была калужанка, урожденная Яковлева, а он, Герман Августович, был в Риге вице-губернатором; жили Тобизены в старом городе, и я еще раз насладился видом средневековых улиц и домов. Обедали мы с Зыбиным в каком-то ресторане, где он поднял бурю за то, что метрдотель обратился к нему по-немецки. Манасеин и все его чиновники подчеркивали, что этот край русский и во всех общественных местах требуется знание государственного языка. Везде у Зыбина были уже знакомые; он был до мозга костей человек общества, успел узнать всю подноготную местного общества и, держась со всеми на дружеской ноге, подчеркивал вместе с тем значение ревизующих чиновников. Благодаря ему я в один день перезнакомился с массою лиц, с которыми потом даже не встречался.
Сережа и Тобизен проводили меня на вокзал, устроив меня совершенно по-царски, отчего кондукторы до самого Петербурга относились ко мне с особым почтением, и вернулся я из Риги, вынеся впечатление какого-то сна от моего там пребывания. Вернулся я в полк к своим занятиям, а занятия были этой зимой очень серьезные — я с самой осени был назначен вторым помощником заведующего учебной командой; заведующим был Гернгросс, а старшим помощником
243
Тимашев. На мне лежали занятия по арифметике, уставам, сборке и разборке ружья и вольтижировка; кроме того я должен был присутствовать и при верховой езде, которую производил всегда сам Гернгросс. В учебную команду эскадронные командиры назначали лучших людей, которых они мечтали в будущем иметь унтер-офицерами, не считаясь с их грамотностью, почему наравне с солдатами, окончившими какую-нибудь школу и вполне грамотными, были и такие, которые и буквы не знали, а в одну зиму надо было их подготовить и сделать их способными и написать толковое донесение, и точно подсчитать всякий фураж и разные денежные суммы с отчетом по ним, а также и нарисовать от руки маршрутную карту; труд был гигантский, и всегда были пререкания с эскадронными командирами, которые, собственно говоря, не имели права присылать неграмотных, но правда, что зато народ был выбран сметливый, видный и красивый. Скоро, убедившись в разнокалиберности знаний набранного состава, Гернгросс разделил их на два отделения, поручив мне неграмотных и малограмотных, коим я обязан был преподавать сверх всего чтение и письмо. Работал я как вол, но и достиг я таких результатов, что на экзамене ни один из моих не ударил лицом в грязь, только одному, самому неуспешному, кажется латышу, весь диктант был подсказан старшим унтер-офицером, исполняющим обязанности вахмистра команды, чему я, сознаюсь, не препятствовал; экзамен в команде производился целой комиссией под председательством начальника дивизии и окончился вполне благополучно, так что мы трое получили благодарность и увековечили нашу совместную работу группой, которая висит у меня в Сергиевском. Начальник дивизии Шаховской, очень высокий, на вид строгий генерал, [был] много любезнее в обращении своего предшественника графа Александра Ивановича Мусина-Пушкина, но зато такой педант, что солдаты и офицеры положительно жалели о крикуне Пушкине. У князя Шаховского была единственная дочь замужем за Оржевским, виленским генерал-губернатором. На первом инспекторском смотру князя Шаховского я по неопытности сделал большую неловкость. После опроса в манеже претензий начальник дивизии с командиром полка пошли по конюшням, а мы, младшие офицеры, собрались в артели ждать начальство к завтраку; кто-то из товарищей заметил, как скучно будет завтракать в форме, при оружии, на что я ответил, что здесь у меня экипаж, и я сейчас поеду переоденусь в сюртук, что он вполне и одобрил. Сказано-сделано, и через полчаса я совершенно наивно вернулся уже в сюртуке в артель, где завтрак уже начался, и пробрался на свое место за столом, где и уселся. Тут только я заметил, что я один в сюртуке, но не успел еще опомниться, как над моим ухом раздался шипящий голос Кисуна: «Марш, ступай сейчас же оденься по форме!», и я, несолоно хлебавши, должен был немедленно уйти. Сознаюсь, что было очень стыдно быть на положении школьника, выгнанного из-за стола, но, отпустив уже Михаила-кучера, глупо было ехать домой вновь переодеваться, и я остался пережидать отъезда начальства в дежурной комнате; сотоварищем моим был Казнаков, занимавший должность бригадного адъютанта при нашем начальнике бригады графе Орлове-Давыдове; Казнаков тоже приехал в сюртуке, но, как старый офицер, знал положение и не сунулся в столовую; дождались мы с ним отъезда начальства и вернулись вдвоем позавтракать в артель; послужил этот случай мне на пользу, ибо
244
все старшие офицеры, наши полковники, с коими я еще не был на «ты», чтобы позолотить мне пилюлю, выпили со мной брудершафт, и с этого момента я стал уже совершенно полноправным старым офицером.
Брат нашего князя Василия Кочубея, Виктор (впоследствии генерал-адъютант и директор Департамента уделов), служил в то время в конной артиллерии и захотел перейти к нам в полк; переход в гвардии из полка в полк был очень труден и для него затруднялся еще тем, что он был старше меня, непосредственно становился надо мною по производству и оседлывал меня и всех стоящих ниже меня, то есть барона Гюне фон Гойнингена, брата своего Василия Кочубея и последний выпуск. Базя Кочубей просил меня устроить это, и я очень скоро, переговорив с младшими, добился их согласия, а сам, не придавая никакого значения старшинству, очень был рад посодействовать вступлению в наш полк Виктора Кочубея, который мне очень нравился. Перевод его в наш полк очень быстро состоялся, и приобрел я нового товарища, с которым наши дружеские отношения при свидании уже в зрелых годах никогда не прекращались.
Из новых товарищей выпуска 1881-го года особенно сошелся я с Сашей Шереметевым, о котором уже писал выше; он был очень добрый малый, колоссально богат, вдвое богаче своего старшего брата Сергея Дмитриевича, потому что отец их еще при жизни передал своей второй жене, матери Саши, часть своих капиталов и почти все фамильные брильянты, так что после его смерти Саша получил половину его состояния, а после смерти матери, последовавшей почти тотчас же, и все состояние матери; опекуном над ним был его брат; кажется, перед самым поступлением в полк наступило его совершеннолетие, а потом какие-то трения по поводу опекунского отчета, хотя Саша говорил мне, что по собственному почину, как холостой, передал брату, имевшему много детей, миллион в удовлетворение того процента опекунского содержания, которого Сергей Дмитриевич лишался за совершеннолетием Саши. Саша был малый неумный; когда мы с ним очень сблизились, часто жаловался мне на разные семейные дрязги, и думаю, что виновны в них были не столько сами братья, сколько их прихлебатели и приспешники.
Сблизились мы с Шереметевым совершенно случайно на почве музыки — он был страстный музыкант, серьезно изучал музыку, но сам играл на очень неблагодарном инструменте — cornet à piston. При нем был постоянный музыкант, окончивший Венскую консерваторию, который ему аккомпанировал и иногда играл с ним в четыре руки. Услыхав однажды в исполнении Шереметева «Ständchen» Шуберта, я был удивлен мягкостью его звука и посоветовал ему попробовать себя в камерной музыке; эта мысль ему очень понравилась, и вскорости пригласил он нескольких исполнителей из состава профессоров Петербургской консерватории. Жил он в доме брата, занимая совершенно отдельное помещение с отдельным подъездом, своим хозяйством, коим заведовала его старая нянюшка, очень почтенная, приличная старушка, разливавшая нам чай и участвовавшая на всех его приемах товарищей. Шереметев, играя впервые в ансамблях, путался в счете, и, чтобы ему помочь, я стал ему дирижировать, указывая ему вступление; я, воспитанный на музыкальных собраниях в семье, был в этом вполне опытный и действительно оказал пользу, так что стали требовать моего участия как
245
дирижера. Помузицировав таким образом около месяца, захотелось еще больше, и так как состояние его позволяло ему всякие фантазии (он холостой, одинокий, получал в год около миллиона дохода), он решил собрать у себя оркестр из двадцати человек. Брат уступил ему для этого одну из своих зал близ церкви, но с условием пользоваться ею лишь по субботам вечером после всенощной; и с тех пор каждую субботу бывали у него оркестровые концерты. Дирижерами были для серьезных классических произведений его аккомпаниатор, окончивший консерваторию как раз по оркестровому классу, а для более легких — я; в составе оркестра помню первую скрипку Галкина, потом профессора консерватории; на корнете играл сам Шереметев, и состав оркестра все увеличивался, дойдя под конец до 60 человек. Никогда не забуду, какое это было наслаждение дирижировать оркестром: сам не играя достаточно хорошо ни на одном инструменте, [я] имел возможность движением руки извлечь те звуки, которые хотел, давая оттенки исполнения по своему пониманию; это было совершенно какое-то особенное чувство, и когда после исполненной какой-то увертюры Мендельсона, кажется «Ruy Blas», оркестр мне зааплодировал, я был горд до бесконечности. Программу этих вечеров обыкновенно составлял я; первое отделение заполнялось всегда одной какой-нибудь симфонией, и, как ни хорошо это было, я всегда ждал второго отделения, которое я почти всегда сплошь дирижировал. Туда входили и увертюры, и попурри; часто исполнялось попурри «Оксэна», где самая банальная немецкая тема разрабатывается в духе отдельных композиторов, особенно оригинальных по оркестровке, как-то Баха, Гайдна, Моцарта, Верди, Мейербера, Гуно и Вагнера; это было настоящее наслаждение передавать оттенками характер каждого изображаемого автора; еще чаще исполняли мы «Reveil du lion», и бравурная последняя часть, идущая все crescendo, начиная от pianissimo до самого полного fortissimo, вызвала однажды гром аплодисментов из соседней залы, куда граф Сергей Дмитриевич привел в темноте потихоньку своих гостей. Я был страшно сконфужен, но и очень доволен. Думаю, что из меня мог бы выйти очень недурной дирижер садовой оркестровой музыки; мешал мне мой конфуз и потому я скоро терялся, но однажды, заметив неправильное вступление какого-то инструмента, сумел так быстро вернуть весь оркестр к началу музыкальной фразы, что я получил особую похвалу ошибшегося дирижера, что мне было очень приятно.
У Шереметева была недалеко от Петербурга дача Ульяновка, где он завел тогда образцовую пожарную команду, которая выезжала на соседние пожары. Задумал он при ней устроить хор трубачей и иногда по воскресеньям он увозил меня и некоторых товарищей туда завтракать, устраивая какую-нибудь пожарную тревогу; в это время уже оркестр наш доставлен был на тройках в Ульяновку, и опять играли мы часов до шести, когда музыканты должны были спешно возвращаться в Петербург, принадлежа большей частью к составу театральных оркестров. В Ульяновке он мне показывал тот обеденный стол, который треснул пополам в момент убийства государя Александра II. Стол был дубовый, массивный; сидел он за ним и завтракал с несколькими товарищами-пажами, как вдруг раздался треск, часть посуды упала и разбилась, и через весь скосившийся стол прошла продольная трещина; кто-то посмотрел на часы, и потом выяснилось,
246
что в самый этот момент и была брошена вторая бомба в государя. Объяснить это сотрясением воздуха невозможно, потому что от места взрыва расстояние было более 20-ти верст, и никто самого взрыва не слыхал; для меня же такое явление, оставаясь загадочным, тем не менее объяснимо участием того загробного мира, который нас невидимо окружает. К концу зимы после каких-то трений с братом из-за залы для оркестровых исполнений Саша решил переехать на отдельную квартиру и нанял для сего на Сергиевской большой дом-особняк, только что освободившийся от французского посольства. Преимущество этого дома составляла большая двусветная зала с хорами, занимавшая весь фасад дома. Сюда и перенесены были наши оркестровые вечера; обширность помещения дала возможность исполнить финал из оперы «Жизнь за царя» с красным колокольным звоном, для чего была устроена в зале звонница с девятью подобранными колоколами. Однажды позвал меня к себе Николай Николаевич Шипов, сообщив, что ждет меня по частному делу, а потому просит формой не стесняться. Когда я к нему пришел, он, кусая свои бакенбарды, что всегда означало в нем внутреннее волнение, сообщил мне, что граф Сергей Дмитриевич Шереметев очень огорчен происшедшей размолвкой с братом, в переезде его на отдельную квартиру видит как бы демонстрацию, бросающую на него, Сергея Дмитриевича, тень, почему просит полк помочь ему помириться с братом. Шипов добавил, что зная от других офицеров, что я наиболее имею влияние на Сашу Шереметева и наиболее с ним дружен, он просит меня в это дело вмешаться. Я, как ни был юн, понял, что не дело постороннего вмешиваться в семейную распрю, и безусловно отклонил от себя такое поручение, тем более что, как я высказал командиру полка, самое естественное было Сергею Дмитриевичу самому приехать к брату объясниться, я же лично дорожил теми близкими отношениями с Сашей, которые без всякой задней мысли основаны были на общем музыкальном увлечении. Влияние на него я имел, несомненно, громадное, и когда он, значительно позднее, чуть было не возымел непонятную мысль жениться на сельской учительнице школы, недалекой от его московского имения Воронова, мне удалось отклонить его от этого намерения. Помню, как Нюничка раз, по наивности, пеняла Варе и мне, что я не устроил свадьбы сестры с Сашей Шереметевым (а Варя была уже невеста или чуть ли не жена Яши), можно отсюда видеть негодующий отпор Вари. Я именно был доволен тем, что моя дружба с ним никогда не могла быть заподозрена, даже посторонним, в какой-нибудь корыстной цели. Продолжали мы с ним музицировать вовсю, и длилось это до самого моего выхода из полка. Я убежден, что наши вечера и положили основание тех общедоступных симфонических концертов, которые потом давались им днем в Городской Думе по воскресеньям и послужили к музыкальному образованию масс.
В декабре 1881-го года состоялся смотр гвардейских полков государем в Гатчине — по два, по три полка зараз. Первыми представились полки Гатчинского гарнизона и затем ушли в Петербург; на их место в Гатчину прибыли полки Царскосельского гарнизона, замененные некоторыми полками Петербургского гарнизона; таким образом, в течение нескольких недель все войска представились новому государю на зимнем положении и вместе с тем исполнили маневр зимнего похода. Мы шли с дневкой в Царском Селе, заняв там казармы Гусарского
247
полка, а офицеры этого полка любезно предоставили нам свои квартиры; в одной из них отведено было помещение мне и Карцеву, а также и бывшему товарищу по Корпусу, конному артиллеристу князю Мосальскому, батарея коего шла на смотр с нашим полком. Ночь мы провели в очень приятных разговорах, вспоминая Пажеский корпус. Помню, что второй переход от Царского Села в Гатчину был очень тяжелый из-за мороза; было много солдат, ознобивших себе ноги; мне кто-то, кажется, Карцев, посоветовал обернуть ноги под сапогом в бумагу, что оказалось очень практично и спасло меня от отмораживания пальцев. Самого смотра не помню, но знаю, что впечатление от него осталось неприятное: у всех как бы сквозило чувство недовольства, что государь не мог сам приехать в Петербург для этого смотра, и, чтобы избежать передвижения одного человека, тронули целые гарнизоны, что было лишнее утомление и непроизводительная трата денег. Все-таки какое-то недовольство и в самых верноподданных офицерах чувствовалось в глубоких тайниках, когда недостаточно внимательно относились к массам, и интересы их приносились в жертву удобствам или интересам одного лица. Я думаю, что эти смотры в Гатчине были большой ошибкой нового царствования и положили основание будущей непопулярности государя в войсках, от которых он, запершись в Гатчине, все более и более отдалялся.
Свадьба моей сестры состоялась 8 января 1882 года в полковой церкви Захарии и Елисаветы; посажеными у моей сестры были дедушка Волконский и тетя Соня Жемчужникова, а у Яши — Николай Николаевич Шипов и графиня София Сергеевна Игнатьева, которая была больна, приехать не могла, и благословение жениха было у нее на дому; образа несли у обоих, если не ошибаюсь, мальчики Пашковы; шаферами были все товарищи по полку, а у Вари сверх того Гриша Коробьин и Сережа Зыбин. Очень красива кавалергардская свадьба по разнообразию мундиров: жених должен быть одет в белый колет, шафера — в красных бальных мундирах, а присутствующие — в черных вицмундирах. С большим волнением благословили Варю перед отъездом в церковь; ехала она, по положению, со своими посажеными и мальчиком с образом, родители же мои и я следовали за ними; дедушка был совершенно слепой, почему не он вел Варю в церковь, а она его вела; и это была импозантная и умилительная картина — вход этого старца в старомодном фраке с большим воротником, как носили в былые времена, вводящего свою внучку в церковь и передающего ее из рук в руки будущему ее мужу. Венчал их наш протоиерей Желобовский, который особенно любил Яшу; со стороны нашей стояли подруги сестры, одевавшие ее к венцу: две Коробьины, Лошкарева, Рихтер и еще одна престарелая дева княжна Багратион, которая, хотя была лет на десять старше Вари, считала себя ее подругой и была неизменной поклонницей ее таланта. Была она в обществе под названием Жени Багратион, жила со своей престарелой матерью на Сергиевской, выезжала всюду одна, как фрейлина высочайшего Двора — в сопровождении старика-лакея в придворной ливрее; этот старик-лакей был громадного роста, и смешно было видеть его, укутывающего свою маленькую крошечную княжну в какие-то старомодные капоты и чуть ли не на руках вносящего ее в экипаж; старуха-княгиня считала себя в близком родстве с героем 1812-го года и в дальнем родстве с Трубецкими,
248
так что про моего будущего тестя она говорила, называя его уменьшительным именем. Назвалась еще в подруги сестры тоже одна старая дева, фрейлина Адин Панютина, но ее участие было уж совершенно непонятное, так как она была, скорее, из поколения моих родителей. После свадьбы и краткого поздравления в самой церкви все приехали к нам в дом. Подъезд был по тогдашнему обычаю петербургскому обращен в парусиновую палатку; съезд был такой громадный, что ввиду узости улицы наряжен был конный жандармский отряд для разъезда; молодых при входе встретили с образом мои родители; в гостиной был устроен открытый буфет; подано было шампанское, и шафера начали провозглашать тосты: за молодых, за родителей молодой и за посаженых родителей молодых, на что Яша ответил тостом за шаферов, а Варя — за полковых товарищей ее мужа. Когда пили за здоровье родителей, старик Александр Егорович Тимашев спросил, где Михаил Михайлович; я подошел к нему, и вышел только конфуз, потому что, понятно, не меня искал старик, чтобы поздравить, а моего отца. Дедушка просил Шипова подсесть к нему, долго с ним беседовал и по-старинному просил его протежировать внуков, то есть Яшу и меня. В этот же день молодые уехали в Москву, провожаемые семьей, знакомыми и шаферами.
Дедушка оставался еще несколько дней, и с ним случился инцидент, рисующий его характер: позван был для него брадобрей, и дедушка так на него ворчал и учил, как брить, что тот, воспользовавшись его слепотой, незаметно ушел, оставив его с одной намыленной необритой щекой; дедушка был ужасно недоволен, всякому приезжающему это рассказывал, приговаривая: «Вот вам петербургские порядки; нет — пора умирать». Перед своим отъездом он просил Мама́ уговорить моего отца принять от него все состояние, которым он уже больше не в силах управлять, и выплачивать ему определенную ренту, оставив в его пользовании лишь дом в Зарайске и хутор Алтухово, где, как я писал выше, он собирался устроить молочную ферму. Мама́ обещалась переговорить с моим отцом и с трудом уговорила Папа́ исполнить это, потому что, зная характер дедушки, можно было быть вполне уверенным, что указанной им ренты в 3000 рублей на его затеи никогда не хватит, и состояние будет запутываться, а имения дедушки в Рязанской губернии Чичкино и Радушино, хотя очень ценные, были заложены и перезаложены, а хозяйство в полном упадке. Но отказаться не пришлось: когда Папа́ вошел к дедушке, последний неожиданно стал на колени, всхлипнул и сказал: «Миша! Спаси же старика!» На следующий же день по требованию дедушки была составлена нужная нотариальная бумага, и Папа́, обязавшись уплачивать ренту по полугодно вперед, вручил дедушке полторы тысячи, с которыми он и уехал в сопровождении своего вечного Рязанова; проводили его на вокзал мы все, не только семья, но и родственники; дедушка потребовал ехать на вокзал часа за два до отхода поезда, все суетился и повторял, что он не Кутузов (намек на бабушку), и считает, что лучше приехать за час до отхода поезда, чем на минуту позже, и только одни Кутузовы всюду опаздывают и, торопясь потом, теряют калоши. Это был последний раз, что я видел дедушку; в мае месяце, когда я приехал к ним в Зарайск, застал его уже в гробу. Опасения Папа́ оправдались, и не прошло месяца, как дедушка писал, чтобы ему прислали бы денег вперед,
249
хотя бы года за два, и что если это для Папа́ затруднительно, то он займет здесь, где у него кредит большой.
Во время отсутствия молодых родители мои доканчивали устройство их новой квартиры на Большой Конюшенной; квартира была очень миленькая: кабинет, гостиная и большая спальня по солнечному фасаду (вид гостиной снят для нашей группы к серебряной свадьбе моих родителей), кроме того была столовая, уборная с ванной и людские комнаты; дядя Митя Жемчужников подарил им пару буланых лошадей и коляску, я же старинный surtout de table; все блистало новизной и было очень уютно.
Вернулись они через неделю, более продолжительного отпуска Яше начальство Академии не дало; встретили мы их на Николаевском вокзале; радостных, счастливых слез при встрече было много, и поселились они у себя, где ежедневно мы их посещали. Папа́ и Мама́ решили переехать в деревню, спешно ликвидировали квартиру, которую сейчас же кто-то у нас переснял, я себе нанял квартиру на Захарьевской в расположении полка, через дом от артели, почему и продал своих выездных лошадей и экипажи. Папа́ же на прощание омеблировал мне мою новую квартиру, состоявшую из столовой, где стояли двое фортепиан, кабинета, спальни и ванной. Со мной оставался Семен, еще один буфетный мужик, он же и полотер, и имел я глупость сверх того нанять видного швейцара нашего дома Сергея в качестве буфетчика, главным образом для того, чтобы во время лагеря было на ком оставлять квартиру; жена его в редких случаях, когда я не мог быть в артели, мне готовила. Мне теперь совестно вспомнить, сколько народа мне служило и как им, собственно, нечего было делать, потому что уходил я обыкновенно на службу часов в семь утра, а иногда и в шесть, и возвращался днем лишь переодеться, проводя все вечера или в работе по Святой Дружине, или у сестры, или у Шереметевых, и лишь изредка собирались у меня товарищи помузицировать. Финансовая часть нашей с Варей новой жизни была устроена так: в Петербурге жил купец Чебоксаров, который каждые два месяца уплачивал мне полторы тысячи рублей; из них тысяча рублей шла на мои расходы, а пятьсот рублей я передавал Варе как доход с ее Покровского, которым управлял наш симбирский управляющий Рашковский нераздельно с симбирскими имениями отца — Михайловкой и Телешовкой. Брат этого Чебоксарова имел крупную мельницу в Симбирске, и с ним уже Рашковский вел все расчеты, продавая ему всегда и до того весь наш урожай.
Устроив нас таким образом, родители в начале февраля с Нюничкой и Платоном Евграфовичем переехали на постоянное жительство в Сергиевское, куда и мы с сестрой должны были приехать в мае праздновать их серебряную свадьбу. С большим горем мы проводили наших стариков, и им нелегко было нас покидать. В это время со мной в Святой Дружине произошла перемена: Адлерберг однажды приказал мне пойти к моему товарищу Панчулидзеву, говоря, что для чего — он сам не знает, но получил такое приказание от своего старшего брата. Панчулидзев жил в полку вместе со старшим полковником А. Н. Дубенским; бывший до того старшим полковником Сатин вышел в отставку, вынужденный к тому баллотировкой офицеров в члены офицерского суда, где он не получил достаточно голосов; против него никто ничего не имел, и думаю, что полученный
250
им афронт был результатом интриги того же Дубенского, чтобы двинуть производство, которое в те времена в гвардейской кавалерии шло по каждому полку отдельно. Квартира Дубенского была над квартирой полкового командира; была она очень обширная и отделана в самом дурном вкусе, с большой роскошью, содержалась же очень неряшливо. Странное было сочетание Дубенского и Панчулидзева; они были совершенно различного характера и, если сходились в чем, то только в большой распущенности и неряшливости. Черномор (прозвище Панчулидзева) имел при себе верного человека с Георгиевским крестом, который получен им был в Турецкую кампанию за следующий подвиг: Панчулидзев пошел на эту войну добровольцем, и этот человек был при нем денщиком; во время одной из разведок на Балканах, близ Шипки, Панчулидзев отморозил себе ноги и чуть не попался в руки башибузуков; денщик этот спас его тем, что на руках нес по непроходимым местам в снежную метель около 20 верст. Этот человек и встретил меня, когда я в назначенное время, поздно вечером пришел к Панчулидзеву по приказанию Адлерберга; провел он меня в какую-то для меня до этого совершенно незнакомую комнату, посреди которой как бы для заседания стоял большой стол со стульями; пришел Черномор, запер все двери и сообщил мне следующее: помещение это — архив Святой Дружины, он его архивариус, и мне велено быть его помощником с возведением в степень братьев 1-го разряда, в знак чего передал мне такой же образ Александра Невского, только золотой, с моим новым номером (номера этого я не помню); кличек у братьев 1-го разряда не было, а только один номер; позвал он своего человека и еще какого-то джигита, объяснил им, что я его помощник и отныне имею свободный доступ в эту комнату; затем велел открыть стоящий тут же платяной шкаф, ввел меня в него, нажал какую-то пружину, открылась задняя стенка, и я очутился в просторном помещении, которое сопровождавший нас джигит сейчас же осветил лампой. По стенам были устроены полки, по которым в особых папках лежали дела, и Панчулидзев мне заявил, что все теперь для меня открыто, все мне доступно и не имею я права касаться лишь одной книги, которую он мне и указал — в ней записываются поименно все братья Святой Дружины со всеми их кличками и номерами и со всеми собранными о них сведениями; книгой этой может пользоваться только сам архивариус. Работы оказалось очень много, и особенно ввиду прямо болезненной лени самого Панчулидзева. Святая Дружина к этому времени, получив несколько миллионных пожертвований от петербургских магнатов и московских купцов, учредила свою собственную агентурную службу, разделив ее на два самостоятельных отдела: 1) заграничную, руководимую лицом, фамилию коего не помню (в архиве у нас он был только раз), живущим постоянно в Париже и подчиненным вышеупомянутому мною графу Шувалову; агентура эта следила за жизнью, действиями и намерениями всех русских эмигрантов, рассеянных во Франции, Швейцарии и Италии; 2) внутреннюю, подчиненную моему товарищу Безобразову, следящую за политическими деятелями, живущими в России; было у внутренней агентуры два подотдела: один московский, подчиненный некоему Величковскому Михаилу Львовичу, адъютанту московского генерал-губернатора, и другой — личной охраны государя в месте его пребывания, но кто им заведовал — не помню. М. Л. Величковского
251
я знал еще раньше через его брата Аверкия Львовича; последний был кавалергард еще времени моего отца, калужский помещик, носил форму полка, числясь в нем сверхштатным старшим полковником и занимая должность полкового ремонтера; он был уже давно старым полковником, когда Шипов поступил в полк вольноопределяющимся, и смешно было видеть при сдаче ремонта его, старика, что-то почтительно докладывающего Шипову, который был перед ним мальчишка. Одним словом, я помню Аверкия Львовича Величковского, когда мы жили в Калуге, в кабинете моего отца в форме полковника Кавалергардского полка, и не мог я, 13-летний мальчик, предполагать тогда, что застану его в том же чине в полку и по-товарищески буду с ним на «ты».
Но вернусь к Святой Дружине. Архив наш ничем не руководил, а получая ежедневно из всех отделов все донесения агентов, должен был их классифицировать и отмечать на карточках каждого наблюдаемого лица номер страницы дела, на котором он упоминается; так же надо было поступать и с теми письмами, которые нам присылались для зарегистрирования. На запросы начальников отделов, министра внутренних дел, шефа жандармов или министра Двора архив обязан был немедленно составить справку о запрашиваемом лице и отослать без замедления, для чего меня иногда подымали и ночью. Но самая спешная и трудная работа была по субботам; требовалось составить краткий всеподданнейший доклад обо всех сведениях, полученных архивом за неделю из всех отделов; доклад должен был быть краткий, но литературно написанный. Доклад составляли Панчулидзев и я. Приглашались для переписки два брата Александровских, оба они писали красиво и быстро: один из них, Николай, был кавалергард, другой, кажется, армейский гусар. Первый переписывал набело для самого государя, а второй писал экземпляр для гектографа, тут ж его печатал для всех начальников отделов и вышеуказанных лиц, имевших прямое отношение к архиву. Не позднее десяти часов вечера надо было все эти пакеты раздать для развозки вызванным в разные часы, чтобы не встретились друг с другом, братьям второго разряда; экземпляр на имя государя сдавался в фельдъегерскую часть, которая немедленно отсылала его с фельдъегерем в Гатчину. Панчулидзев мне рассказал, что дважды Святая Дружина своими сведениями предотвратила покушение: первый раз на жизнь министра внутренних дел графа Николая Павловича Игнатьева (брата нашего бывшего командира полка), а второй раз — на жизнь государя; насколько это соответствовало действительности — не знаю, но передаю, что слышал. О подготовлении к первому покушению архиву известно из зарегистрирования одного письма, из коего явствовало, что некая террористка (фамилии не помню), принадлежавшая, как было известно архиву из всей переписки о ней, к бывшей Дружине, переехала границу и направляется в Петербург. По этим сведениям ее стали разыскивать здесь и случайно нашли, и арестовали уже в приемной министра; у нее найден был кинжал, почему признали ее готовящей убийство. Второй случай был такой: в архиве получены были сведения о готовящемся покушении в Царстве Польском при свидании обоих императоров — нашего и германского; покушение должно было быть совершено в самом месте свидания; доклад об этих сведениях был послан не в очередь, а экстренно, министру Императорского Двора графу Воронцову-Дашкову,
252
и по докладу последнего отъезд государя, предполагавшийся на следующий день, был отменен; свидание было отложено и состоялось через несколько дней уже не на суше, а на море, где обе императорские эскадры встретились. Интересно в архиве было то, что ежедневно получались для хранения и выборки нужных сведений все подпольные издания, печатавшиеся как за границей, так и в России; читать их приходилось внимательно, и труд этот разделялся между Панчулидзевым и мной: первый охотно это брал на себя и пользовался этим, чтобы оправдывать свое долгое лежание в постели. Службы в полку он никакой почти не нес, и часто можно было его застать часов в 12 дня еще в постели, неумытым, распивающим свой кофе и читающим эти издания. Однажды он мне показал заметку в какой-то революционной заграничной газете, кажется, женевской, где сообщалась вся организация Святой Дружины в самых мельчайших подробностях и до того точно, что указывалось даже место нахождения архива в квартире кавалергарда Панчулидзева и упоминалась моя фамилия как его помощника. Значит, и в среде Святой Дружины, набранной с таким тщанием и разбором, затесался изменник, либо халатность ее членов выдала тайну. Под впечатлением этих сведений я однажды поздно вечером возвращался к себе домой, взяв с собой какие-то бумаги для переписки. В нашем доме швейцара не было, и после 11-ти дворник тушил огонь на парадной лестнице, почему приходилось пробираться в темноте, зажигая спички; жил я во втором этаже. Подойдя к подъезду, я увидал прислонившуюся к уличному фонарю какую-то неподвижную штатскую фигуру, как будто кого-то поджидающую. Сознаюсь, что решив, что это наблюдающий за мной революционер, я побоялся идти один по темной парадной лестнице и прошел мимо до угла Захарьевской и Воскресенской; вернувшись от него, увидал ту же фигуру, после чего решил делать les cent pas между Таврическим садом и Воскресенской, но мой субъект не удалялся, что еще более убедило меня, что он ждет, когда я войду на темную лестницу. Не желая проводить ночь на улице, я, наконец, под носом этого незнакомца вызвал звонком у ворот дворника и обратил его внимание на эту личность; и тогда я узнал, что это филер Департамента полиции, который следит за каким-то субъектом, вошедшим в этот дом, причем дворник даже назвал мне квартиру; пока мы беседовали с дворником, парадная дверь хлопнула и кто-то быстро вышел и стал удаляться по направлению Таврического сада, и за ним не замедлил последовать мой таинственный незнакомец. Я вернулся домой и было мне даже стыдно за мой страх и за всю историю, которую я так быстро создал в своем воображении. Но по характеру мне все же таинственность не шла, почему я попадался впросак.
Почти каждый день бывал я у сестры, хотя б на минутку; она часто была одна: муж ее или был в Академии, или усиленно занимался дома в своем кабинете; сама она скоро почувствовала себя беременной и потому очень себя берегла, редко когда выезжала из дома. В полку были свадьбы одна за другой: женился Феликс Сумароков на княжне Юсуповой, Боря Гендриков — сейчас не вспомню на ком, Тимашев — на Наде Шереметевой; отец этой особы Сергей Сергеевич Шереметев был брат матери графа Сергея Дмитриевича Шереметева; сам он был страшнейший известный пьяница и, к сожалению, этот порок передал дочери; женился Извольский на княжне Барятинской, довольно уже престарелой деве, сестре
253
нашего бывшего старшего полковника. В семье Барятинских это была целая драма: считали такой брак mésalliance’ом, и почему он состоялся — не знаю. Наш же Извольский не помнил себя от счастья и, думается мне, что в его чувстве было мало тщеславия; он был внуком старушки Переславской, сестры Сухозонова, и сам так не верил возможности такого брака, что как-то совсем опешил; помню, как-то при входе в свой дом я был остановлен на подъезде воплем Извольского, ехавшего на извозчике: он соскочил, подбежал ко мне и сказал: «Можешь вообразить, я жених княжны Барятинской!» Меня только поразило несоответствие, ибо по моим понятиям это была уже настолько престарелая дева, лет за 30, и притом такой урод, что чувству к ней, такому горячему и восторженному, мне как-то не верилось. Свадьба их была сыграна где-то втихомолку, жил он недолго, и она, овдовев, вышла вторично за какого-то князя Барятинского и вновь вернула себе свою фамилию, что входило особенно в виды ее семьи. Была еще свадьба Дурасова — это был тип довольно скучный по своей глупости. У него был дом на противоположном берегу Невки около Point’a, излюбленное место катания петербуржцев по вечерам — дачу эту звали «Кинь грусть», а мои товарищи прозвали ее «Кинь грусть — возьми свою тоску», на что Дурасов очень обижался. При нашей артели всегда были знакомые извозчики, считавшиеся полковыми и потому до тонкости знавшие привычки и жизнь каждого офицера — кого он посещает, где он больше проводит вечера и т. д.; из этих извозчиков один был калужанин и потому меня особенно считал своим господином; если, бывало, едем днем, он, не спрашивая, вез прямо к сестре, если же в сумерки, то он вез туда же, но непременно по Сергиевской, мимо Саши Шереметева, и спрашивал, не остановиться ли у него; с Сашей Адлербергом моя дружба продолжалась, но более с моей стороны, чем с его, и потому виделись мы не так часто, что меня очень огорчало, но навязываться я не хотел — самолюбие мое страдало.
На Страстной неделе Варя говела, и вдруг в пятницу я получил записку от Яши немедленно приехать, по дороге заехать за ее доктором-акушером профессором Кронидом Федоровичем Славянским, так как с Варей что-то нехорошее. Славянский жил по дороге, поднял я его с постели, и он обещался за мной вслед приехать. Варю застал с сильными болями, и когда приехал Славянский, при нем же совершилась fausse couche. Приписывали это ее долгому стоянию на коленях и частым поклонам во время служб Страстной недели. Я тогда ничего не понимал, но потом уже, когда Мама́ приехала, из ее разговоров понял, что дело было нешуточное и здоровье Вари было в опасности. Думаю, что эти неблагополучные роды, а также и последняя fausse couche в Москве, уже когда Мусе было года два, и испортили здоровье Вари навсегда. Когда вспомню теперь Варю, такую больную, требующую серьезного ухода, а при ней только Яша и я; акушерка бывала лишь два раза в день. Родителям сейчас мы телеграфировали, и приехали они вдвоем в начале Пасхальной недели. Грустная эта была Пасха; так как государь был в Гатчине, обязательной встречи во дворце не было и все встречали где хотели, а мы, кавалергарды, разгавливаться были приглашены к Шипову. Я был в таком тяжелом настроении, что никуда не пошел — ни в церковь, ни к Шипову — и лег спать, но послал записку Адлербергу, прося его извиниться за меня перед командиром полка, сославшись на болезнь
254
сестры, а его самого просил по дороге, уходя от Шипова, зайти ко мне похристосоваться, что он и сделал, для чего меня разбудил, и мы с ним еще немного поговорили. Очень я обрадовался приезду родителей, но видеть их как-то на торчке, без своей личной жизни, было грустно; мне становилось совестно своей личной налаженной жизни, где им места не было и в коей они участия не принимали. Их почти двухмесячное отсутствие все-таки сказалось — многих мелочей, прожитых без них, они уже не знали, и мне как-то яснее становилась, что я уже зажил без них самостоятельно, и не скажу, чтобы это меня радовало. В моей холостяцкой квартире они не захотели остановиться и жили, не помню, либо у Вари, либо в гостинице; ко мне же все-таки приехали однажды пить кофе или завтракать, и я зазвал Федорова и Киреева как наиболее им близких из моих товарищей. Варя поправилась, стала уже выезжать, и Папа́ и Мама́ уехали, сговорившись, что мы все к ним в начале мая приедем — мне предписывали пить какие-то воды от печени, Варя должна была отдохнуть в деревне, пока Яша будет делать съемку где-то вдали от Петербурга. Он должен был ее привезти в Сергиевское и затем по окончании съемки подоспеть к 31 мая, дню серебряной свадьбы родителей, и пожить у них недели две-три.
Ввиду перспективы скорого свидания расставание с нашими дорогими стариками было не столь грустным. К их юбилею мы снялись втроем (группа эта у нас в Сергиевском), и так как Варя еще не могла выезжать, снимались мы у нее в гостиной. Не могу не упомянуть об одном глупом со мной казусе, который рисует моего верного Семена и его отношение ко мне как к юноше, порученному ему родителями. Я имел привычку брать ванну два раза в день: утром холодную, в которую для бодрости окунался трижды, а вечером, ложась спать, горячую. И вот в одну из вечерних ванн Семен, обливая меня, не смешал воду и облил мне шею крутым кипятком, от чего я сильно вскрикнул. Увидав свою оплошность, он меня бросил и как сумасшедший убежал за полковым доктором, жившим в казарме. Последний прибежал, испуганный его видом, через пять минут, не более, наложил мне какую-то мазь, и все дело обошлось мне той неприятностью, что дня два просидел дома, не имея возможности застегнуть воротник на шее. Когда доктор уложил меня в постель и ушел, вошел ко мне в спальню Семен, стоя у двери на коленях и отбивая мне земные поклоны один за другим, умоляя только одно: «Не пишите об этом папаше и мамаше». Он чувствовал себя более виновным перед ними, переживая, что ему они меня поручили. Другой случай был такой: занимался я довольно поздно у себя в кабинете за своим письменным столом какими-то секретными бумагами Святой Дружины и безусловно для пущей важности, а совсем не по необходимости, положил рядом с собой заряженный револьвер. Письменный мой стол был уставлен портретами семьи, и пришло в голову Семену, что я хочу застрелиться. Он мне потом рассказывал, что все время, пока я писал, он совершенно для меня незаметно просидел за мной на корточках, скрытый портьерой, чтобы, если я возьмусь за револьвер, успеть вовремя его у меня отнять; какова была преданность этого дорогого слуги — друга моего! Вечно его вспоминаю и ежедневно за него молюсь.
В начале мая я получил шестинедельный отпуск для лечения и уехал в Сергиевское. Вслед за мной Михаил и Семен ехали туда же с вещами моими и, главное,
255
с Тосиком, которого на такой долгий срок нельзя было оставлять одного, и кроме того они оба с Семеном хотели его показать нашим сергиевским жителям и ему показать наше Сергиевское. Поездка же для Тосика была роковой; везли его в собачьем отделении, где он по росту своему не мог выпрямиться, и приехал он в Сергиевское с началом паралича задних лап, от которого я потом его долго лечил безуспешно, и околел он в Петербурге осенью этого года в лечебнице для животных.
Хотя приезд мой в Сергиевское был, как всегда, радостный, скоро одолела меня тоска по товарищам, почему чуть ли не ежедневно я писал письма в полк, и особенно часто Адлербергу; каждую почту ждал со страстным нетерпением, нет ли известий от товарищей. С Киреевым я никогда особенно дружен не был, но на этот раз, когда он приехал к нам, обрадовался ему несказанно; рассказывая мне про полк, он, между прочим, сообщил мне, что Саша Адлерберг, по-видимому, переживает тяжелую семейную драму, что он как-то ужасно скучает, и я, в порыве желания его поддержать, телеграфировал ему: «Крепко обнимаю, будь покоен нравственно, береги себя»; на телеграмме запятые не были поставлены, почему последнюю фразу прочли так: «Нравственно береги себя», и саму телеграмму доставили не ему, а его дяде, министру Двора, который над ним насмехался, что его друзья следят за его нравственностью, и вместо ласкового ответа я получил от него письмо довольно насмешливое, которое меня глубоко огорчило. Можно себе вообразить, как мне тяжко стало в деревне и как меня особенно потянуло в полк. Во время пребывания Киреева я заболел лихорадкой, которая часто меня схватывала; обыкновенно приступ длился не больше суток, начинался с потрясающего озноба и кончался палящим жаром, во время которого я иногда бредил. Предчувствуя это и зная по службе моей в архиве, что Киреев принадлежит к Святой Дружине, я его позвал к своей постели и единственный раз в жизни воспользовался знаком опознания братьев, чтобы открыться ему и как брат первого разряда дать ему поручение следить за мною во время бреда и не дать мне проговориться о тех тайнах, которые я знал.
Конец этого отпуска был самый грустный; предвкушали все много радости от съезда семьи к серебряной свадьбе родителей; Варя и Яша уже были у нас, как вдруг получено было письмо от бабушки, что дедушка заболел, и Мама́ немедленно выехала в Зарайск. Застала она его в постели очень слабым; приглашен был из Москвы наш доктор Мандзелевич, который, осмотрев его, сказал, что ничего сделать нельзя, так как это не болезнь, а старческий маразм, и что он постепенно будет угасать. Ему Господь Бог, по-видимому, за его доброту и посылал непостыдную, мирную, безболезненную кончину, и, действительно, он ее заслужил. Одним из его последних актов благотворения был следующий: когда-то в Зарайске служил исправником многосемейный человек (фамилии его не помню); случилась драка на улице по пьяному делу, и исправник, не разобравши подробно дела, посадил всех участников в драке в камеру для протрезвления при полиции; среди них оказался один дворянин, которого как принадлежащего к привилегированному сословию можно было лишать свободы лишь при арестном доме; местный предводитель дворянства, не любивший этого исправника, воспользовался этим случаем, чтобы пожаловаться губернатору, и исправник
256
был уволен; дедушка его немедленно устроил на Рязанскую железную дорогу. Незадолго до болезни дедушки этот бывший исправник к нему приехал просить выхлопотать ему повышение, так как только что очистилось какое-то подходящее место на той же дороге. Назначение это зависело от начальника, живущего в Рязани; и мой дед, несмотря на свою слепоту, старческие годы и немощь, не побоялся ночного путешествия с пересадками, в ту же ночь выехал в Рязань, приказав этому бывшему исправнику его дождаться и сказав, что он этого добьется. Действительно, приехав в Рязань в шесть часов утра, он прямо отправился на квартиру начальника железной дороги и на отказ последнего выйти к нему в такой ранний час послал ему сказать, что «в передней сидит старик 85 лет, слепой князь Волконский, и не выйдет отсюда, пока его ходатайство не будет удовлетворено». Перед такой настойчивостью никакой бюрократ не мог устоять, и этот бывший исправник получил просимое назначение. Дедушка тотчас вернулся в Зарайск и со слезами радости объявил ему об этом. Никогда мой дед не раздумывал, полезно ли то, что предпринимал, умно ли это, слушался он лишь веления своего сердца, и Бог его и вознаградил мирной кончиной.
Пока Мама́ была в Зарайске, заболел мой отец; призванный бабушкин доктор диагностировал воспаление слепой кишки, признал положение серьезным, так что мы с Варей телеграфировали Мама́. В это время, кроме Яши и Вари, приехали к серебряной свадьбе Жемчужниковы и тетя Соня Охлябинина; к возвращению Мама́ Папа́ стало лучше, но не успела моя мать приехать, как была получена телеграмма от бабушки, что моему деду стало гораздо хуже и положение угрожающее. Телеграмма эта была получена 26-го мая, и я с первым поездом выехал с тетей Соней Охлябининой в Зарайск, так как Мама́ не могла оставить отца. Тогда шел вагон прямого сообщения в Москву через Вязьму, и хотя это был не кратчайший путь, но по времени и согласованности поездов самый скорый, и им мы и воспользовались. Пересев в Москве на Рязанскую дорогу, мы уже на московском вокзале узнали от начальника станции о кончине дедушки, настолько дед мой был популярен на этой линии; известие это подтвердил нам в Коломне вышеупомянутый бывший исправник, который сел с нами в поезд, надеясь быть чем-нибудь полезным бабушке. Когда мы приехали поздно вечером в Зарайск, застали уже дедушку в гробу; бабушка лежала у себя, покорная своей судьбе, и передавала мне последнюю волю дедушки, а именно, чтобы похоронили его в Новодевичьем монастыре в Москве, но отнюдь не 31-го мая, в день серебряной свадьбы моих родителей. Бабушка тут же мне сообщила, что Мама́ уже знает о кончине дедушки, что она телеграфирует о своем приезде, и мне надлежит немедленно возвращаться в Москву и ее встретить; оставил я в Зарайске тетю Соню при бедной беспомощной старухе, горячо помолился у тела любимого мною деда и, пробыв в Зарайске не более двух часов времени, поскакал обратно в Москву. В Москве у Наумовых застал Мама́, только что приехавшую из Сергиевского; она была невыразимо жалка, потому что помимо глубокого горя о своем отце у нее был невыразимый страх за Папа́, которого она оставила все-таки еще не на ногах. Сговорились мы с ней, что она поедет с дядей Митей Наумовым в Зарайск на похороны, дядя Саша Наумов приготовит все нужное в монастыре, а я поеду в Сергиевское, где, если доктор позволит,
257
устрою переезд Папа́ в Москву, дабы 31-го мая они провели вместе; тотчас же телеграфировал в Калугу бабушкиному доктору ехать в Сергиевское и ждать меня там, а сам решился возвращаться через станцию Ивановскую (ныне Тарусская) и оттуда на почтовых. Путешествие было головокружительное: курьерский поезд отходил в 12 часов дня из Москвы, а в восемь часов вечера я был уже дома; единственный раз, что я ехал на перекладной, то есть пересаживаясь из брички в бричку в Тарусе, в Петрищеве и в Ферзикове; давал я на чай двойные прогоны, и мчали меня так, что мне приходилось все время держаться за борта тележки. Как сейчас помню мой приезд: Папа́ сидел в вольтеровском кресле, сильно похудевший, в классной, которая тогда еще отделялась коридором от стены, выходящей во двор; около него были Варя с Яшей, Жемчужниковы, и мне казалось совершенно невозможным предпринимать с ним путешествие в Москву, но бабушкин доктор, узнав все наши обстоятельства и видя настойчивое требование Папа́ быть 31-го в Москве, разрешил это путешествие на следующий день с большими предосторожностями. Повезли мы Папа́ в лежачем положении, с нами же поехали и Жемчужниковы и Варя с Яшей. Осталась дома Нюничка, которая должна была принимать тех гостей, которые собирались к 31-му мая и не успели получить уведомление об отъезде моих родителей; предположенный парадный праздник был отменен, и управляющий лишь разослал по деревням заготовленную водку выпить за здоровье моих родителей; в отчаянии был Платон Евграфович, которого все труды по заготовлению фейерверка пропали даром. Потом мы узнали, что 31-го приезжали Полторацкие, Раевские и из Москвы Устиновы, и всех их должна была принимать с извинениями Нюничка.
Приехали мы в Москву 30-го мая, остановились в «Славянском Базаре» (не любил я эту гостиницу по воспоминаниям первой разлуки с матерью, и после этого последнего в ней пребывания она мне стала так противна, что никогда в ней более не останавливался), выписали немедленно Мальдзиневича, который вполне одобрил лечение бабушкиного доктора и успокоил насчет состояния моего отца; днем приехала моя мать из Зарайска и привезли тело дедушки, которое, согласно его воле, оставлено было в больничной церкви монастыря и предано земле лишь 1-го июня. Грустно прошел день серебряной свадьбы моих родителей, были мы все в церкви Никиты Мученика на Басманной, где некогда венчались мои родители, отслужили там благодарственный молебен; Мама́, не имея с собой ничего кроме траурного платья и не желая по предрассудку быть в этот день в черном, весь день не снимала своего утреннего халата с приколотым розовым бантиком, что было далеко не парадно; днем заболел Яша, и наш Пластырек выразил опасение рожистого воспаления ноги; мой отпуск кончался, и всем было грустно на душе. 1-го июня после похорон я должен был уезжать. Варя, напуганная болезнью Яши, который тоже должен был возвращаться, решила ехать с ним. Я упросил Жемчужниковых остаться при моих родителях до поправления моего отца, после чего Папа́ и Мама́ должны были ехать в Зарайск к бабушке и перевозить ее в Сергиевское. Простились мы с моими родителями и втроем уехали: Варя и Яша в Петербург и я в Красное Село. До сих пор я вспоминаю с угрызением совести то облегчение, которое я почувствовал, когда двинулся поезд и все кошмарные дни, только
258
что пережитые, остались позади; упрекаю себя до старости лет, что я оставил своих родителей в таких тяжелых обстоятельствах; они никогда нам с сестрой не предъявляли никаких требований, основанных на заботе о себе самих; тем паче мне, их единственному сыну, следовало самому понять, что я не мог их оставлять в эти минуты; просрочка же отпуска была бы совершенно законная; через год, когда я был зрелее, я поступил совершенно иначе и этим, быть может, искупил свою вину, но тогда, каюсь, радовался лишь возвращению к беззаботной полковой жизни. Чтобы покончить с описанием жизни моих родителей за этот период, добавлю, что они недели через полторы уехали к бабушке, которая встретила их со слезами, говоря: «Теперь я ваша, нет у меня никого, кроме вас, возьмите меня с собой и не оставляйте меня»; тут же она, несмотря на протесты Папа́, разорвала на мелкие кусочки нотариальное обязательство моего отца платить годовую ренту в 3000 рублей; бабушка заявила, что более 30 рублей в месяц ни за что не хочет получать, так как ей нужны деньги лишь на церковные расходы, и так на этом она настояла до конца своей жизни; дом в Зарайске, который был куплен на ее имя, она захотела передать мне, и года через два он был продан, причем за уплатой всех лежащих на нем долгов очистилось рублей 400. С большим трудом перевезли бабушку в Сергиевское: она была настолько полна, что ни в один вагон не могла бы взойти; барон Дервиз, председатель правления Рязанской дороги, предоставил ей беспересадочный вагон-салон с широкой балконной дверью, растворяющейся на две половинки, в который ее с багажной платформы и усадили; с ней же вперед был отправлен в Сергиевское ее древний кучер Сидор с ее постоянными лошадьми; он же ее встретил в Ферзикове с особой долгушей, в которой посредине было устроено удобное кресло, и таким способом она благополучно прибыла в Сергиевское. Можно себе вообразить, сколько это стоило хлопот и трепни для моего бедного отца, едва поправившегося от приступа аппендицита, считающегося в настоящее время столько опасным; и как мне больно вспомнить, что я ни в чем ему не помог!
Прибыв в лагерь, явился я Шипову; он, узнав о кончине дедушки, очень соболезновал и любезно попенял мне, что не просрочил отпуска, оставив родителей моих в таких трудных обстоятельствах. Видно было, дедушка во время свадьбы Вари произвел на него сильное впечатление как патриарх и представитель совершенно другого века. Любезный прием Шипова еще больше подтвердил мне, что я неправильно и эгоистично поступил, покинув родителей и, главное, испытав радостное и облегченное чувство, возвратившись к обыденной жизни.
Жизнь в лагере потекла обычным порядком: жил я один на прошлогодней даче; как писал уже прежде, по вечерам собирались у меня почти ежедневно многие из товарищей. Привязанность моя к полку росла с каждым днем, но зато испытывал муки ревности к Адлербергу: у него появилось такое же восторженное чувство дружбы к Саше Шереметеву, и я себя чувствовал им заброшенным; между нами постоянно происходили то размолвки, то примирения; мой глупый обидчивый и ревнивый характер мешал всяким простым отношениям. Помню, как однажды я увидал его идущим ко мне, несказанно сему обрадовался, но вместо того, чтобы радостно его приветствовать, притворился занятым письмом
259
и головы не поднимал; он же, по деликатности не желая мешать, так и удалился, не взойдя ко мне и лишь постояв у окна; как мне это было грустно и как я себя упрекал потом! В течение лагеря состоялась впервые заря с церемонией после траура по государю; я как офицер по проезде его величества присоединился к его свите и лично всю эту церемонию увидал, как оную описал в моих воспоминаниях о Пажеском корпусе. Вскорости состоялась ночная тревога, но оказалось, что она была фальшивая, почему полк был возвращен от самого въезда на военное поле. Говорили, что это была тревога о пожаре, на который должны были бы выехать особые части, дежурные по пожарам, но лагерный брандмайор артиллерийский штаб-капитан граф Шувалов спутал сигналы и дал не ту тревогу. В течение лета было несколько скачек, на которые Шипов обращал особое внимание и все уговаривал наших офицеров принимать в них участие; завзятыми скакунами были у нас крошечный Брюммер и сухопарый Татаринов, но призов им не досталось, а Татаринов на одной из скачек свалился и сильно расшибся, так что ходил долгое время с забинтованным лицом. Я к этому лагерю продал с убытком своих лошадей. Сделал я это потому, что Марс немилосердно тянул и был слишком грузен для подъездка, а Фаэтон по масти был слишком темен для второго эскадрона. В виде подъездка купил я себе лошадь Друга с крепкими ногами и с ней больше не расставался; в виде парадера купил лошадь Вандала, и этот жеребец оказался по красоте вторым в полку после Гаэтана Ковалькова. Попал он к нам в полк из под седла великого князя Николая Николаевича Старшего, который для него был слишком грузен; купивший его наш офицер Василий Кочубей оказался тоже слишком грузен для спины Вандала, почему охотно продал его мне за 1500 рублей. Помню, как во время скачек я выехал на Вандале в качестве зрителя в середину круга, где нам, офицерам, предоставлено было бесплатно наблюдать за скачками, и из трибун для публики многие присылали узнавать у меня, какого завода эта лошадь и не продам ли я ее, настолько ее золотистые грива и хвост были красивы и обращали всеобщее внимание. В конец лагерного сбора обыкновенно назначались офицерские скачки, в которых все офицеры побригадно должны были участвовать на своих строевых лошадях. Шипов после одного полкового учения задумал всем полком поэскадронно развернутым фронтом взять то первое препятствие, которое предполагалось включить в круг офицерской скачки. Препятствие это заключалось в большом длинном бруствере, верхняя площадка коего была настолько узка, что в ней могли поместиться лишь два корпуса лошади, а за этой площадкой шел крутой спуск, который можно было взять, спускаясь зигзагами. Когда наш эскадрон развернутым фронтом вскочил на площадку бруствера, я, не зная его топографии и не рассмотрев оную по слепоте, не успел вовремя начать спуск, и передняя шеренга столкнула задний круп моего Друга, и я начал с ним опрокидываться навзничь, что грозило неминуемой смертью. Помню как сейчас испуганные лица солдат, стоявших над обрывом, и крик ужаса ближайших, понявших мое отчаянное положение. Чтобы облегчить равновесие лошади, я прилег к ней на шею, она сделала какое-то невероятное усилие в виде пируэта на задних ногах, упала на передние колени, и в такой позе мы с ней сползли вниз; отделались мы благополучно, только мой бедный Друг ободрал себе колени, но ко времени скачки
260
вполне поправился. Препятствие это было включено в круг скачки офицерской, но, вероятно, ввиду случая со мной было объявлено необязательным, и для желающих его избежать был указан обход, удлиняющий путь саженей на 150. Я избрал последний; скакали со мной рядом Брюммер и Багговут. Препятствия были самые разнообразные применительно к полевой езде, приходилось брать барьеры, канавы, довольно скрытые мелколесья; понять их приближение можно было лишь благодаря присутствию около каждого препятствия экспертов, судей и врачебного персонала с лазаретной фурой. Приходилось скакать по улице деревни, в которой была спущена свора собак для пугания лошадей, затем невысоким лесом, в котором для той же цели пехота стреляла холостыми зарядами, и последние 80 саженей было вспаханное поле. Мы ничего этого не знали, думали, что мы из последних, как избравшие обходный путь, и я, скача в середине, напевал довольно громко кавалергардский галоп из «Гугенотов»; в деревне лошадь Брюммера от лая собак закинулась, и он отстал; в лесу Багговут не разглядел флажков, указывающих путь скачки, и проскочил в сторону, так что на пахотное поле я выскочил один и, к удивлению своему, был первым, но неопытность моя в скачках меня погубила: вместо того, чтобы скакать изо всех сил, я, ввиду трудности вспаханного грунта, начал сдерживать лошадь, видя ее утомление, и в каких-нибудь десяти саженях от столба меня обогнали трое, к моему удовлетворению, все трое — кавалергарды; третий — Евгений Бернов — всего на ширину ноздрей лошади; таким образом, я приза не получил, хотя вполне мог бы получить первый. Последним в нашей бригаде прискакал великий князь Дмитрий Константинович, служивший в Конном полку, в сопровождении одного из старших офицеров полка, указывавшего ему путь ввиду плохого зрения его высочества. Скачки эти кончились неблагополучно: во второй нашей бригаде на бруствер свалился офицер и сломал себе несколько ребер; поднят он был в таком тяжелом положении, что медицинский персонал этого препятствия послал спешно за каким-нибудь его товарищем, боясь его кончины тут же на месте; в легкой кавалерии у одного офицера, молодожена, лошадь, испугавшаяся выстрелов в лесу, бросилась в сторону, и офицер этот выколол себе глаз сучком дерева. В заключение государь высказал свое неудовольствие инспектору кавалерии великому князю Николаю Николаевичу Старшему и запретил на будущее время такие эксперименты.
Кончился лагерный сбор большими маневрами, задуманными на этот раз в очень широком масштабе. Наш полк до начала маневров ушел на запад от Красного Села верст на сто; мы принадлежали к армии, наступавшей на Петербург, задача ее была прервать сообщение Петербурга с Москвой. В первый же день я был послан с разъездом и вернулся на бивуак полка довольно поздно, когда все уже улеглись; нашел палатку нашей артели и, не желая искать остальных товарищей в темноте, решил, поужинав, лечь там спать, предварительно доложив собранный мною материал командующему полком полковнику Дубенскому, так как Шипов был вызван в штаб армии. Дубенского легко было найти, он и на маневрах не мог обойтись без оригинальничания. Каждый штаб-офицер имел право в полковом обозе на особую повозку; его повозка была маленький полотняный дом на колесах, как бывает в цыганских таборах;
261
дом был с дверью, двумя окнами, в нем помещались постель, столик и кресло; одним словом, Александр Николаевич воевал сибаритом. Сдав ему донесение и поужинав, улегся на земле в артельной палатке; просыпление мое было фантастичное! Проснулся я от удара в голову, страшного грохота и при свете молнии увидал недалеко от себя медведя на задних лапах. Все это оказалось очень просто: налетевший шквал ветра с грозой сорвал палатку, кол ее ударил меня по голове, полотенце, разметаемое ветром, свалило посуду со стола, а медведь был переодетый солдат, который с товарищами развлекался и заполнял скучный вечер ничегонеделания этими шутками, и в ту минуту от нахлынувшего дождя поспешивший уже на двух ногах укрыться в палатку, не зная, что там офицеры. На следующий день я получил ответственное поручение — занять со взводом своим дальнюю деревню верст за 80 от нашего расположения и держать там связь с двумя другими нашими отрядами, коих цель была предупредить главные силы, если бы неприятель предпринял обходное движение со стороны Финского залива. Шел я весь день по карте и лишь поздно вечером прибыл в эту деревню. Оказалась она таким глухим местом, что народ никогда солдат не видал, все они говорили по-чухонски и русскую речь понимал один лишь староста, который мне и поведал, что войско он видел лишь во время Севастопольской кампании, когда боялись десанта англичан на побережье Финского залива; он не хотел верить, что войны нет, и я думаю, так и остался при своем убеждении, что я его надуваю. При таких условиях трудно было мирным путем расквартировать моих людей, обеспечить довольствие как их, так и лошадей; вся ночь прошла в этих хлопотах и в установлении связи летучей почтой с соседними отрядами. Потянулись для меня скучные дни полного безделия в одиночестве и при самой неуютной обстановке. Можно себе вообразить, как я обрадовался, когда дня через четыре я получил по летучей почте «приказ штаба для исполнения и передачи дальше» присоединиться к своим полкам с приблизительным указанием, где таковые находятся. Собравши свои посты, мне удалось тронуться в путь часов в десять вечера в чудную лунную ночь; взял я провожатого, так как решил для сокращения пути идти напрямик лесом, где приходилось пробираться по болоту, местами гатью и тропами столь узкими, что приходилось идти гуськом; за провожатым ехал я, а в хвосте колонны мой взводный, и к рассвету выбрались из этих болот, отпустили провожатого и пошли по карте; единственное пропитание, которое я нашел своему отряду, была дюжина пива, которым я их и подкрепил. К месту стоянки полка пришли мы, когда полк был уже далеко и сымался уже обоз. Догнал полк в походе и благополучно сдал своих людей эскадрону, приведя лошадей в полном порядке. Тяжело было продолжать участие в дневном маневре после ночного похода. На мое счастье, наш начальник дивизии князь Шаховской, не рассмотрев, куда стреляет неприятельская артиллерия, провел наш полк шагом через мост, который, оказывается, и был обстрелян этой батареей. Подъехали посредники и объявили наш полк за такую оплошность подлежащим бездействию в течение трех часов. Раздалась команда: «Слезай!», и я тут же у ног лошади, держа ее еще в поводу, заснул мертвецки. Маневры кончились, как всегда, генеральным сражением на военном поле.
262
После лагеря государь уехал в Нижний Новгород на выставку, многие из братьев Святой Дружины ехали за ним добровольной охраной, и мне это было предложено, но Панчулидзев просил меня остаться во главе архива, так как сам должен был ехать к своим родным. Меня одного он посвятил в свою семейную тайну, что он жених своей двоюродной сестры Полторацкой и едет к ней. Наняли мы с Дубенским дачу в Петергофе, где полк был на траве, близ Бабьих Гор, перевезли на эту дачу архив и поселились в ней с Александром Николаевичем. Дача была совершенно на отлете, очень обширная, и по ночам всегда кто-нибудь охранял ее вход; пришлось и Семена ввести в эту тайну, и он делил охрану наравне с другими хранителями архива; к сожалению, наивернейшего хранителя — Тосика — не было: он едва уже таскал задние ноги и помещен был в лечебницу, где скоро околел, а мы с Семеном оплакивали его настоящими слезами. Пребывание на даче было очень приятное; Дубенский привел четверку выездных лошадей, разнообразные экипажи, катались мы много, по архиву дела было мало, все внимание Святой Дружины было сосредоточено в Нижнем Новгороде, каждый день кто-нибудь приезжал из товарищей дежурить по полку и жил у нас. Когда кончилось травное довольство полка, Александр Николаевич Дубенский переехал в город, а я еще оставался, чтобы при себе уложить и отправить с телохранителями архив. У одного из ящиков письменного стола секретный замок сломался, почему я его перевязал шнурком и запечатал; подводу, на которой его везли в Петербург, все время охранял джигит (и злой дог, как указано в других воспоминаниях), и все-таки Панчулидзев очень мне выговаривал за такую оплошность.
В полку я был назначен старшим помощником заведующего учебной командой. Заведующим был Панчулидзев, а вторым помощником — фон Кауфман, женившийся впоследствии на разведенной жене князя Ивана Мещерского. Как я уже говорил, Панчулидзев был необъявленным женихом и постоянно отсутствовал, почему вся тяжесть работы как по команде, так и по архиву, лежала на мне; мне приходилось, между прочим, обучать команду вольтижировке, которую сам знал лишь по теории; все-таки к концу добился я таких результатов, что некоторые мои солдаты по-цирковому ездили, свободно стоя на лошади даже в кирасах, и проделывали в таком положении рубку.
Несмотря на усиленные занятия, меня одно время товарищи завлекли выезжать в свет, и я сделался завзятым танцором. Балы в этом году, после продолжительного траура, были чуть ли не ежедневными — Петербург веселился. Часто танцевал я у Юсуповых, у Кочубея Василия Аркадьевича, у Балашовых, у графини Клейнмихель, в разных посольствах; приглашения сыпались ежедневно, бывали дни, что на день выпадало три бала, и нередко, вернувшись с бала, я лишь переодевался и, не ложась спать, шел на службу. В течение зимы было несколько придворных балов, но государь их не любил, и кончались они довольно рано; государыня всегда на них танцевала и часто выбирала себе кавалеров из нашего полка. Однажды она хотела танцевать с нашим Базей Кочубеем, но тот, не зная вальса, откланялся, за что попал в немилость — государыня впредь на всех представлениях не давала ему руки и, проходя мимо него, на его глубокий поклон демонстративно отвечала кивком головы. Государь давал знак прекращения этих вечеров оригинальным способом: он приказывал музыкантам придворного
263
оркестра уходить один за другим, звук угасал и бал замирал. Придворный этот оркестр был составлен из бальных оркестров нашего полка и Конного; начальником его был конногвардеец барон Штакельберг, а помощник его — наш Киреев. Был один очень веселый базар у Тимашевых, но наиболее веселым был костюмированный бал у великого князя Владимира Александровича, который дал таковой, чтобы подчеркнуть примирение государя с женой его высочества великой княгиней Марией Павловной. Костюмы должны были быть все из русской истории допетровской эпохи. У меня сохранилось много карточек товарищей в этих костюмах. На мне был костюм князя Изяслава по рисунку костюмерной части Большого театра; состоял он из белой рубашки, отороченной разноцветными каменьями, такого же плаща с застежкой на левом плече, цветных шаровар, заправленных в мягкие сафьяновые сапоги, и высокой конусообразной шапки, которая должна была быть опушена бобром, но, по недостатку средств, на ней был какой-то дешевый американский мех. Выделялись по простоте своей и красоте фигуры два конногвардейца, изображавших рыбаков — отца и сына.
Как неожиданно я стал выезжать в свет, так же неожиданно прервались эти выезды: балы начинались часов в двенадцать, почему однажды до бала я прилег отдохнуть, Семен меня не разбудил вовремя, и я проснулся лишь тогда, когда уже пора было идти на службу, и с тех пор я больше не ездил; весь мой бальный угар длился не более месяца. Устроил я себе на Рождество отпуск двухнедельный в деревню, но, желая обрадовать родителей сюрпризом, писал матери, что думаю проехать в Финляндию к товарищу, и Мама́ по обычной своей ревности ответила мне письмом с упреками, которые я так и не получил, потому что неожиданно прикатил к ним из Ферзикова на почтовых. Как она бедная угрызалась и как они мне обрадовались, не зная как меня баловать! Жили они на маленькой половине; единственной комнатой, где все собирались, была классная, уже в настоящем виде, без коридора. Утром собирались все к бабушке во время ее утреннего кофе; к двум часам бабушка выходила в классную к обеду; садилась она на широкое кресло у последнего окна, и весь день жизнь сосредоточивалась около нее. После чая, который подавали в семь часов, играли с ней в дурачки и потом она уходила к себе, и тогда мы еще сидели, и Папа́ требовал самых подробных рассказов о нашей с Варей жизни в Петербурге. Во время моего приезда Папа́ вызвал управляющего симбирскими имениями Рашковского и двух управляющих рязанскими имениями (фамилий их не помню), так что с нашим сергиевским управляющим Остроухом их всего было четверо, с которыми Папа́ несколько дней занимался, требуя, чтоб и я присутствовал, вникая во все подробности наших дел, которые, хотя были и запутаны, но в общем состояние было очень значительное, а именно: в Калужском уезде, в Сергиевском было 3500 десятин; в Рязанском уезде, в Чичкине — 600 десятин; в Зарайском уезде, в Радушине — 750 десятин; в Симбирском уезде, в Михайловке — 1060 десятин, в Телешовке — 766 десятин и в Покровском — 500 десятин; всего 7176 десятин, правда, заложенных в сумме около 300 000 рублей, из коих Михайловка, Телешовка, Чичкино — самым невыгодным образом в Золотом банке, только что выдержавшем крах благодаря растрате Юхонцева. Мои родители старались завести самый скромный образ жизни, но старые привычки брали верх и, в общем,
264
отказа никому ни в чем не было: никто никуда не ездил, а на конюшне было три кучера; редко кто приезжал, а на кухне был повар с помощником, который готовил лишь один обед в день, правда, самый разнообразный, применяясь ко вкусам каждого, так что иногда подавалось блюд до десяти; никто из нас не пил, а на столе всегда стояли вина всех сортов; прислуги было очень много: буфетчик, камердинер, буфетный мужик, три или четыре горничные, две прачки и всегда домовая экономка. Если бы нам теперь вернуться к этому строю жизни, который тогда отнюдь не считался роскошным, мы бы устрашились этих безумных непроизводительных трат — быть может, читатели этих записок, мои внуки, скажут и подумают то же самое про нас.
Во время моего пребывания в Сергиевском приехал Петр Семенович Ржевский, beau-frère моей матери, встреченный ею крайне радушно, но потом выяснилось, что цель его приезда была выведать, не может ли он предъявить претензию на состояние дедушки в порядке наследования. Очень он был смущен, когда узнал, что дедушка еще при жизни передал все свои имения по дарственной; уехал он сконфуженный, а его притязания напортили навсегда отношения, и с ним Мама́ больше не видалась, хотя впоследствии пришлось с ним вступать в деловые отношения благодаря двум наследствам: после Еропкина и после Наумова; в обоих этих наследствах Мама́ и дети Ржевского имели равные доли — по четвертой части, а остальную половину должен был получить двоюродный брат Мама́ князь Евгений Николаевич Волконский.
Отпуск мой, весь полный баловства и ласки родителей, пролетел как один миг, и я с горем вернулся обратно в Петербург. По возвращении в полк мне сообщили, что новый министр внутренних дел граф Дмитрий Андреевич Толстой потребовал распущения Святой Дружины, мешающей в своей параллельной работе Департаменту полиции, почему архив уже закрыт и передан Министерству внутренних дел, а нам всем, деятелям Дружины, в виде утешения дан был экземпляр литографированного письма с объявлением нам высочайшей благодарности за верную, подданническую, бескорыстную деятельность. Думаю, что деятельность Дружины, под другим соусом, впоследствии вновь возродилась, но я уже более приглашен не был. Предположения мои основаны на следующем: однажды в артели Николаев отвел меня в сторону и долго беседовал со мной, кажется, о покупке какой-то лошади; почему-то Николаев придал этому разговору какой-то таинственный характер, и Базя Кочубей, наблюдавший за нами, наивно меня спросил, когда Николаев от меня отошел: «Что, Тосик, и ты опять попал в Дружину?»; когда же я ему ответил, что об этом даже и разговора не было, он сконфузился, что проговорился, и убедительно просил меня молчать. Я это сделал тем более охотно, что, зная Кочубея за совершенно пустого малого, в душе был глубоко оскорблен, что предпочитают таких, как он, а не нас, старых деятелей, серьезно поработавших. Проверить эти предположения мне никогда не удалось, а потому выдаю это не за достоверное.
Занятия мои в учебной команде кончились блестящим экзаменом в марте месяце (экзамен был ускорен ввиду коронации). Председателем комиссии был командир Конного полка барон Фредерикс (впоследствии министр Двора — в следующем царствовании), вновь назначенный командир нашей бригады.
265
В царствование Александра III обыкновенно старший полковой командир назначался одновременно и бригадным командиром, что давало значительную экономию, тем более что все штабные должности при бригадах были упразднены. Назначение Фредерикса вместо графа Орлова-Давыдова состоялось еще во время лагеря, и тогда же в нашей артели, как первого полка в бригаде, дан был прощальный обед от всех офицеров Кавалергардского и Конного полков бывшему бригадному. По помещению мы были хозяевами, но по торжеству равно распоряжались представители обоих полков, и мне казалось, что введены были какие-то новшества по традициям Конногвардии. Не помню, что именно, но впечатление этого обеда был такой разгул под его конец, что даже обычная корректность нашего полка куда-то пропала, и стало мне совсем противно. Фредерикс, окончательно потерявший голову под влиянием сильных паров, приказал Шипову сесть к нему в коляску и чтобы везли эту коляску офицеры; так как наши, кроме одного-двух, уже совершенно невменяемых, не пошли, впряглись офицеры, подчиненные Фредериксу, и вся эта суета была в высшей степени безобразна. На следующий день наш новый командир бригады, допустивший во время этого стыдного последнего инцидента какие-то неприличные слова по отношению нашего полка, воспользовался тем, что на каком-то учении все офицеры были собраны, подъехал к нам и сказал приблизительно следующее: «Вчера я так усердно пил за здоровье, былую и будущую славу Вашего полка, что многое, что говорил, не помню, но прошу Вас извинить меня, если сказал что лишнее, и отнести к, быть может, недостаточной умеренности, когда поднимал бокал за Ваш полк; горжусь, что имею честь быть его бригадным командиром». Все это было сказано так громко, задушевно, и притом с таким видом grand seigneur, что барон значительно возвысился в наших глазах, недоразумение рассеялось и впредь никаких трений не было. Экзамен, как [я] сказал выше, был блестящим, а вольтижировка получила особенное одобрение барона и начальника штаба дивизии. Скоро после экзамена женился Панчулидзев; свадьба была тайная в какой-то отдаленной церкви на островах; нас, его товарищей, было человек пять, не более, и мне пришлось по его просьбе быть свидетелем, то есть подписать обыск в метрической книге, и сознаюсь, что теперь, на старости лет, меня гложет эта официальная ложь в документе, в которой я участвовал (впоследствии, как увидим, эту ложь я повторил). Побуждение было хорошее, но действие было неправильное, а только полная правда дает мир и спокойствие душевное. Хотел бы, чтобы мои дети, внуки и потомки прониклись бы этой истиной с ранних лет, по опыту моему дошедшего до этого вывода уже к старости.
Варя была всю зиму беременна и ждала роды в марте или апреле, так что она всю зиму особенно берегла себя. Я старался ее навещать возможно чаще. Никуда она не выезжала, кроме как для катания. Однажды она выехала кататься летом, для меня очень неудачно. Помню, что я отпросился из лагеря ее навестить — период для меня был полного безденежья и я намеревался у нее перехватить маленькую сумму денег до первого платежа Чебоксарова, не желая занимать у товарищей. Хватило мне денег на билет туда и обратно (тогда всегда брались retour-billets, которые были значительно дешевле), но от Балтийского
266
вокзала пришлось идти пешком на Большую Конюшенную, где у нее и намеревался поесть и отдохнуть.
Увы, ее не было дома, дожидаться ее не мог, ибо в случае ее опоздания я пешком не поспел бы на обратный поезд, и я, несолоно хлебавши, вернулся немедленно на вокзал, оставив ей соответствующую записку, от коей она пришла в ужас, узнав о моих злоключениях; на следующий же день она прислала мне кого-то в Красное Село с деньгами и отчаянным письмом. Все же смешно вспоминать, что тогда такие мелочи казались несчастьем. Несомненно, теперешние революционные испытания имеют для нас большее воспитательное значение. Родители мои приехали к родам Вари в начале марта. Ввиду прекращения деятельности архива Святой Дружины и окончания учебной команды я был почти совсем свободен и большую часть дня проводил у Вари. 13 марта поздно вечером за мной прислали, и с тех пор до самого появления Муси на свет Божий я от них уже не уезжал. Муся родилась 14-го рано утром, часа в два утра. Я имел неосторожность по неопытности рассказать Варе о неблагополучных родах кого-то из ее современниц по свадьбе, за что Мама́ меня очень бранила. Рассказ мой сделал на Варю столь тяжелое впечатление, что она не переставала о нем думать и страшно боялась своих родов. Были они, действительно, нелегкие; когда ее уже уложили в постель днем 13-го, при ней неотлучно находился профессор Славянский со своим ассистентом и милейшая акушерка Пелагея Егоровна, необъятной толщины, с красивой импозантной старушечьей фигурой. Не только нас, но и Мама́ в ее комнату не пускали. Мне приходилось постоянно ездить в аптеку за подушками кислорода, коим поддерживали силы бедной Вари. Славянский потом говорил, что он ожидал такие трудные роды благодаря слишком узкому сложению сестры — она всегда добивалась особенно узкой талии, сильно девушкой стягивалась, и это было для нее фатальным. Операции никакой ей делать не пришлось, но Леонид Федорович, как объяснил потом Мама́, прямо выдавил ей ребенка, так как собственных сил у нее под конец уже совсем не было. Никогда не забуду минуту, когда мы все, сидя в полуосвещенной столовой, куда последний час и крики Вари не доходили, вдруг услыхали тяжелый бегущий шаг Славянского, и он, вбежав в столовую весь окровавленный, крикнул нам: «С внучкой поздравляю, все благополучно» и немедленно вернулся в комнату родильницы. Родители мои и Яша бросились со слезами друг другу на плечо — единственный раз в жизни, что я видел Яшу совершенно просто, без стыда плачущим хорошими слезами. Не скоро нас впустили поцеловать Варю и младенца. Сестра была необычайно слаба, и только тогда я понял, как она была опасна. Поправлялась она медленно, хотя никаких, слава Богу, осложнений не было; Мама́ от нее не отходила. Крестины были назначены на день Благовещения; никого на них не было, кроме двух-трех самых близких. Крестной матерью была заочно бабушка, а крестным отцом — Папа́; все крестины Мусю держала Мама́, а вокруг купели носила ее тетя Соня Охлябинина, дабы в паре не были муж с женой во время самого обхождения. Крестил наш бывший полковой священник Желобовский; он уже был переведен в Сергиевский всей артиллерии собор, но Яша и Варя хотели именно его как того священника, который их и венчал. При этом случае сказалась toute la futilité петербургского строя
267
жизни. Повещено было нас с родителями и Желобовским всего человек шесть-семь, не более, но для подачи шоколада и крестильного угощения по желанию Яши и Вари в их крошечной квартире их единственный человек был одет по-придворному, то есть в башмаках и высоких чулках и коротких штанах. Это до того не вязалось со всей обстановкой, что даже я, который, как в те времена, разделял все же идеи дурацкого «qu’en dira-t-on», понял всю эту несообразность «ich will, aber ich kann nicht», и меня самого покоробило.
Родители скоро уехали после крестин, не желая оставлять на Пасху бабушку одну; мы с ними сговорились, что после коронации я приеду к ним месяца на два готовиться к Академии. Предполагал я поступить либо в Академию Генерального штаба, либо в Юридическую, последняя меня больше прельщала, но Яша советовал первую. Сам он окончил Академию перед самым выездом на коронацию и возвращался в полк; окончил он ее блестяще, чуть ли не первым, и предполагал будущую зиму отдохнуть и пожить с Варей светской жизнью, для чего они подыскивали себе более подходящую для приемов квартиру. Капитал Яшин в 30 или 40 т[ысяч] еще не истаял, и им казалось возможным пожить год в свое удовольствие, рассчитывая и на то, что связи в обществе помогут дальнейшей карьере Яши. После крестин я в свободное время, которого у меня было вдоволь, подыскивал им новую квартиру и рекомендовал им таковую на Шпалерной: небольшой особняк с красивым входом, лестницей на два створа, большой залой, гостиной и с достаточным количеством комнат. Они взяли эту квартиру и уже летом после коронации переехали туда. Самое время коронации Яша с Варей провели в Сергиевском, а последующее летнее — не помню где, только не у нас. Я стал готовиться к отъезду в Москву; Папа́, прощаясь со мной, сказал, что для коронации он мне открывает новый кредит, так как приходилось заказывать себе много новых форм, да и жизнь в Москве должна была быть дорогая.
Так как это была последняя зима, проведенная мною в Петербурге в полку, хотел бы насколько возможно подробнее вспомнить все ее обстоятельства, но, к сожалению, в памяти осталось немного. Иногда посещали меня товарищи, и удалось использовать мне все свои фортепьяно, устраивая игру в восемь рук; Сергей-буфетчик был рад хоть когда-нибудь быть полезным, и когда бы ни приходили ко мне, вечерний чай был подан самым удовлетворительным способом. В этом году наш полк часто посещал великий князь Николай Михайлович, стараясь войти в товарищеские отношения со всеми офицерами; говорили, что его мечта была поступить к нам в полк, дабы потом получить его командование; первое он исполнил через год, но командиром никогда назначен не был, попавши в немилость за, как тогда выражались, либеральный образ мыслей. Его отношения были настолько просты, что и он как-то с товарищами зашел ко мне вечерком посидеть; пора была мне перестать конфузиться, будучи тертым калачом по части придворной и светской, но сознаюсь, что принимая его, я совершенно растерялся; панибратство и фамильярности, допускаемые с ним некоторыми офицерами, мне претили, а слишком официальное отношение его коробило; среднего положения я никак уловить не мог, почему был очень рад, когда он ушел; зато его посещение сделало громадное впечатление на Семена и Сергея, и они не переставали о нем говорить и им гордиться. В этом году в артели установлены были
268
по четвергам званые парадные обеды, на которые каждый офицер имел право приглашать гостей; я, кажется, этим правом ни разу не воспользовался, но все эти обеды аккуратно посещал и перезнакомился с целым рядом людей. Примазался к полку какой-то штатский господин Голохвастов, брат тетки моей жены Е. Д. Лопухиной, который влез в дружбу ко всем: мне он был крайне антипатичен, и я старался его избегать, но однажды он подошел ко мне и сказал, что хочет просить у меня такую вещь, за которую в случае отказа полагается дуэль; сводилось это к тому, что он хотел выпить со мной брудершафт. Я не имел основания оскорблять его отказом, он был значительно меня старше, антипатия моя была основана на ничем, и я перешел с ним на «ты», но при следующей встрече самым невинным образом опять стал ему говорить «вы», и он понял мое к нему отношение и сам отделился. Во время одного моего дежурства поздно ночью дежурный по пятому эскадрону [привел] какого-то штатского господина, обвинявшего солдата этого эскадрона в похищении у него золотых часов, но при этом не хотел объяснить, почему он попал в помещение нижних чинов. Ввиду того, что настоящее заявление требовало обыска в казармах эскадрона, я пошел с докладом к командиру полка. Шипов уже спал и принял меня раздетый, укрывшись за портьерой, из-под которой торчали его голые ноги и высунувши лишь голову. Он мне дал приказание сделать обыск лишь если будет проверена и выяснена причина посещения этим господином наших солдат, так как несомненно его посещение не может быть объяснено частным намерением. Когда я вернулся в дежурную комнату, где этот тип ждал меня под охраной дежурного унтер-офицера и объявил ему, что прежде всего выясню его личность вызовом полиции, он бросился на колени, целовал мои ноги, умолял его отпустить, отказываясь от всякой претензии. Я его освободил, а унтер-офицер выпроводил его с подъезда не особенно вежливым образом. Шипов же на следующее утро сказал мне, что очень доволен, что я замял эту историю.
Постом я под влиянием особенно религиозного настроения, вызванного разлукой с родителями, сознанием какой-то пустоты настоящей моей жизни, наложил на себя пост, особенно строгий; и знаменательно был наказан в своей гордости, как увидим дальше. Весь пост я положил себе есть одну лишь невареную пищу, как-то моченые яблоки, кислую капусту, соленые огурцы, разрешая себе в виде горячего лишь постный чай с хлебом; по средам и пятницам позволял себе одно горячее кушанье — то картофельные котлетки, то постные блины, которые мне готовила жена Сергея. Все это было не только не согласно с уставами нашей церкви, но и противно им, так как по средам и пятницам полагается усугубление поста. Об этом обете никто не знал, даже мои родители, и я должен был выдумывать разные предлоги, чтобы не посещать артель и мою сестру в часы завтраков и обедов; и все-таки мне не удалось довести свое намерение до конца, и в Великую Субботу я оскоромился самым малодушным, позорным и подлым образом; воспоминание этого дня осталось для меня наукой, как враг силен и как ему подпадают легко, когда гордость обуревает. К Страстной я, понятно, страшно отощал, но в душе гордился своему подвигу. В Великую Субботу, вместо того, чтобы идти в церковь, я прельстился приглашением Виктора Кочубея и, ввиду чудного дня, поехал с ним в дальнюю верховую поездку; мы
269
часто с ним вдвоем гуляли и вели нескончаемые беседы. На этот раз мы к часу дня очутились так далеко на островах, что он решил остановиться позавтракать в каком-то маленьком ресторане; я, забыв все, тотчас же согласился; он заказал себе какое-то постное рыбное кушанье, а я с какой-то бравадой, совершенно ненужной, потому что Виктор никогда не смеялся над церковною обрядностью, подчиняясь ей лишь очень умеренно, заказал себе постные макароны, и когда мне подали таковые, отослал их обратно, сказав, что такой гадости не ем, а что пусть они сделают мне вкусные, а я не вхожу в подробности их приготовления; тогда мне без всяких обиняков подали макароны с мясом и сыром, которые я тут же с аппетитом поглотил. Почему я это сделал, до сих пор себе отчета не даю, но потом терзался я и мучился невыносимо. Я потом неоднократно за собою наблюдал, что имел поползновение налагать на себя непосильные лишения, часто за это был наказываем, но и до сих пор впадаю в этот недостаток. Все-таки последний год в полку был каким-то годом перелома во мне — пустота жизни начинала меня тяготить. Напоследок я еще раз был охвачен предстоящей коронацией, но ею, как увидим, не мог вполне насладиться.
Один товарищ, Катков (их было у нас в полку два брата, Петр и Павел, первого звали Маданя, а второго Mademoiselle), сын знаменитого Михаила Никифоровича, издателя и редактора «Московских ведомостей» и «Русского вестника», а также директора и основателя московского Катковского лицея, от имени отца предложил нашему полку для офицеров все студенческое общежитие лицея, почему Федоров, вечный квартирьер и наш благодетель, выехал вперед распределить это помещение между нами и вообще устроить расквартирование всего полка, который, по особому коронационному церемониалу времен Павла I, должен был, не в пример прочим полкам, высылавшим по одному эскадрону, участвовать почти в полном составе. Я мечтал занять одну общую комнату с Адлербергом, но меня перебил Мими Челищев, но зато я получил в единственное владение отдельный, хотя маленький, номер с видом на Нескучные, столь мне знакомые по детским хамовническим воспоминаниям. До переезда полка в Москву были частые наряды по сопровождению регалий на Никол[аев]ский вокзал. Эта перевозка совершалась очень торжественно, и я очень рад, что видел и участвовал в этом. Полк отправлялся в Москву четырьмя эшелонами поэскадронно; к нашему эскадрону присоединился штаб полка (кроме Шипова, ехавшего отдельно с женой обыкновенным пассажирским поездом); с нами ехали и трубачи, что давало возможность на длинных остановках развлекать публику полковой музыкой, и вся наша артель, устроившая у нас в поезде обычный образ жизни, какой бывал в Петербурге. Кисун через своего хорошего знакомого добился прицепки к нашему эшелону сверхклассного вагона 1-го класса для офицеров, еще салон-вагона директора дороги, роскошного до последней степени, с большой столовой, где мы обедали; мне не хватило места в классном вагоне, почему я устроился в гостиной салон-вагона, а спальню этого вагона занял Дубенский, и к нему же был поставлен штандарт. Первый эшелон должен был выступить в 10 часов утра. Второго июня в понедельник утром на полковом дворе был отслужен сему полку напутственный молебен, и 1-й эскадрон тронулся в путь по направлению к вокзалу на посадку. Уложившись с поклажею
270
и дав последние инструкции Семену, едущему со мною, [и] Сергею, остающемуся при квартире, я отправился завтракать в артели, и во время подачи такового, я, дожидаясь, чтобы кушанье остыло (помню, что это были какие-то особенные мною заказанные котлетки), поехал домой за папиросами, которые забыл положить в портсигар, но у дверей своей квартиры нашел вестового с лошадью и приказом Ковалькова немедленно явиться, так как эскадрон ввиду перемены расписания железной дороги выступает раньше. Так я в артель [и] не вернулся и не предполагал, что это было мое последнее в ней пребывание офицером, ибо, как увидим впоследствии, я в Петербург офицером больше не возвращался. Котлетки мои остались несъеденные!
Ни одно путешествие никогда не было столь просто и не совершалось с такими удобствами. При посадке [вместо] Ковалькова как коменданта поезда, начальником эшелона оказался Дубенский как старший в чине. Осаждали его с просьбою посадить наших постоянных <…>. Диго фотограф уехал вперед с 1-м эскадроном по настоянию Павлика Родзянко, затеявшим на каждой остановке увековечивать переезд эскадрона какой-нибудь фотографией. К нам был прислан Матвей-маркитант со своими помощниками, устроили его в классном вагоне 3-го класса к камердинерам. Парикмахера Миша Кисун безапелляционно отверг несмотря на его слезы и стояние на коленях. Причиной такого остракизма было то, что явился парикмахер на [вокзал с опозданием, потому что был пьян]; потом он все-таки догнал нас с пассажирским поездом и следующее утро обходил офицеров в вагоне для бритья (?). Выехав в 4 часа дня, мы приехали в Москву через день в 12 часов дня, пробыв в пути почти двое суток. Такая медленность происходила по необходимости приучить лошадей к движению и тряске вагона, почему первые станции мы ехали не скорее бега часовых. При посадке забыли взять в вагон собаку трубаческой команды, и она все время бежала за поездом и лишь верстах в двух от первой остановки отстала от изнеможения; вернулась в Петербург в казармы, где и околела от тоски. Наш эшелон, как везший штаб полка со штандартом, должен был прибыть первый в Москву, почему на какой-то станции вечером второго дня мы обогнали первый эскадрон, и велико было наше удивление, когда подъезжая к перрону станции, мы увидали первый эскадрон, выстроенный в почетном строю и приветствовавший нас криками «ура». Впереди стоял Родзянко, по его знаку было подано шампанское, дабы пить наше здоровье, а людям нашего эшелона Родзянко велел выкатить необъятное количество пива. На этой станции их эшелон стоял уже давно, пропуская нас, почему он и успел все приготовить столь торжественно. На больших стоянках для проводки лошадей и обеда солдат публика на нас смотрела с любопытством и наслаждалась нашими трубачами; отъезжали мы обыкновенно тоже с музыкой, на что публика отвечала маханием платков, а должностные лица отдавали честь по проезде нашего вагона со штандартом. Все это выходило очень празднично, почему само это путешествие осталось для меня одним из лучших воспоминаний. Коронацией, к сожалению, мало насладился. После въезда государя в Петровский дворец, на котором он присутствовал, у меня сделался нарыв на пальце, мешающий надеть перчатки; мучился я несколько дней подряд, доктор применил какое-то неудачное лечение, вскрыл нарыв слишком поздно,
271
когда уже была захвачена воспалением часть руки, и поправился я лишь после коронации, за несколько дней до высочайшего смотра войск; таким образом, ни одного торжества [я] не видал, а проделал лишь смотр, который и в обыденное время успел мне надоесть. Совестно мне было перед Яшей, с которым я был назначен в пару; он благодаря моей болезни не участвовал в торжестве и лишь видел самый выход в качестве зрителя в числе офицеров, не занятых службою, для которых выделены были две залы дворца. Другие же товарищи, разделенные по парам, по церемониалу принимали непосредственное участие либо в качестве почетных часовых при балдахине, под коим следовали коронованные государь и государыня, либо сопровождая во время царского обеда в Грановитой палате каждое кушанье, несомое дворянином Московской губернии. Тимашев, сопровождавший одно из кушаний, со смехом рассказывал, как старичок-дворянин, не понимая всю показную роль парадного обеда, все боялся, что пирожки остынут; а государь и государыня, сидя на высоком помосте под балдахином в полном царском облачении, понятно, о еде и не думали. Особенно тяжелая служба выпала, по церемониалу, Шипову: он во время всей коронации и парадного обеда как командир Кавалергардского полка, стоя за тронами их величеств с обнаженным палашом, как почетный караул; стояние это длилось часами, и рука его совершенно онемела. Болезнь моя была еще тем неприятна, что ходили в обществе самые угрожающие слухи о готовящихся взрывах, и я, один из всего полка, был в полной безопасности, проводя дни в лицее.
В первые дни прибытия в Москву Шипов потребовал, чтобы все офицеры in corpore представились генерал-губернатору князю Долгорукому, командующему войсками округа графу Бреверн-де-ла-Гарди, бывшему кавалергарду, имеющему наш мундир. Это была особенная утонченная вежливость, так как по положению должен являться лишь командир прибывающей в округ части. Приняли нас нелюбезно: первый заставил нас так долго ждать несмотря на назначенный час, что наконец старшие офицеры возмутились, и мы все уехали, лишь расписавшись у него и заявив, к великому изумлению его адъютанта и швейцара, что и во дворце нас не заставляли ждать. Второй же, граф Бреверн, принял нас тотчас же, когда мы все собрались, надел для этого кавалергардскую форму, но не нашел ничего любезнее нам сказать, как то, что он не может радоваться нашему приезду, так как мы затмим офицеров его округа. В эти дни на улицах я наблюдал объявления герольдов о предстоящей коронации; их средневековые костюмы были очень красивы и все торжество это очень помпезно.
Поправившись, я как раз попал на освящение храма Христа Спасителя, но полк наш стоял лишь в конном строю на площади против собора со стороны Москвы-реки, почему я мало что видел; церковное шествие с окроплением митрополитом стен собора прошло на таком расстоянии, что мне с моим плохим зрением ничего не удалось рассмотреть. Имею утешением только то, что участвовал в историческом событии. Затем начались репетиции парада, происходившие ежедневно. Шипов ужасно замучил полк — репетиции происходили на Девичьем поле, тогда еще не застроенном; однажды после такого учения командир предложил всем офицерам, за исключением одного на каждый эскадрон, которые должны были отвести полк в Сумские казармы, ехать завтракать с ним на Воробьевы горы
272
и для сокращения пути переправиться тут же через Москву-реку верхом вплавь или вброд, как кому посчастливится. И тут же сказалась в нем жилка спортсмена. Многие основательно выкупались и здорово его ругали, мне же посчастливилось перебраться довольно сухо вброд, а чудный вид с Воробьевых гор на Москву вполне вознаградил за эту рискованную переправу.
Яша привез в Москву одну выездную лошадь, Вьюгу, с экипажем, и мы с ним по вечерам катались. Посещали преимущественно старинные московские кладбища, где отдыхали среди могил и наслаждались тишиной и пением соловьев; раз заехали мы с ним в Хамовники и я, войдя во двор бывшего дома дедушки, объяснял ему расположение комнат и рассказывал ему про нашу с Варей детскую жизнь; в самый дом, где был приют Ксениевский, мы не решились войти, что очень жалко.
Для парада Шипов назначил меня, ввиду красоты моего Вандала, замыкающим офицером, который едет один сзади всего полка, но перед самым парадом, неудовлетворенный моей посадкой и сбором лошади, заменил меня Растовским.
Парад прошел благополучно, и в тот же день я уехал в разрешенный мне отпуск, приказав Семену и Осьмину с моими лошадьми и вещами следовать за мной в Сергиевское; не думал я, что я окончательно расстаюсь с полком, почему ни с кем особенно не прощался. В вагоне я очутился в одном купе с нашей бывшей грозой, графом Александром Ивановичем Мусиным-Пушкиным, и до Тулы провел с ним время, ухаживая за ним, как за стариком и отцом моего товарища, а он добродушно поварчивал заочно на Джона и дружески со мной простился.
273
Глава VI
ОТСТАВКА ИЗ ПОЛКА И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ
(1886—1887)
Итак, мое офицерство кончено, и началась для меня новая страница жизни — жизни семейной в деревне. От полковой жизни осталось у меня сознание, какая сила в жизни — дружба и солидарность товарищеской среды; вечно буду благодарен товарищам за те счастливые годы, в которых, несмотря на мою юность, они оберегли меня от ложных шагов; но чем более проходило время, тем более выступала для меня ярче пустота этой жизни. Исполнение долга было вполне определенное, но цель долга была совершенно туманна, почему и деревенская жизнь, которая отныне для меня началась, заставила меня переоценить мои верования и от многого, чему я поклонялся, отказаться.
Забыл упомянуть, что зимою, когда я был в Сергиевском, я уговорил Папа́ передать Варе Чичкино и Радушино; Радушино было предназначено моею матерью сестре, а Чичкино Мама́ хотела, как родовое Волконских имение, чтобы перешло ко мне (Радушино была Балашовская вотчина, перешедшая к дедушке как седьмая часть его покойной первой жены). Говорил я родителям, что я все равно не женюсь и потому пусть Чичкино ей сейчас отдадут, а Радушино — когда мои родители найдут нужным. Так и сделали, и я привез Варе это известие, вернувшись после рождественского отпуска. Она мне отплатила впоследствии тем же, ибо, когда я стал женихом, настояла вернуть мне Чичкино, но тогда для большего удобства Папа́ оставил ей рязанские имения. Мама́ Варе же дала реверс, что компенсировало отчасти [ее долю] в отцовском наследстве, и вернула Папа́ Покровское свое имение Симбирского уезда.
Приехав в деревню, принялся я за питье вод, но скоро пришлось мне их бросить, так как отец мой вновь заболел; приступы его аппендицита стали повторяться и были настолько остры, что он страдал даже от сотрясения пола при хождении кого-нибудь. Был приглашен новый доктор Парфианович, который диагностировал блуждающую почку, вызывающую воспалительные приступы, и рекомендовал при первой возможности, то есть в длинный перерыв между приступами, водолечение. Мне он, по секрету, сказал, что считает положение моего отца серьезным, каждую минуту оно может сделаться опасным и угрожающим, почему советует мне его не оставлять. Я тогда потихоньку от родителей написал рапорт в полк и препроводил его с письмом к Дашкову, прося ввиду таких обстоятельств,
274
продлить мой отпуск до одиннадцати месяцев, и только когда получил благоприятный ответ, сообщил Папа́ о принятом мною решении. Оба были, по-видимому, довольны, особенно Мама́, хотя выговаривали мне, что напрасно я так поторопился и что мне рано зарываться в деревне. Действительно, мне было только 22 года. Отправил я в Петербург Семена ликвидировать квартиру, также и рейдкнехта Осьмина с лошадьми, которых просил Кегеллера продать. Не скажу, чтобы это было мне легко, но я считал это безусловно необходимым, а потому не задумывался. Переписки с товарищами не бросал и почти ежедневно получал от кого-нибудь из них письма; Мама́ с болью наблюдала, не тоскую ли я слишком, всячески за мной ухаживала, хотя, бедная, безумно мучилась за Папа́, наложила на себя всякие лишения, обеты, лишь бы вымолить ему здоровье. Папа́ около месяца не вставал и из постели через меня распоряжался хозяйством. Я тогда особенно оценил управляющего Остроуха, который из самостоятельного управляющего без всякой обиды обратился просто в приказчика. Он настолько за эту зиму привязался к моим родителям, и особенно к моей матери, что всячески думал только об их спокойствии и никогда не показывал недовольствия; а часто имел право обижаться, тем более что я, ничего не понимая в этом деле, во все вмешивался по желанию отца. Для меня был совершенно китайский язык такие термины, как «полуторка», «швирок», «кругляк». Я думал, что вести хозяйство можно по-военному, приказав то или другое и потому часто попадался впросак. Однажды, во время возки, я велел приостановить деревне Пышково таковую, чтобы не дать навозу засохнуть до пахоты, не рассчитав, что деревня эта в этот день отваживалась и такая остановка и вызов ее через день были явною несправедливостью. Остроух с большим тактом вмешался и, не роняя моего авторитета, сумел сделать так, что староста деревни Павел Павлов даже приходил меня благодарить за разрешение в этот день закончить возку. Курьезность моего хозяйства доходила до того, что 22 июля, несмотря на жатву, я по случаю именин своего шефа, запретил всякие работы и потребовал, чтобы вся администрация имения и рабочие были бы в церкви у обедни, которую само духовенство, занятое сельскими работами, служило чуть ли не в семь часов утра, а мы весь день бездельничали. Папа́ не хотел мне противодействовать, а Мама́, что бы я ни сделал — все находила прекрасным. Сознаюсь, что я в это лето наделал много глупостей в хозяйстве, но зато многому и научился и всегда буду благодарен Остроуху за его более чем корректное отношение к моему юношескому пылу.
Администрация имения была очень большая и под влиянием Константина Людовиковича ополячилась: помощником его был поляк Дмоховский, конторщиком тоже поляк Иосиф Пивинский (теперь он [состоит] главным управляющим делами семьи брата моей жены Петра Николаевича Трубецкого), экономкой была тоже полька Эмилия Петровна, старостой был местный крестьянин Михаил Глебов; личность эта была совершенно исключительная: он за какой-то проступок, совершенный патрулем, в котором он не участвовал, но был замешан как находившийся в этом патруле, лишен был воинского звания и приговорен к дисциплинарному батальону. Срок его наказания окончился весной этого года, и отец мой, увидав в нем сметливого плотника, взял его в качестве такового для ремонта, а потом перевел его на должность старосты. Михаил никогда не мог забыть оказанного ему доверия,
275

Земский начальник Михаил Михайлович Осоргин и волостные писари
в усадьбе Сергиевское. 1890. Частное собрание, Париж
сразу восстановившего его честь среди населения, привязался всей душой к нам и бессменно прожил у нас до самой своей смерти, то есть до 1913 года, ни разу не попросив прибавки и всякий раз благодаря, когда ему таковую назначали; он был в высшей степени благороден, всеми любим и уважаем и так же беспрекословно слушался моего старшего сына, когда тот стал хозяйничать; он был очень высокого роста, довольно широкий в плечах, очень худой, с черными волосами, длинным лицом и красивыми правильными чертами, всем крестьянам говорил «ты», прибавляя уменьшительное имя; знал не только всех мужиков и баб, но и всех лошадей и упряжи их, издали определял, кто едет; ему все говорили «дядя Михаил» и лишь один старик пышковский держался с ним за панибрата и называл его по имени. [Ключни]ком был старик Иван Афанасьев, служивший уже лет десять при ключах, но он скоро ушел; лесное управление было по-прежнему в руках Карла Ивановича, у которого под началом было три лесника; был еще постоянный плотник, старый крепостной Илья Васильев из деревни Зекова, носивший по-старинному высокий гречишник; был постоянный столяр Димитрий Иванов Царев, сын Ивана Макарова, того почтаря, о котором [я] писал в моих детских воспоминаниях; кузнецом был громадного роста Кирилл из Тибекина, с черной бородой по пояс; молотобойцем был у него Филатка Кузнецов из Алферьева, отец всех пьяниц Кузнецовых; машинистом был Памфил Антипов из Алферьева; садовником Иван Степанов, о котором [я] уже писал, и при нем два помощника: Прохор из Поливанова и Макар
276
из Шахова (отец нашего постоянного буфетчика Григория). Кучерами были трое: Трифон, Алексей и кучер бабушкин Сидор и при них помощником Николай Шутов (последний мой управляющий [делами] перед разгромом имения в этом году большевиками). Кроме того, была целая артель рабочих, конюхов, пастухов, скотников и скотниц, в общем человек пятьдесят, если не более; был постоянный объездчик полей Наум, которого обязанность была следить за потравами. В доме к тому времени кроме моего Семена был еще какой-то камердинер Папа́ (Афанасий уже умер) и два буфетных мужика: Егор привезенный из Петербурга и мой собственный. Поваром был Иван Стрельцов, замечательный кондитер. Прачками были Варвара, до сих пор и всегда [служа]щая нам и получающая постоянную от нас пенсию и Полинария — мать всех Синицыных Хутаревых. Горничными помню вдову Афанасия и Ульяну, дочь Трифона, остальных не помню. Каждый вечер Остроух с остальными должностными лицами приходил ко мне, и тут решалась вся работа и предположения на следующий день, так что он как бы совершенно стушевывался; под конец я даже подписывал вместо него все бумаги по конторе, приняв таковую под свое личное ведение. Папа́ как раз завел с новым конторщиком двойную бухгалтерию. Пивинский был неопытный, и я был очень рад руководить им, сам очень быстро усвоив все конторское счетоводство.
В сентябре Папа́ стало настолько лучше, что решил он с моей матерью предпринять путешествие в Петербург для прописанного Парфиановичем водолечения; должны они были жить у моей сестры; срок их пребывания был совершенно не определен; я остался в Сергиевском при бабушке. По их отъезде закрыли мы весь дом, начиная от передней, и поселились на той половине, которую теперь занимаем; я занял круглую комнату наверху, соседнюю кофейную устроил себе для занятий с Пивинским и для приема крестьян и служащих по экономии, в зеленой комнате устроил себе кабинет, перенес туда фортепиано, а шоколадная осталась гостевой комнатой; штат прислуги сократил, отпустив камердинера отца, кучера бабушки Сидора и своего петербургского полотера. Сознаюсь, что среди трех стариков — бабушки, Нюнички и Платона Евграфовича — жизнь для меня, такого молодого, была не особенно веселая, но я видел столько ласки, столько заботы и такую благодарность за будто бы мое самопожертвование, что был вполне удовлетворен. Храмовый праздник Покрова я уже проделывал один, приглашен был священником знаменитый в нашей местности Раич (о котором [я] писал выше при воспоминаниях о Полторацких); тогда еще был обычай служить в этот день соборне: приглашались соседние священники, бывший настоятель прихода и когда-то законоучитель моего отца отец Григорий Марков, живший в своем доме на Поповке (дом этот принадлежит теперь Ратмировым), и служба выходила замечательно торжественная. Первый раз пришлось мне самостоятельно принимать все духовенство с крестом и угощать их. Очень интересным был старик священник Марков, уволен он был за штат за нетрезвое поведение, но сам одарен был артистической натурой, играл на старинных гуслях, которые только у него и видел, и певал старческим, дребезжащим, но очень приятным тенором. В раннем детстве я его еще помнил настоятелем, при нем тогда был диакон Воскресенский, переведенный по желанию храмостроительницы Марии Сергеевны к ней из собора. Младшими членами причта тогда были дьячок Лаврентий с чудным тенором и псаломщик Семен
277
Иванов Песоченский; этот последний за упразднением дьячковского места после смерти от холеры Лаврентия, и оставался единственным псаломщиком — умер он, когда я уже давно был женатый. На редкость он был хороший человек, церковник до последней степени, его благолепное стояние на клиросе могло служить примером для всех; всегда он ходил в подряснике, с косой, заправленной за ворот, и только в двунадесятые праздники распускал свои роскошные седые волосы; в его семье были и монахини, и архимандриты, и весь строй их был самый церковный; уставщик он был как никто и, когда по требованию настоятеля что-нибудь пропускал, пользовался свободной минутой в службе, чтобы про себя вычитать пропущенное, к каждой службе являлся всегда первым, показывая старшим и членам причта особую почтительность, а они его исключительно уважали.
В эту зиму я особенно близко познакомился с причтом и привлек диакона Петра Ивановича Чупрова к составлению хора, который и спевался у меня в кабинете. Первым дискантом и альтом были Андрей Игнатов и Василий Зеновкин, горяиновские (первый бесследно исчез, переселившись на юг, а второй умер фельдшером в Хлюстине). Не пропускал я ни одной службы церковной, стал вникать в устав и все более и более проникался красотой и осмысленностью символизма службы — это было для меня большое утешение и в связи со спокойной деревенской жизнью давало какой-то новый строй моим мыслям. Дни проходили вполне однообразно, но скуки я никогда не ощущал. Вставал довольно рано и, напившись чаю с Нюничкой и Платоном Евграфовичем, ждал, когда бабушка позовет присутствовать при ее питье кофе; вначале это был обычай сидеть у нее в это время, что было довольно тяжело, так как комната была не убрана, а в ней кроме нее спала ее горничная и стояло рядом с ее постелью выносное судно; атмосфера была ужасная, но я немилосердно курил, чтобы скрыть свою брезгливость; когда бабушка начинала свою молитву, отпускала меня; я отправлялся по хозяйству; обедали мы в два и к этому времени бабушка всходила в классную: после обеда я обыкновенно уходил к себе наверх читать, упросив Нюничку позанять бабушку разговорами; это было самое мое любимое время; устроил я себе уютный угол в круглой комнате у окошка и, бывало, не налюбуешься на закат солнца, особенно когда настала зима; перечел я за эту зиму столько, как никогда прежде не читал, особенно много по разным дипломатическим вопросам, изучив довольно основательно международное право. Чтение мое прерывалось занятиями по конторе с Пивинским, разговорами с управляющим и другими должностными лицами; в шесть подавался чай, после которого мы вчетвером традиционно играли шестнадцать игр в дурачки; Платон Евграфович немилосердно плутовал, бабушка, когда это заметит, сердилась и строго следила, чтобы все это количество партий было бы сыграно, затем она неизменно требовала, чтобы я на прощание выкурил бы с ней две ее папироски, после чего меня крестила и уходила к себе спать, а я переходил в свой кабинет музицировать и требовал присутствия Нюнички, которая где-нибудь подремывала в кресле и спросонья восторгалась моей игрой. Сохранил я связь с петербургским музыкальным магазином Габлера, абонировался у него; он мне высылал все, что было нового по части опер и опереток, так что я не отставал от репертуара зимы и потом многих удивлял основательным знанием таких опер, которых никогда не слышал.
278
Наигравшись, шел спать, и так шел день за днем. Разнообразились эти вечера иногда игрой в преферанс, который бабушка особенно любила, для чего приглашались или управляющий, или священник, или случайно заехавший становой; таковым в то время был Иван Михайлович Успенский, очень порядочный человек, хотя неумный и малообразованный, но и его посещение вносило нечто новое в однообразную жизнь. Родителям я писал очень часто и так же часто получал от них письма. Папа́ обратился к доктору Рощинину, рекомендованному Варей, и почти ежедневно посещал водолечебницу, где сильной струей воды ему делали массаж; по словам Мама́, лечение шло успешно и приносило видимую пользу; для окончательного его завершения и укрепления блуждающей почки, констатированной петербургскими докторами, следовало сделать какой-то сложный бандаж для постоянного ношения. Пребывание их там становилось для них тяжко, очень они толковали обо мне, мучались за мое одиночество, а вместе с тем и строй жизни сестры их не радовал; дела Жилинских все более запутывались. Благодаря их открытой светской жизни характер Яши, под давлением этих забот, все портился и делался сумрачным; мои же родители мало чем могли помочь, потому что и наши дела были крайне расстроены. Лично вникая во все подробности нашего состояния, я все более понимал, как жизнь наша в Петербурге, моя служба в полку и последняя трата на коронацию нас разорили, не говоря уже о том, что имения были заложены и перезаложены. Были и частные долги и целый ряд векселей, учтенных в Малютинском банке и во Взаимном кредите. Были даже такие мелкие долги, как по нескольку сот рублей священнику, Платону Евграфовичу, Нюничке; надо было помнить все сроки уплаты процентов во избежание протеста векселей. Служащим в экономии, людям в доме жалованье не платилось по несколько месяцев. Перед самым моим приездом с большим трудом и уговорами был продан калужской купчихе Феонии Модестовне Калашниковой, которую для этого пригласили в Сергиевское и которую Мама́ принимала особенно радушно, участок леса за пять тысяч. Деньги же эти должны были идти ей в уплату за забор в ее колониальном магазине за несколько лет вин, закусок, чаю, кофе и т. д. В конторе никогда не было денег и Константин Людовикович всячески изощрялся, чтобы скрыть это; везде, где мог, занимал, но никогда, кроме как мне, не сознавался в безденежье. В конторе у него стоял старинный кованый сундук, в котором складывался конторский архив, и он всем приходящим объяснял, что он полон деньгами; умел он как-то так заговаривать людей, что пришедший за деньгами уходил от него обласканный, отказавшись от получки и вполне довольный. Несмотря на мизерные жалованья того времени (управляющий получал 40 рублей и 10 рублей на приемы, помощник его — 20 рублей и три пуда муки, старшие лучшие рабочие, нанимаемые на 7 с половиной месяцев, за все это время получали 35 рублей, по 4 рубля харчевых и по два пуда муки в месяц, конторщик — 8 рублей в месяц и скотницы — 4 рубля на своих харчах и т. д. в такой же пропорции), расходы по экономии ввиду громадного штата были большие. Поденным, получавшим зимой 15, а летом 25 копеек в день, и каковых ежедневно набиралось до 30 человек, выдавались ежедневно ярлыки, на кои они покупали у местных лавочников нужные продукты, а последние, когда ярлыков уже набиралось на большую сумму, требовали от Остроуха деньги, и тогда неожиданно всплывал
279
крупный долг. Впоследствии, когда я однажды прочел в газетах, что против одного крупного землевладельца было возбуждено за такой способ расплаты уголовное дело, по обвинению в выпуске собственных денежных знаков я всячески старался это искоренить и с трудом этого достиг.
Знакомство с положением наших дел заставило меня серьезно задуматься, я все более проникался убеждением, что должен покинуть службу и помочь моему отцу распутаться. Мне казалось тогда, что я никогда не женюсь; влекло меня к духовной жизни, но не столько к монашеской, сколько к священническому служению, которому хотел себя посвятить по достижении того возраста, когда уже разрешается посвящение в иерейский сан холостым. Ввиду этого заботы мои имели целью не сохранить состояние для себя, а облегчить, казалось мне, последние годы жизни моего отца и вместе с тем выйдти из унизительного положения обязанного каждому и постоянному должнику чуть ли не всех знакомых. Для меня этот период жизни был воспитателем и положил начало страху долгов, от которых впоследствии, когда я зажил самостоятельною жизнию, мне удалось, несмотря на трудные минуты, окончательно отделаться.
Родители мои прожили в Петербурге до декабря и, не дождавшись именин сестры, избегая ожидаемого у нее большого приема в этот день, вернулись домой. Встреча была радостная, вид отца моего был вполне удовлетворителен; меня же они осыпали ласками и баловством, одобрив все то, что было сделано в их отсутствие. Жизнь потекла своим чередом, я стал более основательно готовиться по дипломатической части, решив, если возможно будет покинуть родителей, найти себе в этом ведомстве заработок. Считая необходимым для этого практиковаться во французском языке, взялся за перевод на этот язык одной научной русской книги, для чего обратил в своего секретаря мою милую старушку Нюничку, которую часами заставлял писать, а она, с круглыми очками на носу, безропотно это исполняла, делала немилосердные грамматические ошибки и все похваливала мой будто бы литературный стиль. Отец мой, как его ни охраняли от волнений, все-таки хотел во все вникать. Писал он редко, но когда писал, это было целое событие: Мама́ охраняла его покой, по коридору ходила на цыпочках — «старый барин пишет», время обеда откладывалось до окончания этого письма, а само письмо вручалось с особенными наставлениями почтарю для сдачи на почту. Почта была в Ферзикове, и ежедневный почтарь, один из кучеров, ездил на станцию с особой книгой, в которую вписывалось, кому адресованы письма; начальник почты обязан был расписаться в получении таковых и отметить, какую почту он нам отсылает, за что получил два рубля жалования в месяц, а все служащие почтового отделения к Рождеству и Пасхе по мешку муки. Однажды таким способом было послано симбирскому управляющему Рошковскому письмо, в котором Папа́, чем-то расстроенный, написал ему какие-то замечания. У Папа́ была способность и тактика предъявлять требования выше исполнимых в надежде, что этим он подбадривает своих подчиненных; Мама́ и я всегда с ним в таких случаях спорили и доказывали ему, что по отношению лиц порядочных это может вызвать только обиду; он же настаивал и повторял, что если они не сумеют сделать, то он это исполнит; выходило курьезное положение: управляющий ему докладывает, что за незначительную цену продать то-то нельзя; Папа́, по упрямству, настаивает и возражает,
280
что тогда он покупает. Получалось несуразное положение, что владелец у себя же что-то купил на деньги, которые он все-таки в контору не уплатил. Помню такой типичный со мной случай; Папа́ послал меня в Москву заплатить долг госпоже Приклонской — старой подруге моей матери; условие займа, сделанного как раз для моей коронационной обмундировки, было таково, что вернуть ей долг надо было не наличными деньгами, а теми процентными бумагами, коими она ссудила Папа́; посылая меня, Папа́ дал мне наставление купить эти бумаги, причем объяснил, что хотя биржевая цена их такая, он надеется, что я куплю их дешевле, что, понятно, было невозможно, а меня вынудило остаться лишнее время в Москве, сносясь с ним по телеграфу для выяснения этого недоразумения.
Возвращаясь к письму Рошковскому, скажу, что оно имело очень неприятные последствия. Рошковский, получив его, просил позволения приехать для объяснений и, когда прибыл, откровенно высказал моему отцу, что ему один крупный симбирский помещик предлагал перейти к нему на службу на условиях, гораздо более выгодных, и по контракту на десять лет, что он, Рошковский, никогда об этом моему отцу не заикался, бывши ему вечно благодарен за принятие его на службу немедленно после ссылки, но что раз отец мой им недоволен, он считает лучше расстаться друзьями и решение предоставляет на волю Папа́. Отец мой был поставлен в такое положение, что должен был отказаться от удержания у себя Рошковского; платить ему то содержание, которое ему предлагали на новом месте, не соответствовало доходности симбирских имений, принять же от него самопожертвование, в смысле уменьшения заработка во имя преданности отцу, не входило в принцип последнего; таким образом, мы лишились прекрасного управляющего с широкими взглядами, большой опытностью и безупречной высокой порядочностью. Рошковский заявил, что, во всяком случае, он окончит хозяйственный год и просит принять от него долг в августе месяце; расставание было самое дружественное. По его отъезде начались рассуждения кем его заменить, порешили на том, что в Симбирск переведен будет Остроух, а в Сергиевском буду управлять я под руководством Папа́. Остроух, для которого материальные условия в Симбирске были гораздо выгоднее, и притом приобретал он вновь самостоятельное положение, с удовольствием согласился; я хотя и страшился такой работы, но она меня прельщала, и это было поводом подачи мною прошения об отставке. Папа́ просил на всякий случай не торопиться этой подачи, настаивая на том, что он настолько поправился, что может хозяйничать и без меня. Я, видя эти колебания, решил разрубить узел поскорее и опять втайне от родителей послал свое прошение в полк, прося Дашкова дать ему ход с таким расчетом, чтобы увольнение мое совпало бы с окончанием моего отпуска или же таковой был бы продлен мне до высочайшего приказа об увольнении в запас. Я хорошо сделал, что поторопился, встретились какие-то препятствия, так как за каждый год казеннокоштного содержания в Пажеском корпусе требовалось полтора года офицерской военной службы, а за вычетом отпусков срока этого у меня не выходило, но ввиду болезни моего отца и того, что я единственный сын, для меня было сделано исключение по ходатайству полкового командира; уволили меня в запас в июле месяце и в полк я больше не возвращался. Вместе с уведомлением об увольнении и возвращении мне моих бумаг из полка мне прислали подарок от
281
товарищей — большую серебряную чернильницу с выгравированными фамилиями всех участвовавших в нем.
Зима шла своим чередом, и сознаюсь, что становилось мне немного тяжко от однообразия, так что я очень обрадовался поездке моей в Калугу, которую я предпринял скоро по возвращении родителей под предлогом посоветоваться с доктором; предвкушал я удовольствие блеснуть в Калуге своим гвардейским мундиром, не прочь был даже и театр посетить, но поездка вышла совсем другого рода. Попал я случайно как раз во время дворянских выборов, все было полно-полнехонько; содержатель гостиницы «Кулон» Александр Павлович Орлов, знавший меня еще мальчиком, сам вышел ко мне извиняться, говоря, что у него даже в бильярдной спят; долго я мытарствовал с Семеном по городу, пока наконец не нашел себе во Владимирском подворье крошечный номерок на двоих, крайне неуютный и грязный, но, увы, пришлось этим довольствоваться; тогда ходила лишь одна пара поездов, и обратный поезд давно уже отошел. Побывал у Парфиановича, явился к военному начальнику и собирался вечером в театр, когда вдруг в коридоре гостиницы встретился с Димитрием Валериановичем Паниным; он меня не узнал, я же, совершенно забывши, что он старик в сравнении со мной, окликнул его тем именем, коим его звали мои родители — Митюшкой, отчего сам сейчас же сконфузился, но он вместо того, чтобы обидеться, был тронут моей непосредственной искренней радостью его встретить, затащил к себе в номер, где были и его жена, и много перемышльских дворян (Панин в это время служил в Перемышле непременным членом Крестьянского присутствия); провел я у них весь вечер, и они никогда не могли забыть, что я, молодой гвардейский офицер, предпочел их общество всякому другому удовольствию, более сродному моему возрасту. За чашкой чая узнал я многое про дворянские выборы, о чем раньше никакого представления не имел; узнал я и про все интриги, назревавшие в дворянской среде против былого тогда губернского предводителя дворянства Николая Семеновича Яновского, но это меня мало интересовало; я и из рассказов моего отца о его прежней общественной деятельности никогда не мог себе дать ясного отчета, почему выборы всегда сопряжены с такими страстями, интригами и почему без них труден успех; мне казалось, по полковому-военному, что всякая интрига не ведет к добру (пример Сережи Сумарокова), но потом, увы, пришлось разочароваться. На следующий день был я у губернатора с визитом. Таковым был в то время Константин Николаевич Жуков, жена его Ольга Андреевна, урожденная была графиня Салиас, дочь писательницы Евгении Тур и сестра известного исторического романиста; другая ее сестра, Мария Андреевна, была замужем за фельдмаршалом Гурко. Жуков был очень умный, способный человек, крайне трудоспособный, но, желая сплотить общество, держал с женой очень открытый дом, что настолько запутало его состояние, что под конец, как говорят, далеко не был честен, и в его канцелярии взяточничество процветало вовсю. Принял он меня крайне любезно; у него в кабинете я познакомился с попечителем округа графом Павлом Алексеевичем Капнистом (дядей будущей моей жены); граф был в вицмундире, я же просто в сюртуке с эполетами, как полагалось делать визиты в Петербурге, и мне тогда впервые бросилось в глаза положение независимого, не служащего человека, как я; потом, когда я сам вошел в среду провинциальных должностных лиц,
282
я увидал разницу отношений к лицу, совершенно самостоятельному, и лицу, так или иначе связанному службой.
Вероятно, через Панина в дворянской среде стало известно о моем приезде, так как меня неожиданно где-то на улице настиг городовой с запиской моего будущего тестя князя Н. П. Трубецкого, бывшего в то время в Калуге вице-губернатором, с просьбой заехать к нему на квартиру немедленно по делу, что я тотчас же и исполнил. Жили Трубецкие против загородного сада в доме Кологривова; провели меня в крошечный кабинет князя, и он мне передал следующее: в Дворянском собрании никак не могут объединиться на будущем кандидате губернского предводителя дворянства, и все более выясняется, что только кандидатура моего отца могла бы помирить враждующие партии; это убеждение настолько твердо в депутатском собрании, что козельский предводитель дворянства князь Алексей Дмитриевич Оболенский (брат моего товарища Коти и двоюродный брат моей будущей жены), узнав, что я в Калуге, просил князя Трубецкого через меня скорее сообщить это моему отцу и зондировать почву. Не знаю, насколько это было справедливо, что утверждал Оболенский, потом я слышал, что он сам мечтал быть губернским предводителем, но, не чувствуя достаточной почвы под ногами и боясь укрепления положения Яновского частыми выборами, предпочитал новое лицо, которое через три года, когда положение Оболенского само окрепнет, ему легче будет спихнуть. На сообщение князя Трубецкого я добросовестно ответил, что совершенно не знаю намерений отца, хотя и предполагаю, что состояние его здоровья не позволяет ему вернуться к активной деятельности, но, во всяком случае, немедленно вернусь домой, передам Папа́ сообщение князя и попрошу его ответить телеграммой. Пришлось спешить на поезд, и, таким образом, пребывание мое в Калуге было очень кратковременно. Вернувшись, рассказал все отцу; помню, что наш разговор происходил в комнате у бабушки, около которой тогда все собирались для важных разговоров; бабушка и Мама́ очень воспылали и уговаривали Папа́ ехать в Калугу, но он ни за что не соглашался, возражая, что, во-первых, все это вилами на воде написано и принадлежит к области фантазии, а во-вторых, и самое главное, если бы даже это избрание состоялось, у него никогда не хватит состояния достойно представительствовать на таком видном месте; под конец Папа́ даже рассердился, сам написал телеграмму князю Трубецкому с отказом приехать и сам, вопреки всякому обычаю, отослал ее с кучером в Ферзиково, желая этим прекратить всякие приставания; Мама́ он утешил лишь тем, что заставил ее вдуматься, насколько все эти волнения и будущая деятельность могут повредить его здоровью, что значительно примирило Мама́ с принятым решением; мне же Папа́ объявил, что при первой возможности он мне даст доверенность на участие в Дворянских собраниях, а когда мне минет 25 лет — и в земских выборах, предоставив мне свой ценз и подчеркнув этим, что совершенно устраняется от общественной деятельности в Калужской губернии.
Этот случай все-таки внес кое-какое разнообразие и как-никак был приятным для тщеславия семьи; впоследствии я все более и более убеждался, как желают привлечь к деятельности именно тех, которые ничего не домогаются и для которых предлагаемое место или служба не являются желательными; высказать
283
намерение или желание быть тем-то или тем-то заставляет насторожиться тех, от кого зависит это назначение, и в большинстве случаев мешает успеху.
Весна в этом году (1884 года) наступила очень поздно: на Герасима-грачевника был такой мороз, что о грачах и помину не было, так же и 9 марта жаворонков не было, на Алексея «с гор потоки» зимний путь стоял, как был в декабре, и даже артель одоевских рабочих, которую нанимали в январе, для чего управляющий с конторщиком и старостой ездили в Одоев, прибыла в первых числах апреля по зимнему пути, что редко случалось. Прибытие этих рабочих в числе 20—30 человек сразу оживляло усадьбу; звали их в экономии «первая ласточка», дня два они устраивались в обычном своем помещении близ почты, где потом была птичная; хозяйство свое вели артельное, строго учитывали своего выборного артельщика и в случае каких-либо промахов своим судом расправлялись с товарищем; традиции поддерживались старыми рабочими, которые из года в год возвращались на лето и к январю сами, до приезда управляющего, подбирали нужную артель; из таковых старых рабочих помню Максима, знаменитого подавальщика на молотилке: у него барабан гудел, не переставая, без всяких взрывов; другой был Тимофей, до старости лет прозываемый «Тимошка», сметливый, юркий, исполнявший все поручения в Калуге, но зато страшный плут.
Запоздавшая весна зато нагрянула неожиданно, и в один день все поля, видимые из моей круглой комнаты утром еще под снегом, к вечеру были черные, снег держался лишь в вершинах. Ожженка ревела, как горний поток, со всех полей неслись целые реки и чуть было не натворили у нас на усадьбе много бед. Летом перед этим был вновь прочищен пруд около машины, сделана была предохранительная плотина для отстоя воды, почему около моста гумна образовался новый прудик для водопоя летом скота и лошадей; были устроены образцовые спуски с вбитыми впереди дубовыми сваями и с сетками для удержания напущенных в пруд карасей; стоило это очень дорого, работа была грандиозная; добытым илом было унавожено целое поле впоследствии, настолько его было много, и вся эта работа чуть-чуть не была снесена в один день. Уже к десяти часам утра вода стала хлестать через предохранительную плотину, и пруд так быстро наполнялся, что угрожал и коренной плотине; спасено было положение сметливостью Михаила-старосты и Тимошки: в один миг были натасканы доски, и из них было устроено искусственное заграждение в две доски, засыпанное спереди навозом и подкрепленное сзади, кроме подпорок, целой насыпью земли, которую носили из теперешнего плодового сада, где прорыли обходную канаву из первого пруда для облегчения напора воды на предохранительную плотину; подняв таким образом искусственно и в какой-нибудь час-два времени коренную плотину, удалось удержать ее, несмотря на поднятие всего уровня пруда вершка на четыре выше гребня плотины. Это была замечательная картина борьбы человека со стихией; вся работа производилась бегом, постоянно подсыпая землю и навоз к искусственному заграждению; приходилось работать иногда по колени в воде, так как плотина отделена была от усадьбы бушующим потоком, спущенным в сад. Остроух все наблюдал, чтобы Папа́ этого не узнал, боясь, что он расстроится, и когда Папа́ вознамерился все-таки придти на плотину, несмотря на все уговоры Мама́, пришлось его перенести на руках. Он, увидав силу воды, потерял всякую надежду
284
и согласился скоро вернуться домой, тем более что шум был такой, что можно было распоряжаться лишь знаками, даже крик был заглушаем. Зато как он был рад к вечеру, когда я, вернувшись домой, сообщил ему, что вода убывает, пруд вошел в берега и опасности больше нет, что стало вполне ясно уже по тому, что весь снег с полей сошел. Еще дня два все-таки пришлось там дежурить, укрепляя самый спуск, который в этом же году расширили вдвое во избежание повторения такой истории. Остроух широко наградил всех рабочих, и все были довольны. В таких случаях Константин Людовикович был незаменим, он редко терялся, все считал возможным и умел подбадривать работающих; помню, как в этом же году я затеял нумерацию рогатого скота с выжежкой на их рогах номера, под которым они записаны были в конторской книге; когда пришлось проделать это с быком, стоявшим не на привязи, никто на это не решился; один маленький, крошечный Остроух смело вошел к нему в закуту с белым платком только, коим непринужденно помахивал, и накинул на него аркан; все рабочие даже ахнули такой смелости. Нумерация эта навлекла на меня потом много нареканий; продолжительная зима подчистила весь корм; съедены были все соломенные крыши, а их было тогда еще порядочно на усадьбе (верхняя громадная рига, потом сгоревшая, и оба навеса), наступила бескормица, скот стал падать (пало штук двадцать, тогда в стаде было голов сто), и скотницы говорили, что Бог прогневался за нумерацию скота и порчу им рогов. Еще одна была замечательная черта у Константина Людовиковича — это его выносливость и терпение; однажды отец мой послал его в Тулу по какому-то делу, вернулся Остроух, не исполнив такового; отец мой рассердился, стал ему выговаривать и потребовал от него, чтобы он немедленно ехал обратно в Тулу, и когда уже последний собирался уезжать, узнал от Нюнички, что Остроух болен; оказалось, что у него нарыв под мышкой — одно из самых болезненных заболеваний, несколько дней он уже не спит, в сильном жару, почему так неудачно и съездил в Тулу. Понятно, его вторая поездка была отменена, немедленно выписали доктора (жена его отсутствовала в Друскениках на водах), уложили Константина Людовиковича в постель, вскрыли ему нарыв, и Нюничка дня два от него не отходила, а он ей пенял, что она обеспокоила Папа́.
Должен вернуться немного раньше, потому что забыл упомянуть, как был приглашен шафером на две свадьбы. Первая свадьба была в Калуге — венчалась Катя Делянова, женихом ее был некто Мясоедов, чиновник особых поручений Жукова; свадьбой этой в ее семье были очень недовольны, и предчувствия ее матери оправдались: прожила она с мужем год с небольшим и умерла от первых родов, родившаяся ее дочь осталась на попечении бабушки Елены Абрамовны Деляновой; а сам Мясоедов куда-то исчез, написав какой-то роман, в котором изобразил свою жизнь с такими интимными подробностями, что семье Деляновых это было очень неприятно. После свадьбы все съехались в Железниках, где и был свадебный обед; образ у невесты нес Гриша Трубецкой, будущий мой beau-frère; одет он был еще в морской курточке и очень обиделся, когда одна дама поцеловала у него руку, как у маленького; за столом сидели мы с ним рядом и я им очень потешался, хотя сам, одичав в деревне, конфузился. Молодая Мясоедова, большая любительница собак, тут же подарила мне щенка дога, который потом у меня вырос в громадного экземпляра; звали его Пират, отдан он
285
был на попечение Семену, но Тосика все-таки не заменил, хотя был очень умен и привязался не только ко мне, но потом и к жене моей; на одной карточке он снят лежащим у моих ног.

Земский начальник Михаил Михайлович Осоргин с волостными старшинами.
Между 1890 и 1898. Частное собрание, Париж
Другая свадьба была в Москве — Лиденька Устинова выходила замуж за Всеволожского, она меня и пригласила быть у нее шафером; мать этого Всеволожского, урожденная княжна Трубецкая, была родственница семьи моей будущей жены. Сама свадьба происходила в домовой церкви бывшего родового дома дяди моего тестя в Большом Знаменском переулке; дом этот был уже продан купцу Щукину, но с условием, что вдова старика-князя, княгиня Надежда Борисовна Трубецкая, урожденная княжна Четвертинская, до смерти будет пользоваться бесплатно маленьким апартаментом, в котором и происходило потом поздравление молодых. Отец Лиденьки Устиновой, дядя Миша, уже давно вторично женился на Присенцовой, и Лиденька не умела поладить со своей мачехой, хотя последняя была очень добрая женщина; Лиденька готова была выйти замуж за кого угодно, лишь бы зажить самостоятельно. Действительно, выбранный ею жених не обещал многого для семейного счастья: это был человек, много поживший и положительно впавший в детство; вид его был вид глубокого старика. До свадьбы я, по светскому обычаю, объездил всех родных жениха и не предполагал тогда, что знакомлюсь со своей будущей родней; очень был мне жалок во время свадьбы дядя Миша Устинов, который во время всей церковной службы плакал безутешно.
286
В тот же день вечером я был на балу у графа Орлова-Давыдова, нашего бывшего бригадного командира и в это время начальника Московского Придворного управления. Приехав в Москву, я заехал к нему расписаться, по старым полковым традициям, требовавшим от кавалергардов по прибытии в город посетить всех бывших однополчан и начальников. Граф, увидав мою фамилию, тотчас же прислал мне приглашение на свой бал; занимал он большое помещение в Кремле, в одном из флигелей дворца, и московское общество ожидало много удовольствия от этого бала. Помню неловкость, которую я сделал по своей слепоте. Никого из барышень московского общества я не знал, почему предоставил себя в распоряжение своего товарища Каткова, коренного москвича, который меня и представлял дамам. Между прочим, представил он меня своей сестре, которую я и пригласил на кадриль (сестра эта вышла потом замуж за графа Глеба Толстого, о котором я писал раньше, описывая мое дирижерство камер-пажом в доме его отца). Когда заиграли ритурнель, я, совершенно забыв лицо этой барышни, просил моего товарища показать мне свою сестру; он мне издали указал двух девиц, разговаривавших у открытого буфета, шепнув мне, что сестра его стоит справа; но надо сказать, что не зная, откуда вправо, указание это было довольно туманно, и я подошел как раз не к той, а к дочери московского губернского предводителя дворянства графине Бобринской; услыхав негодующий шепот Каткова: «Не та», я извинился перед графиней, представился ей, пригласив ее на следующий танец, и свою даму повел в бальный зал. Эта графиня Бобринская вышла замуж впоследствии за князя Петра Димитриевича Святополк-Мирского, потом генерал-губернатора виленского, когда я был гродненским губернатором, и мы с ней часто вспоминали наше первое неожиданное знакомство.
Пребыванием в Москве я воспользовался, чтобы заказать себе штатское платье, и обратился для этого к портному Айе, шившему когда-то еще моему отцу при выходе его в отставку; отсюда можно видеть, как же этот Айе был стар, но зато он как-то особенно предупредительно ко мне относился по старой памяти, и мне было очень жалко, что когда через два года я перед свадьбой своей хотел к нему обратиться, оказалось, что он умер. По неопытности своей я даже заказал себе форму военную — офицера запаса гвардейской кавалерии, не сообразив, что эту форму полагается надевать лишь в высочайшем присутствии, а мне, предполагавшему поселиться окончательно в деревне, едва ли представлялся в будущем случай быть на торжестве в присутствии государя. В этот же мой приезд в Москву я побывал в опере; тогда в Москве процветала частная Итальянская опера знаменитого Саввы Мамонтова; говорят, он был в связи с певицей Любатович, для которой и затеял эту оперу. Я попал на «Аиду», которую и пела эта самая Любатович. Никогда не забуду впечатления от первых звуков оркестра, столь долго мною не слышанного: первые аккорды так меня захватили (всю эту оперу я знал наизусть), что у меня в горле что-то сперлось и я чуть не расплакался, я с трудом с собой справился, но сознаюсь, что мне так захотелось обратно в Петербург, так эти знакомые звуки унесли мои мысли к старому строю беззаботной полковой веселой жизни, что я не рад был, что попал в театр; а опера, надо отдать справедливость, была поставлена прекрасно, хотя все ансамбли были по сравнению с петербургской Императорской Итальянской оперой в значительно меньших рамках;
287
но сама Любатович была певица с огнем, высоким драматическим талантом и производила впечатление даже более цельное, чем Штольц, о которой я писал в моих петербургских воспоминаниях. Был я [и] в оперетке Лентовского, где москвичи восхищались комиком Радонем и певицей Рюбак, сестрой самого Лентовского, но, по сравнению с петербургским французским Буффом, мне показалось все так плоско и неостроумно, что закаялся посещать русскую оперетку.
К лету приехала в Сергиевское Варя с Мусей. Яша же должен был взять к осени одиннадцатимесячный отпуск, который и провести частью у нас. Варя заняла архиерейскую и васильковую (теперь мой кабинет и уборная), а для Муси и ее штата приготовлены были генеральские, к коим присоединена была круглая комната от квартиры Остроуха, готовившегося уехать в Симбирск в июле месяце; при Мусе была нянюшка-англичанка, фигурой походившая на Екатерину Великую, крайне почтенного и импозантного вида, и кормилица, которая оставалась несколько лет и по прекращении кормления.
Родители мои не знали, как меня баловать и развлекать, почему дали нам с Варей мысль устроить спектакль; обоим нам эта мысль очень понравилась и устроили мы таковых два, летом и осенью. Первый был устроен в гостиной: столяр Дмитрий Царев — мастер на все руки — устроил разными ширмами, драпри очень красивую сцену, и сыграли мы французскую маленькую драму «Bürger» и какой-то водевиль; исполнители были, кроме нас с сестрой, четверо Полторацких: Митя, Аника, Сережа и Миша; прошло это столь удачно, что второй раз устроили по отъезде Остроуха такой же спектакль уже в бывшей его гостиной, потом нашей спальне; там сцена была устроена уже по-настоящему — с подмостками, суфлерской будкой и настоящей декорацией; исполнители были те же, и помню, что одна из пьес была французская с пением «La seconde annee». Отъезд Остроуха был крайне трогательный: крестьяне целыми обществами приходили с ним прощаться и подносили всякие припасы на дорогу, а вся администрация имения торжественно его провожала на станцию; в день их отъезда все трое — он, жена его и сын — завтракали у нас, Папа́ пил их здоровье, а сами Остроухи проливали настоящие слезы по случаю разлуки с нами.
Этим летом приехала навестить бабушку одна из ее младших сестер, княгиня Варвара Дмитриевна Гагарина с незамужней хромой дочерью, княжной Варварой Николаевной Гагариной. Бабушка Гагарина давно уже овдовела, жила безвыездно в своем имении Феняеве Михайловского уезда Рязанской губернии. При ней жил, кроме этой дочери, еще сын — князь Леонид Николаевич Гагарин, занимавший пост предводителя дворянства в своем уезде и женившийся уже впоследствии, лет пятидесяти, на Обрезковой. Кроме них была еще старшая дочь Прасковья Николаевна Редькина, вдова, жившая по соседству в имении Красном, доставшемся ей от мужа. Она оплакивала его смерть долгое время и на могиле его поставила общий памятник для него и себя, где оставила лишь место, чтобы высечь день и год своей смерти, но характера не выдержала и 59-ти лет вышла замуж за своего homme d’affaires Календо. Другая сестра, Юлия Николаевна, лет сорока вышла замуж за Владимира Илларионовича Бибикова, брата Екатерины Илларионовны Коробьиной. Всех их я знал, не видел только их младшего брата Сергея, женатого на Селезневой; он и сам по себе, и по жене был очень богатый, жил всегда
288
в Москве и под конец сошел с ума. Очень уютно было видеть двух старушек, обеих бабушек, сидящих вдвоем и вспоминавших старину; склад их жизни положил на каждую свой отпечаток; моя родная бабушка совершенно не интересовалась вопросами состояния, а только любила вспоминать свои Мотыри, где, хотя в бедности, среди любимой семьи протекла вся ее жизнь до тридцатилетнего возраста; Варвара же Дмитриевна Гагарина, создавшая своим детям своим толковым управлением из очень малого крупное состояние, главным образом, рассказывала про это и неиссякаема была в своих рассказах, кого из детей она как наградила; это слово «наградила» было ее собственное выражение и типично обрисовывало ее характер. Деловитость эта перешла и к ее сыну Леониду Николаевичу, который, говорили, женился на Обрезковой лишь только узнал, что последняя — наследница одного старика-холостяка Коробьина, имение которого граничило с собственным имением Гагарина. Когда его жена получила имение Коробьина во владение, она туда переехала, прельстившись роскошной усадьбой, но переезд этот был для них фатален: во время каких-то крестьянских беспорядков на Леонида Николаевича напала толпа, ранила его, и он навсегда покинул эту местность.
Кроме Гагариных приезжали к бабушке старушки Ладыженские и из Рязани старый «предмет» тети Сони Охлябининой — Зейтц. Тетя Соня, проводившая у нас лето со своей Дуней, таяла от каждого его слова, а бабушка, главное, радовалась тому, что может поиграть в преферанс. Летом она сидела обыкновенно не в классной, а на маленьком подъезде, который теперь заменен построенным моим отцом большим балконом на дворе, а в особенно торжественных случаях с передышкой добиралась до нашей столовой, где неизменно сидела у окошка, из которого видна вся аллея.
Отец мой не переставал думать о продаже Сергиевского; он понимал, что такое большое имение требует постоянного присутствия, а быстрое процветание симбирских имений убеждало его в мысли, что те земли гораздо выгоднее. Я, уже привыкший к Сергиевскому и любивший его по детским воспоминаниям, огорчался этими разговорами, но переспорить отца нельзя было, и он был в переписке со многими посредническими конторами по продаже имения; Мама́ же, по его настоянию, следила за газетными объявлениями, и Сергиевское предлагалось каждому, напечатавшему такое объявление. Для более успешного движения этого дела Папа́ задумал снять виды Сергиевского, которые у нас теперь и хранятся; приглашен был фотограф из Калуги, и долго Папа́ с ним возился, инсценируя всякие сельские картины, имеющие фоном дом или усадьбу. В конце августа Папа́ послал меня в Симбирск посмотреть, как Остроух устроился, и составить с ним годовую смету; путешествие по Волге было из ряду вон приятное, я и потом любил эти поездки по Волге: нигде так не отдыхаешь с таким комфортом и таким разнообразием видовых впечатлений, как на гигантских американских волжских пароходах. Уже в Нижнем Новгороде на вокзале, где при входе расставлен целый ряд пароходных касс и над каждой высится большая фотография отходящего парохода с разными видами его внутреннего устройства, предвкушаешь удовольствие после железнодорожной сутолоки отдохнуть в такой плавучей гостинице. В те времена пароходы почти всех компаний выходили в 12 часов дня, и начиналась с первой же станции погоня друг за другом, дабы перехватить друг у друга пассажиров; до
289
самой Казани Волга настолько оживлена, что, во всяком случае, на ней встречается больше пароходов и судов, чем экипажей на Никитской улице в Калуге; только там я и увидал барки, нагруженные лесным материалом, сложенным наподобие высокого дома, торчащего над водой. Тогда конкурировали три пароходные компании: «Самолет», «Кавказский Меркурий» и «Зевена»; первая отличалась быстроходностью и возила почту, вторая — большим комфортом пароходов, и третья имела совершенно особое устройство пароходов с одним большим во всю ширину парохода колесом сзади, на манер пароходов, плавающих по Миссисипи и Миссури; пароходы последней компании служили преимущественно для перевозки товаров, но были и помещения для пассажиров, отделанные с большой роскошью; так как пароходы были тихоходные, ими пользовались преимущественно для увеселительных поездок; часто целые семьи вместо того, чтобы выехать на дачу, ехали на одном и том же пароходе от Нижнего в Астрахань и обратно; путешествие длилось около трех недель и являлось отличным отдохновением. Особенно красив был причал к пристани вечером, во время заката солнца; при остановках на пристанях можно было наблюдать жанровые картинки местных нравов, значительно менявшихся и отличавшихся друг от друга в разных губерниях; все это меня очень интересовало, и все путешествие было для меня самое приятное.
В Симбирск я приехал на следующий день в десять часов вечера, на пристани меня ждал Остроух; переночевали мы с ним в Симбирске и на следующий день тронулись в путь с остановкой на полпути в Шумовке, где управляющим был родной дядя Александры Иосифовны, старый холостяк, большой оригинал, над которым Константин Людовикович потешался; последний же смотрел на него, как на мальчика, и удивлялся, что он решился взять в управление столь большие имения моего отца. Дорога была скучная и длинная: 53 версты полями с одним лишь крошечным лесочком из кустарников недалеко от Симбирска; более некрасивой местности я никогда не видал, лишь в стороне видны были кое-где леса по берегу Свияги; но зато получилось впечатление действительной житницы: хлеба были уже все убраны и около каждой деревни была деревня еще большая из скирдов; на владельческих же полях тысячами стояли маленькие скирдочки, которые принято было возить на гумно лишь зимой по снежному пути. Повсеместно в губернии велось самое примитивное хозяйство, неурожаи были частые, но зато один урожайный год вознаграждал с лихвой пять-шесть неурожаев; весь вопрос сводился к тому, возможно ли выдержать владельцу несколько неурожаев. Верст за 15 до Михайловки Остроух мне сказал, что мы въехали в Телешовку, но не успел я спросить его, где граница, как он мне сказал, что мы уже выехали из Телешовки. Оказалось, что при освобождении крестьян и наделении их землей управляющий так неудачно распорядился, что земля владельческая в 700 десятин отграничена была таким способом, что 400 десятин расположены были вдоль Свияги и бывшей родовой усадьбы Осоргинской, а остальные 300 десятин тянулись длинной полосой в 160 саженей ширины, и эту-то полосу пересекала дорога, по которой мы ехали. Сама Михайловка произвела на меня самое безотрадное впечатление: усадьба, состоявшая из маленького домика и нескольких хозяйственных построек, расположена была в углублении близ маленькой речонки, летом высыхающей; на всей усадьбе было одно или два дерева, никакого вида не было кроме
290
унылых полей, теряющихся в горизонте; дом состоял из пяти комнат, содержался Александрой Иосифовной в образцовой чистоте, и только в нем и было уютно. Муж и жена Остроухи всячески плакались на судьбу, до того им здесь было тоскливо, и умоляли они меня устроить их возвращение обратно в Сергиевское, на что я возражал, что по русской пословице, «взявшись за гуж, не говори, что не дюж», не могу способствовать их желаниям и, напротив, буду им противодействовать всячески, так как не могу оставить симбирские имения без управляющего. Остроух докладывал мне, что он нашел имение в полном беспорядке; действительно, с точки зрения внешнего устройства усадьбы впечатление было самое плачевное, но я не верил, чтобы денежные дела и вся хозяйственная машина были бы неудовлетворительны; крупные доходы, представляемые Рошковским, говорили о противном; правда, он оставил много не взысканных долгов с крестьян за прежние годы, которые, по мнению Остроуха, были безнадежны. Тогда хозяйство велось собственными средствами не особенно большое, было оно трехпольное и засеивалось в яровом и озимом поле экономическими средствами не более полутораста десятин в каждом поле; остальное сдавалось в аренду отдельным крестьянам, и обычная цена была за пару 40 рублей (13 рублей за яровую десятину и 27 — за озимую десятину); вот именно эта плата и не была взыскана полностью за прежние годы, и таких долгов набралось около 5000 рублей, что и пугало Остроуха. Пробыл я у него с неделю, побывал в Телешовке; там местность около Свияги, где был и красивый лесочек и много островов, не лишена была прелести, но узнал я, что весной лесник принужден почти на целый месяц переселяться с семьей в деревню; побывал я в храме телешовском, построенном, по рассказам крестьян, еще моим прадедом; храм был маленький, деревянный и довольно ветхий; следов усадьбы и господского дома я никаких не заметил, были только два здания — амбар и сарай недавней постройки. Составив годовую смету крайне неудовлетворительную, так как Остроух не брался в один год взыскать вышеуказанные долги, почему их нельзя было включить в приходную смету, пустился я в обратный путь, очень довольный, что выбрался из этого унылого места, и в душе жалея Остроуха, которому приходилось проводить здесь зиму. Зимою же усадьба была совсем отрезана от мира, и после метели приходилось прокалывать траншеи, чтобы сообщаться с остальными постройками; дороги же до деревни Михайловки, откуда шла уже проезжая, протаптывались иногда экономическим обозом порожняком несколько дней и при первой метели приходилось все начинать сызнова; дом заносило иногда выше половины окна, а амбар, особенно неудачно построенный, выше крыши; волки настолько свободно разгуливали, что терлись около самого дома; когда амбар заносило выше крыши, это было особенно трагично, потому что по его малой вместимости, в сравнении с количеством урожая, он наполнялся доверху и насыпался под конец через крышу, которая была разборная. Остроух на обратном пути, провожая меня, все пенял, отчего нет в Михайловке таких хозяйственных построек, как в Сергиевском; действительно, он был прав: для Михайловки требовались именно такие большие прочные постройки, как здесь у нас; например, в Михайловке, где был хотя и не официальный, но вполне налаженный конский завод с большим табуном, конный двор был легкая постройка, состоявшая из большого двора с рядом по сторонам
291
навесов, открытых с одной стороны, под коими на морозе стояли лошади; когда же навоза набиралось столько, что лошади и скот подпирали крышу, постройка разбиралась и ставилась на другом месте.
Приехав в Симбирск, я узнал, что мне была телеграмма, которую уже отослали в Шумовку; предполагая, что это какое-нибудь известие от родителей и всегда боясь за Папа́, я страшно перепугался и, пренебрегая красотой поездки по Волге, стал рассчитывать наикратчайший путь, почему решил в тот же вечер выехать на Самару на самолетском пароходе, не американского типа, но зато очень быстроходного, а в Самаре сесть на поезд, с тем чтобы Остроух телеграфировал бы мне в Ряжск, если телеграмма, которая была мне адресована, касалась здоровья Папа́; в противном случае я должен был ехать прямо в Москву, по поручению моего отца, и сам телеграфировал родителям, чтобы они дали мне известие правдивое о себе к Наумову. Ко всем этим волнениям прибавилась и полная неудача отъезда. Вечером началась буря, и, когда часов в одиннадцать я, наконец, сел на самолетский пароход, он, отчалив, побоялся идти в такую бурю и полную темноту, почему стоял на якоре посреди реки, дожидаясь рассвета и гудя всю ночь в сирену, боясь какого-нибудь нечаянного столкновения; качало на пароходе так немилосердно, что я начал страдать морской болезнью, притом гудящая сирена, лязг вздрагивавших якорных цепей, постоянная беготня команды по палубе, наводили большую жуткость; я всегда боялся воды, и до сих пор для меня самый большой страх — это возможность утонуть, поэтому понятно мое состояние, сопряженное с боязнью опоздать на поезд и застрять в Самаре без известий от родителей. На поезд, к счастью, я не опоздал, попав чуть ли не после второго звонка; в Ряжске от Остроуха телеграммы не было, почему я и повернул на Москву, где у Наумова застал телеграмму из Сергиевского, состоявшую из трех слов: «Здоровы до калачи»; понял я в ней только, что они здоровы, остальное осталось, понятно, загадкой, и так как я на следующий день выехал к ним, я вновь их не запрашивал; потом уж я узнал, что это был целый ряд поручений, которых я так и не исполнил.
Как, после Михайловки, я оценил порядок и налаженное хозяйство в Сергиевском, а уют и ласка семейные скоро заставили меня позабыть и все беспокойства обратного путешествия. Папа́ был очень смущен привезенными мной известиями и сметой, почему решил вызвать зимой Остроуха, о чем ему и написал; последний очень этому обрадовался, хотя ему, бедному, предстояло путешествие нелегкое: тогда зимой ближайшая железнодорожная станция была Сызрань, верстах в двухстах, если не больше, от Михайловки.
Начали мы налаживать свою зимнюю жизнь; ввиду необходимости быть ближе к конторе я перенес свой кабинет из зеленой в бывшую гостиную управляющего, куда и ходил внутренним полухолодным ходом (тогда существовала дверь под лестницей в бывшем козлятнике и через нее и холодные сени можно было попасть на ту половину); Пивинский был переведен в соседнюю комнату, взят был ключником тимофеевский Иван Иванов Новиков, о котором упоминал в моих воспоминаниях об Александре Семеновиче Раевском, он помещен был в прихожей конторы; и я, имея всех под рукой, проводил целые дни у себя в кабинете или в конторе, днем обходя все работы, из коих главная была молотьба. Работы у меня было много и я не унывал, одно меня удручало — это постоянное безденежье
292
в конторе и трудность расплачиваться со служащими, что ставило всегда меня в очень неприятное и неловкое положение; пустил я в оборот все, что мог из своих личных средств, как, например, деньги, вырученные из продажи дома бабушки, но все это было капля в море и надо было иногда спешно продавать урожай, несмотря на низкие цены, лишь бы как-нибудь вывернуться. Папа́ все настаивал, что надо вести хозяйство более интенсивно, составил план девятипольного хозяйства с введением клевера, который он уже весной предыдущего года посеял для пробы в количестве пяти десятин; решил он к весне подыскать управляющего-агронома, который мог бы вести такое интенсивное хозяйство, и списался с таковым в Риге — с неким Леопольдом Карловичем фон Краузе, который обещался приехать в конце апреля, так как по обычаю в той местности все сельскохозяйственные контракты заключались по срок 23-го апреля; это был остаток Юрьева дня, у нас в России отмененного Борисом Годуновым.
В семейной жизни часто происходили трения; Мама́, ревнуя Варю к Яше, не была всегда приятна и деликатна; восхваления ею нашего большого дома и подчеркивания трудности для Вари после Сергиевского жить в маленьком имении Яши с крошечным домиком в Данковском уезде, очень удаленном от всех железнодорожных дорог, всегда очень огорчали Варю; я думаю, что именно эти разговоры и побудили, наконец, Жилинских продать свое данковское имение и подыскивать более крупное. На их несчастье, им подвернулось имение Красное Михайловского уезда, принадлежавшее Прасковье Николаевне Редькиной; имение это было известное на всю округу не столько по своей величине, хотя заключало более тысячи десятин, что для черноземной полосы величина крупная, как по роскоши усадьбы; название его происходило от того, что постройки все были из красного кирпича; самый дом трехэтажный, с чудной входной лестницей старинного дуба, громадными приемными комнатами, отделанными под мрамор или с разрисованными стенами, и с такими широкими окнами, что пара лошадей свободно могла в них проехать, стоял посреди столетнего парка, имея пред собою ряд прудов; у въезда в парк стояли два больших флигеля: один для приезжающих, другой — кухня и людские, и тут же неподалеку маленькая церковь с двумя колокольнями-башнями, что придавало ей некоторый католический вид; хозяйственная усадьба расположена была отдельно, верстах в полутора, и там каждое здание имело особенную архитектурную выдержку; так, например, здание для телят было в миниатюре точная копия Петровского московского дворца, а конный завод имел при себе манеж, в котором можно было давать цирковые представления. Имение это когда-то принадлежало какому-то мимолетному временщику в царствование Екатерины, хотя некоторые утверждали, что в нем принимал сам Потемкин великую царицу во время ее проезда в историческое путешествие ее в Малороссию. В этом доме наверху была очень большая комната, под названием «спальня Екатерины»; в ней устроена была ниша для постели, и задняя стена этой ниши нажимом пружинки раздвигалась, причем в соседней комнате была такая же ниша для постели, которые обе, таким образом, составляли двуспальную на ночь; эти апартаменты, по сказанию, и служили Екатерине и Потемкину. В память своего пребывания в Красном Екатерина Великая и велела соорудить вышеописанную церковь, на что дала деньги из собственных средств,
293
почему на портале церкви имеется надпись: «От щедрот Великой Екатерины», а в самом храме, сооруженном в честь Казанской Божьей Матери (день пребывания царицы в Красном), в иконостасе с левой стороны имеется икона великомученицы Екатерины, на которой лицо этой святой изображает портрет самой царицы. Сам дом во времена Редькиной был обставлен с неимоверной роскошью, а усадьба была полная чаша. Яша прельстился таким имением, которое возводило их сразу в положение крупных землевладельцев; сама же Прасковья Николаевна, мечтавшая скорее разделаться с Красным, предложила наивыгоднейшие условия, а именно: очень небольшую сумму денег наличными, оставляя под закладную имения триста тысяч рублей, которые на словах обещала не взыскивать, дав время Яше заложить имение и распродать дальние хутора для расплаты с ней. Как мой отец ни уговаривал Жилинских не идти на эту комбинацию, так как положиться на деловую добропорядочность кого-нибудь из семьи Гагариных трудно было, возможность же в годовой срок закладной осуществить проект залога имения в Дворянский банк и распродажи его части крестьянам, была более чем гадательна; ничего не помогло, а даже подлило масла в огонь, и Яша купил Красное. Предположения Папа́ оправдались, и эта покупка была началом полного разорения сестры. Не говоря уже о том, что при передаче имения оказалось, что Редькина все из него вывезла, что только было возможно, сдав в доме одни голые стены, а в хозяйстве минимальный инвентарь; она через год предъявила закладную к взысканию в надежде получить имение обратно; Яша влез в долги, так как ссуду Дворянский банк дал значительно меньшую, и затем, чтобы кое-как выпутаться, пришлось и заложить, а потом и продать, кроме данковского имения, и Радушино, и Чичкино. Само же Красное никогда не вернулось к прежнему блеску; хозяйство велось самое нищенское — арендное, а великолепие дома далеко не гармонировало с внутренним его убранством и всем строем жизни; с одной стороны, были замашки петербургского светского уклада, а с другой стороны, был во всем такой недостаток, что вопрос о поездке на станцию, правда, тогда еще в 35 верстах (Клекотки, Сызранско-Вяземской железной дороги.), был часто затруднительный. Но все это обнаружилось впоследствии; в эту же зиму деятельность Яши сосредоточена была на покупке имения и потом на его залоге, почему он часто отсутствовал; когда же бывал дома, был очень сумрачен, о делах не говорил, видя явное несочувствие моего отца. Семейная атмосфера благодаря этому была тяжелая, и зима, на которую ввиду съезда всех возлагалось столько радужных надежд, их не оправдала. Однажды Яша, вернувшись из какой-то поездки, переговорив наедине с Варей, неожиданно явился в детскую, взял у англичанки Мусю, отнес ее к Варе, англичанке же велел в тот же день выехать; старуха эта была потрясена и у Нюнички, вечной общей утешительницы, плакала, не осушая глаз, жалуясь, что в жизни своей такого позорного изгнания не переживала. Оказалось, что старый преданный кучер Яши поведал ему, что эта нянюшка горькая пьяница, и по ночам, запираясь с ребенком на ключ, напивается до бесчувствия. Впоследствии это оказалось правдой, но все-таки меня с родителями глубоко возмутило, что такое обстоятельство стало известным уже на второй год пребывания этой англичанки, и через сплетню прислуги, а самый способ увольнения нас прямо коробил. Я помню, что лично так жалел эту старуху,
294
что пошел к ней проститься и, увидав ее распухшее от слез лицо, сам горько расплакался. В этот же день нам надлежало с Яшей ехать к Раевским, проводившим тоже всю зиму в деревне, и мне Яша в эту минуту был так ненавистен, что я старался с ним и не разговаривать. Через несколько времени прислана была из Петербурга друзьями Вари новая англичанка-нянюшка, набитая дура, которая у них очень недолго оставалась.
Мне очень жаль было сестры, которая по слабохарактерности и деликатности не умела руководить своим персоналом; в Мама́ же не было достаточной мягкости в отношениях к дочери, и советы ее принимались с протестами; сама же Варя, боясь осуждения в семье ее мужа, все таила и переносила в себе; в его отсутствие мучалась, что он не пишет, запрашивать же его боялась, так как он на это сердился; когда же он приезжал пасмурный и сумрачный, она всегда была на иголках, боясь каких-нибудь семейных столкновений. Часто перед вечерним чаем он приходил ко мне в кабинет читать, пока я занимался в конторе; кабинет этот ввиду его отдаленности я всегда, уходя с той половины, запирал на ключ, и вот однажды, не заметив его присутствия, я его там запер и спохватился лишь к концу чая, когда обойдя весь дом, нигде Яшу не нашли, побежал я туда, страшно извинялся, но Яша долго на меня дулся, и Варя не знала как его умастить.
Церковные службы на дому у нас были часты: каждое первое число служился молебен с водосвятием у бабушки, под все большие праздники бывали у нас всенощные, а в особенно чтимые дни, каковыми являлись, например, Касьян Римлянин (покровитель в делах), Неопалимая Купина (охранительница от пожаров), служились у нас тоже молебны, а в день Неопалимой Купины совершался, кроме того, крестный ход вокруг всей усадьбы. Диакон Чупров ушел от нас в священники в Тарусский уезд, и настоятель Извеков противодействовал тайно всякому новому назначению диакона, радуясь, за отсутствием такового, увеличению своих доходов, так как без диакона он получал две трети кружки, а при диаконе лишь половину; сочувствовал ему и псаломщик Песоченский, по той же причине получавший вместо шестой части дохода — треть; умели они привлечь на свою сторону нового церковного старосту, крестьянина деревни Поливаново Парфена Михайлова, выбранного весной 1884-го года на место умершего почтенного Стефана Самсонова Воронова; помню, как еще в бытность Константина Людовиковича последний как-то торопился домой и на мой вопрос: «К чему такая спешка?» объяснил, что сейчас к нему соберутся на совещание, чтобы наладить выборы меня в церковные старосты; что произошло — не знаю, но выбран был не я, а этот Парфен Михайлович, при коем церковное хозяйство значительно упало; оставил он лишь одну хорошую память, а именно — обсадил весь церковный двор, до того совершенно пустой, липами. Заслуга же покойного Стефана Самсонова, кроме полного порядка в церкви и обновления иконостаса, главным образом, заключалась в новом 150-пудовом колоколе, своим благозвучием известном на всю округу; до него главный колокол, существовавший с основания церкви, весил всего 56 пудов и служит до сих пор для благовеста к будничным обедням. Когда причт приходил к нам для служб, псаломщик Семен Иванов Песоченский оставался в передней или же скромно пробирался в буфет, а Дмитрий Васильевич Извеков, всегда в камилавке и наперсном кресте, шел прямо
295
в классную, где обыкновенно происходили службы у столика против среднего окошка на Горяиново. Бабушка или Мама́, смотря кто заказывал службу, здороваясь, открыто передавали ему плату, и служба начиналась. В Новый год, по традиции, существующей у нас в семье и до сих пор, в 12 часов служился новогодний молебен; за причтом посылалась лошадь и всегда было много волнений, как бы не опоздали они; часы проверялись, служба начиналась без четверти 12 с таким расчетом, чтобы часы пробили во время службы. Мама́ была очень суеверна в таких вопросах и давала себе много лишних мучений. В этом году произошел казус, молебен начался в положенное время, часы пробили во время службы, но никто из нас, присутствующих, не узнавал знакомых молитв, а также ожидаемого всеми Евангелия о проповеди Христа в синагоге. Когда молебен приходил к концу, священник, не давая отпуста, начал новый, знакомый нам новогодний; оказалось, что псаломщик, подавая ему книгу для службы, открыл ее на молебне в день коронации, который и был весь прослужен в такое непоказанное время. Мама́ испугалась, что это дурное предзнаменование, так как это был первый раз в жизни, что Новый год не встречен был положенной службой, а таковая состоялась уже после начала года, но опасения ее были напрасны, год прошел обыденным порядком. Великим постом службы учащались: на дому, кроме мефимон, служились всенощная с 12-ю Евангелиями и даже всенощная под Великую Субботу, дабы дать возможность бабушке приложиться к плащанице, которую завели для этого случая совсем маленькую, переносную; во время же говения семьи служились все всенощные и часы дома и затем дома же исповедовались, а бабушка даже причащалась дома обедненными дарами, для чего к концу обедни посылался за священником возок. Исповедь происходила обыкновенно в классной. Помню, как Платон Евграфович, недовольный продолжительной исповедью моей матери, пустил под окном римскую свечу, чем напугал весь дом; сам он исповедовался всегда в церкви в алтаре, причем каялся так громогласно, что всей церкви его грехи не были тайной; молился он истово, но часто в середине службы гаерничал: обходил ряды молящихся молодых парней и опрашивал, как их зовут и ласкают ли [их] жены «ангелом иль чертом», а к девушкам обращался с вопросом, сколько у них мужей, «один или два», и неизменно по окончании службы уходил из церкви с возгласом: «Батюшка-отец, как мне эти попы надоели».
Пасха в этом году была ранняя; Мама́ настаивала, чтобы летнюю церковь не открывали бы, но это оказалось невозможным: народ не поместился бы с пасхами в зимней, почему решено было, что никто из семьи в церковь не пойдет, и попросят Дмитрия Васильевича отслужить в 12 часов у нас на дому заутреню; в церкви же пусть служит эту службу новый настоятель, а к обедне Извеков поспеет. Новым настоятелем был нынешний священник Сергей Александрович Ватолин, женившийся на дочери Извекова и принявший от него место; получил он этот приход и был посвящен во священника незадолго перед тем, состоя до того сельским учителем в Козельском уезде. Прежде чем принять окончательное решение, Извеков приводил его к нам и спрашивал мнение моего отца; возражать против Ватолина трудно было: замена же Извекова новым настоятелем была необходима, так как у последнего так тряслись руки, что служба его становилась опасной; таким образом, определение это состоялось. Перед Пасхой же
296
Песоченский настоял на назначении второго псаломщика на вакансию, занимаемую до того диаконом; насколько он до этого входил в планы Извекова о незамещении диаконской вакансии, настолько теперь, устраивая судьбу своей дочери, на которой должен был жениться этот псаломщик, он всячески хлопотал в обратном духе и скоро нашел зятя в лице сына бобровского диакона; звали этого кандидата Дмитрий Федорович Ратмиров; был он малообразован и служил почтальоном; по-видимому, было мало данных в нем для плодотворной службы при церкви, а между тем впоследствии он стал одним из лучших диаконов как по службе, так и по настроению. Впрочем, об этих новых членах причта буду писать впоследствии подробно, когда буду описывать свою деятельность церковным старостой. Упомянул же о них, чтобы подчеркнуть, как наличность двойного причта облегчала желание моих родителей.
Приготовления к Пасхе были у нас всегда очень хлопотливые; у Мама́ было целое расписание устройства розговенья: назывались они «господские, верхние и нижние»; первые — был стол для нас, вторые — под наблюдением экономки и одной из горничных устраивались в детской для всей домашней прислуги и старших должностных лиц экономии, и третьи — в прачечной, под ведением Варвары-прачки, для остальных экономических служащих, рабочих, скотниц, нищих и всех бездомных, очутившихся случайно в церкви; таким образом, готовились розговенья более чем на сто человек. Алексей-кучер, гораздо более приспособленный к покупкам, чем к управлению лошадями, задолго разъезжал для покупки нужных припасов и, главное, скупки яиц; экономка набирала весь пост молочный скоп и ежедневно совещалась с Мама́; повар подбирал себе добровольных помощников; дней за десять писался заказ ему не только розговень, но и всей Страстной и Пасхальной недели, дабы не отвлекать его от работы. Кроме общих розговень заготовлялось неимоверное количество пасох и куличей для раздачи всем служащим по рукам; все они были разного весу, смотря по значению лица, которому предназначались; всем также раздавались по списку крашеные яйца, для чего в Великий Четверг начало окраски делалось в классной, а le gros передавалось для окраски в кухню и в пятницу в больших корзинах разносилось экономкой по квартирам для раздачи по рукам. Наш стол отличался не только обилием, но и разнообразием, потому что помимо традиционных куличей каждому готовилось его любимое: так, например, мне всегда отдельный сотейник макарон; Мама́ и Семен особенно строго наблюдали, чтобы мне были приготовлены папиросы, курение которых постом я обыкновенно избегал; в Великую Субботу все эти пасхи, куличи и яйца приносились в классную для освящения; на каждом блюде была записка — кому это предназначается; причт после пасхальной всенощной, которая служилась для бабушки, освящал их, и затем орава людей разносила все по назначению под строгим надзором Мама́, следившей по списку. В этом году, ввиду условия служить всенощную ночью, состоялось лишь одно освящение, но такое же шумливое и суетливое, как и в былые годы. Служба у нас началась в 12 часов, но, к нашему великому изумлению, Дмитрий Васильевич не велел в церкви начинать без него и заставил ждать народ, что вызвало большое недовольство, а моим родителям, совершенно этого не ожидавшим и сговорившимся с ним по-другому, было очень неприятно. Мама́ не хотела разгавливаться, считая грехом
297

Е. Н. Осоргина с Михаилом и Льяной у С. А. и Н. П. Трубецких. Среди
присутстсвующих Евгений Николаевич Трубецкой, Петр Федорович и Александра
Павловна Самарины и др. 90-е годы XIX века. Частное собрание, Париж
приступить к этому еще до окончания обедни, и вместо веселых семейных розговень всем как-то было не по себе; к тому же бабушка, заснувшая до службы, была очень слаба и ночью же, от обильного розговенья после строгого семинедельного поста, заболела. Утром, когда пришло все духовенство с образами, мы все сговорились, что каждый из нас даст каждому члену причта под крест, так как прежде мы это делали с Мама́ во время заутрени, христосуясь с духовенством. При наличии Жилинских, всегда очень щедрых на такие дачи, мзда вышла столь крупная и неожиданная, что Д. В. Извеков, как старший, вновь начал какую-то службу уже после креста, и пение пасхальных песнопений длилось очень долго. У меня навсегда осталось неприятное воспоминание, как мы невольно заставили народ ждать службу и как, вероятно, заочно нас бранили; я всегда считал, что в церковном деле надо становиться в общий уровень, не выделяться, и со стороны духовенства должно быть оказываемо предпочтение не по состоянию и положению лица, а лишь по степени усердия его к церковным службам, дабы помочь особенно усердному использовать все посильное ему счастье от посещения храма. На второй день Пасхи бывала всегда у нас обедня, довольно ранняя, и после нее мужчины-прихожане шли по домам духовенства с поздравлениями, где им подносились водка и кусок пирога; после того общества приходили поочередно в разные дни с яйцами поздравить и христосовались с моим отцом, за что получали водку в конторе; отец редко выходил, обязанность эта падала на меня, тем более что
298
во время этого приема начинались разговоры с обществами о заключении условий на работу. С давних пор все полевые работы, до починки дорог и изгородей, чистки дорожек в саду включительно, производились крестьянскими обществами, которым взамен отводилось под пастьбу скота и под покосы все то, чем они пользовались в крепостное право, а равно разрешался свободный сбор грибов, орехов и ягод и по особому расчету отпускались на каждую деревню лыки и метла; на экономических рабочих, главным образом, лежала пахота и косьба травы; пахоты было много, так как обрабатывалось более 400 десятин хозяйственных. Сроки условий были так рассчитаны, чтобы ежегодно возобновлять не более двух: с одной большой и одной малой деревней; к большим относились Горяиново, Пышково, Поливаново и Кашурки, а к малым — Зеново, Дмитровка, Алферьево и Шахово. С очередными деревнями при христосовании и начинались переговоры, которые всегда оканчивались и формировались на Фоминой, дабы после пасхального пьянства опохмелиться той водкой, которая всегда давалась при заключении условий. Управление Константина Людовиковича в этом отношении очень испортило народ, приучив его к пьянству; всякий разговор с обществом, всякая работа оканчивались требованием водки и были даже выработаны нормы на каждую деревню, освященные обычаем. За деньги не соглашались исполнять работы сверх условий, а за водку, ценностью ниже предлагаемой платы, сверхурочные работы исполнялись охотно; за лето выпивалось неимоверное количество водки, и ключник Иван Иванов потихоньку подбавлял воды в бочку, почему по счетам значилось всегда меньше, чем было у него в наличности. Много мне стоило труда искоренить этот обычай, но все-таки я добился того, что водка была совершенно изгнана и только давалась изредка рабочим как действительное подкрепление во время таких спешных работ, когда и отдыха не полагалось. Правда, что с упразднением этих подношений вечерние окончания работ утратили свою прежнюю оживленность и красоту; бывало, вечером крестьяне, ожидая близ конторы свою порцию, всегда устраивали хоровод и усадьба оглашалась пением.
В апреле 1884 года приехал новый управляющий Краузе; он был очень молод, теоретически много знал, но совершенно не знал условий средней России и с трудом справлялся; Нюничка его с первых дней страшно невзлюбила, мой же отец, строя постоянно с ним планы нового культурного хозяйства, очень к нему благоволил. Краузе каждое воскресенье должен был у нас обедать, что было очень скучно, так как потом не знали, что с ним делать, а Папа́ уходил спать. К моему счастью, но к невыгоде имения, он оказался страстным охотником, почему скоро стал отпрашиваться от воскресных обедов, пропадать на охоте, увозя с собой всех тех служащих, которые умели стрелять.
Варя с Мусей и на это лето остались у нас, предполагая будущую зиму 1885—1886 года проводить в Москве, где Яша получил назначение по штабу. Благодаря приезду Краузе дела у меня было меньше, во всяком случае, я мог заниматься хозяйством лишь столько, сколько хотел. Летом приезжала Прасковья Николаевна Редькина, тогда еще отношения были хорошие, ибо закладной она еще не предъявляла ко взысканию; она старалась всем быть приятной, и бабушка и Мама́, называвшие ее «Пашенька», были очень довольны ее пребыванием.
299
Полторацкие затеяли у себя домашний спектакль, увлекшись нашим прошлогодним примером; спектакль был назначен на 5-е июля, я принимал в нем самое деятельное участие, участвуя в обеих пьесах в заглавных ролях; первая была довольно скучная в 3-х действиях, названия ее даже не помню, а вторым был водевиль «Алишка». В нем я играл застенчивого молодого человека, нашедшего на улице заблудившуюся собаку и принесшего ее к ее хозяйке; хозяйкой оказалась старая дева, падчерица какого-то старого полковника, женатого вторым браком на молоденькой особе; я влюблялся в последнюю и делал ей предложение, думая, что она и есть падчерица; полковник соглашался, не понимая, о ком идет речь, выходил qui pro quo, который распутывался лишь тем, что Алишка вновь убегала, ее заподозревали в бешенстве, а меня — заразившимся от нее, почему ввиду страха ко мне меня отпускали с миром, без скандала. Роль была трудная, я почти не сходил со сцены и, говорят, сыграл вполне удовлетворительно; особенно мне это подтверждала тетя Соня Охлябинина, которая только одна из семьи и могла на нем быть; жившая на даче у Полторацких семья Липкиных (председатель Калужского Окружного суда) так уверовала в мой талант, что когда вскорости опять устраивался спектакль, уже у нас в Сергиевском, Николай Степанович Липкин, глава семьи, просил, чтобы его пригласили, что мои родители и сделали, хотя прежде он у нас в деревне никогда не бывал.
Мысль о спектакле у нас родилась неожиданно, и Варя принялась тотчас же за его осуществление: приглашены были Полторацкие для участия с их дальней родственницей Ольгой Андреевной Мокиевской и племянницей Ольги Михайловны Александрой Михайловной (Сашей) Гедда, вышедшей потом замуж за Митю Полторацкого; приглашен был Александр Дмитриевич Раевский, имевший вполне заслуженную репутацию хорошего актера; из Рязанской губернии Варя выписала Гришу Коробьина; привлечен был к участию сосед наш по Тимофеевке бас Московской оперы Матчинский и воспитанница тети Сони — Дунечка. Но Варя на этом не успокоилась, она настаивала пригласить еще играть княжну Ольгу Николаевну Трубецкую, и это участие ее имело решающее значение в моей жизни, так как благодаря участию сестры своей приехала впервые в Сергиевское моя будущая жена, и с этим приездом было положено начало нашего более прочного знакомства. Бывал я у них в доме еще раньше, как-то раз был у них камер-пажом, когда в их доме шла репетиция концерта, в котором участвовали моя сестра и Ольга Делянова; ухаживал я тогда за последней и никакого внимания на девочек Трубецких, ходивших еще в коротких платьях, не обращал. Второй раз был я у них с сестрой и Мама́ зимой этого года по случаю тоже концерта, устроенного стариком-князем в пользу Музыкального общества, в котором он был председателем. Князь приезжал зимой к нам просить Варю принять участие в концерте, на что Варя согласилась; мы с Яшей приехали в Калугу в самый день концерта. Вещи были оставлены у «Кулона», Варя же с Мама́, приехавшие накануне, жили у Яковлевых. Помню, что Варя пела бесподобно и произвела действительно сильное впечатление; спетая ею на бис маленькая вещица «С прялкою девица» под художественный аккомпанемент Мама́ была исполнена с таким неподдельным чувством, что ее просили без конца повторять. Да что говорить! Она была совершенно, исключительно талантлива, и ее богатый бархатный голос
300
еще более выделялся благодаря ее громадному драматическому таланту. Сам Антон Григорьевич Рубинштейн, проаккомпанировав ей свой романс «Отворите мне темницу», рассыпался в благодарностях за чудную интерпретацию его музыкальной мысли. После этого калужского концерта мы все ужинали у Трубецких; старшая дочь Антонина была уже замужем за Самариным, временно гостила у родителей, и моя будущая жена со своей сестрой Ольгой помогали ей и родителям принимать гостей; но за мной установилась почему-то репутация столь конфузливого молодого человека, что посадили меня между мужчинами, и я вновь никакого внимания не обратил на будущую мою жену. Все-таки думаю, что у сестры родился план сблизить меня с этой семьей, и родители мои, и она мечтали о моей женитьбе, так как знали мои мысли посвятиться во священника, когда достигну возраста, допускающего это посвящение холостякам. Я даже имел по этому поводу беседу с архиереем Владимиром, посетившим весной наш храм, и он мне сказал, что если я намерения не изменю и укреплюсь в нем, он для меня сделает исключение и допустит посвящение по достижении мною 28 лет. Понятно, что вся моя семья, мечтавшая совсем о другом, испугалась, почему и возможна некоторая преднамеренная мысль у сестры, настаивавшей на приглашении Ольги Трубецкой; последняя согласилась. Съезд всех участников состоялся дней за пять до спектакля; одни только Раевский и Матчинский наезжали в эти дни, возвращаясь на ночь домой; другие же все жили у нас. Ольга Трубецкая приехала со своим старшим братом Сергеем, который, боясь у нас скуки, заготовил было, как он потом рассказывал, фразу: «Mon père m’a enjoint de revenir», но к ней не прибег, настолько увлекся царившим у нас весельем, а также тронутый радушием и приветливостью моей матери, которая как никто умела обласкать молодежь.
Спектакль должен был состояться 22-го июля в день именин Мама́; Папа́ взял на себя устройство сцены, которая прекрасно была устроена в столовой; все удивлялись, как можно было на таком маленьком пространстве добиться таких эффектов. Музыкальный магазин Габлера прислал мне новую оперу «Aben Hamet», которая мне очень понравилась, и я скомпоновал из нее миленькую музыкальную вещицу, выбрал наиболее красивые дуэты, соло и речитативы; сюжет этой вещички — драма, происходящая благодаря тому, что Мавр (Матчинский), влюбленный в христианку (моя сестра), не соглашается переменить религию благодаря настоянию своей возлюбленной (Дунечки). Второй пьесой шла «Старина» в костюмах Екатерининских времен; стариков — графа и графиню — играли Раевский и Ольга Трубецкая, внучку — Саша Гедда, нянюшку — Мокиевская и молодого художника, за которого бабушка соглашается выдать внучку, лишь удовлетворившись, что он князь, — я. Третьей пьесой была французская; в ней участвовали Варя, Анночка Полторацкая, Гриша Коробьин и Миша Полторацкий. Это была haute comedie «Le caprice», и в ней Варя и Коробьин блистали своим французским диалектом. Последней шла «La seconde annee» с участием Вари, Мити Полторацкого, Гриши Коробьина и меня; пьеса была с куплетами, которые Варя пела в совершенстве, я же, как всегда, немилосердно фальшивил. Сюжет этой пьесы: забывчивость мужа первой годовщины своей свадьбы, ни на чем не основанная его ревность к жене за поручение, данное ею молодому человеку купить какую-то ценную вещь; муж думает, что жена подарила этому ухажеру на память купленный им
301
сувенир, а на поверку выходит, что она его готовила для мужа в день первого свадебного юбилея, о котором 300 забыл; происходит общее примирение на фоне очень красивой и легкой музыки; мы с сестрой играли мужа и жену и, как всегда, Варя была очаровательна в кокетливой роли молодой жены. Декорации, устроенные Папа́, были и разнообразны, и очень красивы; для оперы был устроен грот, освещенный луной; выпуклые камни в нем были сделаны очень искусно Нюничкой из мятого серого картона и разрисованы Аникой Полторацкой; аккомпанировала Мама́, я дирижировал и получил от исполнителей дирижерскую палочку с серебряной ручкой, на которой были выгравированы имена актеров; Матчинскому же поднесен был экземпляр этой оперы с надписью «Первому русскому Абен-хамету». И управляющий Краузе, желая подладиться под общий подъем, сшил по секрету одному из рабочих, Карпу Голубкову из Зенова, костюм пожарного с каской, оклеенной золотой бумагой, и поставил его за кулисами с брандспойтом от пожарной трубы, стоявшей на дворе на дрогах с запряженной бочкой воды, при коей посменно весь спектакль дежурили рабочие в красных кумачовых рубашках. Спектакль прошел блестяще и было очень весело, но, понятно, самое веселое было время до спектакля, и, когда мы его отыграли, то как будто что-то оборвалось. Это чувство очень правильно схвачено в романе «Четверть века назад» Маркевича. Кроме семьи в качестве зрителей были Ольга Михайловна Полторацкая, старушка Гадора, мать участницы спектакля с другой дочерью, Екатерина Григорьевна Раевская с сестрой, Сережа Трубецкой и жена Матчинского. Из Калуги приехали в день спектакля князь Николай Петрович Трубецкой с дочерью — моей будущей женой, Софья Семеновна Яковлева и Липкин. Помню как сейчас как подъехала в первый раз в Сергиевское та, которая потом стала его хозяйкой: Лиза ехала с Софьей Семеновной под дождем в крытом рыдване, все мы их встречали на подъезде; Ольга обрадовалась своей сестре и сейчас же они начали обмениваться семейными сведениями; у них в это время (18-го июля) родился в семье старший сын их старшего брата; мать их была у старшей дочери, Самариной, ожидавшей тоже рождения первого ребенка. Известие о рождении этой первой родной племянницы, случившееся 20-го июля, пришло вечером, когда Лиза была уже у нас, и произвело на нее такое впечатление, что ей пришлось удалиться и потом ее отпаивали нервными каплями. Помню, что эта явная сильная семейная связь первая заставила меня задуматься и восхититься. Я увидал, что для них собственная семья составляет настолько центр их мышлений, вкусов, что все остальное есть либо красивая декорация, либо аксессуар их счастливой семейной сплоченной жизни; чувствовалось, что они настолько проникнуты правильностью строя своей семьи, что я, так часто осуждавший свою семью, им позавидовал. Когда же на следующий день во время прогулки Лиза стала мне рассказывать про разных членов семьи, про свою тетушку и крестную мать Марию Алексеевну Лопухину, я все более проникался чувством зависти к такому прочному семейному началу, обнимающему в своей любви и сплоченности всех, так или иначе к ним прикосновенных. С этой минуты я все более стал восторгаться этой семьей и не знаю, восторг ли к ней развил во мне влюбленность, или же последняя скрывала от меня всякие возможные недостатки, но несомненно, что этот приезд дал другое течение моим мыслям и положил начало интереса моего
302
к семье Трубецких, и в особенности к Лизе, которая и по рассказам Софьи Семеновны, а также по отношению к ней брата и сестры, играла в семье совершенно исключительную роль. Но впечатление это осталось пока только впечатлением, ухаживание же мое началось гораздо позднее и было, как увидим впоследствии, бурное, но и кратковременное.
На спектакле бабушка не присутствовала, она в этот день заболела, и когда 23-го все разъехались, начались тревоги за нее; заболела она рожистым воспалением головы и была одно время прямо опасна. Выписан был доктор, и наступившая будничная жизнь, сопряженная к тому же с тревогой за здоровье бабушки, казалась мне особенно тягостна. В нашей семье эти переходы от беззаботного веселья и широкого размаха приема гостей к обыденной жизни с подсчетами произведенных расходов и спешной уборкой всего, что готовилось с таким тщанием, а теперь считалось ненужной ветошью, были всегда особенно резки. Я всегда от этого страдал, хотел хотя бы в воспоминаниях, в разговорах вернуться к тому, чем я так наслаждался и что только что составляло такой для меня крупный интерес; обыденная же серая жизнь, немедленно вступавшая в свои права и особенно подчеркиваемая моими родителями, как бы указывала, что прожитое веселье было вроде поблажки и не является нормальной жизнью. Может быть, под влиянием этим и во мне создалось неумение без шероховатости переходить от веселья к обыденному образу жизни. Я впоследствии особенно ценил в семье Трубецких это разумное смешение того и другого, не мешающее и не поглощающее друг друга; у нас же всегда были extrêmes’ы и либо одно, либо другое.
После спектакля мы с Варей объехали всех участвовавших, чтобы их поблагодарить, и, понятно, побывали в Калуге у Трубецких, остановившись для этого, как всегда, в доме Яковлевых; старик Семен Павлович всегда был рад нашему приезду; меня он одобрил за то, что я покинул службу и помогаю отцу в делах; перед талантом же Вари таял и всегда наслаждался вечерами, проведенными у них, заставляя ее петь без конца. Софья Семеновна очень любила мою сестру; сохранив до конца своей жизни память о своей юности, проведенной в Петербурге в доме своего дяди, министра народного просвещения Норова, как о самом счастливом времени, она видела в Варе отблеск этого петербургского света и потому особенно к ней льнула. Меня Софья Семеновна положительно не любила, но принимала всегда любезно, хотя часто говорила колкости; я тоже не особенно ей симпатизировал, но и не скучал с ней, так как она была очень остроумна и своей мелодраматичной манерой говорить самые простые вещи бывала подчас очень забавна. Мне особенно было неприятно видеть ее отношение к моей матери, которая искренно ее любила, между тем как Софья Семеновна, несомненно, завидовала нашей тихой семейной жизни и всячески старалась умалить в ней значение моей матери, над которой она постоянно посмеивалась, а когда нужно было, пользовалась ею как преданным другом вовсю. Действительно, Софья Семеновна, имевшая благодаря своим внешним качествам когда-то в Петербурге головокружительный успех, а затем зарывшись в Калуге между ворчуном-отцом, непроходимо глупой тетушкой и двумя беспутными опустившимися братьями, справедливо считала свою жизнь неудавшейся, отчего у нее накопилось так много горечи. Но с Варей и в этом доме легко было; Варя умела внести нотку и оживления, и примирения, особенно для
303
таких натур, как Софья Семеновна, ценившая светский лоск и красивую непринужденную легкомысленность, и как Семен Павлович, глубокий поклонник всякого искусства и таланта. Визита нашего к Трубецким совершенно не помню, что доказывает, как я тогда мало еще имел серьезных намерений.
Варя должна была остаться у нас [на] осень при бабушке, мы же с родителями предполагали ехать втроем в августе месяце в Симбирск; эта поездка нам всем очень улыбалась: Папа́ предполагал серьезно заняться с Остроухом, Мама́ любила всякие передвижения, а я радовался вновь увидать Волгу, зная, что в Михайловке в присутствии родителей я застрахован от той гнетущей тоски, в которую впадал при каждой разлуке. Еще до предположенного срока нашего отъезда пришлось искать для Муси новую нянюшку, отказавшись от услуг второй англичанки ввиду слишком уж большой ее глупости. На этот раз Варя сама колебалась брать иностранку и очень обрадовалась, когда узнала, что в Калуге рекомендуют русскую верную нянюшку. Не полагаясь уже на себя, Варя просила Мама́ ее посмотреть, и если она ей понравится, с ней покончить, почему Мама́ и поехала в Калугу. Привезла она вскорости оттуда эту нянюшку — благообразную, чистенькую, богобоязненную старушку; фигура ее в чепчике и в простом платье с кофтой была крайне аппетитна и couleur locale’на; привязалась она всей душой к Мусе, осталась у них навсегда и у них же в доме и умерла; фотография ее с Мусей имеется в нашей коллекции.
Отъезд наш в Симбирск предполагался по снятии всего урожая; урожай был очень обильный; опыт посева клевера был более чем удачный, дав с десятины более 500 пудов сена; кончилась возка не только ярового, но и семенного клевера, последние возы коего сложены были в верхней риге, уже туго набитой всем урожаем овса. По окончании возки было приказано конторщику в ночь ехать в Калугу страховать яровой урожай, кучеру одному ехать с нашими вещами, уже уложенными, на станцию Ивановскую, куда мы предполагали через день ехать по-старинному, в своем экипаже на почтовых лошадях, избегая этим скучного сидения в ожидании поезда в Туле. Но человек предполагает, а Бог располагает.
В этот день вечером, часов в девять, шел я к Мусе в генеральскую по коридору и поражен был ярким освещением верхушек деревьев против дома; зная, что в этот день нет луны, я понял, что это пожар, выскочил на двор и увидал через деревья высокий столб огня над верхней ригой; когда я добежал до пожара, вся середина ее уже пылала; сделать ничего нельзя было, несмотря на наличность трех пожарных труб. Здание это было очень длинное, саженей в 30—40, шириной саженей [в] 5, крыто было соломой, лишь концы его были каменные, все же остальное состояло из бревенчатых стен, забранных между каменными кирпичными столбами; вся рига была наполнена доверху без промежутков овсом и клевером и представляла громадный удобный костер; вначале была безветренная погода, и столб огня, вертикально поднимавшийся к небу, как древний гигантский факел, был громадный, саженей в 30 высоты; ничего подобного я никогда потом не видал; говорят, что платформа в станции Ферзиково была настолько ярко освещена этим пожаром, что можно было свободно читать. Раевский увидал этот пожар из имения Баньковского, отстоящего от нас верстах в 25-ти, если не больше; грандиозность пожара внушила ему мысль, что это горит сам дом, и он поскакал к нам;
304
добрался он до нас поздно, когда уже крыша прогорела и опасность для усадьбы миновала, и так был взволнован, что его же пришлось успокаивать. Пожар догорал в течение нескольких дней, и Краузе воспользовался этим медленным горением, чтобы прочесть собравшимся крестьянам целую лекцию о питательности клевера и пользы его для почвы: клевер горел синим огнем, доказывающим избыток углекислости.
Убыток был громадный: яровой урожай, несмотря на тогдашние низкие цены — 35 копеек пуд овса — нельзя было ценить меньше 8000 рублей вместе со сгоревшим клевером, и кроме того мы лишились главного зимнего корма для скота. Понятно, поездка в Симбирск была отменена, присутствие наше на месте было необходимо; немедленно послана была телеграмма страховому агенту, так как верхняя рига была застрахована в 3000 рублей и полисы хранились в Банке, где имение было заложено. Но и тут вышла неудача: когда приехал агент, выяснилось, что по ошибке конторы страхование верхней риги возобновлялось по полису, по которому был застрахован дом винокура, снесенный вместе с уничтожением винокуренного завода лет 12 тому назад. Командирован был Правлением Петербургского Страхового общества для разъяснения недоразумения инспектор; агент, просмотревший такую неправильную страховку, был смещен, но нам вознаграждения никакого не уплатили, почему убыток возрос уже со стоимостью здания тысяч до пятнадцати. Ясное представление о размерах этого здания можно себе составить уже из одного того, что после разборки каменных столбов и крайних стен добытого кирпича хватило на постройку второклассной школы, кроме новой пристройки, где столовая образцовой школы и квартиры учителей, на постройку сторожки при церкви и, по крайней мере, на 15-летний ремонт всей усадьбы.
Крестьяне очень отзывчиво отнеслись к нашему несчастью и предложили безвозмездно скосить и убрать нам все жнивье озимого поля как подспорье для зимнего корма; Алферьевское общество даже приступило к этой работе, но пошли дожди, и работа эта не удалась. На следующий день пожара была новая тревога: Муся, бегая по комнате, упала, повредила себе руку, а Варя вообразила, что она ее вывихнула, почему в сопровождении Мама́ повезли ее немедленно в Калугу. Вывиха не оказалось, а простой ушиб, и на следующий день они вернулись благополучно. Пребыванием своим в Калуге Мама́ воспользовалась, чтобы побывать у Трубецких, и потом рассказывала мне свой разговор с княгиней, который заставил меня серьезно призадуматься. Мама́ передавала, что она печаловалась на мое желание идти в священники, а княгиня на это ответила, что она не понимает, так как всякая мать должна быть счастлива такому намерению сына, и будто бы добавила, что она думает, что и всякая вдумчивая девушка не испугалась бы такого стремления молодого человека, который бы ей нравился, если только намерение это искренно и глубоко прочувствовано. Потом моя теща всегда отрицала эти слова, и вполне возможно, что моя мать, по присущей порывистости, и слегка их прикрасила, придав совсем другой оттенок, но мне они, во всяком случае, запали глубоко в душу.
По переезде Вари и Муси в Москву к Яше мы опять по-прежнему перебрались на зимнюю маленькую половину, сократив себя ввиду больших хозяйственных убытков до последней возможности. На конюшне был оставлен один кучер, повар
305
был отпущен и на его месте остался его помощник Михаил Синицын; топка и поездка на почту были возложены на буфетного мужика Зиновия, брата Михаила-старосты, а на второго буфетного мужика Егора возложен был уход за Папа́ и вся остальная работа; Семен его подучил и когда Папа́ подарил ему старый сюртук, он стал прислуживать за столом.
Я много увлекался в это время лечением графа Маттеи, выписал его аптечку и стал лечить его крупинками и электрическими жидкостями; я думаю, что чем ни лечить народ, он всегда будет к тебе обращаться, если только с ним быть ласковым и выслушивать его терпеливо; по крайней мере, это сказалось на мне: несмотря на полную, вероятно, бесполезность моего лечения, пациентов было много и приходилось даже ездить по домам; завел я книгу для записей больных, с тем чтобы к приездам доктора, который в нашей семье был довольно часто, просить его совета для трудных случаев. Парфианович, понятно, лечил аллопатическими средствами и меня к тому же побудил; по его совету я составил себе порядочную аптеку и взял себе в помощники младшего сына Василисы Шишковой Сашу; он отвешивал под моим руководством лекарства, размешивал мази и записывал больных; мальчик он был тупой, но безумно меня боялся, отчего был исполнителен. От дальнего кабинета я отказался и вновь вернулся в свою зеленую комнату, очень уютно устроенную. Мама́ усердно занималась сергиевской школой — единственной на всю волость, часто ее посещала в качестве попечительницы и знала всех учеников поименно, каждую субботу награждала особенно усердных сладостями, возбуждая в них соревнование. Учительницей была та же, что и теперь, Александра Алексеевна Децемвирская; поступила Децемвирская еще 6-го декабря 1882 года, только что окончив гимназию, и с тех пор бессменно здесь прожила, воспитав и образовав несколько поколений и пользуясь всеобщим уважением, за исключением тех заблудшихся людей, которых угар революции сбил с толку. Приезжал к Мама́ инспектор народных училищ Павел Иванович Никольский, сделавшийся потом человеком, искренно преданным нашей семье. Имел он, несомненно, большой педагогический опыт, крайне был доброжелательный, а доброе, участливое его отношение ко всем учащим обращало его приезд в школу не в грозу, а в желательное и приветствуемое всеми посещение опытного старшего товарища и справедливого начальника.
Чтобы выразить благодарность Раевскому за его теплое участие по случаю пожара, поехали мы к нему на именины с Папа́ и Мама́, тогда как до того обыкновенно ездил я один. 30-е августа был кроме того у них и храмовый праздник, и этот день всегда праздновался у них очень торжественно: съезжалось к ним много родных и соседних помещиков. Старик Андрей Семенович уже умер, Александр Семенович тоже, а вдова Андрея Семеновича, Любовь Васильевна, с переходом имения к Александру Дмитриевичу перестала в нем живать. К этому дню приезжала всегда старушка Екатерина Семеновна Раевская, последняя оставшаяся в живых из того поколения; жила она безвыездно в Забелине, верст за 10 от нас, но на праздник приезжала в Покровское на несколько дней; кроме того приезжала мать Екатерины Григорьевны из Петербурга, но по скромности не показывалась и проводила день в своей комнате. Старушка Екатерина Семеновна была очень неглупа, умела себя прекрасно держать, но, правда, главный ее интерес
306
сосредоточивался на хозяйстве, которое она вела образцово, приумножая свое состояние и готовя его племянницам Александра Дмитриевича, княжнам Максутовым, коих мать была ее крестницей. С нею обыкновенно Мама́ и просиживала время, как [с] наиболее подходящей к ней по возрасту. Были еще родственники у Раевских — Джунковские и Ильченко. Один из Джунковских зарезал свою сестру и был сослан на каторгу, почему Мама́ всех их без различия звала каторжниками, даже и сестру их Ильченко, бывшую замужем за каким-то петербургским полицмейстером. Мама́ попрекала ими Раевских, считая такую родню позорной, Александр Дмитриевич всегда их защищал и крайне родственно к ним относился. Мама́ заставила Александра Дмитриевича и меня выпить брудершафт, ее коробило, что он мне говорил по имени; перешли мы с ним на «ты», но я продолжал ему говорить «Александр Дмитриевич», а он мне «Миша». Когда я бывал у них, они не знали, куда меня посадить, как меня обласкать, но на этот раз с приездом моих родителей они пришли уже в полный восторг и все главное внимание было сосредоточено на Папа́ и Мама́; съезд соседей у них был совершенно другой, хотя наши имения граничили; у них бывали Баньковские, Дюверица, Палицыны, семья Дестремов и еще многие такие, которых я даже не вспомню, причем кроме соседей съезжались еще к этому дню разные петербургские знакомые и из них постоянно какая-то адмиральша Всеволожская. Приезжали мы обыкновенно к обеду, когда все уже были в сборе, высыпали на подъезд нас встречать, и тут же возобновлялось знакомство с этими соседями, которых мы встречали не чаще раза в год. Вопрос обеда был вопросом кульминационного семейного праздника. Видно было, что он обдуман заранее, меню его разработано со шмаком, да и сама семья Раевских ожидала это угощение с особым удовольствием: у них такой обед был событием. Александр Дмитриевич еще до подачи супа суетился и угощал всех закуской, в которой наперекор деревенской жизни городские деликатесы составляли главную часть. Обед традиционно опаздывал, несмотря на то, что в приготовлении его принимало участие много людей, до их старого управляющего Ларивона Петрова включительно. Ожидание было всегда очень томительным, а на этот раз особенно, потому что Мама́ боялась темноты и Камольской горы. Когда, наконец, Екатерина Григорьевна торжественно звала к столу (тогда был еще старый дом с маленькой узкой столовой), все кое-как размещались, родители мои и Екатерина Семеновна — на почетных местах. Обед всегда длился очень долго, и хозяева угощали до невозможности. Сам Александр Дмитриевич играл роль виночерпия, обходя с бутылкой вина весь стол. Каждое вносимое блюдо встречалось хозяевами испытующим взглядом, и хотя они притворялись, что им все равно, они все-таки улыбались и радовались, если подача производила эффект по величине рыбы или какому-нибудь особому убранству блюда. На верхнем конце, где сидела старушка Раевская, темой разговора была всегда заготовка разных варений, солений и т. п.; там же, где восседал сам Раевский, только и говорили об охоте, причем такие господа, как Джунковский, Ильченко, врали немилосердно. Ввиду неумелой подачи большого меню и неотступного угощения хозяев сидели за столом ужасно долго, и встать, перейти в гостиную, прохладную комнату, где подавали кофе и фрукты (фрукты обыкновенно привозились в подарок нами из наших оранжерей), было настоящим наслаждением. Но тут-то Мама́
307
и требовала немедленно уезжать. Хотя на Камолу присылали факел для освещения дороги, Мама́ сходила всю гору пешком и на этот раз так устала, что заявила, что впредь будет ездить к ним не в праздник, и только днем, и в таратайке.

Елизавета Николаевна Осоргина с сыновьями Мишей и Сережей.
Сергеевское, 1890.
Частное собрание, Париж
Я один из семьи потом продолжал ежегодно посещать Раевских 30-го. На моих глазах постоянно появлялись за столом вырастающие дети, затем мужья и жены последних и, наконец, и внуки. Оставалось неизменно простое радушие хозяев и прекратились эти праздники лишь с пожаром дома, после которого старики уже больше не выезжали в Покровское. Мне было очень жалко не видать их больше в милой покровской обстановке; они были из тех, которые непритворно радовались приезду каждого; для них положение, даже интерес лица мало что составлял. У них была неподдельная любовь, как в старые добрые времена, принять в своем гнезде гостя и, понятно, угостить на славу. Самое обидное для них было приехать к ним невзначай, но и то Екатерина Григорьевна хлопотливо прибавляла что-нибудь к обеду, лишь бы угостить дорогого гостя. Когда мы остались одни, без Вари, затевались вечерние чтения вслух после чая до бабушкиных дурачков, которые впрочем иногда втихомолку разыгрывались уже без моего участия, не прекращая самого чтения. Читали вслух или Мама́, или я; под конец больше я, потому что у меня никакой работы не было и без чтения мне нечего было делать. Сознаюсь, что читать мне было трудно. Меня почти сейчас же начинало клонить ко сну, почему я стал прибегать к опиуму, который, принятый в больших дозах,
308
сначала бодрит и лишь через несколько часов от него засыпаешь; увеличивая все более и более приемы, я дошел до 115 капель зараз, что без привычки могло бы отравить, но зато я уже стал бессменным чтецом и в эту зиму прочел моим старикам вслух очень много; приятно было им читать, видя, как они этим наслаждаются и как они были благодарны; готовили мне кресло, воду с вареньем, и Нюничка приносила несколько блюдечек со сладостями «pour ce cochon de Michel». Я требовал от нее, чтобы у нее всегда было что-нибудь вкусное для меня; когда же запас иссякал, я держал с ней пари на фунт шоколада, что она мне выпишет конфет; такое удобное для меня условие делало то, что проиграй или выиграй я пари, все равно сладости я получу. Моя милая Нюничка была не очень сообразительна и поэтому с трудом сообразила, какое невыгодное пари она со мной держит; поняла она это только тогда, когда не получив от нее конфет, я выписал наложенным платежом на ее имя фунт шоколада. Но надо сказать, что только раз она оказала противодействие выписке конфет, а потом не было случая, чтобы в ее шифоньерке не нашлось бы что-нибудь для меня сладенькое.
По просьбе псаломщика Д. Ф. Ратмирова поместье, где когда-то жил диакон, ныне уволенный, было уступлено под церковную школу, где учительствовал сам Ратмиров, надеясь за это получить диаконское место у нас в приходе, что года через два и осуществилось. Зимой Папа́ послал меня в Калугу к нотариусу: надо было удостоверить подпись моего отца и хотел он это сделать заглазно; я возражал, что никакой нотариус на это не согласится, ибо это будет подлог, но Папа́ настоял на своем и дал мне записку к какому-то Павлу Петровичу Соколову, который, понятно, мне во всем отказал, так что поездка моя оказалась напрасной, но зато помню визит мой к Трубецким и мое возвращение домой. Поехал я на лошадях тройкой гуськом; передняя лошадь была опытная уносная Изабелла, кучером был Алексей; выехал я рано утром в легкий морозный день, луна кончала свою вторую четверть и потому ночь предполагалась светлая. Остановился я у «Кулона», Алексея послал за покупками, побывал у нотариуса, где потерпел фиаско, и решил часа в два заехать к Трубецким; я тогда еще по офицерской привычке не носил калош, почему набивал себе на каблуках и подошвах много снега; в таком виде я и приехал к Трубецким, застал мою будущую жену, играющую в четыре руки со своей тетушкой Лидией Алексеевной Лопухиной. Играли они в столовой, которую надо было проходить, чтобы попасть в гостиную, и, увидав меня, прекратили игру и перешли со мной в гостиную, где сидела княгиня. Предмет разговора не помню, но, вероятно, с моей стороны он был более чем банален, я слишком конфузлив был, чтобы уметь поддержать какую-нибудь серьезную тему, да и совсем семьи не знал, кроме княжны, с которой по застенчивости боялся заговорить. Я себя чувствовал sur la sellette, думал, что надо мной за спиной посмеиваются, и это не способствовало придаче мне смелости и бодрости. Потом я узнал, что на том месте, где я сидел, от растаявшего под каблуками снега образовалась лужица, и Л. А. Лопухина меня высмеивала, но уже через 8 месяцев я вошел в этот дом полноправным членом семьи, заставив все насмешки умолкнуть перед моим горячим, бурным, неподдельным чувством.
Когда я стал собираться домой, извозчики, стоявшие около «Кулона», уговаривали меня остаться ночевать ввиду начинавшейся метели, но я был молод,
309
самонадеян, притом же собирался возвращаться рекой, где сбиться с пути невозможно, и поэтому часов в шесть выехал с Алексеем; по дороге пришлось остановиться, Алексей что-то забыл и бегал назад к «Кулону», и съехали мы на реку уже в темноту, так что с трудом набрели на дорогу, образованную вешками. До Авчуринского перевоза плелись мы довольно благополучно, имея нескольких попутчиков и частых встречных; в это время и луна встала, но хоть и стало светло, ничего не было видно, так как метель слепила глаза и переднюю лошадь с трудом можно было различить; путь свой мы продолжали уже в одиночестве и почти шагом. По времени мы уже давно должны были доехать до поворота на Тимофеевку, но ничего не было видно и положение становилось трагичным. Алексей остановил лошадей, пошел пешком разыскивать поворота, он должен был быть близко, потому что был слышен метельный звон церкви Михаила Архангела. Как только Алексей отошел несколько шагов, он как в воду канул в этой ровной пелене метели; уносные лошади повернулись мордами к саням, вздрагивая от отдаленного воя волков. Я, не переставая, подавал голос, дабы не дать Алексею заблудиться, и был очень рад, когда он вдруг словно вынырнул, облепленный снегом, и опустился рядом с санями. Вернулся он без всякого результата, почему решили мы ехать шагом до нашего перевоза, который, авось, по огню сторожки мы различим, а то приходилось продолжать путь до Алексинского моста, который уже наверное мы приметим. Только бы не останавливаться, дабы не быть занесенными снегом. Снегу уже значительно на нас намело, пока мы разговаривали, и тронулись мы с трудом и с невеселыми мыслями; стал я вспоминать рассказы о замерзших, но пока ничего похожего не было, ибо даже не ощущал большого холода. На реке было все-таки тише, чем в открытом поле.
Проехав порядочное пространство, умная Изабелла вдруг круто повернула к берегу и вывезла нас совершенно неожиданно к деревне Воронино; путь от этой деревни до дома был самый трудный: ветер и метель на открытом пространстве разгулялись вовсю, пронизывали, несмотря на шубы, холодом насквозь, дороги были занесены совершенно, почему тянулись мы эти три версты более двух часов; когда мы подъехали [к дому] около 3-х часов ночи, столько было нанесено снега, что сани мои подъехали в уровень со второй ступенькой крыльца. Родители мои, надеясь, что я остался в Калуге, только что было разошлись. Очень было приятно после всего этого ада очутиться в теплой уютной комнате. Весной я предпринял такое же безрассудное путешествие, но в другом роде, а именно с Пивинским, и на одиночке вернулся рекой накануне того дня, когда река тронулась. Купались мы по пути неоднократно, и понять не могу, что меня, боявшегося органически воды, побудило сделать такую глупость.
Постом заболел Зиновий, брат старосты Михаила Глебова. У Зиновия оказалось воспаление в легких, и как я его ни лечил, ему становилось хуже. Перевезли его домой к отцу, и я два раза в день посещал его; выписан был соседний фельдшер, который показал мне, что делать. Вечером я довольно долго сидел в избе у Глебовых; в красном углу стоял у них чистый стол, над которым висела лампа с абажуром, тогда еще редкость в крестьянском быту, и сидящий рядом со мной старик, отец их, Глеб Макаров, рассказывал мне про старину, когда деревня их, состоявшая из пяти дворов, под названием «Ленивка», расселена была там, где
310
теперь Окоп. Плакал он, что не его Бог берет к себе, а юного, полного сил сына; и, действительно, Зиновий скоро умер. На его место заявился немедленно целый ряд кандидатов. Тогда каждому лестно было попасть в господский дом, но выбор зависел от Семена, который сам себе набирал помощников; зачастил к нему Евмений Зеновкин (горяиновский), тогда красивый черноглазый малый, с вьющимися, черными как смоль волосами и каким-то цыганским обликом, и Семен его взял. Тут же вскорости я заболел каким-то маленьким тифоидом, схваченным при посещении на дому одного больного в Поливанове. Евмений струхнул, боясь заразиться, и хотел бежать, но получил должную отповедь от Семена, который сам почти не отходил от меня; был выписан Парфианович, и он довольно скоро поставил меня на ноги.
Наступило лето 1886 года, в котором перевернулась вся моя жизнь: я женился и для меня началась совершенно новая пора. Создавая новое свое гнездо, свою новую семью, строил я свою жизнь, собирая лучшее как из своей семьи, так и из семьи моей жены. Вначале все то, что было нового у Трубецких, что не соответствовало укладу семьи Осоргинской, казалось мне самым настоящим и хотелось мне все переделать на новый лад; но с течением времени анализ брал верх, и, воздавая должное всему прекрасному семьи моей жены, я все более научился ценить и те сокровища любви и горячности, скромности и отсутствия самомнения, которыми была богата семья Осоргиных.
К лету вновь мы заняли весь дом; мне были отделаны генеральские и круглая, которые прошлым летом занимала Муся. В первой комнате жил Шишков, а остальные две и террасу Мама́ очень красиво и уютно отделала мне, хотя пользоваться этими комнатами пришлось мне мало. 12-го июня, в день рождения Мама́, приехали к нам ее поздравить обе княжны Трубецкие с братьями. Приехали они пароходом, я их встретил в линейке и прямо отвез в церковь. Помню, как подъезжая, на паперти увидал трех нищих, которых по обычаю в этот день собирали, чтобы дать по церковному преданию три милостыни — в память Петра, Онуфрия и Арсения. Мама́ очень строго придерживалась этого обычая, и я сам в этот день этих нищих щедро одарил. В голове еще у меня ничего не созрело, но рад я был очень увидать княжну Елизавету Николаевну. Много мы с ней гуляли вместе с остальными, но всегда рядом, по саду; помню, как на Мариинской аллее она мне в подробности с большим волнением рассказывала смерть своей тетушки Марии Алексеевны Лопухиной. Там же у нас зашел разговор о романе Julie de Fricoeur, и мне в первый раз в жизни совершенно легко говорилось и я чувствовал себя вполне свободно. В ней я не чувствовал ни насмешки, как в младшей ее сестре, ни натянутости, и вот в этот раз сознал, что по отношению именно к ней у меня что-то большее, чем простой интерес. Когда они уехали, стало мне очень пусто, и я был рад перспективе их вновь увидать, так как мы с Варей были приглашены принять участие у них в спектакле, устраиваемом 23-го июня по случаю именин их grande tante, княжны Аграфены Александровны Оболенской. Тетушка эта не приехала в Калугу, а спектакль все-таки был устроен; для всех он был очень веселый, а для меня и очень счастливый, так как после него я стал женихом. Приехали мы с Варей 19-го и остановились у Яковлевых. В тот же день была устроена первая считка в Дворянском собрании, в помещении Музыкального общества, где была
311
постоянная сцена, на которой мы должны были играть. Должны были идти три пьесы: первая — драма Бюргера, вторая — оперетка «Альфонсо» и третья — русский водевиль с пением. Последний был скоро забракован и остались лишь первые две пьесы. Гвоздем была вторая. Либретто было составлено Сережей Трубецким в сотрудничестве со Столыпиным, младшим братом бывшего премьер-министра, музыку сочинил Кислинский; текст блистал остроумием, а музыка легкостью и красотой. В Бюргере две главные роли играли мы с сестрой, Молли, в которую я влюблен, — Ольга Трубецкая, жениха ее Хьюттена — Кислинский, а горничную, у которой только одна фраза «Ma pauvre maîtresse, ma pauvre maîtresse» — Лиза Трубецкая; она же во второй пьесе играла лишь придворную даму. Там участников было много, до чиновников Губернского управления включительно. Один из них глубоким басом солировал в ансамбле, доканчивая музыкальную фразу гаммой вниз. Главные роли исполнялись Ольгой Трубецкой, моей сестрой, подругой Трубецких Маней Хитрово, впоследствии вышедшей замуж за академика князя Бобби Голицына, и младшими девочками Трубецкими — Диночкой и Мариной; последней было всего 8 лет и играла она роль бациллы, коховской запятой. Мужские роли были распределены между Сережей Трубецким, Гришей Трубецким, Сергеем Хитрово, офицером Провоторовым (тенор) и мной. Все дни до спектакля вся труппа проводила вместе, и я не отходил от моей будущей жены. Сознаюсь, что я ни о чем другом не думал, как видеть ее и говорить с ней, не обращая никакого внимания на то, какое это делает впечатление на других. Первая сказала мне это моя сестра Варя. По просьбе Семена Павловича Яковлева мы у них в доме репетировали Бюргера, и я опаздывал с выходами, беседуя с Лизой. Мое ухаживание стало настолько явно и, может быть, и настойчиво, что в день спектакля княжна стала меня избегать, окружила себя братом, двоюродным братом, меня же не подпускала. Спектакль прошел с полным успехом, но когда он кончился, как все показалось тускло, как пусто стало на душе от отсутствия той интимности, которая давала возможность целые дни проводить у Трубецких.
Зная из разговоров, что Трубецкие собираются осенью в Крым, у меня родился план тоже туда ехать для продолжения и укрепления знакомства. Но вышло все по-иному. Родители мои должны были остаться до 21-го, поджидая какого-то члена банка для перезалога имения. Я остался с ними, надеясь найти предлог побывать еще у Трубецких. 24-го это устроилось само собой. Жили они в загородном губернаторском доме, а в общественном саду перед этим домом в этот день был публичный фейерверк. Я на него поехал, встретился с ними там и, естественно, с ними вернулся чай пить и провел весь вечер в беседе с Лизой. На следующий день не было никакого предлога к ним идти, как вдруг неожиданно приехала к Яковлевым княгиня и с очаровательной застенчивостью, присущей только ей, пригласила меня и Николая Семеновича Яковлева приехать к ним, чтобы ехать вместе в лагерь Киевского полка. Когда мы с Яковлевым к ним приехали и все стали усаживаться в экипаж, чтобы ехать в лагерь, меня постигло большое разочарование: они все ехали в большой линейке и около Лизы оставалось пустое место; я не решился его занять, мне же его не предложили, и поехал я отдельно на извозчике вдвоем с Сережей Трубецким, которому я почему-то объяснил в подробностях размер состояния моих родителей. Ни в лагере, ни на обратном пути
312
подойти к Лизе мне не удалось. Когда я подъехал обратно к их загородному дому, застал уже танцы в разгаре, и весь вечер Лиза меня избегала, предпочитая танцевать с крошечным босоногим мальчиком, сыном ее горничной, лишь бы меня избежать. Я не понимал, что это своего рода кокетство, казалось мне это просто пренебрежением ко мне, совершенно для меня неожиданным после стольких хороших предыдущих дней, и я, танцуя с Ольгой Трубецкой, сказал ей, как я осуждаю мою сестру за ее кокетство с Рудницким и никогда не простил бы такой насмешки над собой, причем добавил, что другой мог бы покуситься на самоубийство. Ольга передала уже это своей матери как решение, принятое мной, застрелиться, и Лиза, узнав это и видя, как я простился холодно, уезжая окончательно, так как на следующий день возвращался в деревню, просила старика-князя меня вернуть под каким-нибудь предлогом.
На следующий день, 26-го, уезжали мы с родителями с утренним поездом, приехал проводить нас князь и, отведя меня на подъезде в сторону, сказал, что его жена желает меня видеть и просит меня вернуться, но так, чтобы никто этого не узнал в городе, и особенно Яковлевы. Я тогда сговорился, что вернусь с обратным поездом и прямо проеду к ним. Так я и сделал: в Ферзикове Папа́ и Мама́, понимая, что наступает серьезная минута в моей жизни, перекрестили меня и отправили обратно в Калугу. Встретила меня у себя дома княгиня, а затем беседовал я и с Лизой. Свелось все к тому, что меня упрекали в слишком большой поспешности, мне было сказано, что надо одуматься, сосредоточиться и временно нам разъехаться, чтобы каждому наедине проверить себя. Мне даже не пришлось и предложения делать; мое чувство было достаточно ясно и всем понятно, им же лишь оставалось дать тот или иной ответ на мой молчаливый, но вымученный всей душой вопрос. Сговорились мы с Лизой, что я уеду к сестре моей в Красное, так как это давало возможность иметь известия, ибо переписка моей сестры с Трубецкими была вполне допустима. Не понимал я тогда, что вся интимность разговора, вся близость, установившаяся благодаря моему вызову, были так или иначе благоприятным разрешением мучившего меня вопроса. Уехал я от них какой-то совершенно ошеломленный; поезда уже не было, нанял я извозчика Филиппа, который обещался в маленьком тарантасике парой домчать меня мигом. До отъезда заехал я к своему старому законоучителю Александру Ивановичу и просил его меня происповедовать. Повел он меня в церковь, в алтарь, и он, тоже законоучитель и духовник Лизы, приободрил меня, и уехал я от него более покойный. Филипп меня мчал так, что доехал я в Сергиевское в 1 час 35 минут. Родители ждали меня с волнением и, узнав все, одобрили мое решение ехать к Варе. На следующий день была ей послана телеграмма о высылке лошадей, а я поехал на реку смотреть на утренний пароход, на котором, я знал, Трубецкие должны были провожать Хитрово до Алексина. Сам я не показался, но из кустов наблюдал и видел каких-то молодых девиц на палубе.
Пребывание мое в Красном было сплошной заботой Вари обо мне, но все-таки быть так далеко и в полной неизвестности своей судьбы было очень тягостно, и Красное оставило на меня навсегда грустное впечатление. К тому же в это время умерла сестра бабушки, княгиня Варвара Дмитриевна Гагарина, в 15 верстах от Красного, и мы с Варей были на всех похоронных службах. Помню, что
313
6-го июля Яша уехал на лошадях прямо в Рязань, а оттуда должен был ехать в Москву, я же с Варей пошел гулять по дороге к Мишину — имение тоже Гагариных, но других, а именно родителей моего будущего beau-frère, — как вдруг увидали бегущую к нам девушку сестры, Парашу, жившую у нас еще когда Варя не была замужем. Она махала какой-то телеграммой. Телеграмма была от Трубецких и заключала лишь 4 слова: «Ждем Вашего брата восьмого». В одну минуту я собрался, путь был не близкий, станция была в 35 верстах, лошадей не было, приходилось ехать в телеге на рабочих, но все это казалось мне сверхкомфортом, раз я ехал в Калугу. Никогда не забуду, что отъехав от Красного, я увидал в том направлении зарево и все-таки не вернулся, боясь опоздать на поезд. Телеграмма о моем возвращении пришла одновременно со мной, так что я совершенно неожиданно подкатил на почтовых в Сергиевское во время обеда. Как это глупо, но я помню, что подавали лапшу и ватрушки, и этот суп всегда заставляет меня вспомнить то чувство, с которым я тогда подъезжал к Сергиевскому. Рассказал все родителям, уже потихоньку от бабушки, и было решено, что я ночью на лошадях поеду в Калугу, чтобы поспеть к ранней обедне, которую, я знал, постоянно посещала моя будущая невеста. Так и сделал. Уехал я не совсем с добрым чувством; Папа́ меня спросил: «А очень ты ее любишь?» Мне тон его не понравился, самый вопрос показался пошлым, совершенно не гармонирующим с тем возвышенным чувством, которое, казалось, меня наполняло, и я очень резко сказал, что я на такие вопросы отвечать не могу. Попал я в Калугу рано, и к началу обедни был в церкви Одигитрии, где стоял около самого входного тамбура. Очень скоро мимо меня прошла княжна со своим младшим братом; он вернулся покупать свечку и тогда увидал меня. Я дождался конца и выхода Лизы, чтобы подойти и спросить, так ли я понял телеграмму, и «C’est pour une heure, princesse, n’est-ce-pas?» — сказал я и, получив утвердительный ответ, побрел обратно к «Кулону», где в полном одиночестве дождался назначенного часа. Повез меня извозчик Семен, который так и остался моим жениховским извозчиком и все время меня уже и возил. Подъехал к их дому, меня провели на террасу, куда скоро пришла и княгиня; она хотела меня видеть предварительно, чтобы дать мне понять, как я должен быть осторожен, и внушить мне, что я не могу удовлетвориться согласием дочери, если оно будет выражено по жалости ко мне. Это вполне гармонировало с моим чувством, почему я успокоил княгиню, а когда пришла ее дочь, мы прошли беседовать в загородный сад. Должны мы были вернуться вновь на террасу, потому что и дождик пошел, да кроме того был страх какой-то бешеной собаки, и буфетчик Константин, по требованию князя, нас разыскивал. Вернулись мы на террасу, между нами лежала книга «Revue des deux mondes», открытая на статье «Louis II de Bavière»; обоим нам это врезалось в память. Кончился разговор наш тем, что княжна велела мне пойти поискать ее мать. Княгиня вышла, и когда дочь ей сказала: «Мама́, благослови нас», она как-то схватилась за виски и пошатнулась. Помню ее возглас: «Как!», а ко мне: «Et vos parents?», я поспешил ее успокоить, что мои родители все знают, а поведение их довольно красноречиво говорит об их согласии. Тогда она нас перекрестила, позвала мужа, который вышел со словами: «Давно этого желал, ну, слава Богу!», но тут же спешно убежал в кабинет, где ждал его полицмейстер с каким-то спешным докладом, по дороге выслал людей
314
гонять корову, зашедшую в цветник, и он, мне когда-то такой страшный, сразу мне показался близким, самым простым. Пришла Лидия Алексеевна Лопухина поздравлять нас, позвали младших дочерей и княгиня встретила их словами: «Ну, поздравляйте, он — жених Лизы». В какой-нибудь час времени все перевернулось, и я, только что далекий, чужой, оказался родным, близким этой семье. Родителям своим и Варе я тотчас же телеграфировал; от моей же невесты, с которой мы тут же, так же как и с остальными братьями и сестрами, перешли по именам и на «ты», я узнал, какие были обо мне разговоры, и так все это было ново, радостно, так все, что казалось далеким и невозможным, стало близким и осуществилось, что я сам себя чувствовал каким-то новым существом. Поехали мы вдвоем с Лизой в тот же день вечером к Александру Ивановичу Ростиславову. Как он нас сердечно принял и обласкал, никогда не забуду. По дороге встретили мы одну из княжон Горчаковых, посему наша помолвка стала известной, и когда мы вернулись, застали уже нескольких приехавших нас поздравлять и, между прочим, Софью Семеновну Яковлеву, с тех пор еще больше меня невзлюбившую. Она, намекая на то, что ее брат Николай был влюблен в Лизу, рассказывала, что когда они узнали о моей помолвке, «он так и покатился, надел поддевку и уехал в Знаменское»; причем тут была поддевка, так и осталось тайной.
Вечером, провожая меня, князь дал мне портрет моей невесты в большом платке. Портрет этот стоит всегда у меня на письменном столе. Лиза же проводила меня до подъезда и мы в первый раз с ней друг друга перекрестили. Хотел я всем объявить о своем счастье. Семен извозчик уже знал от трубецковских людей; у «Кулона» старый лакей Иван так и не поверил, когда я ему сказал и показал портрет, и лишь на следующий день, увидав моих родителей, убедился в правдивости моих слов.
На следующий день, то есть 9-го июля, приехали мои родители, на вокзал выехала их встретить Лиза со своим отцом; Папа́ поехал отдельно на извозчике, а мы вчетвером в коляске Трубецких; мне было совершенно ново чувство, узнавая из разговоров старого князя, что обо мне в их семье говорили раньше и я был для него желанный жених. Благословили нас, причем молебен служил Александр Иванович Ростиславов. После благословения родители с обеих сторон стали говорить нам по имени и на «ты», а также и князь с моим отцом перешли на «ты». Началось счастливое жениховское время. Почти ежедневно приезжал кто-нибудь из семьи: приехала моя сестра, приехала старшая сестра Лизы — Тоня Самарина с дочерью, ежедневно заезжали калужские знакомые с поздравлением, получались вороха телеграмм, нас с Лизой, понятно, поздравляли, шли нескончаемые рассказы о том, как совершилось наше жениховство. Узнал я тогда, что еще 11-го июня, пред приездом Лизы к нам, Станкевич приезжал к ее матери, прося руки Лизы для одного из своих сыновей; княгиня ему очень мягко отказала; ночью в загородном саду кто-то стрелял, и Сережа дразнил Лизу, что это застрелился ею отверженный жених, а сам, едучи с ней на пароходе, особенно ее ласкал, чувствуя, что что-то важное в ее жизни совершается. Рассказали мне как, когда я подъехал 9-го июля, все играли в теннис с Погореловым, бывшим ротным командиром второго Лизиного брата — Жени, и, услыхав стук экипажа, все встрепенулись, а маленькая Марина с верхнего балкона крикнула: «Осоргин приехал!» Братья Лизы,
315
зная, что ожидается решительный разговор, увели Погорелова к себе во флигель, где, видя, что он не уезжает, один из них, а именно Женя, откровенно ему сказал: «Петр Иванович, оставьте нас одних, моя сестра делается невестой». Показали мне ряд обширных телеграмм Капнистов (родная тетка Лизы), особенно ее любивших, где спрашивали, кто я такой и в чем дело. Узнал я, что ввиду моего бурного натиска и ухаживания княгиня, совершенно меня не знавшая и слышавшая только калужские сплетни, что я будто бы разорил своего отца, ездила к Елене Абрамовне Деляновой узнать что-нибудь про меня. Я, со своей стороны, рассказал Лизе, как я ухаживал за Ольгой Хвощинской и [про] мой последний к ним визит 24-го июня после спектакля. Ольга Николаевна и после замужества не переставала кокетничать и просила меня завезти ее по дороге в Лаврентьев монастырь, где была похоронена ее сестра Мясоедова. По дороге, вспоминая наши юные годы, она стала меня уговаривать жениться на Ольге Трубецкой и утешиться созвучием имен, ибо у меня будет жена Ольга Николаевна. Я ничего ей не ответил, но она, бедная, была очень сконфужена, когда приехала поздравить нас уже женихами. Муж ее Абрам ввалился к Трубецким полупьяный, целовал меня и, как всегда, оригинальничал. Приезжали и тетушки моей невесты — Самарина, Раевская, заставили нас повторить отдельные куплеты и ensembles’и оперетки, и, надо сознаться, это совершенно не вязалось с нашим тогдашним настроением. Мы предпочитали сидеть вдвоем и говорить без конца.
Скоро состоялась поездка всех нас в Сергиевское. Княгиня, графиня Эмилия Алексеевна Капнист, Ольга, Лиза и я должны были ехать на лошадях, а Тоня Самарина с мужем на следующий день пароходом. Мы предпочли ехать вдвоем с Лизой в тарантасе, и помню, с каким волнением я подъехал к Сергиевскому. На мосту около машины путь нам преградило целое стадо уток, я приказал хоть давить их, но не останавливаться. Подъезд дома был разукрашен гирляндами и цветами и на нем ожидали Мама́, Варя, Нюничка и крошечная Муся с букетом цветов, который она поднесла «à ma nouvelle tante». В гостиной ждала нас бабушка, которая благословила нас старинным Осоргинским образом Иерусалимской Божьей Матери; при ней состояла Ольга Николаевна Гурьева. Папа́ отсутствовал, он был в Москве для покупки жениховских подарков. Платон Евграфович, понятно, угостил нас своим фейерверком, весь вечер приходили нас поздравлять все служащие и все крестьянские общества; я им представлял Лизу, просил их любить ее и жаловать, они задаривали нас полотенцами, курами и яйцами, взамен их угощали в конторе, и до поздней ночи вся усадьба оглашалась пением хороводов. На следующий день приехали Самарины, и с ними вместе мы с обратным пароходом вернулись в Калугу. Скоро Папа́ прислал мне с Семеном подарки, которые я должен был поднести Лизе, ее братьям и сестрам. Надел я ей на руку золотой браслет, как бы приковав ее к себе окончательно. К 22-му июля мы вновь приехали в Сергиевское, я — днем раньше, и это была наша первая разлука. 22-го я их встретил на станции, поднес Лизе букет и обрадовался ей, словно год ее не видал. Ее мать с юношеской экзальтацией переживала все наши ощущения и только радовалась на нас. Действительно, наше счастье с избытком переливалось и на других, и мы, по словам всех, сияли и радовали всех окружающих. 23-го я с Лизой и ее матерью поехали на пароходе в Москву, где
316
надо было ей шить приданое. Сережа Трубецкой с моей сестрой в тот же день уехали с поездом в Клекотки, откуда Варя должна была ехать в Красное, а Сережа к своей тетушке Самариной. С парохода около Алексина мы видели поезд их и махали друг другу платками. На пароходе мы встретились с Николаем Петровичем Булгаковым, о котором я писал прежде. Помню, как он в Серпухове поставил меня в неловкое положение: мы там все вместе обедали, он спросил шампанского выпить за наше здоровье, а потом, обращаясь ко мне отдельно, поднял бокал за мою прежнюю даму; я, не понимая, что это относится к «Dame Blanche», кавалергардскому фантому, покраснел и стал отрицать существование таковой; вышло очень неловко и глупо. Трубецкие остановились на квартире Капнистов, а я у Наумова. Нам с Лизой предоставлена была полная свобода, ездили мы всюду вдвоем, и только для поездки в Богородск, к сестре ее Самариной, ее мать потребовала шапрона, и таковым вызвалась быть моя сестра. В Москву приехали и мои родители, сделав кошмарное путешествие, так как перед их поездом снесло какой-то железнодорожный мост на Курской дороге, и ожидали они восстановления пути около суток, растеряв свои вещи. Папа́ с Варей все разъезжали по Москве, делая разные покупки для свадьбы, Мама́ целыми днями сидела дома в компании дяди Саши Наумова, крайне скучала, и к тому же в отсутствие дяди Мити — полупьяного. Помню, как он сконфузился, когда приехала Лиза с ним знакомиться, и на мое требование перейти с ним на «ты», Лиза сказала ему: «Дядя, сядь», а он ничего на нашел более подходящего, чтобы подчеркнуть переход на «ты», как сказать: «Сяду», за что тут же был осмеян Мама́. По секрету я сделал свой большой портрет и, так как должен был выехать днем раньше, чтобы заехать в Сергиевское, отослал его в Калугу Ольге Трубецкой, прося ее поставить его в комнате Лизы. До отъезда из Москвы мы ездили в Узкое к ее старшему брату Петру и туда же приехали нас повидать сестры его жены — княжны Оболенские. Вторая разлука, длившаяся меньше двух дней, казалась мне бесконечной, но надо было сговориться окончательно с моими родителями о дальнейших наших планах. Я имел честность сказать им, что моя будущая belle-mère считала бы желательным, чтобы первый год прожили мы одни, и они не только не оскорбились такой моей откровенности, но сочли такое желание вполне естественным и тут же решили на зиму переехать в Калугу, предоставив нам Сергиевское, которое переходило в мое владение; я тогда не соображал, находясь в полном угаре своего счастья, какая это была ломка их жизни, особенно с бабушкой, почти недвижимой. Свадьбу решено было сделать в Калуге 27-го августа, поздравление устроить в Дворянском собрании, ибо брать большую квартиру на одну зиму не стоило; после свадьбы ехать нам с женой в Крым, а затем окончательно водвориться с ней в Сергиевском. Вернувшись к своей невесте, мы с ней говели у нашего общего духовника и законоучителя Александра Ивановича Ростиславова, ездили с ней вдвоем ко всем службам, для чего я рано утром со своим постоянным извозчиком Семеном (жил я у «Кулона») приезжал за ней, стучал к ней в окошко, выходящее на террасу, и мы с ней ехали к ранней обедне. Присоседился к нам для говенья и брат ее Женя, который меня недолюбливал; перед исповедью мы с ним объяснились, крепко обнялись, а впоследствии прочно подружились.
317
К свадьбе съехалось много родных моей невесты, с моей же стороны приехали Яша и Варя, дядя Митя Жемчужников, понятно, Нюничка, Геннадий Владимирович Грудев, о котором упомянуто выше, и в качестве шаферов два брата Коробьиных и мой товарищ по полку Гернгросс. В самый день свадьбы я все-таки был у своей невесты утром, говорил с ней, подтверждая ей, что если она меня не любит, есть еще время отказать; потом вновь исповедовался у Ростиславлева, который дал мне завет: искупать свое счастье, делая возможно больше добрых дел, и с волнением, вопреки всем традициям, получил дома благословение сначала дяди Мити Жемчужникова, благословившего меня образом, переходившим в их семье от дяди к племяннику, затем со слезами благословили меня Папа́ и Мама́ и, наконец, Яша и Варя как посаженые, с которыми я и поехал в церковь. Венчание происходило в Воскресенской церкви у Ростиславлева; как сейчас вижу Лизу, входящую под руку с отцом, от которого я и принял ее, а затем, по окончании обручения, услышал проникновенный взволнованный голос Ростиславлева, покрывшего наши руки епитрахилью и вводящего нас в церковь с возгласом: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». Он нас обоих очень любил и в этой его одухотворенной службе сказалась вся сила его любви и горячность его молитвы за наше счастье. Передать все чувства, пережитые в эти минуты, невозможно; они не поддаются описанию, это было ощущение как бы соединения с самим Богом, невидимо присутствующим и благословляющим в будущие века христианский брак и новую угодную ему семью.
После свадьбы поехали мы в Дворянское собрание, где встретили нас с образом уже мои родители; для приема поздравления была открыта малая зала; и она, и лестница к ней были уставлены всеми декоративными деревьями нашей оранжереи, перевезенными для этого в Калугу на барке; было не менее ста кадок померанцевых, лимонных, апельсинных деревьев, которые в большинстве на обратном пути погибли от мороза. Народа было много, приглашена была вся Калуга, и даже в зале Дворянского собрания было тесно. В тот же день мы должны были выехать в Крым; соответствующего поезда не было, и по просьбе моего тестя Управление дороги назначило экстренный поезд, где предоставило нам два вагона; было нас только двое и при нас горничная моей жены, временная, так как настоящая горничная перед самой свадьбой заболела и взамен себя послала свою сестру. Приехали мы в Тулу в 6 часов утра, где должны были ждать скорого поезда на Харьков до 3-х часов дня. В Калуге все нас провожали, вокзал был ярко освещен, мы с Лизой обходили и благодарили всех провожающих; ни моя мать, ни мать моей жены на вокзале не были, обеим эти проводы были слишком тяжелы, хотя моя belle-mère вместе с дочерью Ольгой и с сестрами Капнист и Лопухиной должна была через несколько дней догнать нас в Крыму и прожить там вместе с нами месяца полтора. И по Курской дороге, и по Харьковской (тогда в Харькове была пересадка) везде нам были готовы купе, и путешествие было самое приятное. Правда, в Курске пришлось необычно ночью тоже пересаживаться благодаря загоревшейся оси у нас в вагоне, но и тут нам предоставили все удобства. 30-го августа в 12 часов дня подъехали мы к Севастополю; в этот день уже в 9 часов утра, открыв окошко в Симферополе, нас охватил аромат крымской природы, и после уже довольно холодной калужской осени мы сразу почувствовали
318
южную жару. Севастополь по случаю Царского дня был весь разукрашен флагами, бухта же с военными кораблями, расцвеченными по-праздничному, произвела на нас сильное впечатление и вполне гармонировала с тем счастливым настроением, которое не переставало нас охватывать.
Дальнейшая поездка была не так удачна: пароходного путешествия из Севастополя в Ялту мы боялись по непривычке к качке; лошадей для проезда мы не могли найти, и нам посоветовали ехать на почтовых, взяв лишь ландо для проезда без пересадки. Так мы и сделали. Первая станция, кончающаяся ущельем, показалась нам очень красивой при лунном освещении, но сменных лошадей не было, и пришлось надолго остановиться; мы уже торопились на следующую станцию Байдары в надежде передохнуть там в гостинице и утром смотреть восход солнца в море — зрелище, особенно рекомендуемое для всех приезжающих первый раз в Крым. В Байдары мы попали так поздно, что места в гостинице не нашли и дождались мы восхода солнца, устроившись кое-как в своем экипаже. Действительно, впечатление грандиозности моря, сразу развертывающегося необъятной картиной, как только переедешь через портал Байдарских ворот, высеченных в скале, потрясает, но сам восход солнца, к тому же подымающегося в это время года не из моря, а из-за соседней скалы, ничего особенного из себя не представляет, и проводить из-за этой минуты бессонную ночь совершенно не стоит. Выехали мы из Байдар одни из первых, почему дальнейшей задержки в лошадях не встретили, но уже подъезжая к Ялте, вблизи Ливадии, ямщик-татарин спохватился, что выронил одно место нашего багажа, пришлось ему ехать обратно разыскивать, и мы под солнцепеком ждали его посреди шоссе около часу; только часам к трем добрались мы до Ялты, где в гостинице «Россия» нас ждал уже заранее заказанный апартамент; увы! вид из него был не на море, а на горы, что для нас, впервые видевших море, было большое разочарование. Все-таки и то, что мы видели с нашего балкона, как-то уборка винограда, перевозка его на маленьких осликах, проезжающие татарки с опущенными чадрами, татары в своих живописных костюмах — все это казалось нам сказкой. Большую часть времени мы все-таки проводили на море, меня вечный шум прибоя немного раздражал, Лиза же прямо не могла оторваться от этого вида. Дней через пять приехала и моя теща; подъехала она совершенно неожиданно вечером, когда мы сидели на главной веранде гостиницы, эффектно освещенной, и слушали музыку. Встреча была необыкновенно радостна, и потом моя belle-mère всегда говорила, что подъезд ее к гостинице «Россия» и встреча ею на ступеньках Лизы показались ей какой-то феерией. Провела она только одну ночь и потом проехала в Гурзуф, где у них была взята дача, обещав постараться и нам таковую найти поблизости.
Гурзуф принадлежал тогда Петру Ионовичу Губонину; он и его жена Марина Севастьяновна были совершенно простые люди из крестьянского сословия; он колоссально разбогател на подрядах и в то время, когда я с ним познакомился, был несколько раз миллионером; дядя моей жены граф Павел Алексеевич Капнист, с которым я встретился впервые, как писал выше, у Жукова, за какие-то крупные пожертвования Губонина на постройку клиник Московского университета выхлопотал ему чин тайного советника. Петр Ионович был безмерно предан графу Капнисту, но не возгордился. Помню, как он на оханье своей жены,
319

Михаил Михайлович Осоргин с сыновьями Мишей и Сережей.
Сергиевское, 1890.
Частное собрание, Париж
что ее утомит путешествие в ландо в Симферополь, при всех осадил ее словами: «А помнишь, матушка моя, как мы с тобой в молодости ездили на базар в телеге гусей продавать, ведь ты тогда не охала, а теперь тебе и в ландо трудно». Этот Губонин из желания угодить графу Капнисту и нам с женой предоставил у себя помещение сначала в строящейся еще гостинице, а потом и маленькую отдельную дачу, рядом с той, которую занимала моя belle-mère, так что мы скоро переехали в Гурзуф. Наша дача была маленькая, очень уютная, всего из трех комнат, но с прелестным балконом на море. Как радостно было по утрам пить кофе на этом балконе и наблюдать величественную картину моря, на котором всегда можно было увидать целый ряд кораблей, пароходов, шхун; освещение постоянно менялось и разнообразие световых эффектов было поразительно. Обедали мы и вечера проводили на большой даче у матери жены. Она с сестрами не могла налюбоваться на наше счастье; действительно, и для нее, не расстающейся благодаря этому с дочерью и воочию видящей ее счастье, это была особенно счастливая пора; никто, как она, не умел восторгаться красотами природы, передав эту чуткость своей одаренной натуры и своим детям. В первую месячную годовщину нашей свадьбы, 27-го сентября, мы должны были принимать их у себя и отпраздновать этот день семейным у нас шоколадом; пока все это устраивалось в нашем крошечном помещении, пошли мы с женой на берег моря, где бросая камешки, я потерял свое обручальное кольцо. Я так был потрясен этим, я так был убежден,
320
что это предзнаменование какого-то несчастья, что прямо места себе не находил; утешался лишь тем, что этот перстень изображал «Поликратов перстень», и утратой его я искупал столь незаслуженное счастье, выпавшее на мою долю; все-таки по моему поручению орава мальчишек разыскивала его, но все было напрасно, и я написал отцу моему, прося его заказать у того же ювелира точь-в-точь такое же обручальное кольцо, освятить его на том же престоле Воскресенской церкви, и, когда мы вернулись с женой в Калугу, мы вновь с ней обменялись кольцами три раза и надел я его уже на левую руку, боясь вновь его потерять.
После Крыма предполагали мы ехать за границу с женой, заграничный паспорт был уже готов, деньги для поездки тоже, но меня охватила такая тоска по родителям, что я всячески стал отговаривать жену от этой поездки. К тому же в это время на границе Австрии вспыхнула холера, было опасение попасть в карантин; отец же мой писал мне, что он уволил управляющего Краузе, и ликвидация урожая должна лежать на мне. Родители с той и другой стороны явно были рады, если бы мы от этой поездки отказались; одна только Лиза продолжала мечтать о ней, но и она сдалась, и было решено в октябре месяце возвращаться домой. А как она была права! Могли мы тогда совершить радостную, беззаботную поездку, оба мы заграницы не знали, так как мои детские впечатления о чужих краях были самые туманные, она же из России никогда не выезжала; и мы всего этого лишились навсегда, потому что, когда пошли дети, о совместной с ними поездке и думать нечего было по недостатку средств; когда же мы с ней впоследствии по предписанию докторов вдвоем поехали, тоска по детям отравила всю прелесть путешествия. Я был виновником того, что мы этого лишились, и каюсь в этом, но решение было принято, и в октябре через Симферополь вернулись мы тем же путем в Калугу. Как едучи в Крым, мы ехали в тепло к солнцу, что соответствовало нашему радужному настроению, так на обратном пути мы все более были охвачены холодом, слякотью неприглядной русской осени. В Калуге остановились мы у моих родителей, которые несказанно нам обрадовались; но Лизе тяжело было быть в родном городе и не жить в родном гнезде, а приезжать к своим братьям и сестрам лишь как гостья. Чувство это усугубилось в ней, когда вернулась из Крыма ее мать, с которой она была особенно близка. На будущее время мы решили поочередно останавливаться то у моих, то у ее родителей и тем достигнуть известной справедливости. Повидав основательно и своих и ее родных, поехали мы в Сергиевское окончательно туда водворяться. За день до того поехали мои родители, чтобы нас встретить. Весь дом был отоплен, нам была отделана наша новая спальня, уборная жены и рядом с ней из последней генеральской — ей будуар; вторая генеральская была обращена в маленькую чайную, где мы и обедали, когда были вдвоем; в коридоре рядом со спальней было устроено помещение для горничной, которая спозаранку перевезла туда все приданое жены; мой кабинет и уборная были вновь отделаны моей офицерской мебелью, остальная же часть дома оставалась открытой для приема могущих к нам приехать родственников; Семен был переведен в комнату бабушки, чтобы та половина не оставалась бы слишком необитаемой; в помещении конторы рядом со спальней была устроена дверь с секретным замком, дабы я мог проходить теплым ходом туда, но оттуда дверь не открывалась без ключа, который был у меня; между
321
кабинетом и конторой был проведен циферблатный телеграф, некогда служивший у дедушки Волконского на недооборудованной суконной фабрике; он никогда исправно не действовал, и я перестал им пользоваться. Персонал наш состоял, кроме горничной жены Александры Астаховой и моего вечного Семена, из Евмения, молодого повара Павла, экономки Эмилии Петровны, кучера Алексея и Варвары-прачки; при Алексее помощником был Владимир Глебов, брат Михайлы-старосты, только что окончивший военную службу в Уланском полку; управляющий Краузе был уволен, оставался лишь конторщик Пивинский, долженствовавший соединить в себе под моим руководством и функции управляющего. Лесничий Карл Иванович уехал в Москву поговеть и уже несколько месяцев как безвестно отсутствовал, все розыски его ни к чему не привели, и заменен он был лесным приказчиком Степаном Федоровым Тереховым из деревни Жильниково; остальные служащие, как-то староста Михайло, ключник Иван Иванов, машинист Памфил Антипов, объездчик Наум и садовник Иван Степанов со своими помощниками, были те же.
Встретила нас в Ферзикове карета в сопровождении Пивинского и Михайлы; на границе имения нас приветствовал Степан Федоров с убитым им зайцем, проехали мы прямо в церковь, где все духовенство, имея во главе уже заштатного священника Дмитрия Васильевича Извекова, ждало нас в облачении и отслужило молебен пред храмовой иконой в зимней церкви, так как летняя была уже заперта; икона эта помещалась тогда на столбе против Калужской Божьей Матери. В доме нас ожидали Папа́ и Мама́ с иконой и хлебом с солью и сами водворили нас на нашу новую жизнь; собраны были все служащие и Папа́ им заявил, что отныне я владелец имения, а Лиза их новая хозяйка. Вечером во всем доме зажжены были все лампы, и мне радостно было видеть все по-старому, но только в обновленном, светлом виде; в гостиной были поставлены мраморные вазы между колоннами, подарок моей сестры, там же рядом с нашим старым эрардом стояло и новое собственное фортепьяно моей жены; спальня, уборная и будуар жены были заново отделаны московским меблировщиком Обермельтом; все блистало новизной и чистотой; дом — была полная чаша, и во всем сказывалась заботливая, любящая рука моих родителей. На следующий день они уехали. Провожал я их с тоской, мне больно было сознавать, что я их как бы сжил с насиженного гнезда, но они были рады видеть наше довольство всем и уехали, обласкав нас, как могли.
Началась моя новая жизнь женатым человеком. Но прежде чем перейти к ее описанию, постараюсь, как могу, для внуков и потомков дать понятие о той моей новой семье, с которой я породнился и которая впоследствии стала мне столь же близка, как и моя собственная. Несомненно, уклад трубецковской семьи имел доминирующее влияние на те формы, в которые вылилась наша новая жизнь с женой; только прослеживая с вниманием столкновение двух новых семей при браке, можно дать себе отчет, почему всякая новая семья отличается от прежнего родительского гнезда, и уловить то благотворное столкновение новых семейных элементов, которые каждому новому поколению, при правильном отношении, должны дать поступательное движение к улучшению семейного начала. Думаю, что редко новое поколение может стать на уровень с предыдущим, но от смешения
322
двух укладов получается если не такая цельность, как была в предыдущем поколении, то, во всяком случае, польза и что-то новое, иногда благотворное. Пусть потомки мои сами оценят и делают выводы из того, что буду описывать.
Родители моей жены, князь Николай Петрович Трубецкой и княгиня Софья Алексеевна, урожденная Лопухина, были коренные москвичи. Родители князя, князь Петр Иванович, женатый на графине Эмилии Петровне Витгенштейн, дочери знаменитого фельдмаршала Отечественной войны [1812 года], были очень богатые люди старого деспотического уклада, жили в Москве в своем родовом доме на Пресне, а по летам — в подмосковном имении Ахтырке; я их обоих не знал, они умерли задолго до моей свадьбы, но слышал довольно много рассказов про них от моей жены. Старик-князь был крутого нрава, очень взбалмошный, и склонялся только пред своей женой, на которой и лежали все заботы по управлению состоянием; всю жизнь он был военным, и только после продолжительного губернаторства в Харькове и Орле, зло описанного Лесковым, переходя на службу в Московский сенат, переименован был в гражданский чин, что повергло его в отчаяние, и успокоился он лишь тогда, когда получил обратно военный мундир. Переезды его в Ахтырку обставлены были особой торжественностью: только для него и открывались главные ворота, и особые махальщики давали знать, когда поднять флаг на доме. По особому церемониалу праздновался в его присутствии 2-го июня храмовой праздник Ахтырской Божьей Матери, во время которого он, восседая на балконе, смотрел на крестьянские игры и жаловал некоторых к своей руке. Говорят, он был очень эгоистичен, жил по строго распределенному времени, не отступая от порядка дня ни в каком случае. Когда моя жена, ребенком, жила с родителями в Ахтырке по летам, старик-князь был уже вдовец и приезжал туда на один-полтора месяца, живя отдельно в большом доме и так же строго придерживаясь распорядка своего дня. Очень картинно и образно описана эта совместная жизнь в Ахтырке моим beau-frère’ом Женей Трубецким в своих воспоминаниях. Княгиня Эмилия Петровна скончалась неожиданно на почтовой станции на юге во время своего обычного объезда многочисленных имений. Как я сказал, в семье она играла доминирующую роль, и по отношению своих детей главной ее заботой было устройство их брака, причем выбирала она людей с состоянием.
Кроме моего тестя у них были следующие дети: 1) князь Петр, женат был первым браком тоже на Трубецкой, от которой были у него две дочери, из которых одна вышла уже в зрелых годах замуж за князя Прозоровского-Голицына; но князь Петр очень скоро бросил свою жену, кажется, развелся с нею и женился на американке, с которой потом всегда и жил в Швейцарии; от нее у него было три сына, из коих один, Павел, прославился потом как скульптор; его я знал и посещал его студию, когда он лепил памятник Александру III, воздвигнутый на Знаменской площади в Петербурге; 2) князь Александр, женатый на Веселовской, жил всегда в Харькове, где был губернским предводителем дворянства; были у него три дочери: Эмилия, Мария и Вера; с первыми двумя я познакомился, как писал уже, у Софьи Петровны Шиповой; с Марией Александровной потом очень подружился в Харькове, о чем будет речь впереди, и там же встретился с младшей, Верой, которая была тогда уже замужем за Гудим-Левковичем.
323
Эта последняя была совершенно не похожа на сестру, и молва говорила, что она не была дочерью своего отца; старшая, Эмилия, погибла трагически в имении Рогозянко, где все три сестры жили вместе после смерти своих родителей; ими особенно занималась тогда родная их тетка Зиновьева, и между Эмилией и старшим сыном Зиновьевой был роман; Мария Петровна Зиновьева не давала своего согласия на брак; Эмилия заболела какой-то горловой болезнью; привезенный спешно из Харькова врач, видя неизбежность операции и не захватив с собой инструментов, вскрыл ей горло ножницами, отчего она тут же и скончалась. В семье до сих пор упорно утверждают, что она блуждает по дому, часто видя ее приникшей к наружным окнам и наблюдающей за внутренней жизнью семьи; тетка ее Зиновьева была неутешна и упрекала себя, что препятствовала браку сына с ней; 3) князь Иван женат был на Мельгуновой, взял за женой громадное состояние, но скоро совершенно разорился, впал в нищету, и братья его, особенно мой тесть, должны были его выручать, почему состояние моего тестя сильно пошатнулось; князь Иван был очень одаренной натурой, и его разорению способствовало его увлечение музыкой; в своем симбирском имении у него был свой оркестр, художественно исполнявший серьезный классический репертуар — до симфоний Бетховена включительно; эта музыка стала в той местности так[ой] обыденной, что часто можно было слышать крестьянских парней, насвистывающих какую-нибудь тему из «Эгмонта» или «Фиделио». Исполнение этих концертов обставлялось самой причудливой, фантастической обстановкой, напоминавшей в малом размере размах Екатерининских празднеств. У них было три сына, один рано умер морским офицером, другие же два были постоянной заботой моего тестя, старавшегося как-нибудь поставить их на ноги, но вышли они какими-то неудачниками. Князя Ивана я знал, был у него с женой, когда уж он совсем был плох, и посещение его, умирающего, как-то в моем воображении всегда связывалось с описанием в «Анне Карениной» смерти брата Левина; показался он мне каким-то громадным, беспомощно борющимся со смертельным недугом и оплакивающим прожитую бесполезную жизнь. В семье моей жены его звали «дядя брат Иван», подчеркивая этим как бы особую близость его к моему тестю; вдова его кончила жизнь во вдовьем доме; 4) князь Павел, младший, женат был на разведенной Иловайской, был у него один сын. Когда-то он, дядя моей жены, служил московским уездным предводителем дворянства, но после претерпенного им фиаско при выборах в губернские предводители дворянства покинул службу по выборам, переселился в свои бессарабские и херсонские имения, где плодотворно работал, значительно двинув в этой местности, в области земской деятельности, целый ряд вопросов по развитию культурности и интенсивности хозяйства. Московское дворянство, действительно, поступило с ним непозволительно; он, хотя один из старших по времени выборов уездных предводителей, по присущей ему скромности никогда и не мечтал занять пост губернского предводителя и если решился поставить свою кандидатуру, то только после усиленных просьб дворян, настойчиво требовавших от него как председательствующего выручить собрание из трудного положения; ввиду единодушных просьб он согласился и был так же единодушно забаллотирован, после чего, разочарованный в службе по выборам, навсегда покинул Москву; я его видел, когда он наездом приезжал к моему тестю
324
уже глухим стариком; 5) княжна Мария была замужем за Зиновьевым, попечителем округа в Харькове; ее я хорошо знал, но уже вдовой; она была замечательно почтенная старушка, жила в Москве в своем доме в переулке близ Поварской, а летом в своем бессарабском имении; старший ее сын и был женихом своей двоюродной сестры Эмилии, а потом впал в сектантство и давал много забот своей матери. Другие же две дочери, Эмилия и Мария, были замужем: первая за Бельгардом, а вторая — за Шамшиным; последняя [была] феноменально глупа, о ее словечках ходили постоянные рассказы в семье; одна из ее дочерей вышла потом за графа Комаровского, служившего в Гродно под моим начальством, и ее мы все очень любили. Эмилия Павловна Бельгард была болезненно рассеянна, но подкупающе добра, а муж ее своим честным благожелательным характером вполне соответствовал своей жене, и оба были везде исключительно любимыми. К нему я неоднократно вернусь в моих харьковских и тульских воспоминаниях, где нас судьба с ним сталкивала. Тетушка Мария Петровна скончалась одной из последних в этом поколении, в глубокой старости, пользовалась всеобщим уважением в семье, а сама она всех, как умела, ласкала; занималась она живописью и своими картинками украшала все стены своего дома. Дом был старинный, с традиционной залой с хорами и гостиной за аркой, [но] по скупости ее всегда плохо отапливался, почему по зимам они сидели и принимали в душегрейках. Она была даже богата, увеличив свое собственное хозяйство умелым ведением дел и к тому же выиграв 200 тысяч в лотерею; при ней всегда была dame de compagnie, с которой она всюду и разъезжала, посещая ежедневно церковь. Прислуга вся была допотопная, но преданная и вполне гармонирующая с обстановкой; 6 и 7) были еще две дочери, вышедшие [замуж], первая за Винклера, вторая — за князя Долгорукого; Винклер, говорят, был до того управляющим своей жены, и она, боясь за mésalliance, переехала с ним в Швейцарию, порвав со всей семьей; сын ее бывал потом в Москве, но я его не видал; вторая умерла в ранних годах, оставив двух дочерей, вышедших замуж, одна — за Волжина, предпоследнего обер-прокурора Святейшего Синода дореволюционного периода, а вторая вышла за Хвостова, раненного злоумышленником в бытность его черниговским губернатором, после чего он вышел в отставку и поселился с женой в своем орловском имении, славившемся красотой на всю Россию.
Тесть мой воспитывался в Пажеском корпусе, откуда был выпущен в Преображенский полк. Про себя он рассказывал, что часто в Корпусе бывал наказан «за саркастический взгляд и насмешливую улыбку». Когда жизнь в гвардейском полку стала внушать опасения его матери, она вызвала его к себе в Москву, а затем вскорости женила на колоссально богатой графине Орловой-Денисовой; от этого брака у моего тестя родилось трое детей: дочь Софья, сын Петр и дочь Мария; после рождения последней дочери первая жена моего тестя скончалась и, умирая, просила свою сестру графиню Толстую взять ее детей на воспитание, и мужа уговаривала вторично жениться, видя, как ему необходима семейная обстановка. Хотя по рассказам они были очень счастливы, мой тесть никогда про свою первую жену не рассказывал, и в доме его даже не было ни одного ее портрета. Вскоре он познакомился с семьей Лопухиных, безумно влюбился в старшую дочь Софью Алексеевну, неотступно стал за ней ухаживать и добился ее согласия. Моя
325
теща всегда рассказывала, что она даже согласия не давала, но, объяснившись с ней, мой beau-père на все ее сомнения стал так бурно ее благодарить, что родители ее, желавшие этого брака, думая, что объяснение кончено, вошли, поздравили их и благословили. Я его всегда исключительно любил и считал и считаю его из ряду вон выходящей личностью как по нравственным качествам, так и по талантливости натуры; он был в полном смысле слова крупный алмаз, столь яркий по свету, что не нуждался ни в какой шлифовке, чтобы светить людям; внутренней работы, я думаю, в нем было немного, анализа еще меньше, но и без оных поступить дурно он не мог, так как благородство, доброта и прямота были само его существо; они не были ему присущи, а были его свойствами, он никогда ни одного своего желания не скрывал, ибо у него не было дурных желаний; он всякое свое намерение осуществлял с настойчивостью и, слава Богу, потому что всякое намерение его было на благо. Хотя он стоял довольно далеко от детей, его влияние, несомненно, было громадное, недостаточно сознанное всеми, ибо он был как бы явным примером того, чем надобно быть. Зная по рассказам строй его семьи, он представляется каким-то членом ее, стоящим совсем особняком, почему вполне возможно, что чувство к его второй жене и влияние ее дали ему еще больше просветления, почему, отделившись от своих родителей, его духовные врожденные качества пышно расцвели, а то, что было наносное, заглохло; на нем, более чем на ком-нибудь, сказалось, что искра Божия при благоприятной жизненной обстановке развивается в яркий пламень. Ко всем его нравственным достоинствам примешивалась и еще больше способствовала их развитию талантливость его натуры. Он любил все красивое, наслаждался цветами, но, главным образом, прислушивался он к музыке. Сам он когда-то пел, композировал романсы, а потом обратился в тонкого ценителя настоящей хорошей музыки. Был он другом Николая Григорьевича Рубинштейна и вместе с ним основателем Русского Музыкального общества, войдя в состав его первой дирекции; оба брата Рубинштейны часто посещали его дом; по рассказам моей жены, они, дети, с самого раннего возраста как обычное явление, привыкли у себя слушать камерную музыку в исполнении лучших музыкальных сил. Родители Софьи Алексеевны, Алексей Александрович и Варвара Александровна Лопухины, тоже умерли до моей свадьбы, так что о них я знаю лишь по рассказам жены; это была на редкость дружная и любящая друг друга парочка, звали их Philemon et Baucis, так как до старости лет они были почти неразлучные, а когда редко расставались, встреча их была трогательная; умерли они на коротком расстоянии друг от друга. Старик Лопухин долгое время занимал должность прокурора Синодальной конторы в Москве, затем жил в своем собственном доме на Молчановке, а по летам — в маленьком подмосковном имении Подольского уезда Меньшове; рассказывали, что для него освобождение крестьян было серьезным переломом в жизни, так как он совсем не мог примениться к новым хозяйственным условиям. Состояние его было небольшое; он, всегда находясь на службе, не имел возможности во все сам входить; дела запутывались, на все он махнул рукой и, не находя в себе силы переменить образ жизни, обуреваем был минутами мрачного настроения, граничащего с мизантропией. Запирался он у себя в спальне и на несколько дней ложился в постель, не желая никого видеть; это всегда случалось, когда требовались деньги на расход, а их
326
обыкновенно в доме не было; тогда вся семья, до бабушки жены включительно, не знали, как к нему приступить; часто выручала старая нянюшка Секлетея Васильевна, которая брала на себя смелость войти к нему в комнату. В обычное время он был человек необычайно добрый и всякого приезжающего к нему обласкивал как самого близкого, родного. Бывали случаи, что совершенно незнакомый человек, завезенный кем-нибудь к нему, поселялся у него на несколько дней, а когда уезжал, дедушка благословлял и провожал его с волнением, как сына; но вспыльчивый его характер и частая ипохондрия отдалили от него младших детей, и они его до того боялись, что младший сын Сергей, оставшись на второй год, скрывал это от отца и, когда дальше скрывать было невозможно, убежал из дома; вернулся же лишь после вмешательства матери, которая все уладила и успокоила мужа. Варвара Александровна, по рассказам, была замечательная женщина; урожденная она была княжна Оболенская, падчерица той княгини Наталии Петровны, о которой я упоминал в моих детских калужских воспоминаниях; семья Оболенских была очень большая и со всеми разветвлениями составляла такую громадную величину, что не было почти уголка в России, где не было бы каких-нибудь их родственников. Варвара Александровна была одной из старших, другая сестра была [замужем] за Евреиновым, третья — за графом Зубовым и четвертая, незамужняя, была та самая тетушка, для которой устраивался спектакль в Калуге у Трубецких. Братьев у нее было несколько: князь Василий, бездетный, женатый на княжне Голицыной, всю жизнь свою проживший в Могилевской губернии, где служил предводителем дворянства; князь Сергей, женатый на Мезенцевой, отец любимого флигель-адъютанта императора Александра III Владимира Оболенского, о котором я уже писал; князь Димитрий, женатый на княжне Дарии Петровне Трубецкой, отец моего товарища Коти; князь Михаил, женатый на Стурдзе; с его сыном Иваном я столкнулся впоследствии на служебном поприще, почему к этой семье вернусь в дальнейших воспоминаниях; и 5) младший, князь Юрий, женатый на Бегичевой, которого я хорошо знал — очень остроумный старик, всюду всегда опаздывавший и всегда в долгах. Варвара Александровна внесла в семью Лопухиных талантливость, добродушие и родственность семьи Оболенских; ее ласковости, говорят, не было границ, но и доброта ее, как палка о двух концах, иногда шла во вред собственным детям. Не имея возможности кормить младшего сына, она взяла ему кормилицу, а ребенка последней сама стала прикармливать; потом так мучалась, что, быть может, сделала ему вред, так как запрещено ей было докторами кормить своего сына ввиду плохого качества ее молока, что пристрастилась к этому ребенку со всем горячим чувством раскаяния; выкормила она его на славу, вырос он у них на положении родного сына и, избалованный ею, стал тираном не только всех детей Лопухиных, но и самих стариков; умер этот приемыш после их кончины уже вполне взрослым, очень таинственно, в имении, где был ненавидим старыми преданными лопухинскими слугами.
У моей belle-mère было три брата и четыре сестры: старший, Александр, женат был на Елизавете Дмитриевне Голохвастовой, имел несколько сыновей: 1) Алексея, женатого на княжне Урусовой (известный директор Департамента полиции, потом сосланный в Сибирь), с ним связано много моих дальнейших воспоминаний; 2) Димитрия, женатого на княжне Султан-Гирей и убитого в начале
327
[Первой мировой] войны вместе с сыном своим Георгием; 3) Виктора, женатого на еврейке Гессен, о нем тоже будет речь впереди; 4—5) Бориса и Юрия, доживавших свой век старыми холостяками. Сам Александр Алексеевич когда-то был выдающимся юристом; его имя гремело в юридическом мире как крупная величина, но, не ужившись с женой и не имея надежды получить развод в России, добился он такового от Константинопольского патриарха и женился на другой; ни развод, ни брак не были признаны русским правительством, и сошел он со сцены всеми забытый, отвергнутый своими братьями и сестрами, и поставив своих сыновей, любивших и гордившихся им, но вместе с тем понимавших правоту своей матери, прямо в трагичное положение; этот разлад семейный наложил на них печать и они были всегда мучениками между домом и чувствами. Второй брат моей belle-mère, Борис, женат был на Протасовой, но ни ее, ни его детей я совершенно не знал, и вообще они никакой роли в семье не играли. Младший брат Сергей, всего на семь лет старше меня, женат был на графине Барановой, имел одиннадцать человек детей, из коих старший, Николай, и женился на моей дочери, почему об этой семье буду писать подробно впоследствии.
Из сестер старшая, Мария Алексеевна, крестная мать моей жены, умерла до моей свадьбы, почему я ее и не знал; она была горбатая, очень умная, с большим практическим смыслом и энергией, и была в семье уважаема и почитаема; никогда она замуж не вышла, жили они вдвоем с другой сестрой, Лидией Алексеевной, которая, в противоположность своей старшей сестре, была совершенно беспомощная, не способная жить одной, и когда Мария Алексеевна умерла, всегда жила у какой-нибудь сестры. Тетю Лидию я не только хорошо знал, но и всей душой любил, и она мне тем же отплачивала. Говорили, что у нее когда-то было скрытое ото всех чувство к Николаю Григорьевичу Рубинштейну, и с его смертью она стала как-то слабеть; действительно, она была всегда немощная, слабенькая, но сколько в ней было прелести, ласковости, доброты, как она умела теплым словом, теплым взглядом привлечь к себе и обласкать; в ней был положительный талант эпистолярный, она так умела описывать какое-нибудь семейное торжество, семейный съезд, передавая несколькими словами все настроение события, что ее письма стали ценным вкладом в семейную хронику, и с ее смертью вся семья понесла крупную утрату; и в Сергиевском она у нас побывала и очаровала моих родителей.
Следующая сестра, Эмилия Алексеевна, вышедшая замуж за Павла Алексеевича Капниста, вернувшего себе впоследствии титул графа, была такая же ласковая и кроме того имела прямо талант очаровывать всех к ней приближавшихся; потеряла она двух дочерей, и это навсегда наложило на нее печать какого-то неизжитого горя; благодаря этому она с еще большей страстностью привязалась к своим племянницам Трубецким и, главное, к моей жене: ее любвеобильное сердце страстно желало видеть своих сыновей Алексея и Дмитрия женатыми, готова она была привязаться со всей страстью к будущим внукам, но судьба не дала ей этой радости, и умерла она до рождения внуков. Муж ее был человек серьезного ума, с крупным государственным смыслом, и где бы ни ставила его судьба на служебном поприще, везде он играл выдающуюся роль; начал он свою службу в Министерстве юстиции, быстро подвигался вперед и вдруг неожиданно, по особому
328
настоянию свыше, перешел на пост попечителя Московского учебного округа, совершенно не подготовленный и не знакомый с этой деятельностью; благодаря своему природному уму он быстро схватил новое дело, привел округ в порядок, успокоил университет и оставил по себе вечную память постройкой всех клиник на Девичьем поле. Он был смел до необычайности и, когда на что-нибудь решался, бесстрашно принимал на себя всю ответственность. В бытность императора Александра III в Москве Капнист, несмотря на неспокойное настроение студентов, настаивал на посещении императором университета, говоря, что игнорирование этого старого рассадника науки было бы непростительно для хозяина земли Русской. Ни генерал-губернатор, ни министр народного просвещения, ни министр внутренних дел не брались докладывать такое ходатайство государю, считая это домогательство совершенно безрассудным, почему дядя Капнист повел дело через флигель-адъютанта Владимира Оболенского; государь посетил университет, слушал там студенческий оркестр, образцово поставленный Дромаксдефером, вся охрана лежала на самих студентах, порядок был выдающийся, и никогда, я думаю, в стенах университета не принимали государя с таким энтузиазмом, а Капнист стал среди студентов наипопулярнейшим человеком. Но насколько он умел вести служебные дела, настолько свои личные он совершенно запутал, окончательно разорился, и его братья и сестры спасли его от нищеты, заплатив его долги и взяв в управление его любимое имение в Полтавской губернии Обуховку, где были похоронены его дочери; потеря Обуховки была последняя драма для тети Эмилии, которая не могла примириться до конца жизни с этой мыслью. Капнисты так часто бывали и живали у нас, что к ним буду возвращаться не раз. При них жила и младшая сестра Лопухина Ольга, занимаясь своими племянницами и заменяя, где могла, свою сестру, часто болевшую; вышла она замуж за Андрея Сергеевича Озерова, приходившегося ей троюродным братом, и умерла бездетной еще до моей свадьбы, так что я ее совсем не знал.
Но из всех своих сестер и братьев самая выдающаяся, головой выше других, была мать моей жены; она была высокого роста, очень красива, с чудными вьющимися волосами и с таким достоинством в лице, что всякий подходящий к ней чувствовал какое-то стеснение. Стеснение это имело основанием не боязнь к ней, а сознание ее превосходства; насколько ее муж был чужд анализа, настолько в ней были интенсивная внутренняя работа и постоянное самоуглубление: умение ее наслаждаться красотой природы было своего рода служением Богу и исканием во всем его присутствия. Проведя веселую молодость в вечно наполненном молодежью доме родителей, с момента своей свадьбы и рождения первого сына она вся отдалась семье, готовясь к своему материнству и к воспитанию детей как к некоему служению; в этом деле для нее не было мелочей, все было важно; малейший недостаток, поступок детей вырастал в ее глазах в серьезное событие. Но глубоко поучительно было одновременно и ее смирение; она неоднократно высказывала мысль, что мы не должны ослабевать в своих трудах, не должны прекращать своих исканий, но результаты предоставлять на волю Божью, зная, что он один совершит и управит все на благо. Ее вдумчивость благотворно соединялась с большой природной веселостью; она никогда не унывала и даже в самые тяжелые минуты забот и беспокойств умела внести нужное веселье и скрасить окружающим
329
жизнь. В ней, несомненно, была экзальтированность, но не приторная, обыденная, напускная, а лишь такая, которая подтверждала чуткость ее натуры, воспринимающей сильнее других внешние явления; в ней не было никакой мелочности и потому что бы она ни делала, казалось именно таким, как следует; она не была экспансивна и даже не особенно ласкова, но и не осуждала и лишь близким своим высказывала всегда правду, считая своей обязанностью оберегать своих детей, родных и вхожих, от зла или от увлечения; зато малейшее с ее стороны одобрение, высказанное иногда даже не словом, а лишь взглядом, было действительно наградой; вела она обширную переписку с сестрами своими, а потом и с детьми, когда они женились и вышли замуж, и столько в этих письмах есть ценных мыслей, что сохраняются они в семье как нравственный клад, из которого в тяжелые минуты сомнений можно черпать силы и указания для дальнейшей жизненной борьбы.
Вот эти два лица, князь Николай Петрович и княгиня Софья Алексеевна, казавшиеся разными по характеру, но столь сродные по цели в жизни, к которой первый шел бессознательно, а которую вторая наметила и продумала всем своим нравственным существом, и создали ту новую семью, в которой родилась, выросла, воспиталась и развилась моя жена.
Прежде чем перейти к братьям и сестрам моей жены, надо коснуться тех их родственных семей, с которыми они были особенно близки и которые из всей многочисленной родни сплотились с ними более других. Первые, о ком приходится упомянуть, это Самарины. Из двух сестер Нелединских-Мелецких одна была замужем за прадедом моей жены, князем Александром Петровичем Оболенским, другая же была замужем за Федором Васильевичем Самариным. У нее были сыновья Юрий, Михаил, Александр, Владимир, Николай, Петр, Дмитрий и дочери, из которых одна, Мария, была замужем за графом Соллогубом. Наибольшая близость к семье Трубецких установилась в семье Дмитрия Федоровича и с Петром Федоровичем; последний был женат на Александре Павловне (Лине) Евреиновой, любимой двоюродной сестре моей тещи; были они бездетны, и как тетушка Эмилия Алексеевна Капнист всю свою неиспользованную материнскую нежность обратила на старших дочерей Трубецких, так тетя Лина Самарина сделала это по отношению к младшим дочерям; обеих их я хорошо знал, часто у нас они бывали. Петр Федорович был выдающийся, умный человек с крупными аналитическими способностями, всеми был ценим и уважаем, но никогда не сыграл той видной роли, которой был предназначен по своим врожденным способностям; обвиняли в этом его жену, любившую его столь страстно и с такой материнской заботой, что боялась для него всегда утомления, почему насильственно отрывала от всякой деятельности, как только ей казалось, что она грозит его здоровью; сама Александра Павловна, женщина необычайно добрая, всю жизнь страдала астмой, увлекала часто мужа за границу, где они вечно странствовали и будучи очень богатыми баловали, одаривали своих племянников и племянниц, являясь всегда в ту минуту, когда нужны были ласка или помощь. Дмитрий Федорович женат был на Варваре Петровне Ермоловой; строй их семьи был старинный, патриархальный, с преклонением пред властью отца, который хотя не представлял из себя деспота, но своей тяжеловесной рассудительностью накладывал на весь
330
характер семьи печать какой-то такой сдержанности, что всякий смех и юношеское веселье казались неуместными; тетя Эмилия Капнист очень метко говорила, что скука в семье Самариных подлежит мировому судье. Но несмотря на эти не совсем нормальные условия, вся семья была необыкновенно почтенна и казалась таким столпом семейного начала, что все их почитали; дети их, хотя приходились троюродными моей belle-mère, по возрасту подходили к нашему поколению и были друзьями моей жены, ее братьев и сестер, а старший из них, Федор, за два года до меня женился на старшей сестре моей жены.
Другая семья, хотя жившая не в Москве, а в Петербурге, но проводившая лета в Калужской губернии, была особенно дружна с детьми Трубецких и долгое время, пока всех не размежевала жизнь по разным краям, они часто встречались и много общего делали вместе; семья эта были дети князя Дмитрия Александровича Оболенского, о котором я указывал выше. Старика-князя я не знал, но его жену княгиню Дарью Петровну, по прозванию тетя Долли, я часто видал и очень ценил. Она была очень оригинальная женщина: смесь самых лучших побуждений и христианских поступков с поразительным легкомыслием и светской пустотой; воспитывалась она у своей тетушки графини Протасовой, статс-дамы государыни, игравшей видную роль в петербургском и придворном свете; всю свою жизнь прожила она у нее в доме, занимая с мужем и детьми лишь отдельный апартамент; братья ее мужа, перефразируя ее уменьшительное имя, называли ее «горькой долей брата Дмитрия», намекая на то, что она не сумела создать семейного очага; гоняясь за светским успехом и богатством, некоторых своих детей она раздала своим близким родственникам, от которых они впоследствии и унаследовали состояния. Старший, князь Александр, женатый на Половцовой, и Варвара, [замужем] за Бибиковым, держались по отношению к поколению моей жены как дядюшки и тетушки, другие же — Елизавета, [замужем] за Новосильцевым, Алексей, женатый на Салтыковой, Николай, мой товарищ, и Мария — за Гагариным, хотя и говорили моей belle-mère «Соня, ты», были друзьями и товарищами ее детей. Такое же несоответствие возраста поколений наблюдалось в другой семье Оболенских, а именно в дочерях Владимира Андреевича Оболенского, двоюродного дяди моей тещи. Он был женат на вдове Рахмановой, урожденной Миллер; падчерица его была уже взрослая и вышла потом замуж за графа Апраксина; его же родные дочери Софья (сошедшая с ума), Прасковья, Александра и Елизавета были самыми близкими к братьям и сестрам моей жены, все детство росли вместе, живя одновременно в Москве, и впоследствии две из них и вышли замуж за братьев моей жены. Родственность, присущая характеру Оболенских, связывала семью Трубецких со многими, и меня лично эта родственность, эта семейная теплота очень подкупали; помню, как во время моего свадебного путешествия везде при проезде мы были кем-нибудь встречены и обдуманы. В Туле нас обласкали родной дядя жены с семьей — Сергей Алексеевич Лопухин и двоюродная тетушка жены Елена Павловна Раевская, урожденная Евреинова; в Орле нас приветствовала с букетом и поздравлениями Елизавета Дмитриевна Лопухина с сыновьями; в Курске только поздний час нашего проезда помешал Дмитрию Павловичу Евреинову с женой Софьей Михайловной, урожденной Булыгиной, выехать на вокзал нас поздравить, о чем он писал моей belle-mère; в Харькове его брат Александр
331
Павлович не только нас встретил, но и родственно обдумал, устроив нам купе и украсив его поднесенными им цветами; а в самой Ялте beau-frère тети Эмилии, граф Дмитрий Алексеевич Капнист, милейший и добрейший старый холостяк, заказал и сам выбрал нам апартамент (увы, не на море), встретив нас с цветами и обдумав, как мог, наше дальнейшее пребывание в Ялте.

Гувернантка Анна Давыдовна Томи с Мишей,
Соней, Сережей и Льяной.
Сергиевское, 1892. Частное собрание, Париж
Понятно, такая родственность и обширность семьи имели благотворное влияние, создавая в детской атмосфере жены, ее братьев и сестер сознание обширности круга близких и любящих людей и вместе с тем внося впечатление разных особенностей родственных семей, живущих не в одинаковых условиях, что способствовало разнообразию оценки людей и побуждало по родственному чувству в каждом из них найти то хорошее, которое следовало оценить.
У жены моей были четыре брата и семь сестер, из них старшие, София, Петр и Мария, были ей лишь единокровны, из остальных жена была четвертая: старше ее были Сергей, Евгений и Антонина, а моложе Ольга, Варвара, Александра, Григорий и Марина. Родители моей жены жили постоянно в Москве, а летом в Ахтырке; тесть мой где-то числился на службе, но главное у него занятие и интерес в жизни была музыка; с моей belle-mère он и познакомился на репетициях симфонического концерта; дети его первого брака не жили с ним, но к своей мачехе питали самое нежное чувство и звали ее «Мама́»; воспитывала их тетка графиня Толстая, но для всех важных решений их судьбы призывался графиней
332
арбитром их отец. Говорят, что моя belle-mère после свадьбы своей, состоявшейся 30-го апреля 1861 года, очень жалела, что не может отдать себя их воспитанию, но воля первой жены ее мужа была ясно выражена, преступать ее нельзя было, и скорое рождение ее первого сына Сергея, 23-го июня 1862 года, наполнило всю ее жизнь; в 1863-году в сентябре родился второй сын Евгений, в 1864-м, 1-го сентября — дочь Антонина и в 1865-м, 13 августа — моя жена; эти четверо и составили самые дружные две парочки; к ним потом присоединилась следующая сестра Ольга, родившаяся в апреле 1867-го года; остальные уже составили младшее поколение, которыми занимались не только мать, но и старшие сестры — главное, моя жена. Детство первого пятка было безоблачное счастье, не омраченное ничем; нянюшка их — Федосья Степановна, благообразная болтливая старушка, называвшая себя «потомственной» трубецковской няней, вносила в их детскую жизнь все то лучшее, что в смысле ласки, уюта, баловства, приправленного безобидной ворчливостью, присуще русской нянюшке, типу совершенно ныне утраченному. Мать, почти с ними неразлучная, все-таки окружена была в их глазах таким ореолом, что казалась, несмотря на всю к ним близость, для них недосягаема, и авторитет ее был безграничен; отец, хотя очень далекий строем своей жизни, вечно чем-то наполненной, занятой, в их детских глазах представлялся творящим свое мужское дело важное и для них еще непонятное; и музыкальный мир, введенный им в семью, создал атмосферу красоты искусства, благодаря которой в детях развилась настоящая любовь ко всему прекрасному.
До 1877 года, года рождения последней дочери Марины, семья Трубецких, как я говорил, жила по зимам в Москве, а по летам в Ахтырке; только одно лето они провели в области Войска Донского, в имении Сидора, купленном их отцом; новизна впечатлений очень заинтересовала детей, и хотя лето это сопровождалось целым рядом волнений и беспокойств и кончилось грандиозным пожаром, жена моя любит об этом вспоминать, подчеркивая красоту и своеобразность той природы. В это время, благодаря разорению князя Ивана Петровича Трубецкого и неумелому управлению своих дел, состояние моего тестя настолько пошатнулось, что было принято героическое решение продать Ахтырку, а самому старику-князю поступить на службу; продажа Ахтырки, где прошли все детские годы детей, счастливые молодые годы родителей моей жены, была крупной жертвой, но они всегда, приняв какое-нибудь решение, поняв его необходимость, исполняли предпринятое без колебаний и без нытья. Ахтырка была продана, тесть мой получил назначение калужским вице-губернатором и вся семья переехала в Калугу, где безвыездно прожила десять лет, переехав в Москву лишь через год после моей свадьбы. Казалось, что, привыкши к московской жизни, где сосредоточились все их интересы и связи, не зная совершенно провинции, столь своеобразной в России и, к сожалению сказать, столь мелочной, мещанской, трудно будет семье привыкнуть к новым условиям и примениться к ним, а тестю моему, почти уже пятидесяти лет, тягостно будет после вполне свободной жизни начать службу. Но эта семья умела сама себе довлеть, и в Калуге она осталась та же; родственные связи не только не ослабли, но еще теснее стали, ибо постоянно к ним приезжали и жили у них ближайшие родственники; все сосредоточилось на воспитании и образовании детей, и провинции был явлен пример образованной семьи, живущей
333
высшими интересами; их дом был всегда открыт, без всяких приемов, для каждого, желающего отдохнуть, пожить чем-нибудь более интересным, чем провинциальные сплетни и пересуды. Сам князь не мог обойтись без музыки, основал Музыкальное общество, старые его приятели до Рубинштейна включительно посещали его, и Калуга зажила благодаря ему более интересной жизнью, чем до их приезда. Память пребывания их в Калуге жива до сих пор, целый ряд благотворительных учреждений осуществился благодаря им, причем участие в таковых не сводилось к простому основанию и организации таких учреждений и собиранию средств для их существования, а в живом личном участии и в живой работе, которая также связывала семью с этим добрым делом; жена моя и сестры ее, когда подросли, сами давали уроки в своей школе, а летом собирали около себя детей, особенно нуждавшихся в подготовлении, и занимались с ними; скольких, таким образом, они образовали и поставили на ноги, и не перечислишь.
Жена моя всегда говорит, что это было особенно счастливое время; жили они сначала в переулке недалеко от Воскресенской улицы в большом доме Квасникова, а затем переехали на загородную улицу, где заняли весь дом Кологривова со всеми флигелями и садом, летом же переезжали на губернаторскую дачу за загородным садом, которая была отцом их вся отремонтирована и приспособлена к их большой семье. Впрочем, требования их были небольшие, вся жизнь их была самая простая, никогда никаких особых frais ни для кого не делалось, как они жили одни, так они и жили на народе. В начале их жизни в Калуге дела их пришли в такое расстройство, что назревал вопрос об отдаче дочерей в институт ввиду опасений, что средств на их образование дома не хватит. Впрочем, старший сын Петр, обладавший большим состоянием от матери, и настоял, чтобы был принят от него капитал в сто тысяч рублей, дабы дать возможность сестрам продолжать свое образование дома. Когда же настало время старшим сыновьям поступать в университет, а старшим дочерям докончить свое образование, послушав и повидав то, что в Калуге нельзя было иметь, сыновья переехали в Москву к тетушкам Лопухиным, а дочери каждую зиму ездили на месяц, на два к тетушке Капнист, брали уроки музыки, посещали концерты, театры, выезжали и веселились; с какой радостью они ехали в Москву, с такою же радостью возвращались они после шумного веселья в Калугу к тихой семейной жизни. В эти пребывания их в Москве у Капнистов образовали они из родных и близких знакомых как бы кружок и ставили шарады. Шарады эти со временем превратились в настоящие импровизированные спектакли, обставленные доморощенными средствами, но с таким художественным чутьем, что приобрели общую славу, и попасть на них, получив приглашение графини, считалось особенной удачей. Сочинителем текста, главным образом, был Сережа Трубецкой, блестящий всегда остроумием; сотрудничал ему граф Федор Соллогуб, коего мать была Самарина, но давали они большей частью лишь канву, детали же импровизировались самими исполнителями; композитором и аккомпаниатором был неизменно Николай Андреевич Кислинский, крупный музыкальный талант, к сожалению, растратившийся на мелочи; он был товарищем Трубецких по университету; декоратором и бутафором был всегда сам дядя Капнист, умевший из самых пустяков устроить замечательные декоративные эффекты; исполнителями, кроме Трубецких, были мальчики Лопухины, Соллогуб,
334
Самарин, Оболенские, вся выезжавшая в то время молодежь и даже старики, как, например, Петр Федорович Самарин и Николай Васильевич Давыдов. В их кружке от роли не отказывались, всякий обязан был подчиниться требованиям и указаниям души этого дела Сережи Трубецкого. Можно себе представить, как такое веселье, требовавшее и напряжения творческих сил, способствовало развитию и ума, и талантливости. Жена всегда вспоминает об этих московских увлечениях как об особенно веселом времени. В 1885 году после такой одной шарады «Арека» старшая сестра жены вышла замуж за Ф. Д. Самарина; эта свадьба, особенно счастливое событие в семье, была и крупным горем для жены ввиду разлуки с любимой сестрой, с которой они делили в детстве и юности все вместе. Понятно потому то волнение, которое она испытала в первый свой приезд в Сергиевское, получив известие о рождении первой своей родной племянницы. Когда я женился, старшие дети от первого брака Н. П. Трубецкого были уже замужем и женаты: Соня была уже замужем за Владимиром Петровичем Глебовым, старшим братом моего товарища, и имела уже несколько детей; она была и есть очень веселая, предприимчивая, энергичная; муж ее был на редкость красивый, с большой хозяйственной сметкой, благодаря коей устроил сам громадное состояние, удесятерив свои и женины средства; жили они по зимам в своем собственном доме на Молчановке, а лето и осень проводили в одном из многочисленных имений, где оканчивали свое пребывание всегда грандиозной охотой с борзыми.
Дом на Молчановке с увеличением семьи постоянно увеличивали пристройками, и кончилось тем, что обстроенная кругом новыми комнатами столовая оказалась без окон и пришлось осветить ее, устроив над ней стеклянный фонарь в крыше. Все их дети в настоящее время, кроме двух младших, Сережи и Саши, уже давно женаты и замужем и имеют детей. Старшая, Лина, замужем за сыном Льва Николаевича Толстого Михаилом; второй, Петр, женат был на Треповой, развелся с ней и женился на разведенной жене своего двоюродного брата Кристи, урожденной Михалковой; третья дочь, Люба, замужем за Сашей Голицыным, внуком Елены Абрамовны Деляновой; четвертая, Соня, — за графом Олсуфьевым, пятая, Мария, — за Писаревым, и сын Владимир женат на Михалковой, единокровной сестре жены старшего брата. Вторая дочь моего тестя, Маня, вышла замуж за Григория Ивановича Кристи; брак этот долго встречал препятствие со стороны ее тетушки графини Толстой и моего тестя: он, Кристи, был совершенно неизвестен, семья его, бессарабского происхождения, никаких связей и отношений к московскому обществу не имела, [и], по-видимому, принадлежала к совершенно другой среде, почему и опасались такого неизвестного нового члена семьи; но настойчивость Мани все превозмогла, и брак был совершен; действительно, муж ее стоял как-то особняком, во многом не походил на окружающую среду, но оказался очень добрым малым, вполне порядочным, и были они очень счастливы. Детей у них было четверо: старший, Владимир, развелся с женой, которая вышла замуж за Петю Глебова, и вновь женился, на ком — не знаю; причиной его развода была такая семейная драма, что о ней в своем месте подробно расскажу; второй, Григорий, женат на Стахович; третья, дочь Соня, вышла замуж недавно за Чоколова, а младший сын, по прозвищу Тося, до сих пор не женат. Жили Кристи прежде всегда в Москве, где он был дмитровским предводителем дворянства, а после
335
кратковременного губернаторства в Орле — московским губернатором, затем по получении назначения сенатором переехал в Петербург, где скоро и умер.
Сын Петр из всех детей первого брака моего тестя был ближе всех к родным братьям и сестрам моей жены, а с моей женой одно время был особенно близок; он часто навещал их в Калуге, пришел, как я сказал выше, в нужную минуту на помощь, а когда они бывали в Москве, всячески старался их веселить; несомненно, что воспитание, полученное им у своей тетушки графини Толстой, настолько разнилось с семейным строем, введенным моей belle-mère, что Петя во многом отличался от других братьев моей жены и некоторыми своими свойствами коробил их, но природная доброта и талантливость натуры его отца и в нем сказались, причем талантливость в нем выразилась в каком-то особенном его умении объединять и ютить людей, совершенно различных по взглядам и убеждениям. У него в доме и в его присутствии все смягчалось и обсуждение всякого жгучего вопроса лишено было страстности; эта особенность сказалась, когда он был московским губернским предводителем дворянства; положил он в то время начало объединению всего дворянства в России, организовав вначале частные, а потом и официальные съезды всех губернских предводителей; когда же он был избран в Государственный Совет, он продолжал свою деятельность и там в том же роде, и в его доме много было сглажено трений и принято общих решений членами Государственного Совета, причем сам, далеко не обладая государственным умом, он редко способствовал тому или иному решению вопроса, а лишь смягчал столкновения, мирил слишком ярых противников и всегда старался подыскать ту равнодействующую, которая могла бы удовлетворить всех. Недаром его в шутку, на ушко, прозывали «губернский предводитель дворянства Государственного Совета». Умер он в расцвете сил, многое еще мог бы сделать, но жизнь его пресеклась при самых драматических обстоятельствах, о которых в свое время подробно расскажу. Женат он был на княжне Александре Владимировне Оболенской, одной из детских подруг моей жены, о которой писал выше; она, хотя страдавшая заиканием, умела быть верной помощницей мужа в его общественной деятельности, всегда любезно и с большим достоинством принимая всех его сослуживцев и гостей; и она и он были очень богаты, что дало ей возможность поставить свой дом на широкую ногу, но с большим вкусом и благородством; ее светская жизнь не мешала ей заниматься воспитанием своих детей, на которых она положила много забот, глубоко продуманных, и для которых она до сих пор, несмотря на то, что почти все они замужем и женаты, непреложный авторитет. Старший ее сын Володя женат на Маше Лопухиной, дочери младшего брата моей belle-mère; вторая, Соня, была невестой Писарева (женившегося потом на Глебовой), но после нескольких месяцев жениховства ему отказала и вышла замуж за графа Ламздорфа: отказ ее первому жениху был для ее отца, особенно его любившего, большим горем; он, как только дали согласие Писареву, решил отпраздновать это казавшееся ему счастливое событие по-старинному; было устроено в их имении Узком в присутствии приглашенных родных и знакомых, которых набралось несколько сот человек, торжественное обручение в церкви; обратное шествие обрученных со всеми гостями из церкви по аллеям парка в дом на жениховский пир снято было кинематографом; много стоило потом труда семье, когда свадьба расстроилась, скупить
336
и прекратить демонстрирование этой ленты. Третья, Люба, самая красивая и талантливая из них, замужем за князем Оболенским, сыном князя Александра Дмитриевича Оболенского, о котором писал выше; и он и она хорошие музыканты, она пианистка, он скрипач, и приятно видеть их музицирующих вместе. Четвертая дочь, Александра, которую так же, как и ее мать, зовут по уменьшительному «Татей», недавно к огорчению всей семьи вышла замуж за Тимашева, сына моего товарища и друга, но, к сожалению, совсем другого уклада, проведшего всю свою молодость бурно, женившегося до того на цыганке, с которой развелся потом, и мало подававшего надежды на прочное семейное счастье. Младший сын, Николай, не женат, он, как сходный по имени и отчеству со своим дедушкой, моим тестем, был всегда его любимым внуком; в семье есть фотография двух Николаев Петровичей, снятых вместе: деда и внука.
Из родных сестер и братьев жены одна только Тоня, как я сказал, была уже замужем, когда я женился. Она была прелестна, в полном смысле слова красавица, веселая, с большим юмором и задором, но и с серьезным фоном характера; к сожалению, после рождения первого же ребенка, дочери Сони, она стала болеть, и я не помню ее иначе как особенно оберегаемой, а часто и серьезно недомогающей в постели, но все это она переносила с истинным христианским смирением, и веселость ее не покидала. Ее муж Федя был совершенно выдающийся человек, он всю жизнь с молодых лет казался каким-то патриархом с каким-то проникновенным духовным взглядом, обращенным как бы во внутрь души, на нем воочию сказалась правда, что высокие душевные качества делают человека благообразным; он был таковым в самом широком значении слова — и по виду, и по действиям, и по мыслям; с ним я был особенно дружен, почему неоднократно к нему вернусь.
Таким образом, когда я женился, семья, жившая вместе, состояла из трех братьев и четырех сестер; старший из них, Сережа, уже готовился к магистерскому экзамену, он был любимцем всей семьи и умел сочетать глубокую ученость, постоянную вдумчивость с неподдельной веселостью и с такой любовью и лаской ко всем, что всякий, подходивший к нему, чувствовал себя согретым; в дальнейшей своей жизни он приобрел доминирующее влияние в обществе мыслящих людей, и роль его в истории России за период времени начала этого столетия далеко не маленькая. Второй брат, Евгений, всегда тянулся за старшим, хотя далеко не был так умен, как первый; и он готовился к магистерскому экзамену, потом стал известным профессором, увлекавшим своих слушателей как талантливостью изложения, так и темпераментом речи; несомненно, талантливость его была исключительная, а чистота всех его побуждений была неоспорима, но все-таки он был тяжеловесен и, главное, способен был так обособиться, что окружающая его жизнь проходила мимо него и редко он в ней принимал участие. Вторая сестра, следующая за женой, Ольга, в молодости перенесла болезнь, которая оставила на ней след как в походке, так и в движениях, в ней было меньше талантливости остальных сестер и братьев, но зато двойная против остальных настойчивость; ум ее был пытливым; дразнения сестер и братьев заставили ее больше уйти в себя, и она в своем добровольном одиночестве углубилась в книги, почему и стала самой образованной среди своих сестер; она одна в семье осталась незамужней, устроила себе интересную жизнь,
337
посвятив свой досуг обработке всех семейных писем, составляющих теперь ценный архив; кроме того, настойчивым трудом достигла таких результатов в живописи, что это сделалось не только занятием, но и заработком. Младшие дети, Варя, Лина, Гриша и Марина, были еще совершенно детьми, льнули к моей жене, которая была для них любимой сестрой, почему и со мной скоро подружились, но тогда, повторяю, характеры их только складывались; составляли они лишь ту шумную атмосферу дома, благодаря которой дом Трубецких казался всегда в праздничном настроении, что мне, выросшему в такой немногочисленной семье, особенно бросалось в глаза и составляло одну из прелестей новых моих родных.
Кратко описав семью Трубецких и тех родственных начал, из которых она создалась, перехожу к дальнейшему повествованию о своей женатой жизни. После отъезда родителей, водворивших нас в Сергиевское, наладили мы свою новую жизнь с женой, деля время между занятиями по хозяйству прогулками, музыкой и ежедневными чтениями; это была особая прелесть читать с Лизой все то, что, представляя серьезный художественный интерес, для нее до замужества было еще запретным плодом. По вечерам жена моя, хорошая, серьезная музыкантша, много играла и познакомила меня с той концертной музыкой, которая до того была для меня terra incognita. В игре жены доминировала не беглость, как у моей матери, а, главное, умение понять композитора и правильно его интерпретировать. Играли мы с ней в четыре руки, хотя я был по сравнению с ней более чем профан; на маленькой ручной фисгармонии иногда играл я партию скрипки или виолончели и, таким образом, познакомился со всем классическим репертуаром струнных инструментов. Я же знакомил ее с оперной музыкой, которую она мало знала и не очень любила.
К свадьбе дядя Митя Жемчужников прислал нам в подарок четверку лошадей своего завода, и на одной из них, особенно покойной, по имени Ворон, мы ежедневно катались одни, вдвоем, без кучера. Зима была в этом году ранняя, дни с инеем выпадали частые, и катание по нашим большим лесам представляло особенную прелесть. Лиза, до того никогда не жившая зимой в деревне, особенно ценила и восторгалась зимним ландшафтом. Навестила нас моя belle-mère проездом в Москву на вторые роды Тони Самариной, одобрила и оценила наше устройство, провела у нас несколько дней и уехала, обласкав нас, как могла. Помню курьез, как моя жена, не имея никакого понятия о домашнем хозяйстве, к приезду матери заготовила заранее такое количество мяса, что к приезду ее оно оказалось все испорченным; великий конфуз был молодой хозяйки, когда первый поданный обед оказался совершенно несъедобным.
Не могу сказать, чтобы первый год наш был годом беззаботным; на меня пал тяжелый хозяйственный труд; действительно, как писал мне отец в Крым, ни одно зерно из нового урожая не было продано, мне предстояло воспользоваться всем новым доходом, но зато было столько старых счетов, неуплаченного жалованья, что мне приходилось вертеться, как белка в колесе, и, несмотря на нашу более чем скромную вдвоем жизнь, обстоятельства были очень стесненные; к тому же за отсутствием управляющего не было опытного человека, который помог бы мне выпутываться и отстранял бы от меня все неприятные разговоры с лицами, требовавшими денег; это было очень тягостно и потому с удовольствием мы
338
к Рождеству поехали в Калугу, остановившись на этот раз у Трубецких. У Тони Самариной в декабре родилась дочь Варвара, моя belle-mère уже вернулась в Калугу, братья тоже были там, и мы ехали, наслаждаясь всей семьей в сборе. Тем более было радостно на душе, что была полная уверенность в беременности жены, и это новое чувство полноты счастья делало нас даже гордыми. В Калуге я делил свое время между обеими семьями, ежедневно проводя значительную часть времени у своих родителей. Они к тому времени завели уже свою жизнь в Калуге, постоянно принимая разных знакомых и устраивая то маленькие шахматные вечера, то карточные вечера; моя мать любила общество и вместе с этим была так радушна и гостеприимна, что все любили бывать у нее; Папа́ же после своего дневного сна любил поиграть во что-нибудь, и это было для Мама́ постоянной заботой — обдумать его вечер. В этом же доме, где они жили, нанимал маленькую квартиру Митя Полторацкий, уже офицер, обедал у них, а по вечерам в субботу был вечным спутником моей матери ко всенощной; заботы о Мите Полторацком давали пищу материнским чувствам моей матери и она вечно о нем хлопотала. Встреча Нового года была для нас камнем преткновения: встречался он в обеих семьях по-разному; в моей семье, как я писал раньше, был ночью традиционный новогодний молебен, от чего Мама́ и в Калуге не хотела отступать. У Трубецких же в этот день дети устраивали разные гадания и, когда било двенадцать, писали свои желания, сжигали их и съедали пепел; успеть это сделать, пока бьют часы, было верным у них предзнаменованием, что желание исполнится. Мать же моей жены в это время писала записки для каждого из детей родных и вхожих: «Благослови, Господи, венец лета благости Твоея на такой-то год» и потом раздавала и рассылала их (записки эти как память о ней служат у меня заметками в Евангелии). Ночь в той и другой семье кончалась веселым ужином. Жена хотела быть у своих, я стремился встретить Новый год с молебном у своих родителей; возможность начать год молитвой превозмогла, и начинали мы встречу у Папа́ и Мама́, а кончали ужином у Трубецких.
Отпраздновав Рождество, стали подумывать о возвращении в Сергиевское; зима была необыкновенно снежная, почему, чтобы проверить проездность дороги для жены, которую я особенно берег, поехал я один вперед, обещав на следующий день вернуться; это была наша самая первая разлука. Мне стало так невыносимо тоскливо в Сергиевском, что я, пробыв в нем лишь несколько часов, поехал обратно уже на лошадях. Никогда не забуду, как я подъезжал к дому Трубецких, и в переднюю, услыхав мой кашель, выбежала меня встречать Лиза. Казалось, по опыту первой разлуки, что мы не способны на таковые впоследствии, а сколько раз потом обречены мы были на них целыми месяцами, но приходилось благоразумно подчиняться обстоятельствам. Вернулись мы в Сергиевское через несколько дней. В день нашего отъезда разыгралась метель, на станции встретил нас возок и Михаил-староста с рабочими и лопатами, чтобы отгребать в случае нужды дорогу. Огорошил он меня известием, что накануне был у нас пожар и сгорела на гумне часть немолоченной ржи; хотя рожь была застрахована, все-таки убыток был значительный и еще более запутывал денежные обстоятельства. Когда я посетил место пожарища, я был поражен расторопностью наших служащих, сумевших отстоять все гумно и допустивших сгореть лишь двум скирдам,
339

Миша и Сережа Осоргины за игрой в обручи. Сергиевское, 1892.
Частное собрание, Париж
находившимся в середине; очень я их благодарил. В феврале месяце 1887 года после Сретения пришел к нам священник С. А. Ватолин и заявил мне, что я избран церковным старостой, каковую должность я с тех пор бессменно и занимаю; принял я должность от своего предшественника, выбрал себе в помощники очень уважаемого крестьянина деревни Горяиново Петра Дементьева, но тотчас же приступить к занятиям по церковному хозяйству не удалось, так как пришлось нам на время выехать из Сергиевского. Запутанность дел дала мне мысль, что мне необходимо искать службу, а в это время сестра мне писала, что место помощника заведующего Придворным оркестром, которое занимал Киреев, освободилось, и что если я не прочь его занять, она напишет заведующему, барону Штакельбергу, и подготовит почву. Поговорили мы с женой; ее пугал Петербург, но она, главное, думала обо мне и потому, списавшись с моей сестрой Варей, мы двинулись в путь с остановкой в Калуге и Москве. Меня это место особенно прельщало ввиду того, что я предполагал, что главная деятельность будет музыкальная; приходили мне на память наши оркестровые вечера у Шереметева и я весь загорелся от мысли, что впредь музыкальные занятия будут не только забавой, а и серьезным делом. У своих родителей я встретил полное сочувствие, но отношение моей belle-mère было совершенно иное: для нее Петербург, как некий Вавилон, казался местом наименее подходящим для семейного счастья; принципом ее было не вмешиваться в жизнь своих замужних дочерей и тем более не влиять
340
на решения их мужей, почему она меня не отговаривала, но, несомненно, отпустила с болью в сердце и беспокойством. У сестры моей было еще другое предложение, а именно — устроить мне место цензора, для чего использовать свое знакомство в этом кругу. Последний проект больше улыбался моей теще, я же всей душой склонялся к первому. В Москве остановились мы у Капнистов, где я встретил такое несочувствие и даже некую враждебность; последняя имела причиной, главное, что я, торопясь в Петербург с Лизой, не соглашался остаться лишних два дня, чтобы прослушать симфоническую поэму «Манфред», которая должна была исполняться в Большом театре при участии знаменитого трагика Поссарта. Это было целое событие в музыкальном и художественном мире московском; устраивала этот спектакль тетя Эмилия и была она очень обижена, что я не разделил с ней возможности такого события. Предложил я Лизе остаться ей одной в Москве, она на это ни за что не согласилась и покатили мы вдвоем в Петербург. Там на вокзале нас встретила моя сестра, она приезжала в Петербург тоже по служебным делам ее мужа, хлопоча о его продвижении по службе. Варя, как всегда увлекающаяся, встретила нас с известием, что то и другое место почти устроено и от меня зависит лишь выбор, что она уже даже нам и квартиру присмотрела, если я предпочту цензорство, так как в Придворном оркестре я должен был получить казенную. На поверку вышло, что в Придворном оркестре место уже было занято, что мне сообщил письмом барон Штакельберг, а на цензорство не было никакой надежды по отсутствию какой бы то ни было подготовки у меня к такого рода деятельности, и поездка, таким образом, оказалась совершенно напрасной.
Воспользовались мы нашим пребыванием в Петербурге, чтобы побывать у жениных и моих родных и близких, а я, главное, хотел показать Лизе Петербург, как тот город, где прошла вся моя юность. Остановились мы в «Европейской» гостинице как самой центральной, откуда легко было предпринимать поездки; но беременность жены заставляла нас быть очень осторожными. Побывали мы на симфоническом концерте, которым дирижировал Антон Рубинштейн, а пианистом был д’Альбер, исполнявший концерт Бетховена, который и моя жена играла; побывали во Французском театре, где смотрели драму V. Hugo «Ruy Blas»; были у некоторых родных, как-то у тети Долли, которая созвала, чтобы видеть нас, всю семью Оболенских, были у Мани Гагариной, с которой Лиза была всегда особенно дружна; повез я ее к Коробьиным, Ганскау, Левенгагенам; из товарищей женатых были у Тимашевых; представил ее я графине Игнатьевой, своей бывшей полковой командирше и матери моего товарища Гернгросса; показывал я ей весь Петербург, все те улицы, где я жил, Пажеский корпус, гимназию, полковые казармы; сам побывал в артели, посетил всех товарищей, но все время чувствовал, что прежнего интереса не вернешь, что новый строй моей жизни совершенно не вяжется с прежней петербургской жизнью. Лизе все не нравилось после Москвы, интересы были совсем другие, и мы, оба довольные, что переезд на службу в Петербург не удался, без всякого сожаления выехали обратно.
341
Глава VII
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. КАЛУГА
(1887—1897)
В Москве мы вновь остановились у Капнистов; дядя, узнавши о моей служебной неудаче, посоветовал мне причислиться к Министерству народного просвещения в качестве чиновника особых поручений министра и затем просить откомандировать меня в распоряжение попечителя Московского учебного округа; когда же это состоится, в чем дядя обещал мне помощь и гарантировал успех, он откомандирует меня для пользы службы в Калужский уезд, а я, со своей стороны, должен просить уездного предводителя дворянства взять меня своим помощником по учебной части. Совет был очень полезный, так как таким образом я мог заняться интересным для меня делом, пользуясь одновременно и правами государственной службы. Тут же в Москве я, по указанию дяди Капниста, написал нужное прошение, прислал ему потом дополнительно необходимые документы, и к осени после продолжительной бюрократической волокиты, эта комбинация осуществилась.
По возвращении в Сергиевское я через несколько дней заболел; болезнь началась сразу очень бурно, с палящим жаром и бредом; бедная моя жена очень перепугалась, а когда на следующий день приехал доктор Генкин с моей матерью и определил мою болезнь скарлатиной, тревога ее еще больше усилилась. Я один из редких, у кого эта болезнь повторилась, так как еще в раннем детстве перенес скарлатину. Совершенно непонятно, как могли в такое время оставить мою жену совсем одну, а в действительности она, которая сама должна была себя беречь из-за своей беременности, одна несла весь уход за мной, не отходя от меня день и ночь; моя мать, пробыв дня два-три, поторопилась в Калугу, боясь быть отрезанной распутицей от моего отца к Пасхе; мать моей жены совсем не приехала и прислала лишь старую нянюшку Федосью Степановну, которая и оставалась при мне, когда Лиза совершала свою обычную прогулку, на которую она смотрела как на долг свой для будущего младенца. А положение мое было серьезное и даже опасное: в полубреду помню, как меня причащали и как я расплакался, думая, что прощаюсь окончательно с женой. Ее мужество, сила воли сказались в это первое испытание нашей семейной жизни; в добавление ко всем беспокойствам за меня прибавились ей и денежные заботы; подходила Пасха, надо было платить жалованье, а денег не было; то, что было получено за сгоревшую рожь,
342
большей частью было истрачено на нашу поездку в Петербург, и служащие осаждали ее, требуя допустить их до меня. В таких тревогах и волнениях кончился Великий пост, прошла Пасха, встреченная нами не только без службы, но и без розговенья, и лишь с Фоминой я стал поправляться. В конце апреля я был уже на ногах, взял несколько ванн и карантин мой был кончен. По какому-то предчувствию, когда я заболел, я лег в комнату моих родителей, где и пролежал всю болезнь, не заразив, таким образом, нашей вновь отделанной половины. Когда мой карантин кончился, переехали мы обратно в свои комнаты, а ту половину закрыли до дезинфекции; на время же дезинфекции поехали с Лизой в Калугу. В этот наш приезд обсуждены и решены были планы на лето. В семье Трубецких предстоял переезд в Москву: тесть мой в течение зимы по личному выбору государыни был назначен почетным опекуном Московского присутствия, назначение очень видное и совершенно необычайное для вице-губернатора. На лето они не могли более занимать летний губернаторский дом, не занимая уже никакого служебного положения в Калуге, а в Меньшове, принадлежавшем частью по наследству и моей belle-mère, где они предполагали в будущем обосноваться по летам, дом для помещения всей семьи лишь отстраивался и мог быть готов не ранее августа месяца. Ввиду таких обстоятельств мы упросили с женой всю ее семью провести у нас лето; для нас это была большая радость их принять, и вместе с тем это было вполне возможно, так как мои родители решили все начало лета провести в симбирских имениях, бабушка же оставалась до их возвращения с Нюничкой в Калуге; так и было решено, и мы поспешили с женой домой готовить все для приезда семьи Трубецких.
Вернулись мы на пароходе, день нашего возвращения совпал с первым мая; тогда этот день никакого политического значения не имел, люди жили проще, довольные своей судьбой, никакого пролетарского праздника не было, а наступающая весна радовала всех лишь как новое обновление природы, открывающее вновь поле деятельности для мирного крестьянского труда. Никогда не забуду впечатления нашего, когда мы сошли с парохода и въехали в Заразу: за короткое наше отсутствие весна сделала гигантские успехи, дороги просохли, зеленая трава везде пробила осенний лист, лес оделся, а березы трепетали своими прозрачными маленькими листочками; день был чудный, и нас охватил свежий запах березы, и такое счастье наполнило нас обоих, что оба, проезжая мимо церкви, благодарно перекрестились на наш храм, за все то, что Бог нам ниспослал. Родители моей жены, понятно, настояли платить нам за свое у нас пребывание и назначили столь крупную сумму, что это дало нам возможность прожить это лето довольно беззаботно. До их приезда посетила нас тетя Лидия Лопухина, прожила у нас несколько дней и, как писала потом, насладилась видом настоящего юного супружеского счастья; при ней начались полевые работы, я с утра уезжал осматривать и направлять все работы, часто перед завтраком Лиза выходила меня разыскивать и уже вдвоем мы возвращались домой. Распорядок дня был установлен уже по-новому, согласно ее привычкам, то есть завтракали мы в 12 и обедали в шесть; после обеда мы обыкновенно ехали кататься, опять с той же целью осмотреть результат работ дня; вечером на подъезде происходили совещания с конторой, а после чая кончали день обычно прогулкой по Поливановской
343
дороге, где на просторе полей любовались мы звездами или луной и слушали вечерний караульный звон своей и близлежащих церквей; от жены я впервые научился различать созвездия, и как было весело разыскать какую-нибудь желанную звезду и, смотря на нее, проникаться величием Творения Божества!

Евгений Николаевич, Варвара Николаевна, Вера Александровна, Григорий
Николаевич и Александра Николаевна Трубецкие, Петр Федорович и Александра
Павловна Самарины в Меньшове. 90-е годы XIX века. Частное собрание, Париж
Когда приехала вся семья, оживление стало полное; после каждого обеда устраивались грандиозные партии в теннис, и так как желающих играть было всегда более нужного числа партнеров, происходили забавные ссоры, требовавшие иногда вмешательства моей belle-mère; отсутствовала лишь одна Ольга, которая проводила это лето в Обуховке у Капнистов. Проездом в Симбирск заехали с нами проститься мои родители, и так как их спальня была занята моей belle-mère, уступили мы им с женой свои комнаты. Это был единственный раз, что я почувствовал какое-то неудовлетворение от пребывания семьи жены, как бы изгнавшей моих родителей с насиженного гнезда; в остальное же время, совершенно сознательно говорю, что я только наслаждался их пребыванием, находясь под обаянием шарма всей этой красивой, веселой, беззаботной молодежи, и потому никак не понимал, как belle-mère моя, как-то раз встретив нас с женой, разговаривающих в воротах, пожалела нас и как бы извинялась, что они все так заполонили весь дом, что нам угла нет побеседовать наедине. Я, напротив, немножко гордился в их присутствии моей ролью ландлорда, и мне всегда было очень приятно, когда во время вечерних катаний заезжали за мной на поле, где
344
я верхом, окруженный всеми должностными лицами тоже верхом, давал последние распоряжения и иногда награждал крестьян за хорошо исполненную работу водкой, за что в ответ неслись не только благодарности, но и немедленно устраивался хоровод, провожавший отъезжающий наш экипаж веселыми плясовыми песнями. Очень я привязался в это лето к младшему брату жены Грише, которому давал уроки по математике; был у него и студент, репетировавший с ним по остальным предметам ввиду предстоящего перехода в московскую гимназию, значительно серьезнее и труднее калужской. Гриша занимался со мной из ряду вон плохо, изводил меня своим невниманием и непослушанием, но зато и забавлял шутками и остротами; он уже тогда был необычайно остроумен и веселого характера; боялся он очень своей матери, и, только когда он стал уже совсем взрослый, установились у него с ней приятные отношения; до того же он всегда при ней молчал и держал себя крайне скромно, но зато в ее отсутствие своими остротами поднимал на смех своего студента и неимоверно шалил.
Старший брат жены, Сережа, в это лето переживал глубокую внутреннюю драму, не делясь ни с кем; замечали мы только, что выбегает он всегда встречать почту и еще в конюшне ее разбирает; потом выяснилось, что он ждал решительного ответа от Паши Оболенской на сделанное ей предложение. Мучения его происходили оттого, что вторая сестра ее уже была замужем за его братом, а младшая, Лизанька, была когда-то невестой его брата Жени и только с год или полтора тому назад как это расстроилось; Сережа мучался тем, что брак двух братьев на двух сестрах нашей церковью не допускается; боялся он своим браком навсегда закрыть счастье Жени, если бы вновь загорелось у него чувство к Лизаньке, у которой, по-видимому, оно и не потухало; но чувство его любви, длившейся уже несколько лет, брало верх, и ждал он решения своей судьбы с трепетом. Пашу в семье всегда все очень любили, но она была очень болезненная, что могло внушить серьезные опасения для будущего; у нее были совершенно необъяснимые и неизлечимые боли в спине, так что она принуждена была носить всегда между плечами металлическую пластинку, дабы что-нибудь нечаянно не коснулось больного места. Когда Сережа получил, наконец, согласие ее, рассказал он все своей матери, и никогда не забуду, как я узнал от последней обстоятельства этого дела. Лизе, не желая ее волновать, моя belle-mère решила ничего не говорить, но со мной захотела поделиться волновавшими ее чувствами. Ждали мы в этот день приезда акушера Дубенского, вызванного мной, чтобы познакомиться с женой до родов, и в ожидании его сидели с моей belle-mère на дворе на кругу на скамеечке; я видел, что она очень взволнована, в предыдущие дни наблюдал ее беседы с Сережей, всегда очень длинные, и после которых она возвращалась вся в красных пятнах, и спросил ее: «Мама́, что с тобой?» Она как бы ждала этого вопроса и стала мне рассказывать, как она мучается, видя состояние Сережи, видя его терзания и не зная, как ему помочь, но не успела объяснить мне, в чем дело, как послышались звонки подъезжающего экипажа, и она оборвала словами: «Одним словом знай, Сережа переживает такую же мучительную минуту, как Jean Valjean из «Misérables». Можно себе представить, как я был потрясен ее словами; только поздно вечером по отъезде Дубенского удалось мне получить от нее подробное объяснение, и, узнав в чем дело, поняв, насколько положение
345
совершенно не похоже на то, на которое она намекала утром, успокоился и как мог старался и ей внушить спокойствие и лишь одну радость за удовлетворение давнишнего желания Сережи; к тому же это церковное запрещение состоялось на церковном соборе, не признанном нашей Православной Церковью, и лишь впоследствии было введено в канон; но моей belle-mère были присущи терзания и мучения за всякий шаг детей, решительный в их жизни; провидела она для них всегда дальше, чем обычные жизненные условия, и потому этот вопрос для нее оставался надолго мучительным.
Ко времени приближения родов жены сестры ее были отправлены к тете Лине Самариной в Молоденки; тетя Лина с мужем сама за ними приезжала; это было первое их посещение Сергиевского; помню, как Петр Федорович, пораженный громадностью дома и войдя в него, воскликнул, когда увидал тут же в передней противоположную стену: «Comment c’est tout?» Этот возглас заставил меня впервые понять несоответствие ширины дома со всеми его остальными размерами; при них же приехал Андрей Сергеевич Озеров, муж умершей тетки жены, Ольги Лопухиной, и князь Юрий Александрович Оболенский, по семейному прозвищу «дядя Юша»; за последним три дня подряд выезжали на вокзал, и лишь на третий день он приехал; в предыдущие дни кучер привозил телеграммы: «Опоздал, буду завтра», «Вновь опоздал, непременно буду завтра». Он очень юмористично рассказывал свое последнее пребывание на тульском вокзале, где он, приехав спозаранку и удобно расположившись позавтракать, так увлекся, что опять чуть не опоздал и уже с помощью посторонних был едва втиснут в тронувшийся вагон, что было комично для тех, кто его знал и видел его грузную, тучную фигуру и медленную, невозмутимую походку увальня.
Наконец все уехали и мы остались лишь в малом составе: были обе Мама́ и два брата (Женя уехал в Молоденки), мой отец был в Москве по делам, тесть мой был в Калуге. У нас уже давно жила приехавшая из Москвы акушерка Александра Дементьевна Лилиф, привезла она и новую няню Федосью Калмыкову, которая и была водворена в новых детских, раскладывая со своей помощницей все белье будущего младенца. Под детские было отделано все то помещение, которое занимала до того контора. Первая комната была сделана сквозной для спанья ребенка и няни, вторая комната, названная игральной, оставалась с боковым коридором, в ней были устроены краны для ванночек с холодной и горячей водой, баки же наливались из передней. Там же был устроен прямо слив, к которому подкатывалась ванночка, когда надо было ее опорожнить, так что все гигиенические условия и возможность простуды ребенка были приняты во внимание. Тесть мой надо мной посмеивался и говорил: «Миша во все стены провел воду».
В ночь на 30-е июля 1887 года Лиза меня разбудила и, чувствуя приближение родов, послала меня за матерью и за Александрой Дементьевной; исполнив это, я сейчас же телеграфировал тестю в Калугу привозить Дубенского. Софья Семеновна [Яковлева], у которой мой тесть останавливался, рассказывала потом, что он был в недоумении, что ему делать, так как не успел купить пуговицы, «которые мамаша поручила ему привезти», а Софья Семеновна с трагическим лицом над ним стояла и твердила: «Князь, Лиза родит!» Приехал он с доктором часам к двенадцати, а в пять часов родился наш первенец. Я со своей belle-mère
346
все время не отходил от жены, и какое это было счастье услыхать первый крик ребенка! Жена была счастлива от сознания его существования, а я от прекращения ее мук; переносила она их замечательно мужественно и, прочтя до этого рассказ Кохиновской о том, что рождение матерью во время песни веселило на всю жизнь ребенка, пыталась во время самых сильных болей что-то напевать, чем даже напугала свою мать, решившую, что она теряет память; имя первого сына было уже предрешено давно, а потому, когда пришел священник, нарекли его Михаилом. У нас был обычай, свято сохранявшийся при рождении всех детей: просить священника во время родов держать царские врата открытыми, а под конец зажигать в спальне при образной венчальную свечу; поверье гласило, что это облегчает страдания родильницы.
Передать радость, счастье, торжественное настроение этого вечера не могу; помню, как на следующий день я вышел за амбар в поле, все уставленное еще копнами ржи; ее было десятин сто с чем то, и я в порыве восторга, показывая эту громаду сжатого хлеба, сказал старому ключнику Ивану Иванову: «Да, теперь надо трудиться уже для сына, все его будет», а он мне мудро ответил: «Рано об этом думать, пока благодарите Бога, что он родился и молитесь ему помочь вам его вырастить». Мишу крестили мой тесть и бабушка Волконская, а ввиду ее отсутствия при купели ее заменила моя Мама́. 7-го августа в этот год рано утром было знаменитое полное солнечное затмение. Все встали рано, приготовили закопченные стекла, на двор приведены были петух и курица наблюдать за их впечатлением, но день был обычный, ничего мы не видали кроме постепенно наступающей темноты, которой и воспользовались петух и курица, чтобы уйти на птичий двор, и наше раннее вставание оказалось напрасным. В это время вернулась Ольга Трубецкая из Обуховки, и, дождавшись лишь дня, когда Лиза окончательно встала, все Трубецкие уехали в Меньшово, а мои родители должны были ликвидировать калужскую квартиру и с бабушкой вновь переселиться в Сергиевское. Оставались мы с Лизой одни, уже не только как молодые супруги, но и как молодые родители, всего дней десять и в этот период оба проводили большую часть дня в детской: я — не отходя от жены, а она — от ребенка. С переездом моих родителей начался период нашей совместной с ними жизни, которая за редкими краткими перерывами и не прекращалась до самой их кончины.
Итак, в конце августа 1887 года состоялся обратный переезд моих родителей и бабушки в Сергиевское; по железной дороге везли бабушку в товарном вагоне, где ей было поставлено ее обычное кресло, и со станции везли ее в долгуше, все время шагом, так что ей, которой было уже за 80 лет, путешествие было очень утомительно, и приехала она совсем разбитая от дороги.
Все водворились по своим старым комнатам, штат прислуги удвоился; родители привезли и своего буфетчика Егора, и своего буфетного мужика Николая Шутова, а также и повара Михаила Синицына, так как наш должен был идти в солдаты. К этому же времени вернулся к нам старый кучер Трифон, не поладивший в последний год управления Остроуха с последним и перешедший на службу в Тульскую губернию к какому-то купцу; Алексей-кучер очень добродушно отнесся к разжалованию во вторые кучера и наивно объяснял, что Трифон будет ездить с хорошими гостями, а его, Алексея, будут посылать на станцию за
347
плохими. Все эти перемены новой совместной жизни не могли пройти без шероховатостей; Мама́ и Нюничка сразу начали наводить порядок, меня же коробило, когда в комнатах общего пользования, гостиной, столовой и т. д., распоряжались без ведома моей жены; Лиза действительно мало на что обращала внимание, вся ушла в детскую, где царила всевластно и не допускала малейшего вмешательства; в управлении же домом система ее заключалась в даче общих указаний, предоставляя Семену, девушке Саше, а также экономке больше самостоятельной инициативы; моя же мать и Нюничка входили в самые мельчайшие подробности хозяйства, с утра распределяя, что кому делать, и наблюдая, чтобы это было бы исполнено, чем достигали, несомненно, большего порядка, но, казалось мне, более мещански и, главное, умаливало значение моей жены как хозяйки дома. Мама́ подчеркивала на словах, что все должно делаться с разрешения и одобрения Лизы, но на деле выходило иначе, и я часто довольно неделикатно вмешивался и потом сам мучался. Только действительно горячая привязанность моих родителей как к внуку, так и к моей жене, и отсутствие у последней всякой мелочности в характере сгладили впоследствии все неизбежные трения, и дальнейшая жизнь стала не только приятной, но, можно сказать, и образцом сплоченной семьи, состоявшей из четырех поколений. Родители мои переехали с тем условием, чтобы платить за свой пансион, держать своих людей и самим заботиться и обдумывать свою половину дома. Через год, когда мы с женой уехали в Москву, Мама́ взяла все хозяйство на себя, и, когда мы вернулись, так оно и оставалось вплоть до нашего общего переезда в Харьков.
В сентябре приехала моя belle-mère с известием, что свадьба Сережи Трубецкого решена, но ввиду настоящего родства с невестой и возможности препятствия со стороны священника они в сомнении, где ее устроить; я тогда же дал им мысль устроить свадьбу здесь, но с тем, чтобы венчал не наш причт, которого я не хотел подводить под опалу архиерея, а какой-нибудь полковой священник; предложение мое было одобрено и я переговорил по секрету с Дмитрием Васильевичем Извековым, который дал свое согласие и обещал на это время уговорить своего зятя, настоятеля церкви, уехать куда-нибудь, а сам, оставшись за него заведовать приходом, предоставит храм другому священнику для венчания. Заручившись этим, моя теща с моим отцом поехали в Калугу переговорить с командиром Киевского полка Маклаковым, под начальством которого Женя отбывал воинскую повинность за два года перед этим и который был особенно близок к семье Трубецких; хотели они просить Маклакова уговорить полкового священника Киевского полка совершить этот брак. Помню, как они вдвоем выехали утром 8-го сентября, но вернулись с полдороги благодаря поломке экипажа; помню, как тогда же моя belle-mère сказала, что это явное доказательство, что нельзя предпринимать поездок во время обедни больших праздников, и это правило я впредь и старался применять в жизни. Поехали они на следующий день, достигли полного успеха, и решено было сыграть свадьбу в начале октября у нас, для чего всем перед свадьбой съехаться 2-го октября; я же написал Сереже, успокаивая его сомнения о запрещенности такой свадьбы, и просил его рассчитывать на меня и на моего отца, который сам выразил об этом желание, в качестве свидетелей при подписании обыскной книги. В октябре сначала приехали все Трубецкие, не была только
348
одна Марина, оставшаяся в Молоденках у дяди Пети Са-марина; приехала тетя Лина Самарина, и за день до свадьбы ждали невесту Пашу Оболенскую с сестрами своими и с родственниками; с ней должны были приехать, кроме сестер ее, тетя Груша Оболенская, Василий Васильевич Давыдов, родственник ее Озеров, Боря Лопухин, Грушенька Панютина, а Татя Трубецкая должна была привезти и свою дочь Соню, которую она кормила. Съезд был большой, и, чтобы разместить всех, пришлось всем нам уступить свои комнаты и кое-как рассоваться; одну бабушку оставили непотревоженной в своей комнате. Приезд невесты сопровождался большими волнениями и беспокойствами: поезд опаздывал, и, ожидая ее дома, Сережа просмотрел все глаза; были посланы гонцы узнать, в чем задержка; всякое препятствие вырастало в глазах моей belle-mère в какое-то вмешательство судьбы, препятствующей этому браку. Обед и вечер перед свадьбой прошел в томлении. Паша все удалялась со своими сестрами и Грушенькой к себе, Сережу к себе не допускала, он этим огорчался, а его мать не в шутку мучалась за него. В гостиной в это время тетя Груша ворчала на моего тестя, отчего он не устроил свадьбы в Москве, а он, не заметив, что за колонной сидит полковой священник, привезенный и ублаготворяемый Женей, в сердцах крикнул: «Благодарю покорно, в Москве ни один поп и за тысячу рублей не согласился [бы] венчать». Такая его неосторожность чуть не погубила все дело. Предположено было на следующий день отслужить обедню, а в 11 часов должна была быть свадьба, чтобы после раннего обеда поспеть молодым на поезд в Вязьму, так как они ехали за границу. Я только начал одеваться, как вызвал меня старый псаломщик Семен Иванов заявить, что некому служить обедню: наш Дмитрий Васильевич не подготовился накануне, а полковой священник так заболел, что собирается сейчас уезжать в Калугу. Я тогда вызвал Женю потихоньку от Сережи, с которым он спал, и, объяснив ему в чем дело, отправился с ним вдвоем на Поповку уламывать этого священника. Он нам рассказал, что не столько болезнь препятствует ему служить, сколько сон, который он видел: будто бы явился ему Николай Чудотворец, запретивший этот брак ввиду существующего свойства. Подоспевший на помощь Дмитрий Васильевич Извеков напомнил ему, сколько он таких браков совершил за свое иерейство, категорично заявил ему, что так поступать непорядочно, давши раньше согласие, и что он, Извеков, в случае отказа его, сам совершит этот брак; Женя же пригрозил ему Маклаковым, который будто бы должен сейчас приехать; строптивый иерей струхнул, смирился и обещался ждать в церкви жениха и невесту, а Дмитрий Васильевич заявил, что сам будет в облачении и в случае опять какой-нибудь его выходки его заменит; уладив все, вернулись мы с Женей домой и привели с собой диакона с обыскной книгой. Мне было очень неприятно, что по настоянию Мама́ мой отец вдруг отказался подписать обыск, и сделал это мой тесть; отказ Папа́ был для меня совершенно неожидан и тем более неприятен, что сам он до того, как я писал, предложил свои услуги, но Мама́, всего боясь для своего мужа, вдруг решила, что на него падет ответственность, энергично запротестовала, и я ничего поделать не мог.
Свадьба прошла благополучно, но не было того радостного торжественного настроения, а напротив, все чего-то боялись, и, когда венцы были уже сняты, облегченно перекрестились. Незадолго перед тем в семье Трубецких переживали
349
такие же страхи на свадьбе Грушеньки Панютиной. Она была дочь князя Михаила Александровича Оболенского, выезжала с большим успехом в свет, где за ней ухаживал гусар Панютин; надеясь на более блестящую партию, она отвергла предложение этого Панютина, но потом, спустя год, вдруг переменила решение и написала ему, что она согласна; он же в это время проживал на Кавказе, посещал какую-то кавказскую семью, где дочь этой семьи увлеклась им, да и сам он был не прочь, по-видимому, сделать ей предложение. Когда Панютин, вызванный Грушенькой, уехал из Тифлиса в Петербург, братья этой молодой девушки были настолько оскорблены, что заявили, что один за другим будут с ним стреляться; товарищи Панютина по полку, лейб-гусары, признали эту дуэль необходимой, но разрешили ему осуществить ее уже после свадьбы, что не входило в расчеты кавказских братьев. Брак был спешно заключен в Москве со всякими предосторожностями, так как опасались, что по чувству кавказской мести эти господа способны убить Панютина и в самой церкви; были приняты такие предосторожности и настолько тщательно скрывалось, в какой церкви будет венчание, что все прошло благополучно, но Панютин своей участи не избег: через две недели была дуэль, и он был убит.
Хотя опасения во время свадьбы Сережи были совсем другие, но невольно вспоминались все пережитые тревоги, и потому, когда молодые вернулись из церкви и встречены были родителями моей жены с образом и хлебом и солью, все радостно вздохнули. В тот же день они уехали, а на следующий день и остальные, кроме моей belle-mère с дочерьми, которая оставалась отдохнуть от пережитых волнений и всячески старалась выказать моим родителям благодарность за родственное участие.
Отец мой задумал пустить в ход добычу у нас в имении известняка. Профессор Белелюбский, строитель Алексинского моста, исследовал залежи камня у нас вдоль Оки [и] дал заключение, что как известняк, так и песчаник наш представляют ценные породы; песчаник давно уже сбывался для доменных печей чугуноплавильного завода и для облицовки подводных частей быков железнодорожных мостов; известняк же, несмотря на красоту пластов от почти черного до светло-розового, не находил себе сбыта за неимением предпринимателя. Дядя Капнист и тут помог: направил он к нам того крупного подрядчика Гирша, который взял на себя постройку лестниц и подоконников в университетских клиниках. Заключен был с Гиршем контракт, по которому он должен был платить ежегодно 1000 рублей аренды и кроме того по 10 рублей с каждого куба вывезенного им материала. Работа закипела, меня он просил надзирать за рабочими, и с тех пор поездка на Каменную гору стала целью ежедневного катания, не говоря уже о красоте места добычи; до того было там оживленно, что все приезжающие с удовольствием ездили смотреть. Построены были там и казармы, и мастерские для распилки известняка, карьеры для добычи потянулись внутрь горы саженей на полтораста, и ходить по этим подземным коридорам бывало довольно жутко; но Гирш не сделал самого главного: он не устроил сушилки, без которой добытый из горы сырой камень на морозе лопался, и большинство материала, доставленного им в Москву, было забраковано, почему вскорости Гирш нарушил с нами контракт; отец мой с ним судился, но, пропустив какие-то
350
сроки для обжалования, в конце концов проиграл дело; все заглохло, остался лишь красивый вид на Каменной горе, к которой стало возможно подъезжать по разработанной для бывшего карьера дороге. В этом же году я как новинку привез в Сергиевское телефон, который и установил между моим кабинетом и конторой; телефон этот был очень примитивного устройства: звуки воспринимала тонкая доска, покрывающая всю переднюю поверхность телефона, так что передавался этим самым разговор всех присутствующих в комнате без того, чтобы они подходили к самому телефону. Надо было видеть удивление и недоверие таких стариков, как ключник Иван Иванов, который наотрез отказывался говорить в телефон. Зимой была у нас первая тревога молодых родителей из-за какого-то бурного желудочного заболевания Миши. Жена моя ужасно перепугалась и изводилась бессонными ночами. Это правда, что это была первая детская болезнь; потом, когда они стали повторяться, жена была опытнее и относилась благоразумнее, но все-таки все детские болезни были для нее всегда мучительным временем; она никогда не доверяла никому себя заменить при ребенке, почему всегда очень утомлялась. Летом следующего 1888-го года побывали у нас ее сестры. Для нее их приезд был всегда особенным праздником; она, несомненно, тосковала по своей родной семье, отъезжать же от ребенка не допускала мысли; ввиду ее второй беременности и ожидания рождения ребенка в начале зимы решено было нам ехать на это время в Москву и пожить у Трубецких.
В Калуге в это время произошли перемены: губернатором назначен был вместо Жукова Булыгин, когда-то проведенный моим дедом в зарайские предводители дворянства. Новый вице-губернатор Евгений Дмитриевич Маслов, заменивший на этом посту моего тестя, стал уговаривать моего отца, чтобы я отказался от службы в Министерстве народного просвещения и зачислился бы чиновником особых поручений губернатора. В это время уже говорили очень определенно о новой реформе Крестьянского управления и о введении Положения о земских начальниках, и, казалось, что это новое место совершенно для меня подходяще, почему желательно было, чтобы предварительной службой в Министерстве внутренних дел я подготовился бы к этой новой деятельности. Новый губернатор, Александр Григорьевич Булыгин, объезжая уезд, заехал к нам, ночевал у нас и подтвердил предложение Маслова, обещая всякое содействие. Я сознаюсь, что провинциальная служба меня пугала, и деятельность как бы адъютанта губернатора меня совсем не прельщала, но Александр Григорьевич очень определенно сказал, что я никакой службы при нем нести не буду, и откомандирует он меня в Калужское губернское присутствие, что даст мне, при желании, возможность основательно подготовиться к деятельности земского начальника. Убедившись его доводами, я решился воспользоваться его любезным предложением, и так как требовалась продолжительная переписка с Министерством народного просвещения, я еще до отъезда в Москву подал ему прошение о назначении меня к нему чиновником особых поручений; моих же родителей просил подыскать мне в Калуге маленькую квартирку, куда бы мы могли с женой переехать уже прямо из Москвы.
В конце сентября 1888-го года приехали мы в Москву с Лизой, и 3-го ноября родился наш второй сын, Сергей (единственный из моих детей, который родился не в Сергиевском; он в детстве спрашивал у матери своей: «Мама́, а ты уверена,
351
что я твой сын, ведь я родился в Москве на кровати бабушки, может быть я бабушкин сын?»). В короткий срок родились три новых внука у Трубецких: вслед за Сережей родилась дочь Люба у Пети Трубецкого, а 21-го ноября — старшая дочь у Сережи Трубецкого. В это время была совершенно особая атмосфера в семье: все разговоры сводились к ожиданию этих событий, интересы всех были общие, все друг о друге спрашивали, главное, с точки зрения или ожидаемого, или уже родившегося младенца; каждые крестины были детскими праздниками, на которые сзывались все внуки и внучки моего тестя; тогда я особенно оценил дружбу такой многочисленной семьи. К крестинам Сережи приехали и мои родители, тем более что Папа́ должен был крестить вместе с моей тещей. Когда моя жена поправилась, я уехал с родителями своими для объезда в последний раз школ своего района как помощник предводителя дворянства по учебной части; но по возвращении моем в Москву моя belle-mère выразила желание, чтобы мы до окончательного переезда в Калугу провели бы у них праздники и встретили бы Новый год. Я был очень рад остаться в Москве, где мне было очень весело, меня только смущало, что мы крайне стеснили Трубецких, но раз родители моей жены этого желали, нам оставалось только с радостью согласиться. В эту зиму устроился домашний спектакль у Беклемишевых; в нем принимала участие Ольга Трубецкая, приглашали и меня, но, думая, что меня каждую минуту могут вызвать на службу, я уклонился, о чем впоследствии очень жалел, потому что зимой оставался все время в Москве и сопровождал Ольгу на все репетиции.
В начале пребывания нашего в Москве случилось крушение поезда в Борках, и мне в памяти осталось, как потрясло всех известие о сем событии и как недоволен был государь сделанной ему встречей в Москве. Когда я уже служил в Харькове, я слышал там рассказы о том, как это событие было воспринято харьковским населением; шло Дворянское собрание, и 17-го октября все дворянство со своим предводителем во главе ждало на вокзале проезда государя; когда же распространилась весть о крушении поезда, о чем передавали по секрету, и высшие должностные лица с экстренным поездом выехали на место крушения, все пришли в неописуемую тревогу, с вокзала никто уезжать не хотел, а когда было получено известие, что царская семья благополучна, тут же, по требованию публики, на привокзальной площади был отслужен всенародный благодарственный молебен. Подробности о чудесном избавлении всей семьи, о помощи, оказанной государыней раненым, о благодарственном молебне и панихиде, отслуженным на станции Возовой по желанию государя в присутствии всей царской семьи соседним сельским священником с одним псаломщиком, вызывали слезы умиления. Когда же на следующий день государь все-таки прибыл в Харьков, где пожелал остановиться, чтобы еще раз отслужить благодарственный молебен, все население встречало его уже без всякого стеснения, охраны не было, сами харьковцы были самой надежной охраной. Собор был закрыт по случаю ремонта, и архиепископ Амвросий встречал царскую семью в университетской церкви. Государь с государыней ехали в извозчичьей коляске, настолько эта остановка была для всех неожиданна; весь длинный путь от вокзала до университета и обратно пришлось делать шагом, настолько стечение народа было громадно; извозчик, их везший, обратился к государю со словами: «Царь-батюшка, не обижай, не вели платить за счастье,
352
что довелось на старости лет тебя возить, а разреши лишь в награду приложиться к ручке царицы-матушки». В ответ на это государь его поцеловал, а государыня дала ему ручку поцеловать. Толпа же неистово кричала «ура». В пределах города царский поезд шел совсем медленно, потому что весь путь был усеян народом, который бежал за поездом. Государь и государыня не отходили от окошка, кланялись народу, и видно было, как по их лицам текли слезы. Владимир Оболенский потом рассказывал, что государь, растроганный и взволнованный, сказал ему: «Если нас так встречает Харьков, что же будет и что нас ожидает в Москве».
В Москве же, по неумелому распоряжению московского генерал-губернатора князя Долгорукова, никто кроме должностных лиц не был допущен на вокзал; площадь, по которой идет соединительная ветвь, была оцеплена войсками, и лишь торжественный звон всех московских колоколов возвестил населению Москвы, что его царь, только что чудом спасенный от смерти, проехал через город, никем не встреченный и никем не приветствуемый. Говорят, государь высказал свое крайнее недовольство князю Долгорукову, чем старик был очень сконфужен.
После Нового года отъезд наш постоянно откладывался из-за болезни детей; дважды я выезжал вперед в Калугу, куда приезжали и мои родители встретить Лизу, и всякий раз вызывался телеграммой обратно. Мое назначение чиновником особых поручений калужского губернатора уже состоялось, очень миленькая квартира в доме княгини Несвитской на Дворянской улице была уютно убрана моими родителями; Семен и Евмений уже в ней поселились, а мы никак не могли выбраться из Москвы, заразившись даже каким-то суеверным страхом, мешавшим нам заранее определить день отъезда. Этой зимой второй брат жены, Женя, ухаживал за младшей княжной Щербатовой, Верой Александровной. Семья эта была одним из столпов московского общества; старик-князь пользовался в Москве большой популярностью, был когда-то московским городским головой, а в то время, как я описываю, жил независимым человеком, принимал с женой в своем громадном Никитском доме всю Москву, славясь своим радушием, хлебосольством и прямотой; старшие две дочери, Мария и София, были уже замужем; первая за Новосильцевым, а вторая — за Петрово-Соловово; оставались еще две дочери, Ольга и Верочка, незамужние, и сын Сережа лет 15-ти, общий любимец и надежда, как продолжатель рода, всей семьи. Женя ухаживал, как я сказал, за младшей княжной и, по-видимому, по моему примеру столь стремительно и бурно, что старый князь, вершитель судеб в семье, вызвал его к себе и посоветовал вести дело не с таким натиском, а дать его дочери возможность обдумать спокойно свое решение. Помню, как мы с моей belle-mère после этого разговора и увидав его изнеможенную походку, опущенные плечи и блуждающий растерянный взгляд, поняли, что что-то неладно; Мама́ Трубецкая потребовала, чтобы я как-нибудь его развлек, почему я насильно повез его вечером в оперетку, но как нам обоим там было не по себе и с каким единодушием мы после первого действия решили вернуться домой! Через несколько дней князь Щербатов его вновь вызвал, и согласие было дано. В доме Трубецких вновь воцарилось счастливое жениховское время, пошли родственные обеды, Верочка часто бывала на Пресне, мы должны были объезжать всю родню щербатовскую, и все это было наспех, потому что свадьбу торопили до Масленицы; я переехал к дяде Мите Наумову, так
353
как приходилось всем переселиться наверх и освободить нижний этаж с приемными комнатами для приема после свадьбы. Это была очень красивая свадьба, в большой дворцовой церкви в Кремле, после которой молодые уехали в Ярославль, где Женя был профессором Демидовского лицея.
Скоро после свадьбы и нам удалось выехать в Калугу; мои родители не рискнули выехать нас встречать, боясь вновь сглазить наш приезд, встретил нас один Семен, но все было заранее обдумано и устроено моими родителями. Квартира была маленькая, но почти вся на солнце, при ней была целая усадьба и большой сад; нанята была нам кухарка, готовившая отвратительно, но зато прекрасная женщина, скотолюбивая и необычайно честная; всю живность, присылаемую нам из деревни, она продолжала откармливать, ни за что не соглашалась резать, привязавшись к своим питомцам, и весной все это возвратилось обратно в Сергиевское, только в откормленном виде. Я жалованья никакого не получал, и средства наши заключались в 200 рублей, получаемых от Папа́ ежемесячно, и в разной деревенской провизии, коей Мама́ нас обильно снабжала. Приходилось очень стесняться, и после беззаботной московской жизни и широкой жизни наших родителей в Калуге, которые были у нас на памяти, мы должны были завести совершенно новый строй, к которому, сознаюсь, привыкать было трудно. Особенно было трудно и неприятно, когда посещали нас какие-нибудь старые знакомые, для которых то стеснение, в котором мы жили, представлялось странным и необычным; ввиду дороговизны извозчиков, хотя в те времена в конец уплачивалось копеек 20, не больше, но и то это было нам не по средствам, прислали нам из Сергиевского лошадь и старые городские сани еще дедушки Волконского, за кучера в простом армяке ездил Евмений; однажды я делал с ним визиты, и на улице сани развалились, передок отвалился, и Евмений очутился под санями, так что пришлось отказаться от своей лошади и вернуть ее в Сергиевское. Помню, как на Пасхе мы с Лизой пошли пешком к заутрене в Мироносицкую церковь, взяв с собой фонарь, чтобы возвращаться таким же образом домой в темноту; когда же после заутрени зажгли свой фонарь и двинулись в путь, извозчик Никита, поджидавший седока своего и некогда служивший у нас, а потом у Трубецких кучером, сжалился над нами и настоял довезти нас, ни за что не соглашаясь взять за это какую-нибудь плату. Несмотря на много хороших сторон нашей калужской жизни, самолюбие мое очень страдало, и я все более проникался уважением к Лизе, которая совершенно не обращала внимания на все эти мелочи и удивлялась моему отчаянию и моим угрызениям совести, что я не сумел создать ей лучших условий жизни.
Служба моя меня интересовала; губернатор откомандировал меня в канцелярию губернского по крестьянским делам Присутствия, где я под руководством секретаря Присутствия Николая Петровича Флерова изучал старые дела, составлял журналы для доклада Комиссии и писал проекты резолюций; вначале по неопытности я много ошибался, но потом добился такого успеха, что многие мои резолюции проходили без поправок. С Булыгиным у меня никаких почти сношений не было, и это меня вполне удовлетворяло, потому что я совершенно не умел себя поставить с ним на почтительную ногу, как к начальнику, вместе с равноправным отношением как между лицами одного и того же круга; прежняя военная жилка внушала мне слишком подчиненное отношение, а вместе с тем положение мелкого
354
провинциального чиновника, над которым в доме моих родителей и деда в былые времена всегда трунили и пренебрегали, возмущало меня, и, борясь между этими двумя течениями, я никогда не мог найти настоящую точку поведения и избегал всякого общения служебного с ним; на всю жизнь эта ненормальность отношений к Булыгину у меня осталась, даже когда судьба нас столкнула — его как министра, а меня как губернатора, и я убежден, что и он сохранил обо мне недобрую память, еще усугубившуюся, когда он женился на Ольге Деляновой, вдовствующей после смерти Абрама Хвощинского. На все лето 1889 года он меня отпустил в деревню, задав работу, а именно подготовить издание Положения о земских начальниках, подобрав все те статьи закона, на которые были ссылки Положения; работа была чисто компилятивная, но пришлось все-таки раза два съездить в Калугу порыться в старых Собраниях узаконений.
В это лето я в первый раз съездил в Меньшово и очень насладился там; все веселье, вся простота и вместе с тем серьезность калужской жизни Трубецких еще больше расцвели в благоприятной обстановке в Меньшове, где близость к Москве способствовала наезду к ним и родных, и добрых знакомых. Меньшово — имение совершенно другого рода, чем Сергиевское: все в нем мало, но все в нем живописно и вся красота природы ближе к дому, почему вся жизнь ею проникнута; дом небольшой, деревянный комод, без всякой архитектуры, с большой террасой в сад, с внутренними бревенчатыми стенами, ничего особенного из себя не представлял, но блистал чистотой, насквозь пронизан был солнцем и имел способность вместить в себя сколько угодно народа; цветник и площадки тенниса рядом с террасой давали возможность старикам, не сходя с террасы, следить и наслаждаться весельем молодежи; сад, начинающийся тут же, представлял из себя обрыв, обросший со всех сторон деревьями, с разбитыми по нему красивыми дорожками и мостками; перед подъездом дома двора не было, а начинался спуск лугом к речке Рожалю; луг этот был чуть ли не главный покос всего имения, почему и самый покос — такое веселое время деревенской жизни — как бы сливался и являлся эпизодом домашней жизни семьи; тут же в нескольких шагах была и купальня, так что можно было из дома звать купающихся, опаздывающих к обеду; от купальни вниз Рожаль был судоходен для лодки, и можно было кататься до ближайшей плотины Пурченева версты три; извилистость речки, омывающей и часть сада, и часть поля, и маленький меньшовский лесок придавали большую прелесть пейзажу, подмывая крутой берег и образовывая крутой красивый обрыв, а в другом месте протекая по гладкому лугу и описывая границу леса, где деревья, нависшие над водой, отражались в ней; крошечная деревня, дворов в десять, была тут же; верстах в двух была соседняя усадьба Воробьево, где семейство Ершовых, старинные друзья семьи Оболенских, а потом и Лопухиных, проводило все лета. Воробьево для Меньшова было то [же], что Сергиевское для Тимофеевки; оно было сосредоточием всех удобств жизни и местом удовлетворения хозяйственных нужд, но, в отличие от Сергиевского центр жизни, сосредоточие всего веселья было в Меньшове, и к нему все, тяготели. Когда-то все ближайшие имения составляли с Меньшовым одно, и принадлежало оно многочисленной семье Оболенских, затем с течением времени дробилось между ее членами и только одно Меньшово осталось во владении потомков этого рода.
355
Принят я был более чем ласково; веселился вовсю и только жалел, что нет Лизы, чтобы разделить со мной это счастливое настроение. День проходил в прогулках, катаниях на лодке, игре в теннис и разговорах с отдельными членами семьи. Тесть мой все спрашивал у меня хозяйственные советы, признавая во мне опытного хозяина; моя belle-mère расспрашивала про нашу жизнь, сама много рассказывала про семью, а с братьями и сестрами жены я не переставал наслаждаться, хохоча до упаду всякой их остроте; и тетя Лидия, хотя уже совершенно больная, придавала много прелести и уюта меньшовской жизни; заболела она в ту зиму, когда мы жили в Москве, ожидая рождения Сережи; ее постиг удар, была она почти недвижима, проводя зиму у Капнистов в Москве, а лето — у Трубецких в Меньшове. Со всей семьей Трубецких поехали мы к Пете Трубецкому в Узкое и уже оттуда я поторопился домой, соскучившись по Лизе.
Хозяйством в Сергиевском я еще почти не занимался: был взят по настоянию Папа́ новый управляющий, Иван Фомич Гусев, рекомендованный нам дядей Митей Наумовым; переговоры с ним вел я, он мне очень понравился; это был тип главного управляющего крупным имением, но по здоровью своему он уже не в силах был управлять крупным имением, каким он заведовал на Волге в Самарской губернии у Пустошкина, в 15 тысяч десятин, а Сергиевское казалось ему по силам; и в действительности, он оказался настоящим хозяином дела и прожил у нас до самой своей смерти; одно в нем только было неприятно — это полное отсутствие забот как об усадьбе, так и об удобстве господ; все его внимание было сосредоточено на полях и на доходных статьях имения, остальное все он считал пустяками и ненужными барскими затеями. С ним жила его сестра Ольга Фоминична и приемная дочь Авдотья Капракова, обе они потом заменили экономку Эмилию Петровну. Пивинский был тоже отпущен, перешел он на службу к Пете Трубецкому, и на его место конторщиком был взят моим отцом молодой малый Пожидаев, сын одного из земских служащих Калужской уездной Земской управы. Пожидаев совершенно подходил под характер моего отца, будучи в душе аферистом и прожектером, и Папа́ часто с ним обсуждал, а иногда и осуществлял самые несбыточные предприятия. Я от хозяйства, как сказал выше, почти отстранился и только по желанию Папа́ привлекался к решению серьезных вопросов. В течение этого лета приезжал князь Ливен, а потом издатель газеты «Новое время» Александр Сергеевич Суворин; оба имели намерение купить Сергиевское, но к нашему общему с Лизой удовольствию ни та, ни другая сделка не состоялись: я не хотел продажи Сергиевского, будучи к нему слишком привязан, а жена, главное, дорожила им как гнездом для будущей семьи. Летом была у нас Юлия Николаевна Бибикова, племянница бабушки, преувеличенно восторгалась Сергиевским и очень смешила нас своим вычурным, совершенно неестественным французским языком; она уже была вдовой, постоянно плакала о своем муже, которого в сущности никогда не любила, а только безумно боялась и, несмотря на свои почтенные года, разыгрывала роль восторженной, но неутешной молодой вдовы; Мама́ ее никогда особенно не любила за ее феноменальную глупость, но всегда ею потешалась.
В июле месяце состоялись выборы в гласные, и я в первый раз попал в число их, ввиду чего мы уже в сентябре переехали в Калугу ко времени открытия
356
уездного Земского собрания. Еще до этого переезда пережили мы большую тревогу: был я в Калуге по делам своего избрания и собирался идти обедать к Булыгину, как вдруг во двор нашего дома въехала наша карета с Лизой в сопровождении горничной Саши, везшей Сережу с обмотанной рукой; оказалось, что во время игры Миша так сильно ударил брата каким-то тяжелым предметом, что было опасение, что раздробил ему палец; не теряя минуты привезли его в Калугу на случай, если потребуется немедленная операция; к счастью, все обошлось благополучно, и доктор нас тут же успокоил, но бедный мальчик долго страдал, а ему еще не было года. Обратное путешествие не обошлось без приключений. Отъехав немного от Калуги, у нас соскочило колесо, и я, сидевший на козлах, чуть не грохнулся вниз; кое-как починили, но до речки Калужки повторилось это несколько раз, и я, убедившись, что дальше нельзя продолжать путешествие, остановился с семьей у местного священника, а Трифона с запиской послал в Авчурино к Полторацким просить у них экипаж, в котором они нам не отказали; но все это настолько долго длилось, что вернулись мы в Сергиевское поздно вечером, измученные и голодные; один лишь Сережа благодушествовал, безмятежно уснув в задке коляски, где Лиза умудрилась устроить ему нечто вроде колыбельки, а мерное покачивание экипажа его убаюкивало.
Этим же летом посетил наш храм архиерей, кажется, преосвященный Виталий; посещали архиереи нас часто, всегда у нас ночевали; в последнее время всегда служили у нас обедню, посему, описав один из таких приездов, я тем самым дам понятие обо всех приемах архиереев мною как церковным старостой. Еще задолго вся церковь чистилась, приводилась в порядок. Духовенство чрез своих сородичей старалось узнать характер нового владыки и в зависимости от полученных сведений старалось ему угодить, устроив то, на что грозный начальник обращал особое внимание: один ратовал за церковное попечительство, и священник был в отчаянии, что такого у нас нет, и стремился хотя бы для вида таковое устроить; другой был поборником Общества трезвости, и священник наспех таковое открывал, но через месяц оказались сохранившими обет трезвости из записавшихся в Общество лишь двое — священник и я; третий был любитель общего церковного пения, и священник организовывал такое пение, в котором участвовали в качестве прихожан все близкие и дальние родственники духовенства, изображавшие толпу; был архиерей, требовавший во что бы то ни стало наличности церковной приходской школы, и для угождения таковую ему представляли, но большинство учеников были в действительности или ученики земской школы, или даже окончившие ее. Стремления угодить владыке были понятны в духовенстве, ибо от того или иного отношения его зависела их судьба, а потому главная роль лежала на мне и вся надежда причта была, что я сумею так его принять, что приведу его в благодушное настроение. В день его приезда через всю церковь от паперти расстилался ковер из зелени, убранный цветами, что придавало церкви очень нарядный вид; народ был созван по возможности в большем количестве, махальщики и верховые были расставлены так, чтобы при въезде его кареты в приход, граница коего совпадала с границей Сергиевского, начинался бы звон во все тяжкие; я обыкновенно встречал его на границе имения, и такое внимание всегда его уже особенно располагало.
357
После обычной встречи при входе в церковь духовенством архиереи обыкновенно, ввиду особенного отличия нашей церкви, надевали мантию и уже в этом облачении шествовали в главный алтарь, откуда после обычного молитвословия выходили с крестом и обращались к народу с речью; к сожалению, я не помню такого слова, которое было бы понятно народу; в большинстве случаев было столько витиеватости, что делало мало впечатления или, во всяком случае, впечатления, не оставляющего никакого следа. Помню, как однажды после такого слова Варвара-прачка пришла к Мама́ вся в слезах и на ее вопрос, о чем она плачет, заявила, что уж очень хорошо говорил архиерей, и на дальнейшие расспросы, о чем он говорил, ответила: «Не знаю, Марья Алексеевна, ничего не поняла, но уже очень чувствительно он говорил». Один архиерей, Анатолий, тот очень подходяще обратился к народу; обходя храм и увидав могилу храмостроительницы, начал объяснять им значение храмостроителя; кончил же свое объяснение тем, что надел епитрахиль и сам отслужил над ее могилой краткую литию. Другой архиерей настаивал, чтобы все стены храма были бы расписаны, и выразил надежду, что я как церковный староста этому посодействую; я промолчал, потому что не мог объяснить ему, что стиль нашего храма, воздушность его достигаются именно простотой окраски его стен. Из церкви архиерей отправился в школу, затем в дом к священнику, требуя неизменно, чтобы я его всюду сопровождал; пробыв везде недолго, он со всей свитой приходил к нам в дом, где попадал на попечение моей матери, которая умела занимать и принимать духовных лиц. Часто бывали курьезы за столом, когда подавались такие кушания, которые духовные отцы и сам архиерей не знали как вкушать. Помню такой курьез со спаржей и артишоками, которые они стремились разрезать ножом на мелкие кусочки; в другой раз во время ужина, когда все блюда были зараз поставлены на стол, один из священников положил себе кусок сладкого пирога с вареньем и густо полил его грибной кашкой и постным маслом; мы с ужасом смотрели на эту смесь, которая должна была образоваться у него в желудке, но уж никак не на тарелке. Когда архиерей удалялся на покой, свите его делалось вольготнее, закуривались папироски и шли обычные беседы: где как были организованы встречи, где кого архиерей разнес и как он видимо доволен нашим приходом. Общим любимцем нашим был протодиакон Песоченский, неизменно сопровождавший архиерея и до сих пор остающийся на своем посту, сменив уже не менее десяти архипастырей; служил и служит Песоченский великолепно, говорок его при встрече архиерея слышался даже у нас в саду, почему участие его в церковной службе привлекало даже больше, чем само архиерейское служение. На вопрос Ольги Трубецкой, как он достигает таких эффектов голосом, он ответил: «Потому что, княжна, я говорю от чрева», и хотя говорил шепотом, но сказал это «от чрева» столь басисто, что сидящие на другом конце стола улыбнулись. Обедня на следующий день кончалась всегда поздно, и только после еще [более] продолжительного обеда архиерей отъезжал. Трудна для меня была всегда минута расплачиваться под конец: свита архиерейская и наш милейший протодиакон принимали мзду согласно рангу без стеснения, а раздавалось, по положению, рублей пятьдесят, из коих соборному ключарю и протодиакону по 10 рублей. Самое трудное было платить самому архиерею, в большинстве случаев они все отказывались, и только один епископ Александр, бывший московский викарий, принял от
358
меня 50 рублей, но и то не без ломания. Перед самым его отъездом я пошел к нему в комнату проститься и хотел всучить ему приготовленный конверт, но он наотрез отказался, и, когда я вернулся на подъезд и сообщил ключарю мою неудачу, тот многозначительно ответил: «Возьмет; скажите, что это на архиерейский дом; он, наверное, уже теперь жалеет, что Вы ушли»; и действительно, ключарь не кончил еще своих слов, как служка позвал меня опять к архиерею; пришел я к нему в комнату, но не знал, с чего начать, особенно ввиду присутствия служки, укладывавшего чемодан; архиерей сам вывел меня из недоумения, предложив перейти в другую комнату, где мы были бы одни; тут я ему опять вручил пакет на нужды архиерейского дома, и он без всякого протеста таковой принял, выслав мне впоследствии квитанцию от эконома дома. Но, повторяю, взял деньги архиерей лишь раз, остальные же упорно отказывались. Преосвященный Вениамин, приглашенный мною на столетие храма, которое я своевременно подробно опишу, сердечно мне ответил: «Я приехал молиться с Вашим приходом, с моей паствой, а не приехал зарабатывать деньги». После отъезда архиерея взбудораженная Поповня долго еще обсуждала все подробности пережитого события, и надолго устанавливался своеобразный календарь, в котором случаи жизни отмечались как бывшие или до приезда архиерея, или после приезда архиерея; да и я сам не прочь был вспоминать эту встречу, которая служила всегда какому-нибудь отличию нашего прихода, что мне было всегда очень лестно. Недаром наш священник в короткий срок получил все награды до протоиерейства включительно, а в выборе остальных членов причта мой голос был всегда решающим. После такого посещения я опять ездил в Калугу благодарить архиерея и был встречен им и соборным духовенством как старый добрый знакомый. До сих пор за время моего церковного старостничества я принял епископов: Владимира, Виталия, Анатолия, Александра, Макария, Вениамина и другого Александра; из них всех особенно был дружен и близок с епископом Вениамином, с которым вначале наши отношения были довольно натянуты из-за требования его, чтобы церковь на свои средства страховала бы здание второклассной школы, на что я как церковный староста не соглашался. Другие калужские архиереи, не посетившие нашу церковь по кратковременности пребывания своего в епархии, как-то Анастасий, Тихон, Георгий и настоящий Феофан, все-таки тепло относились к нуждам нашего прихода и каждый из них так или иначе помог в чем-нибудь нашей приходской жизни. Наименее симпатичным из них был Георгий, которого я знал еще архимандритом и ректором семинарии Тульской, но его деятельности мне придется коснуться, когда буду описывать привоз мощей праведной Иулиании к нам в храм.
Теперь же вернусь к дальнейшему описанию осени 1889 года; переехали мы с женой и детьми в Калугу в начале сентября ввиду предстоящего Земского собрания, в котором я впервые принимал участие. Предводителем дворянства был Платон Александрович Сухотин, председателем Управы — Николай Богданович Штриттер, а членами — дворянин Александр Андреевич Гейер и купец Василий Степанович Розанов; последний, по словам моего отца, был когда-то сидельцем в кабаке, принадлежавшем Александру Ильичу Лосеву, и когда к Лосеву съезжались соседние помещики на охоту, прислуживал им: стаскивал сапоги, чистил платья, получая по полтиннику на чай, и к вечеру напивался, танцевал трепака и увеселял
359
честную компанию. Он был почти неграмотный, но хитрый и плутоватый, перед выборами подлаживался к гласным от крестьян и всегда как-то проходил удачно. Гейер был уже глубокий старик, большой циник, в делах, говорят, был тоже неразборчив, но ввиду его многочисленной семьи всегда выбирался, дабы дать ему кусок хлеба; Николай Богданович Штриттер имел репутацию вполне честного человека, но ничего в делах не понимал и собственно всеми делами Управы ворочали секретарь Аберучев и бухгалтер Покровский. Под стать этой мафусаиловой Управе были и все гласные. Все гласные из дворян выбирались бессменно с основания Земства; помню Василия Ивановича Гурьева, Павла Оттовича фон-Ренне, Владимира Антоновича Шумовского, Николая Семеновича Яновского, еще одного Гурьева, по имени Семен, а по батюшке не помню; все они меня знали ребенком и мне среди этих стариков, с которыми я делался полноправным, было очень конфузно. Меня, как самого молодого, сейчас же выбрали секретарем, чем я имел глупость тогда гордиться, не зная, что это всегда удел младших нести эту тяготу. В это первое Земское собрание я только присматривался, прислушивался, сам не участвуя в прениях, при выборах же руководствуясь указаниями Сухотина; сам я был избран заведующим военно-конским участком, членом уездного Училищного совета и представителем от населения при наборе третьего участка. Оказывается, что меня выбрали во все те должности, которые были вакантные за выбытием того гласного, которого я заменил, а мне эта деятельность казалась такой важной, выборы представлялись мне выражением мне общественного доверия; только потом, ознакомившись со всей техникой выборов, я понял, как мой взгляд был ошибочен; одно, в чем я себя показал, это в составлении журналов, которые были составлены наивозможно подробно с изложением речей и мотивов постановления. Часто мне потом говорил помощник секретаря Виноградов, что, работая со мной, он понял, как нужно составлять журналы. Собрание кончилось выборами Управы, в которую попали все те же лица. Тогда было совершенно патриархально: был обычай, что вновь избранные Управы угощали обедом гласных, и вот Штриттер, Гейер и Розанов пригласили всех гласных в какой-то ресторан, где все были разделены на чистую и простую публику: чистым был подан обед в одном зале, с винами, и угощали Штриттер и Гейер, а гласные похуже угощались Розановым в другой зале, где обед был попроще: им вин не подавалось, но зато стояли четверти водки. Мне было невыносимо противно видеть все это, а когда к концу пиршества языки развязались и Гейер стал сыпать циничными анекдотами, я поторопился уйти; но помню, что тут только я впервые узнал, что Сухотин тайно женат на вдове Дурново, о чем он поведал Гейеру в момент откровенного излияния, объяснив, что венчались они в Париже. Такое послевыборное угощение было последним; мы, новые гласные, дали понять, что оно нежелательно, тем более что такие расходы на угощение прямо не вязались с жалованьем, получаемым тогда составом Управы: если не ошибаюсь, председатель получал в год жалованья 500 рублей и на разъезды 300 рублей, а члены — жалованья 300 рублей и на разъезды 200 рублей. Угощения эти сохранились лишь как тайные, но только сделались предвыборными, дабы заручиться голосами.
В октябре скончался Александр Иванович Ростиславов; Лиза ввиду своей беременности не могла быть ни на одной церковной службе, но я посещал исправно
360
панихиды и был на отпевании. Александр Иванович скончался неожиданно и, как говорят, от душевного потрясения. Его давно уже недолюбливали в духовной среде, настолько он выделялся из общей среды духовенства; записки же его брата, профессора петербургской Духовной академии, появившиеся в «Русской старине» и обличавшие порядки в старой бурсе, еще более восстановили против него духовный мир. В год моей свадьбы он уже навлек на себя гнев архиерея на одной заупокойной литургии по умершей Кате Мясоедовой. Ростиславов, как духовник Мясоедовой, был приглашен семьей Деляновых служить обедню в Лаврентьевом монастыре; монастырское духовенство его не дождалось и начало обедню без него; когда же Ростиславов прибыл, после Великой ектеньи он остановил службу и начал всю обедню сызнова; понятно, он был неправ, почему архиерей, по жалобе иеромонахов, хотел его, всеми уважаемого протоиерея, сослать в монастырь, и только вмешательство моего тестя спасло его. В этот же раз с ним опять приключилась беда по его слишком большой доверчивости: он повенчал брак, не сделав трех требуемых оглашений, так как доверился свидетелю при обыске, которым являлся один полицейский чиновник; на следующий же день после совершения брака к нему явилась на дом женщина и заявила, что он повенчал ее мужа, который представил ему фальшивые документы; назначено было следствие, Ростиславов на время следствия был запрещен в священнослужении и от огорчения недели через две умер. Похороны его, на которые стеклась вся Калуга, искреннее горе всего общества были данью его памяти; смерть его заставила и весь духовный мир устыдиться тех гонений, которые на него воздвигались, и все городское духовенство с архиереем во главе провожало его прах до могилы. Мы с Лизой были очень огорчены его кончиной, нам все вспоминалось участие его в нашем жениховстве, венчание его нас и приезд к нам в Сергиевское, когда мы говели перед рождением Миши.
В этом году я впервые посетил в качестве публики губернское Земское собрание; сессия эта была чревата событиями: давнишний председатель Управы, Мещеринов Гавриил Васильевич, всеми уважаемый, к открытию Собрания не прибыл, ревизионная комиссия при внезапной ревизии натолкнулась на недоимку денег; все недоумевали, но никому в голову не приходило обвинять Мещеринова, и вдруг получено было от него письмо на имя председателя Собрания Яновского, в котором он каялся в совершении этой растраты. Собрание совершенно растерялось; тут же выяснилось, что растрата производилась несколько лет сряду и ревизионная комиссия оную просмотрела. Прокурор требовал немедленного постановления Собрания о возбуждении преследования против Мещеринова, так как иначе нельзя было приступить к следственным действиям. Собрание, после бурного закрытия заседания, вынесло требуемое прокурором постановление. Никогда не забуду выдержку Булыгина в этом случае; я был у него накануне, не зная еще ничего про это дело, с каким-то докладом по Губернскому присутствию; пришлось мне в приемной довольно долго ждать, пока от него выйдет прокурор, и когда я к нему взошел, ничего необычного в нем не заметил; он подробно, ясно и спокойно дал мне соответствующее указание, и только впоследствии я узнал, что прокурор только что ему доложил все вышеприведенные мною обстоятельства. После постановления Собрания немедленно командированы были
361
товарищ прокурора и следователь в Медынский уезд для ареста в имении своем Мещеринова, но когда они вошли к нему в спальню, где он лежал будто бы больной, он тут же застрелился, выстрелив себе прямо в сердце; дело о нем было прекращено, но ответили члены Управы, служившие с ним. Между членами ходили разговоры, что растрата была совершена, чтобы поддержать окончательно разорившегося бывшего губернатора Жукова, жена которого, Ольга Андреевна, была другом детства Мещеринова. Для нее же он купил маленькое имение в Медынском уезде, где Жуковы и проводили лета. Поразительно отношение Собрания к этому случаю. В предсмертном своем покаянном письме Мещеринов рекомендовал выбрать на его место молодого перемышльского предводителя дворянства, князя Сергея Дмитриевича Урусова, известного впоследствии члена Первой Государственной Думы. Урусов этот, женатый на Лавровой, по жене приходился племянником Жукову; казалось, что рекомендация Мещеринова и родство с Жуковым должно было потопить такую кандидатуру, а вместо этого Урусов был выбран значительным большинством; оказался он действительно прекрасным председателем Управы и только, к сожалению, слишком кратковременным. Алеша Оболенский, в то время козельский уездный предводитель дворянства, к первому дню Собрания опоздал; приехал он, когда уж эта история разыгралась и Мещеринов застрелился; я поехал его встречать на вокзал, чтоб вкратце ему все сообщить, и огорошил его известием, что есть предположение взыскать убытки с членов ревизионной комиссии, которым и он был это трехлетие. Я так был заинтересован всеми этими событиями, что не мог утешиться, что не состою губернским гласным. Зато по закрытии Земского собрания я принял участие впервые в Дворянском собрании и весь был захвачен атмосферой этой общественной деятельности.
В день открытия Дворянского собрания проделали мы весь старинный церемониал, только без шествия по улице; сначала мы, дворяне Калужского уезда, собрались у Сухотина и с ним во главе поехали к губернскому предводителю Яновскому; когда у Яновского собралось большинство дворян губернии, все двинулись к губернатору. Булыгин вышел, поблагодарил за честь, оказанную ему коллективным визитом всего дворянства, и от него мы всей гурьбой двинулись уже в Дворянское собрание. Смешно было видеть знакомые лица в совершенно необычных костюмах: тогда фраки считались либерализмом, всякий напяливал мундир, и разнообразие таковых было необычайное; только предводители дворянства и новые молодые дворяне отличались новизной и чистотой мундиров, остальные же, видно, имели на себе мундиры, лежавшие в сундуках, выцветшие и вытаскиваемые на свет Божий лишь каждые три года; были мундиры времен Екатерины, владельцы коих получили таковые по наследству; я думаю, что многие не имели права ношения таких мундиров, не принадлежа никогда к этой части или ведомству, давно уже упраздненным, но никто об этом не справлялся. Везде слышались в зале поцелуи, радостные возгласы стариков, встречавшихся лишь через три года на Дворянском собрании. В гостиной стоял стол с красным сукном, окруженный золочеными креслами для предводителей, тут же по углам два столика для Калужского и Боровского уездов как старших в губернии, остальные уезды имели свои столы в зале и около каждого хлопотал секретарь предводителя, собирая от дворян все доверительные документы на право голоса:
362
около нашего стола стоял секретарь Давид Демьянович Тищенко, давнишний секретарь, знавший не только в лицо всех дворян уезда, но и все их родство. Когда все собрались, два депутата дворянства по поручению губернского предводителя отправились к губернатору просить его пожаловать; мы все были собраны звонком председателя в гостиной около стола, как только стало известно, что Булыгин прибыл в Собрание; единственный раз в жизни, что я видел его смущенным; сказанные им несколько слов приветствия были переданы им прерывающимся голосом; вручил он Яновскому бумагу об открытии Собрания и пригласил всех в собор помолиться и принести присягу. Обедню в этот день всегда служил архиерей очень торжественно и после молебна обращался к дворянам с подобающим словом перед присягой. Обыкновенно проповедь эта была совершенно банальная, а принесение присяги — крупным доходом соборного духовенства, так как каждый, прикладываясь к кресту и Евангелию, клал значительную мзду на тарелку. Только раз за время моего участия в Дворянских собраниях, а именно в следующее трехлетие, бывший тогда епископ Анатолий обратился к нам со словом, сильно нас потрясшим; и содержание его речи, и обстановка, при которой он ее сказал, были совершенно необычными. По окончании молебна он просил всех дворян, называя их «бояре земли Калужской», подойти к нему поближе, и только когда мы его обступили, он начал говорить: изложив по священному писанию историю возникновения присяги и освящения оной самим Богом, он разъяснил значение оной, подчеркивая, что она не только связывает совесть человека, но и призывает благодатную силу для исполнения тех обязанностей, которые одним человеческим разумением не могут быть достойно исполнены, ибо последствия этих действий столь значительны, что мы их предвидеть не можем; присяга первенствующего сословия, коему надлежит выбрать достойных людей, от которых зависит направление всей местной жизни, успокаивает в мысли, что ими будет руководить сам Бог. Окончил он исповеданием уверенности, что пока дворянство будет верно своей присяге царю и отечеству, государству нечего бояться козней вражеских, а затем, подняв руки кверху, причем казался он нам каким-то выросшим, он молитвенным воплем призвал всех святых и чудотворцев калужских Лаврентия, Тихона, Пафнутия прийти на помощь именитым калужским болярам исполнить свое трудное ответственное государственное дело. Окончив слово, сошел он к аналою и каким-то торжественным властным словом пригласил всех присягать, для чего присяжный лист сам прочел громко и внятно, а каждого присягавшего истово благословил со словами: «Помоги Вам Господь». Впечатление было столь сильное, что Собранием было постановлено в этот день прервать занятия и просить губернского предводителя с уездными поехать к владыке поблагодарить его за высоко назидательное поучение; увы, как увидим впоследствии, впечатление от его слова ко времени выборов изгладилось, и никогда таковые не прошли столь лицеприятно, но все это произошло в 1892-м году, а в это Собрание слово архиерейское было самое обыкновенное. После присяги все вернулись в Дворянский дом, и начались занятия. Первые дни шли обычные доклады и отчеты; я был избран от уезда в сметную комиссию; но все это было лишь подготовкой к гвоздю Собрания, к выборам, которые обыкновенно начинались лишь на третий-четвертый день. К сожалению,
363
уже в это время историческое и юридическое значение Дворянских собраний утратилось, а потому деловая сторона сводилась лишь к выбору предводителей. В сущности же, Дворянское собрание, открывающееся каждые три года, должно было играть громадную роль в государственной жизни; с момента его открытия представителем государя — губернатором — первенствующее сословие получало право без всякого контроля и лишь под ответственностью перед самим государем обсуждать свои дела, непосредственно ходатайствуя о них, если пожелает, перед государем, минуя все передаточные инстанции; вся бюрократия на это время совершенно устранялась от вмешательства и по закону должна была даже содействовать занятиям дворянства, предоставляя в его распоряжение своих чиновников; таким образом, в этот момент Земля Русская через свое первенствующее сословие входила в непосредственное общение с венценосцем.
Умей сословие сохранить и использовать для государственных целей свои права, оно бы навсегда сохранило свое доминирующее значение, и эволюция государственного строя прошла бы безболезненно. Но, повторяю, уже в те времена об этом не думали, и деловая часть Собрания была просто проформой: секретарь дворянства, тогда некто Гурьев, со своим помощником Бегичевым бормотали какие-то доклады, которые никто не слушал, все внимание сосредоточено было на будущих выборах. Собрание открылось при таком составе предводительского персонала: губернским предводителем был Николай Семенович Яновский, личность весьма порядочная, высокой добродетели, но принадлежавшая не к коренному дворянству, ибо он был, если не ошибаюсь, лишь второе поколение, записанное в родословную книгу по ордену, пожалованному его отцу, и потому тех дворянских традиций бескорыстного служения престолу, отечеству и младшей братии, впитанных в наше сословие целым рядом поколений, в нем не могло быть; в нем это был продукт его добродетели, последствие борьбы его за правду, но не существо его собственного мировоззрения; жена его из купеческого рода способствовала его почтенности, но не придавала никакого благородства семье. Уездными предводителями были: калужским — Сухотин, боровским — Курносов, жиздринским — Николай Петрович Булгаков, козельским — князь А. Д. Оболенский, перемышльским — князь С. Д. Урусов, тарусским — Д. И. Ртищев, лихвинским — генерал Погожев, медынским — князь Н. Н. Мещерский, мещовским — князь Волконский, мосальским — Н. И. Булычов; кто был малоярославецким предводителем — не помню. Старшим по избранию был Курносов, а затем Сухотин; младшим был Урусов. Курносов был крупный старик, всеми уважаемый, очень правдивый в своих речах и вполне самостоятельный. Платон Александрович Сухотин, с которым мне пришлось долго служить, а потом его и заменить, вел довольно странную жизнь, живя в имении г-жи Дурново, с которой он будто бы повенчан был тайным браком; такое его двойственное положение делало то, что никто к нему не ездил и принимал он лишь тех, которых это нелегальное положение не коробило. Я, когда делал ему визит, пользовался всегда временем, когда он был в городе, чтоб посетить его городскую квартиру, или же отвозил ему свою карточку в его собственное имение Бунаково, где он никогда не жил, а жила лишь его мать сумасшедшая с дочерью. Платон Александрович мало занимался делами уезда, главное его внимание было обращено на скупку имений
364
и устройство своих дел, чтобы обеспечить детей г-жи Дурново, коих людская молва признавала его детьми. Скупил он для этого крупное имение Боброво, имения Косьмово, Караваенки и составил себе довольно большое состояние; он был очень добрый человек, не прочь был покутить, все его очень любили, но никто к нему серьезно не относился. Главными предводителями, имевшими наибольшее значение в губернии, были Оболенский и Николай Петрович Булгаков; первый — главное, своими связями в Петербурге, посредством которых он всегда мог многое выхлопотать полезное для губернии, а второй — своим деятельным авторитетным характером; Николай Петрович был действительно каким-то удельным князем Жиздринского уезда, а уезд этот составлял чуть ли не третью часть всей губернии; своей настойчивостью и прямолинейностью он добивался того, что все с ним считались, не только в Калуге, но и в Петербурге, где в случае необходимости он умел поднять такую бурю, что только чтоб от него отвязаться, исполняли его просьбы; к чести его сказать, просьбы его всегда клонились к пользе родного уезда, а никогда не имели целью личные интересы, но в его глазах Жиздринский уезд был краеугольным камнем и, по его мнению, все должно было приноситься в жертву его интересам, что вызывало с ним частые прения в губернском Земском собрании. Другие предводители имели более местное значение в своих уездах, чем в губернии; по своему уму и образованию могли бы сыграть роль Урусов и Мещерский, но первый был ставленником в своем уезде самой косной ретроградной дворянской партии и чувствовал себя в их лапах, а второй мало чем интересовался и имел какие-то очень трудные и запутанные семейные и имущественные обстоятельства.
Калужское дворянство в те времена не выдвинуло еще из своей среды государственных деятелей, и потому свежего негубернского элемента в среде Собраний не встречалось, и гораздо большую роль играли старые дворянские столпы; к таковым принадлежали Николай Сергеевич Кашкин, Николай Васильевич Тетеревенков, Иван Иванович Нефедев, Роговский и Евтихий Иванович Челищев; первые двое были представителями либерального течения, а последние трое — старого доморощенного уклада, пристроившиеся к земскому пирогу, внесшие в эту деятельность свой хозяйственный опыт, но зато и крепко державшиеся старины и боявшиеся всякого новшества; самым старым по годам, был, кажется, Нефедьев: он чуть ли не всем говорил «ты» на правах 90-летнего старика, говорил на «о», все сводил на денежный расчет и свою многочисленную семью, детей, внуков и правнуков держал в ежовых рукавицах. У Челищева был пунктик открещивания от бесов, и он делал поминутно незаметное крестное знамение, отгоняя чертиков, которые, по его убеждению, его всегда обступали. Роговский был медынский председатель Управы и своим хитрым польским складом ума приобрел там влияние еще более Мещерского, но никогда не хотел занять бесплатную должность, почему никогда предводителем не был. Н. В. Тетеревенков долгое время был перемышльским предводителем дворянства, а в то время занимал вновь открытую должность управляющего Калужским отделением Дворянского банка; по образованию и складу ума он был математик, прекрасно говорил и не стеснялся громко обличать замеченную им несправедливость. О Н. С. Кашкине я уже неоднократно упоминал; участие его в петрашевской истории,
365
разжалование в солдаты, окружило его ореолом пострадавшего за убеждение; в то время он был уже давнишним товарищем председателя Калужского Окружного суда; первая его жена была Нарышкина, от которой у него было двое детей, а вторая была калужская актриса Щекина, вышедшая потом замуж за Былим-Колосовского; вел он жизнь совершенного маньяка; вставал крайне поздно, просиживал некоторое время в Окружном суде и затем после обеда в 5 часов прочитывал газеты, все, что было нового и интересного в литературе, и в десять отправлялся в клуб, где играл в неизменный винт до поздней ночи; времяпрепровождение его было столь аккуратно, что во время Собраний он их не прерывал, а только менял места, то есть в самом Собрании прочитывал и подписывал то, что полагалось на этот день. Он был очень образован, имел громадную библиотеку, вел обширную переписку и всегда знал массу разнообразных, самых животрепещущих новостей; в Собрании он редко выступал и его влияние было скорее скрытое, он больше действовал интригой: вовремя брошенным словцом, чем-то переданным на ушко, а не открыто, прямой речью и откровенным мнением; его, несомненно, не любили, но почитали в нем могикана, деятеля еще Крестьянской реформы и бессменного губернского гласного с момента основания Земства.

Евгений Николаевич и Вера Александровна Трубецкие
с сыновьями Сергеем и Александром.
Меньшово. 1892. Частное собрание, Париж
В городскую жизнь Дворянское собрание вносило заметное оживление; по традиции, цены в гостиницах, у извозчиков, в театре удваивались на это время, а насидевшиеся в своих медвежьих углах и выползавшие лишь раз в три года
366
дворяне в это время расходились: не было дня, чтобы не устраивалось какой-нибудь попойки, кутежа; калужское общество устраивало вечера для своих знакомых, всякие благотворительные учреждения пользовались этим наплывом приезжих, чтобы собрать концертами, спектаклями, балами средства для своих питомцев; после выборов уездные дворяне давали обеды своим бывшим предводителям, вновь выбранные предводители давали такой же обед своему уезду; если предводители не менялись, все-таки обеды эти давались; одни только Яновский и Сухотин ничего такого не предпринимали и у них дома оставались закрытыми. К стыду, должен сказать, что почти всегда кончалось чьей-нибудь смертью от слишком большого кутежа. Я, живя у себя дома, наблюдал это оживление, обменивался визитами и в душе завидовал предводителям, игравшим такую значительную роль в это время; в своей сметной комиссии я был избран секретарем; доклад наш прошел без возражений, и мне казалось, что и я что-то сделал толковое, а вся работа сводилась к подсчету недоимок, которых все равно никто не платил, и к раскладке недостающей суммы на расходы по дворянским землям; платежи эти в значительной степени вновь попадали в недоимку, почему финансы дворянства все более запутывались, а служба предводителей, покрывавших из своего кармана все недостатки, делалась все более и более не по средствам.
В день уездных выборов оживление было большое, хоры были полны дам, приехавших наблюдать, между хорами и залой был непрекращающийся va et vient, отсутствовали только административные должностные лица, которым, так же как и полицейским чинам, считалось неприлично быть тут в качестве публики; то здесь, то там в зале раздавались аплодисменты, означавшие, что выборы предводителя кончены и уезд приветствует вновь избранного; не помню точно, но, кажется, в этот год перемен в составе предводителей не было, кроме Лихвинского уезда, где Погожев отказался и избран был Н. С. Яковлев; у нас прошел Сухотин, кандидатом к нему, как всегда, Яков Семенович Унковский, депутатом, кажется, Баскаков, а членами Опеки — не помню кто. По окончании выборов все разъехались до следующего дня, так как можно было приступить к губернским выборам лишь по утверждении уездных должностных лиц. Вопрос об утверждении уездных предводителей губернатором был всегда вопросом очень спорным и болезненным для дворянства; часто высказывались мнения, что надо ходатайствовать об изменении этого закона, так как унизительно, чтобы предводитель уездный мог бы быть отвергнут губернатором; но люди с более практическим складом ума доказывали, что переносить утверждение в Петербург давало бы лишь пищу дальнейшим интригам между двумя избранными кандидатами; здесь же, на месте, надо какие-нибудь особые поводы, действительно закономерные, чтобы губернатор решился бы не утвердить ставленника дворянства; это мнение холодного рассуждения обыкновенно восторжествовывало и никогда ходатайство об изменении закона не возбуждалось. Губернаторы учитывали это положение и протесты свои основывали всегда на несоблюдении закона о выборах, никогда не касаясь личности, кроме одного раза в следующие выборы, о чем речь будет впереди.
На этот раз Булыгину не пришлось особенно торопиться, весь вечер был у него впереди, так как у дворян этот вечер был посвящен уездным обедам своим предводителям, а следующее утро — ответным уездным завтракам со стороны
367
предводителей. Были ли у нас такие пиршества в уезде — не помню, по всем вероятиям, да, потому что упустить случай покутить не было в обычаях тогдашних дворян, а время дворянских выборов считалось узаконенным для этого. Ввиду этих завтраков Собрание открывалось поздно, зала была убрана уже по-новому: губернский стол из гостиной выдвинут на середину залы, а уездные столики предназначались лишь для совещания дворян по уездам. Начало заседания было занято заслушиванием протестов губернатора на уездные выборы и исправлением их дополнительными выборами, сделанными хотя наспех, но с соблюдением тех формальностей, которые послужили к протесту; интересы уездных выборов уже отошли на второй план, все внимание было обращено на личность будущего губернского предводителя; уездные предводители совещались, подсчитывали голоса своего уезда; казалось, на этот раз, что избрание Яновского было обеспечено, тем более что Оболенский вновь устранял свою кандидатуру по чисто материальным соображениям и всячески старался укреплению позиций Яновского, дабы не быть вынужденным по настоянию дворян идти на баллотировку. Был еще один домогавшийся этого поста, а именно Н. П. Булгаков. Он, быть может, вполне бы удовлетворил такому месту и своей настойчивостью во многом бы помог Калужской губернии, а в своих сношениях с бюрократией был бы несомненно вполне самостоятельным, но, к сожалению, его острый злой язык нажил ему столько врагов в среде дворян, что шансы его были незначительны. Нам, простым дворянам, не участвовавшим в тайнах кухни, казалось все дело ясным, и мы недоумевали, почему выборы не начинались. Помню, что я подошел к Оболенскому, летавшему с озабоченным видом от одного к другому, и спросил его по-аглицки: «Are you glad?», намекая на то, что выбор Яновского входил в его планы, и тут только я узнал от него, что два уезда наотрез отказались поддерживать эту кандидатуру, а три ненадежны и могут подвести при выборе второго кандидата, переложив последнему шары и добившись этим оставления Яновского за флагом, что было бы еще большим афронтом. Яновский ввиду этого согласился ставить свою кандидатуру лишь в том случае, если пройдут его ставленники в секретари дворянства; предполагал он предпослать пред этим выбором несколько слов в виде рекомендации и, в случае успеха, признать этот пробный шар доказательством своей популярности в Собрании. Выбор самого секретаря был обеспечен, не было случая забаллотировки старого секретаря, для которого это место рассматривалось как почетная пенсия, но Гурьев был так стар, что все были убеждены, что он трехлетие не дотянет, и важна была личность его кандидата. Яновский проводил Д. В. Панина, а противная партия кого-то другого, и вот успех этих выборов и должен был определить силу той или другой партии. Гурьев и Панин, горячо рекомендованные Яновским, прошли блестяще, почему Николай Семенович воспрянул духом. Служителями Собрания быстро зажжены были по традиции все люстры в зале, секретарь дворянства принес старинное серебряное блюдо для счета шаров губернского предводителя, все двери залы были заперты на ключ, дабы никто из дворян не вышел бы и счет голосов не изменялся бы при выборах всех кандидатов; хоры были переполнены, но сообщение с ними уже было прекращено. По совершении всех этих обрядностей Яновский объявил, что он более не губернский предводитель, что Собранию надлежит выбрать двух кандидатов на эту
368
должность для представления государю на предмет утверждения одного из них по выбору его величества на должность губернского предводителя, и до сего передаются полномочия и обязанности губернского предводителя калужскому уездному предводителю, то есть нашему Сухотину, который и занял председательское место. По закону прежде всего избрание предлагается бывшему в последнее трехлетие губернскому предводителю, а затем поименно всем занимавшим до него этот пост, а также всем наличным и бывшим уездным предводителям.
По предложению Сухотина Яновскому выбираться, тот, хотя решил уже идти на это, по обычаю, отказался, раздались крики: «Просим, просим», и лишь два уезда как-то стояли в стороне и демонстративно молчали. Несмотря на протесты Яновского, его поволокли под руки вон из залы и началась баллотировка, которая по многочисленности участвовавших в ней томительно тянулась; еще томительнее был счет шаров, звонко отчеканиваемый падением шара на серебряное блюдо; когда счет перевалил за половину и окружающие баллотировочный ящик увидали, что еще много есть шаров «за», поднялись аплодисменты, подхваченные публикой на хорах; аплодисменты эти длились вплоть до окончания счета, после чего все ринулись за Яновским и торжественно внесли его на золоченом кресле в залу, а Сухотин поднес ему на серебряном блюде избирательные шары; поздравления, обнимания длились долго. В это время уездные предводители сговаривались о личности второго кандидата, коим обыкновенно выступал князь Мещерский; надо было предводителям договориться, кому из уездов по счету голосов класть направо, а кому налево, дабы Мещерский был бы избран, но вместе с тем получил бы голосов меньше, чем Яновский, так как то и другое осложняло бы положение; требовалось представление государю непременных двух кандидатов, из коих его величество утверждал всегда получившего наибольшее количество шаров. Началось резкое громкое выкрикивание по старшинству всех имеющих право баллотироваться и ответ из разных углов залы с разнообразными оттенками голосов: «Отказываюсь» или «Отсутствует», пока не дошло до князя Мещерского, который все-таки, по обычаю, отказался, но после нескольких возгласов «просим» вышел в гостиную, и баллотировки начались; на этот раз все прошло как бы по нотам и чрез какой-нибудь час времени выборы были кончены и все разъехались. На следующий день оставалось лишь подписать протокол прошлого заседания и просить губернатора закрыть Собрание; для этой процедуры съезжались лишь наличные дворяне, живущие в Калуге в самом незначительном количестве; торжество было кончено, залы имели вид уже обыденный, вся процедура длилась какие-нибудь полчаса. Через день Калуга приняла уже свой обычный вид, и только по Московской и Никитской тянулись извозчики на вокзал с отъезжающими дворянами.
В течение зимы министр внутренних дел граф Толстой, вдохновитель реформы земских начальников, умер и на его место был назначен Иван Николаевич Дурново с определенным указанием государя провести эту реформу в жизнь. Положение о земских начальниках и закон были уже утверждены; наша губерния попала в первую очередь, так что первого февраля реформа у нас должна была быть введена. Кандидаты на эту должность были уже заранее, по соглашению губернатора с губернскими и уездными предводителями, намечены и представлены министру;
369
приказ о моем назначении в III-й земский участок Калуги состоялся 19-го января, то есть за 13 дней до самой реформы, и таким образом я очутился самым старшим по сроку назначения земским начальником в России. В первый призыв земских начальников по Кудринскому уезду попал Жемчужников, служивший при освобождении крестьян мировым посредником; государь, узнав из доклада губернатора о согласии такого почтенного деятеля занять эту должность, велел Булыгину передать Жемчужникову свое благословение за желание на старости лет потрудиться в новой должности, долженствующей, по мнению царя, упорядочить жизнь деревни.
Оставалось немного времени нам жить в Калуге; 2-го февраля я должен был быть уже в Сергиевском для открытия новых учреждений, то есть своей камеры и, главным образом, волостных судов, организованных на новых началах. Новый год встречали мы с женой у Булыгина, у которого соблюдалась наша же семейная традиция, то есть новогодний ночной молебен; это нам было очень приятно с Лизой. 2-го же января она уехала в Москву повидать своих родителей, я же остался один с детьми. Кажется, Мама́ приехала мне помогать, но отсутствие Лизы было очень непродолжительное, вернулась она совершенно больная, застудив по дороге зубную боль и захватив жесточайшее воспаление надкостницы. Весь январь прошел в мучительных для нее болях, доктора у нас не переводились, устраивалось несколько консультаций, но все сходились на том, что радикальное средство, а именно извлечь больной зуб, невозможно ввиду ее беременности. Обращались мы, по совету горничной жены, Саши, и к знахарям, и к заговорам, но ничто не помогало; жена худела не по дням, а по часам, и в таком превратном положении застало нас 1-е февраля.
Измалково, 6 ноября 1918 года.
Принимаюсь вновь за свои воспоминания после более чем двухмесячного перерыва, во время которого пришлось и Сергиевское покинуть, и обратиться в беженца, что и было причиной невозможности сосредоточиться. Все-таки возвращаюсь к прерванной работе; сумею ли и успею ли ее окончить, одному Богу известно, но она служит мне облегчением, принуждая мысленно переноситься в то счастливое, уравновешенное время, когда и Россия была верна своему царю, и могущественна, и едина, и вера православная была тем светочем, благодаря коему сама государственная и народная жизнь была одухотворена и осмысленна. Но к делу, и помоги мне, Господь, правдиво продолжать рассказ о пережитом.
1-го февраля 1890 года торжественно открыты были губернатором А. Г. Булыгиным в Калуге действия института земских начальников по новому Положению. В нашем Калужском уезде в то время предводителем оставался тот же П. А. Сухотин, и он становился во главе нового уездного съезда. Земские начальники назначены были: I-го участка — Никанор Алекс[андрович] Лебедянцев (бывший до того калужским исправником), II-го участка — Александр Михайлович Желябужский (бывший артиллерийский офицер) и III-го участка — я; уездным членом назначен был Алекс[андр] Иванович Кологривов (бывший мировой судья еще времен моего отца), а городскими судьями: I-го участка — Розенталь (несомненно еврейского происхождения) и II-го участка — Бекетов, сын профессора, хороший юрист, но довольно слабой нравственности, отчего семья за ним
370
не последовала, и жил он довольно замкнуто. Товарищу прокурора Жудекову было поручено заведование нашим уездом, и он-то и принимал главное участие в разработке с нами на практике новых форм и обычаев судопроизводства, где впервые административная и судебная власти объединялись в уезде в одном лице. Секретарем съезда определен был Сухотиным Ольховский, без совета с Кологривовым, коему как непременному члену Судебного присутствия уездного съезда и предстояла главная совместная работа с секретарем; такой поступок Сухотина на первых же порах привел к незначительной размолвке с ним Кологривова, но оба они были слишком дружны между собой по старинным семейным отношениям, слишком оба были хорошего, не мелочного характера, чтобы отношения испортить, и после дружеского объяснения все сговорились и заработали дружно. Список товарищей по съезду был бы неполон, если я не упомяну нескольких временных членов по Административному присутствию, а именно исправника Николая Эрнестовича Мантейфеля и податного инспектора В. И. Ассонова; другие члены были случайные и никакого влияния и участия в проведении в жизнь реформы не проявляли; все же поименованные лица с рвением и живым интересом принялись за работу. Мне казалось тогда, что время то напоминало эпоху первых мировых посредников по новизне Положения и по вдумчивости первых деятелей этой реформы; когда мы сходились между собой, всегда разговор переходил на оценку нового закона, на рассказы разных случаев, встречавшихся на практике, и чувствовалось, что творится что-то большое на пользу заброшенного крестьянства и, главное, на упорядочение сельской жизни, оставшейся благодаря коллегиальным учреждениям без всякой административной власти, а потому и всецело подпавшей под начало полиции, которая в те времена, как и всегда, далеко не всегда была на высоте своего положения и имела довольно незавидную репутацию. Оговариваюсь, что исправники калужские, как-то Лебедянцев и Мантейфель, наоборот, всегда пользовались самой хорошей репутацией, вполне ими заслуженной, как неутомимые, бескорыстные и честные работники. О Сухотине я уже упоминал выше; роль его в съезде сводилась лишь на довольно неумелое председательство, когда надо было пополнить состав, но работать он не мешал и своим ровным, благожелательным ко всем характером способствовал единению. Кологривов оказался выдающимся практическим юристом, но зараженным судейским либерализмом, и потому вначале не переваривал упрощенные формы судопроизводства; но он был всегда готов принять, выслушать возражения и — там, где считал себя некомпетентным, — уступить; зато в чисто юридических вопросах, общих для земских и городских судей, он был выдающийся советник, руководивший нами, неопытными в судебных делах земскими начальниками, как старший товарищ, и ему, несомненно, принадлежит заслуга выработки практики новых судопроизводств в уездном съезде, сделавшей наш калужский пункт наилучшим. Городские судьи оба были хорошими товарищами, добросовестными деятелями, и с самого начала установились у нас с ними хорошие отношения, говорю — с нами, земскими начальниками, ибо мы, объединяя в одном лице обе власти, стояли по отношению юристов особняком и во всех делах, главным образом, защищали существо дела, пренебрегая иногда формой; но и Розенталь, и Бекетов скоро сумели стать на нашу точку зрения
371
по сельским делам, понимая, что земский начальник, знающий всю местную жизнь, не мог оправдать шинкаря за недостатком улик в продаже водки, всегда заведомо зная как местный житель, что он — сей шинкарь — торгует водкой. Исправник Мантейфель был крайне корректный человек, изысканно любезный и предупредительный, знал уезд как свои пять пальцев и требовал от подчиненных ему лиц оказывать всемерно содействие нашей новой крестьянской власти; таким образом, благодаря такому отношению не было никаких трений, а наоборот, во всем всегда полная солидарность. Этому же содействовал и Ассонов, страстный археолог, очень покладистый по всем вопросам служебным. При таком положении наша власть земских начальников в Калужском уезде ни в ком не встретила [и] тени противодействия, к сожалению, часто и во многих местах наблюдаемого со стороны либеральных кругов, не понимавших значения реформы и не сознававших беспомощности крестьянства, предоставленного после освобождения крестьян самому себе и не могущего усвоить всех тонкостей судебной волокиты и казуистики, и потому часто бесправия. Правда, без похвальбы скажу, что первый состав земских начальников был особенно удачен не только в уезде, но и большей частью в губернии. По Жиздринскому уезду пошел бывший мировой посредник первого призыва Жемчужников, за что и удостоился особого царского благоволения. Замысел реформы — призвать лучших местных людей — удался лишь вначале, затем слишком подчиненное положение, частая бестактность губернаторов, пренебрежение к этим новым должностям самого министерства и, наконец, низкое положение этих чинов в уездной иерархии имели результатом [то], что стали избегать этого поста, кроме лиц, нуждавшихся в заработке и потому совершенно несамостоятельных, и окончательно уронивших престиж власти на местах. Но, повторяю, первый состав был очень удачен. Лебедянцев, хотя вначале думал внести кое-какие полицейские замашки, но, посоветовавшись с нами, бросил свои затеи; авторитетом же и уважением пользовался с первых же шагов благодаря своей прежней службе в уезде. Желябужский был совершенно недоволен, но столь благожелателен, столь прост и патриархален в своих сношениях с крестьянами, что также он приобрел общую любовь, хотя над его первыми судебными приговорами часто посмеивались, настолько они были подчас наивны и без соблюдения каких бы то ни было форм. Сознавая и за собой, несмотря на мой стаж в канцелярии губернского Присутствия, тот же недостаток канцеляризма, я, по совету Сухотина, взял опытного письмоводителя Левковича, у которого я незаметно и подучился всей форме письмоводительства. Человек он был очень знающий, но совершенно ненадежный, почему я его ни до каких дел не допускал, и когда довольно сам навострился в писании бумаг, месяцев через пять отпустил, воспользовавшись первым случаем его нетрезвого поведения.
В Калуге открытие состояло в том, что после торжественной обедни в соборе и принесения нами, земскими начальниками, присяги, в большой зале Дворянского собрания состоялось публичное заседание губернского Присутствия в составе прежних членов губернского по крестьянским делам Присутствия; а по прочтении непременным членом Сорокиным высочайшего указа о введении в губернии Положения о земских начальниках к столу были приглашены новые
372
члены Присутствия, и губернатор Булыгин произнес программную речь. Даром красноречия он не обладал, но знакомство его как бывшего <…> с местной жизнью, с крестьянским бытом и нуждами деревни сказались в обстоятельности изложения. После этого им был предложен всем присутствующим завтрак в соседней зале, во время которого произнесено было много спичей. Из них самый блестящий был экспромт Николая Валерьяновича Муравьева, тогда еще прокурора Московской Судебной палаты. Говорил он на тему о необходимости единения в новых учреждениях судебной и административной власти. Вступление его — «Случайный гость сего торжества...» — было сказано с такой простотой, уверенностью, что сразу почувствовался завзятый оратор, и наши доморощенные губернские демосфены прикусили язычки. Но уже сразу почувствовалось, что в среде губернской иерархии земские начальники не будут признаны той почетной и важной должностью, на которую метил законодатель, указав, что право поступления на эту должность принадлежит в первую голову губернским и уездным предводителям дворянства, прослужившим по выборам не менее трехлетия. Закон этот остался мертвой буквой, и никто, кроме [как из-за] крайней материальной нужды, не менял самостоятельную, видную, почетную должность предводителя на подначальное положение земского начальника. С течением времени это все более и более резко чувствовалось, да и вначале Булыгин, зараженный все-таки бюрократизмом, хотя и сочувствовал реформе, не умел себя поставить в правильные отношения с земскими начальниками и часто своим высокомерным начальническим тоном вызывал неудовольствие. Но в ту минуту главные мысли были направлены к открытию новых учреждений, и в том числе нового преобразованного волостного суда, долженствовавшего стать краеугольным камнем реформы в крестьянском быту, и потому мы, земские начальники, хотя и чувствовали, что не нас en gros чествуют, а все внимание обращено на губернские власти и предводителей, мы же — лишь хор, празднующий свой бенефис, — все-таки этим не огорчались, а старались знакомиться между собой и горячо обсуждали свою новую деятельность.
Новый состав земских начальников можно было бы разделить на три категории: 1) людей, вполне самостоятельных, не нуждавшихся в службе как заработке, а пожелавших пойти на эту деятельность для того, чтобы осмыслить свою жизнь в деревне; к этой категории причисляю я себя, князя С. Д. Горчакова, Павла Михайловича Голубицкого (последние оба из Тарусского уезда), князя Вяземского [из] Козельского уезда и многих других, фамилий коих не помню; но надо сознаться, что ряды земских начальников были бы значительно более пополнены такого рода деятелями, если бы не либеральная печать, все время критиковавшая эту реформу и предвещавшая в ней скрытое возвращение крепостного права; 2) Вторая категория состояла из лиц, желавших на склоне своей служебной деятельности устроиться более почетно и покойно, как-то Лебедянцев, бывший исправник, Донобел, тоже когда-то служивший по полиции и т. п.; 3) Последняя категория, наиболее многочисленная, состояла из людей, мечтавших сочетать занятие земским хозяйством с казенным жалованьем. Но на первых порах все три категории слились в общем желании провести реформу благополучно, привить ее начала населению, и только впоследствии побудительные
373
причины, заставившие идти каждого на эту должность, так или иначе отозвались на дальнейшей деятельности.
Я, по привычкам военного воспитания и пунктуальности в служебных сношениях, на следующий день разослал по всем волостям приказы о явке ко мне в камеру в Сергиевское всех должностных лиц моего участка, а также вновь избранных кандидатов на должности волостных судей; отправил со всей канцелярией Левковича в Сергиевское, сам облекся в мундир и объехал всех членов губернского Присутствия и уездного съезда, чем вызвал у многих непритворное изумление, не ожидавших такой вежливости. На следующий же день, оставив больную жену в Калуге (у Лизы было необъясненное и непонятое докторами воспаление надкостницы, длившееся с начала января и для нее очень опасное, так как она ожидала рождения третьего ребенка; впоследствии эта боль разрешилась наружным нарывом, к счастью, миновавшим сонную артерию, благодаря чему его удалось благополучно вскрыть уже в деревне, для чего приезжал Парфианович), я, как только приехал, отслужив благодарственный молебен в помещении моей канцелярии и камеры (занял я верхние комнаты на нашей половине; из них круглую — под камеру, теперешний кабинет Льяны — под канцелярию, а комнату девушки и площадку под лестницей, составлявших тогда одну комнату, — под квартиру письмоводителя; помещение это было временное, до отделки башни, где<…> контора, в которую летом и переехали: канцелярия и камера — в верхний этаж, а письмоводитель — в нижнюю) и открыл действия своего участка, назначив принесение присяги новыми волостными судьями, которых я тут же своим приказом № 1 и назначил, в следующее воскресенье в нашем храме. Очень тепло приветствовал меня наш старый священник Д. В. Извеков, предрекая мне общую любовь народную, говоря, что он, как мой духовный отец, знает мои чистые побуждения — послужить народу. Очень гордился я в этот день, когда получил первую казенную бумагу, с торжеством записанную во входящий журнал под № 1.
Описывая первые шаги моей деятельности, я живо переживаю тот подъем духа, который я испытывал; я весь ушел в эту новую работу, объезжал свой участок, в первую же неделю посетил все четыре волостных Правления моего участка (Сергиевское, Ферзиковское, Лущихинское и Лосенское), и чем более убеждался, как крестьяне последнее время были заброшены, предоставлены власти разных волостных писарей, тем более загоралось во мне желание вывести их из этого бесправного положения. Между прочим, я наткнулся на такое обстоятельство: ревизия волостных Правлений моего участка с освобождения крестьян была произведена лишь раз, а именно за год перед этим, бывшим исправником Лебедянцевым, спешно объехавшим волости перед проездом губернатора Булыгина. Замечания его, записанные в ревизионную книгу, курьезны как доказательство полного беззакония, царившего в волостных судах почти 30 лет; так, например, в Сергиевской волости обнаружено было, что все приговоры волостного суда о наказании розгами объявлялись без права обжалования и приводились в исполнение тут же немедленно, а в соседней Городненской волости оказалось, что телесному наказанию подвергались и женщины, причем, как говорили старики, исполнителями были почти всегда молодые парни, которые потом, по обычаю, брали себе наказанную, если она была девицей, в жены.
374
Удивительно и симптоматично, что Крестьянские присутствия были завалены жалобами на разные решения по имущественным делам, а на такое вопиющее нарушение закона никто не жаловался.
Как [на] еще больший курьез укажу на деревню Алешкино Ферзиковской волости, [и на], кажется, Наумова, мирового посредника, вводившего уставную грамоту. Александр Васильевич Зыбин, уговорил крестьян устроить у себя подворное владение вместо общинного, и так и было сделано; но крестьяне не знали, в чем сущность подворного владения, и так как они были единственные в своем округе, de facto владели они землей на общинных правах, и только я как земский начальник (то есть более чем чрез 70 лет) обнаружил это. Все беззаконие творилось <…> ранее не было известно Крестьянскому присутствию. Я, чтобы вывести их из этого положения, возможно яснее растолковал им их права собственников на землю и подсудность их сходу и суду, чего они совершенно не знали. Кажется, потом они в виде <…> перешли на общинное владение.
В наследство от упраздненных мировых судей и Крестьянских присутствий наследие получил я небольшое, так как с увеличением компетенции новых волостных судов многие уголовные дела отошли к ним, а гражданские были все прекращены с правом вчинить вновь иски в новых судах с приостановлением течения срока давности. Но зато те дела, которые я получил, были крайне запутаны и объемисты; одно из них — о расхищении плывучего леса во время половодья предыдущего года — заключало обвиняемых несколько десятков лиц и соответствующее количество свидетелей, которых я никак не мог разыскать.
Перешло ко мне и неприятное дело о выборе гласных в Земское собрание от заречного крестьянского населения; тогда еще гласные от крестьян выбирались не волостными сходами, а крестьянским сходом трех волостей (Лосенской, Лущихинской и Набжевской) под председательством мирового судьи, замененного реформой земским, и выборы были кассированы по жалобе местного старшины Федора Орлова, честолюбивого, далеко не честного и всячески стремившегося примазаться к земскому пирогу. Выборы там отсрочивать нельзя было, и пришлось мне с опасностью для жизни в марте, в ледоход, переправляться через Оку под Тимофеевкой. Но еще до того мне пришлось на опыте почувствовать оборотную сторону медали и сознать, что писать законы одно, а проводить их в жизнь — другое. Ознакомившись с участками, мы, земские начальники, на первом организационном съезде возбудили целый ряд вопросов: одни, вытекающие из самого нового Положения, а другие, возбужденные для пользы дела отдельными земскими начальниками. К первого рода делам относится определение размера жалованья волостным судьям, которое по новому закону устанавливалось уездным съездом по представлению надлежащего земского начальника, а волостным сходом лишь вносилось в раскладку. Ко второму роду дел относится упразднение двух волостей, Городненской и Андроповской, с переводом большей части селений в мой участок и перетасовкой селений Ферзиковской волости, из коих три — Броницы, Стопы и Александровское (Раевское, Покровское тож) — переводились в Сергиевскую волость. Вопрос этот был возбужден земским начальником II-го участка Желябужским, а я легкомысленно его поддержал, не сообразив, как пагубно подействует на коренное сплотившееся население
375
Ферзиковской и Сергиевской волостей присоединение большого числа новых селений, из коих два, Егорьевское и Андропово, были родиной волостных старшин: упраздняемой Городненской волости — Аккуратного, и упраздняемой Андроповской — Полупкина. Оба они теряли свои места и потому являлись центром всяких интриг против существующих старшин, Василия Глебова и Матвея Лаврова, из коих последний отхаживал свое девятое трехлетие. Я лично на этом съезде поднял еще более жгучий вопрос об установлении частных сроков для взноса повинностей. Поддержал меня особенно горячо податной инспектор Ассонов; Лебедянцев, как более знающий крестьянские построения, старался умерить мой пыл, но я его не послушался и сам заварил кашу, которую с трудом потом расхлебал. Все эти три постановления съезда при приведении их в исполнение испортили мне много крови. Но расскажу по порядку о каждом.
Раскладка жалований волостным судьям по Лущихинской и Лосенской волостям прошла без запинки, так как сходчики не особенно вдумались в ту раскладку, которая была представлена им волостными старшинами. А жалованье волостных судей, по 36 рублей в год каждому из четырех судей, было столь незначительно, что незаметно увеличило раскладку. В Сергиевской волости, где слухи о присоединении селений Городненской волости уже взбудоражили население, настроение было уже более повышенное, и слышно было много протестов по поводу увеличения жалованья волостным судьям. До реформы их было в волости всего три и получали они 3 рубля в год, но отбоя от желающих занять эту должность не было, ибо каждый суд кончался попойкой за счет выигравших дело. Странное дело: Сергиевский волостной сход, население коего мне было наиболее знакомо, всегда наиболее противодействовал моим начинаниям, и много труда и усилия стоило мне удерживать сход в должных рамках. На этот раз я сумел повернуть настроение тем, что, заметив их упорство, я воспользовался тем, что этот день совпадал с прощальным воскресеньем, и в нескольких теплых словах объяснил им значение обычая прощания перед Великим постом, попросил у них прощения, они у меня, настроение смягчилось и раскладка была принята без возражения.
По Ферзиковской волости дело осложнилось, и там на первых порах я потерпел полное фиаско. На волостной сход я не поехал, понадеявшись на старого, опытного волостного старшину и отозванный каким-то спешным делом в Калугу; сход отверг размер жалованья, назначенный съездом, и, разложив старое жалованье в 3 рубля, с трудом назначил это жалованье 4-му судье; старшина с писарем на следующий день привезли мне этот злополучный приговор, который я тут же представил в съезде к отмене. Когда приговор был отменен, я вновь назначил сход и опять на него не попал — на этот раз по болезни, а результатом было повторение отмененного приговора; дело начинало принимать характер прямого неповиновения требованиям закона. Приговор я опять представил к отмене, прося это сделать в спешном порядке; всех должностных лиц, участвовавших на сходе, кроме волостного старшины, подписавшего приговор с оговоркой, что он с этим не согласен, я посадил под арест на трое суток каждого, а остальных сходчиков оштрафовал по рублю. Это было мое первое дисциплинарно-карательное постановление, и, не без сомнений и волнений, я его подписал. Как только получил я постановление съезда об отмене приговора, я, больной еще,
376
с повязкой на горле, поехал на сход, где встретил прямо враждебное настроение. Долго пришлось мне с ними говорить, разъяснять, почему я строже отнесся к неповиновению должностных лиц, и только после долгих настояний и категоричного заверения, что я буду, в случае упорства, ходатайствовать о раскассировании волости, добился требуемой раскладки. Действительно, положение власти, могущей определить расход, но не имеющей права его разложить, было крайне шаткое, и уже значительно позднее закон этот был пересмотрен.
Дело об упразднении волостей вызвало если не столько осложнений, то не менее хлопот, так как требовалось если не согласие каждого схода, волостного и сельского в отдельности, то, по крайней мере, их отзыв, каковые почти все были отрицательны. Пришлось писать объяснения, самым подробным образом опровергать доводы сходов и делать это настолько убедительно, чтобы губернское Присутствие, которое окончательно решало это дело, прониклось бы целесообразностью мотивов съезда; мне лично помогла моя прежняя работа в канцелярии губернского Присутствия и знакомство с практикой по этого рода вопросам. Но самое трудное оказалось не проведение этой меры в законодательном порядке, а в практическом применении ее на месте. В Сергиевской волости коренное население с присоединением нескольких селений Городненской и Ферзиковской волостей оказалось в таком незначительном большинстве, что при малейшей неаккуратности сходчиков большинство могло оказаться на стороне пришлых; вновь же прилепленные селения отличались своим сутяжничеством и беспокойным настроением. По Ферзиковской волости, хотя большинство сохранилось за коренным населением, но андроповцы были настолько развитее, что оказывались решающим голосом, а вместе с тем, живя всегда на стороне, совершенно сельской жизни не знали и могли только вредить при решении вопросов сельского быта Ферзиковской волости, сохранившей свой сельскохозяйственный характер. Как пример вспоминаю, что бывший старшина андроповский, Данила Полупкин, окончил 5 классов классической гимназии и в свободное время писал стихи; ферзиковский же старшина, Матвей Иванов Лавров, красивый седой старик в длиннополом кафтане, хотя и подписывался с грехом пополам, но служил уже 9-е трехлетие, все-таки был уважаем как честный правдивый мужик и один из лучших хозяев своей волости.
Первые два года эти две волости дали мне много хлопот, пока удалось мне если не слить все элементы воедино, то, во всяком случае, способствовать определению характера каждой волости настолько ясно, чтобы случайные решения, не соответствующие настроению населения, не могли бы иметь места. Впоследствии я настолько знал народ, что по виду, разговору мог определить, к какой волости мужик принадлежал. Самый развитой был Ферзиковской волости, а самый серый — Лосенской; самый буйный принадлежал к отдельным селениям Сергиевской и Лущихинской волостей, а именно Броницам, Егорьевскому и Дугне.
Третий вопрос, об установлении частных сроков, оказался мне совершенно непосильным и пришлось мне от него отказаться; для проведения этого начинания в жизнь требовалось согласие волостных сходов, и как я ни разъяснял им, какое облегчение платить по мелочам повинности, приурочивая срок к наиболее выгодным временам реализации урожая, ничто не помогло; сходы оставались
377
непреклонны: «Пусть будет по-старому; в январе, когда приедет становой, уплатим», и мое желание заменить выколачивание недоимков полицией нормальным взносом повинностей осталось безрезультатным. В одной волости, кажется, Лущихинской, после того как я опротестовал первый приговор, составили новый с соответствующим указанием сроков, но и это оказалось мертвой буквой, так как никто ими не руководствовался, а мне настаивать, при провале того же вопроса в других волостях, я считал неудобным.
Это был хороший для меня урок, и я понял, что прежде чем вводить новшества, надо упорядочить существующий порядок и, главное, создать из должностных лиц сельского и волостного управления себе верных помощников, проникнутых духом законности, и на эту сторону я и обратил главное свое внимание. Ревизовал все волостные Правления не менее двух раз в год, заранее предваряя об этой ревизии, дабы они могли подчиститься и подготовиться; наезжал невзначай и производил экстренные ревизии, подгоняя наезды свои и к заседаниям волостного суда, дабы из соседней комнаты слышать само судоговорение; в волостных Правлениях осталась целая литература моих замечаний в ревизионной книге; очередная ревизия длилась редко менее 6—7 часов, но зато я все более и более убеждался в возможности при настойчивости поднять значение должностных лиц, особенно старшин, относясь к ним с доверием, но и с неуклонной строгостью. Никому из них я руки, понятно, не подавал, говорил всем, до волостных писарей из чиновников включительно, «ты», не сажал, а в случае особого моего одобрения, обнимал и целовал. Неуклонно проводил взгляд, что писарь есть непосредственно подчиненное лицо старшине, который отвечает за все его действия, но, дабы устранить личный характер неприязни между ними и устранить возможный произвол старшины при удалении писаря, я настоял, чтобы назначение последних делалось волостным Правлением, для созыва коего установил ежемесячные сроки. Это учреждение я старался возродить к жизни, видя в этом способ развития<…> и поднятия их значения.
После каждого заседания волостного суда, я требовал явки ко мне одного из волостных судей по очереди с делопроизводителем суда, которые прочитывали мне все решения, объясняли мотивы их постановки и выслушивали мои замечания и разъяснения; тут же я указывал им решения, которые считал нужным опротестовать и без жалобы сторон. Беседы эти длились долго и несомненно способствовали обоюдному знакомству и пониманию, а также осмысленному отношению волостных судей к каждому своему решению, зная, что он должен будет мне его объяснить.
Вспоминая всю эту деятельность, меня охватывает желание подробно осветить все ее стороны и этим доказать будущим поколениям, как можно было принести пользу крестьянам, не идя в народ с проповедью о свободе, а осуществляя на месте близкую, попечительную, строгую и, главное, справедливую власть, но это не может быть задачей таких воспоминаний, а потому обращусь к изложению лишь отдельных фактов, анекдотов, случаев из практики, а выводы пусть каждый делает сам.
На первых порах, мало зная еще народ, по моему представлению председательство в волостных судах было возложено на волостных старшин и только через год
378
было заменено отдельными председателями; делопроизводство же судов до конца моей службы лежало на волостных писарях. Старшины, председатели судов и писари были мне близко знакомы, а потому коснусь их характеристики.
По Сергиевской волости старшиной был Василий Глебов, неграмотный крестьянин, честный, правдивый и недавно только выпутавшийся из серьезной беды. Бывший волостной писарь Боровков, ко времени моего назначения уже уволенный, заставил Глебова как местного сельского старосту приложить печать вместо старшины к фальшивому приговору Кашурского общества, коим давались заведомо неправильные сведения о семье николаевского солдата Давыдова на предмет получения трехрублевого пособия. Такая утайка истины была вполне обычна, ибо пособие это давалось лишь тем, кто не имел ни родных, ни дома, ни лиц, его призревающих; на 3 рубля в месяц, даже и при тогдашней дешевизне, нельзя было нанять угол и прокормиться, но даже дальние родственники не прочь были пригреть такого старика, присваивая себе его пособие и пользуясь его услугами для плетения лаптей и присмотра за детьми; но если такой призор удостоверялся приговором, старик лишался пособия, а призревшие его выгоняли его на улицу. И чтобы он получил действительное законное право на пособие, во избежание этого cercle vicieux в сельских приговорах обыкновенно скрывалось обстоятельство призора старика войны. Но по делу Василия Глебова подан был донос; Казенная палата назначила расследование, и все должностные лица, подписавшие приговор, и сам Давыдов были отданы под суд за подлог. Я в то время был чиновником особых поручений при Булыгине и, зная полную невинность и порядочность Василия Глебова (он был брат нашего экономического старосты Михаила), хотел выступить его защитником в Окружном суде, но Булыгин своего согласия не дал, ссылаясь на то, что моя причастность к губернской администрации может только повредить делу. Глебов был все-таки оправдан, и я его застал уже волостным старшиной, хотя таким же безграмотным, но зато уже достаточно проученным, чтобы с должной осмотрительностью относиться к прикладыванию своей должностной печати. Прослужил он бессменно при мне, и лишь раз было поползновение со стороны схода сместить его, но из этого положения он вышел блестяще, а я, хотя и допустил некоторую натяжку, но по существу был прав. Произошло это так: при выборе шарами Глебов был забаллотирован незначительным числом голосов; выборы происходили на улице, на площадке перед зданием волостного Правления, и когда он узнал о результате выборов, он вышел на крыльцо, еще в должностной цепи, и обратился к сходу приблизительно со следующими словами, сказанными им с большим чувством: «Раз я не избран, я сейчас передам цепь старшему по годам сельскому старосте, и я уже не ваш начальник, и вы меня можете не бояться, посему прошу вас теперь же сказать земскому начальнику, обидел ли я кого-нибудь, обсчитал ли кого, отказал ли я в помощи, на которую обязан по своей прежней должности; по крайней мере, будет известно, за что вы меня, вашего старого старшину, всегда для вас старавшегося, забаллотировали». На это поднялся общий крик: «Всем довольны! Это только по ошибке!» И тут же все стали меня просить разрешить 2-ю баллотировку, так как некоторые заявили, что бросали шар куда попало; я почел это достаточной причиной для удовлетворения этой просьбы, и Глебов был единогласно выбран
379
открытой баллотировкой при единодушных криках одобрения. Так как всякая выпивка мной строго преследовалась, и на таком близком расстоянии от моего дома никакой старшина не покусился бы нарушить мое распоряжение, а тем более Глебов, поздравления и радость схода были совершенно бескорыстны. Василий Глебов обладал поразительной памятью, которая развивается только у безграмотных людей. При проверке мною раскладных и учетных приговоров сельских сходов, которых в Сергиевской волости составлялось около 30-ти, он иногда на память цитировал цифры и учеты производил виртуозно; один его недостаток был — некоторая слабость к вину, и когда попадался он, то получал от меня должный нагоняй; для таких разносов я призывал обыкновенно старшину к себе в уборную, где уже не стесняясь его должностным самолюбием, бранил вовсю. Уже значительно позже, когда я жил в деревне после моей отставки из губернаторов, я узнал из разговоров с крестьянами, что моя уборная считалась страшилищем, и быть позванным туда приводило в трепет.
Волостные писари Сергиевской волости менялись часто, и ни один из них не оставил хорошей о себе памяти. Зато председатели волостного суда, первый — Харев и второй — Антонов, были совершенно выдающиеся. Харев был очень развитый, отлично писал и, не покинь он волости для зарплаты, несомненно со временем заменил бы Глебова; Антонов был серый, неграмотный мужик, но типа справедливого старика, ни за что не согласного пойти против совести.
Возвращаясь к Хареву, вспоминаю, какую роль он играл в волости. Дело было так: муж нашей прачки Варвары, Василий Петров Качерыжских, причисленный к Сергиевскому обществу, неоднократно допивался до белой горячки и стал прямо опасен. Одному из своих детей топором отрубил палец; обладая феноменальной силой, свалил в овраг свой сарай; по вечерам гонялся за женой с целью ее убить, почему она неоднократно оставалась у нас ночевать, а он по ночам приходил бить стекла на усадьбе. Все это побудило меня посоветовать сельскому сходу составить приговор о высылке его в Сибирь. Пришлось созывать соединенный сход трех деревень, но и приговор сельского схода численностью менее 300 голосов подлежал утверждению волостного схода. Во избежание мести со стороны Василия Петрова я его предварительно посадил под арест, а волостной сход созвал спешным порядком. Я слышал, что брат Василия Петрова, Ларивон, бывший в то время управляющим у Раевских, усиленно хлопотал и просил сходчиков не утверждать приговора. Я обязан был, собственно говоря, положить предел этой агитации, но сам к тому времени поколебался в правоте своих действий, а виною тому была наша прачка Варвара, пришедшая ко мне утром в уборную и заявившая мне категорически, что если муж будет сослан, она за ним последует, посему и просит заранее исполнить все формальности, обеспечивающие ее следование в Сибирь. На мои возражения, что все ее страдания и мучения были главной побудительной причиной для начала этого дела, она мне просто отвечала: «Я вас не сужу, вы — начальник, но между мужем и женой судья — Бог, и я своего Васю не оставлю в несчастье». Эти простые слова так на меня подействовали, что я со слезами на глазах расцеловал ее и дал себе зарок никогда не проявлять собственной инициативы в такого рода делах. На сход я приехал совершенно в другом настроении уже и только в душе молился, да будет ожидаемое
380
решение правое и всем на пользу; сходу подробно объяснил последствия их решения и обоюдную опасность сослать человека, который может еще исправиться, а также оставить на месте опасного преступника, способного мстить своим однообщественникам; заставил сходчиков молча помолиться, несколько раз перекреститься, и затем, устранив всех посторонних, сам ушел со схода в здание волостного Правления, не желая хотя бы косвенно влиять на решение; в окно видел, что дебаты были бурные, спорили около получаса, и главным оратором был все время Харев. Наконец Глебов пришел мне доложить, что сход не утвердил сельского приговора и просит меня выйти, так как я обязан был по закону сам лично сделать фактическую поверку голосов. Опросив каждого в отдельности, я убедился в правоте доклада старшины и велел писать соответствующий приговор; тогда Харев выступил вперед и заявил мне, что так как он, главным образом, настаивал на неутверждении приговора и понимает ответственность, которую он берет на себя перед Сергиевским сельским обществом, составившим приговор о ссылке в Сибирь, он, до подписания приговора волостного схода, просит позволения от имени всей волости поговорить с Василием Петровым, так как только убедившись, что он раскаялся, можно его простить. Все было столь необычно, так это дело решалось не по внешним чисто деловым формам, а скорее как нравственный вопрос, что я согласился на просьбу Харева; Василий Петров был приведен; Харев прочел ему безыскусственную, но горячую проповедь, предупредив, что теперь всякое лыко будет поставлено ему в строку, и никакой дальнейшей пощады в случае повторения безобразия он ожидать не может. Василий Петров на коленях просил прощения, клялся жить по-хорошему, кланялся на все 4 стороны миру и был отпущен на волю. Добавлю к этому, что с тех пор Василий Петров стал самым смирным человеком, жил до смерти с женой душа в душу, а я от Варвары и от волостного схода с Харевым во главе получил прекрасный жизненный урок — не забывать, что за каждым делом, в каждом случае есть прежде всего душа живая, которой, Боже упаси, повредить.
Два раза еще мне пришлось по Лосенской волости проводить такие дела, но те были, во-первых, совершенно ясны: один ссыльный был известный, неоднократно осужденный конокрад, а другая, жена брата волостного судьи, была притонодержательницей и уличенной скупщицей краденого; дела были возбуждены самими сельскими сходами, без всякой моей инициативы; при поверке приговоров было полное единодушие и для меня сомнения не было. Но, впрочем, вспоминаю, что и в этих двух делах живая русская душа сказалась. Первый, конокрад, был женат на крестьянке из Сторожевки, маленького селения из четырех дворов; после приговора волостного схода я его немедленно арестовал и препроводил в стан для заключения в тюрьму, а ночью получил спешное донесение волостного старшины, что арестованный бежал из под стражи и надо опасаться с его стороны поджогов; на поверку оказалось, что он бежал только чтобы проститься еще раз с женой, вернувшейся в родительский дом, мирно провел у них вечер и ночь и на следующее утро был доставлен самим своим тестем на своей лошади в стан; за второй же, скупщицей краденого, последовал в Сибирь и ее муж Морачев, и притом на свой собственный счет, ибо закон предусматривает отправку на казенный счет лишь жен ссыльных, а не мужей.
381
Состав ферзиковских должностных лиц был несколько отличным. Старшина Матвей Иванов Лавров, крестьянин деревни Чуднепово, красивый старик с седыми вьющимися волосами, всегда благообразно одетый в темно-синий кафтан, был полон собственного достоинства. К населению относился не только как старшина, но и слегка по-отечески. Писарями при нем были Федор Дедов, умерший на 4-м году моей службы, а затем брат этого Федора — Александр Дедов. Оба своего старшину очень боялись, но и уважали, и любили. Трудно было Лаврову первые годы с вновь присоединенными селениями Андроповской волости, но и тут его солидность взяла верх, и спокойная, здравая крестьянская рассудительность победила и подчинила себе трактирные элементы упраздненной Андроповской волости. Лавров первым стал тяготиться волостным судом и просить назначить другого председателя; объяснял Лавров свои домогательства тем, что там слишком много кляуз, и ему, старшине, не годится пятнать свое имя в такой грязи. По его рекомендации назначен был Яков Мельников, пробывший бессменно на этом посту до самой революции. Мельников был и есть крайне неразвитой человек, но честный и очень представительной наружности, прямо выдающегося громадного роста и с бородой по пояс, дающей его фигуре вид ветхозаветного патриарха. Помню одну ревизию Ферзиковской волости уже в бытность писарем Александра Дедова, когда я своих должностных лиц до того утомил, что с писарем сделался припадок падучей болезни; упал он у моих ног, преградив своим телом выход из-за решетки; я, зная, что Мельников подвержен этой же болезни, очень испугался и поспешил ретироваться. Мое оправдание было то, что, во всяком случае, я утомлялся более их, ибо помимо сильного умственного напряжения мне предстояло еще и путешествие туда и обратно. Чаепитие в волости я с первых же шагов окончательно упразднил, считая совершенно неприличным для земского начальника попользоваться чем-нибудь, хотя бы самоваром, в волостном Правлении; зато отъехавши от волости (кроме Сергиевской, из которой я прямо возвращался домой), с каким наслаждением я останавливался в первом же лесочке и, поставив коляску в тень, с письмоводителем и неизменным своим кучером Владимиром (брат Василия Глебова и помощник кучера Трифона) завтракал всегда теми же любимыми пирожками-калачиками и яйцами, запивал молоком и, выслушивая замечания Владимира, который образно передавал разговоры обо мне выходящих из волости; никогда, кажется, так приятно не отдыхалось нам после этакого труда и как затем легко дремалось в коляске, убаюкиваемый качкой рессор и звоном бубенцов. При зимних поездках от таких завтраков приходилось отказываться, и из Ферзиковской волости я обыкновенно заезжал пить чай к местной помещице Екатерине Васильевне Дестрем. Ферзиковскую волость раз я посетил совершенно необычно, а именно, получив рапорт старшины о смерти писаря Ф. Дедова и не имея возможности по делам службы на следующий день присутствовать на его похоронах, приехал отслужить по нем панихиду накануне. Было уже поздно, часов 8, когда я подъехал невзначай к волости, но Лавров меня встретил так же чинно и благообразно, как и в обычное время. Через какие-нибудь 10 минут уже прибыло духовенство, им созванное по моему приглашению, и мы с ним вдвоем и с семьей помолились у гроба почившего, так что он со слезами на глазах благодарил за оказанное внимание его
382
сослуживцу; для его характеристики добавлю, что он потом не переставал заботиться о семье покойного и всячески им помогал.
В Лущихинской волости старшиной был Гаврила Тихонов Севастьянов, крестьянин села Висляево; застал я его в период его травли однообщественниками, требовавшими с него отчета как уполномоченного общества по покупке земли у бывшего их помещика Горяинова. Севастьянов купил все имение для двух обществ, Висляевского и Ладымнского (?), по очень дешевой цене, благодаря подкупу им управляющего Горяинова, и отчет по покупке был уже более года как сделан, причем Севастьянов вполне благополучно отчитался, но за год до моего вступления в должность земского начальника был пожар в Висляеве, сгорел дом Севастьянова и с ним все квитанции. Недруги его, давно завидовавшие его богатству (он был самый зажиточный крестьянин в селе), воспользовались этим обстоятельством и требовали нового учета. Долго я возился с этим делом и, хотя далеко не был убежден в честности Гаврилы Тихонова, считал совершенно недопустимым новый учет, когда все оправдательные документы сгорели, и только после долгих убеждений удалось это дело прекратить к обоюдному удовольствию. Но погруженный в личные дела Севастьянов никак не мог отдаться делам волости; сколько я с него ни взыскивал, ничего не помогало, и я был очень рад, когда он, наконец, решительно отказался и крестьяне выбрали другого. Перед этими выборами я его даже посадил под арест, предупредив его, что такого рода взыскание я применяю к волостным старшинам, когда считаю личность непригодной для этой почетной должности, почему даже если он будет избран, я его выборов не утвержу.
На место Севастьянова был избран крестьянин деревни Лущихино Егор Иванов Пивоваров, старик безукоризненной честности, очень умный, с большим самолюбием и почтенный глава многочисленного семейства старинного, крепкого уклада; во время старшинства Севастьянова он выступал всегда его учетчиком и строгим обличителем всех его действий, так что сама судьба указывала его в заместители; но когда я его на следующий день выборов вызвал к себе в камеру для принятия присяги, Пивоваров вдруг стал отказываться, говоря: «Плохим старшиной быть не желаю, а хорошим не сумею». Только мое обещание всегда им руководить и помогать заставило его согласиться принять должность, и должен подтвердить, что он стал лучшим волостным старшиной не только в моем участке и уезде, но и больших общин. В дальнейшей моей службе вице-губернатором и губернатором в Харьковской, Гродненской и Тульской губерниях я лучшего старшины не встречал. Он умел сочетать почтительную корректность с отстаиванием своего мнения и всегда только и стремился к справедливости, но зато и ценил всякое одобрение, льстящее его самолюбию. Близость его селения к Дугне, где характер населения фабрично-заводско-городской, повлияла на его костюм: ходил он в пиджаке с жилетом и цепочкой на выпуск, что очень не шло к его громадной голове с львиной гривой, говорил немного вычурно и всегда очень горячо, причем всегда жестикулировал. Если в своем присутствии слышал от своих крестьян какую-нибудь ложь, горячо возражал и доводил уличенного до сознания. Лущихинская волость благодаря дугненскому заводу была самая кляузная, и он возмущался каждой жалобой на действие волостного старшины, считая это за личное оскорбление. Прежние старшины, да, вероятно, и Севастьянов, брали
383
взятки, главным образом, в благодарность за отсрочку исполнения решения волостного суда; я чувствовал, что такое безобразие творится, но уличить, понятно, не мог. Пивоваров же на первых порах своей службы по собственному почину очень оригинальным способом прекратил это взяточничество. Явилась к нему старушка, таинственно вызывавшая его в сени, но он потребовал ее в канцелярию волости и в присутствии писаря спросил, что ей нужно. Когда же она объяснила, что просит отсрочить исполнение суда, и положила на стол 3 рубля, он их взял, но тут же поручил писарю составить протокол, а сторожу велел посадить старушку в холодную, несмотря на ее протесты: «За что, родимый?» Продержав ее таким образом до вечера, он отпустил ее, сказав, что не хочет с ней мараться, почему не отдает ее под суд, а протокол разрывает; 3 рубля же ей вернул, поручив ей рассказывать населению, как новый старшина берет взятки. И, действительно, с такими подкупами к нему впредь больше не лезли. Держался он всегда очень самостоятельно по отношению к дугненским купцам Барановым, Третьяковым, Рожновым; местные миллионщики и тысячники, и те его очень недолюбливали, но, пока я был земским начальником, ничего с ним не могли поделать, так как я его всегда поддерживал за его неподкупную честность, хотя и сам нередко ему выговаривал за его резкий характер. Писарем был наш крестьянин деревни Горяиново Терентий Заботин: развитый, трудоспособный малый, но, к сожалению, благодаря близости Дугны одно время чуть ли совсем не спившийся; только под надзором Пивоварова, нередко, как рассказывали, по-отечески таскавшего его за вихры, Заботин выправился, искренне привязался к Пивоварову и вместе с ним способствовал тому, что Лущихинская волость стала образцовой. Фамилию первого председателя волостного суда не помню, это был довольно бесцветный старик, замененный мной впоследствии Трофимом Степановым Дорониным. Доронин, крестьянин Новониколаевки, как и все его односельчане, был в молодости банщиком в Харькове и к 30 годам вернулся домой, скрюченный от ревматизма. Жизнь в большом городе его совершенно не испортила, а только способствовала развитию его природного ума. У него был большой недостаток для этого рода деятельности — он был неграмотный и должен был даже заказать себе именную печать для прикладывания к решению суда; но зато как он интересовался делом, как он, бывало, спорил со мной, когда я протестовал какое-нибудь их решение, а уж если уездный съезд отменит решение волостного суда, я знал, что Доронин явится ко мне просить объяснения мотивов съезда. Однажды мне дано было поручение выяснить в деревне Марухта местный обычай наследования, для чего должен был опросить стариков, а чтобы не попасться впросак и не основывать свои выводы на побасенках выживших из ума стариков и старух, вызвал на помощь Доронина и Заботина и, помню, как первый метко осаживал какого-нибудь зарапортовавшегося мужика. Самый древний, опрошенный мной, не слезавший с печи уже несколько месяцев, только и повторял: «Как старики, так и мы», но, несмотря на все старания мои и Доронина, не удалось выяснить, как старики наследовали. Доронин тут же мне сказал, что «таким образом никакого обычая не выясним, ибо если волостной суд на него не ссылался, никакого особого обычая нету, и не вам, господам, далеким от сельского быта, его доискиваться»; и прав, сто раз прав был умный Доронин. Вот этот триумвират
384
почтенных, честных деятелей и дал мне возможность благополучно управляться с одной из самых трудных в уезде волостей.
Совершенно другого характера была Лосенская волость. Население было серое, малоразвитое, главным образом, угольники и мостовщики, а потому легко эксплуатировалось разными кулаками. Крупной помещицей, чуть ли не на половину волости, была престарелая княгиня Голицына, урожденная Валуева; это была очень добрая женщина, помогавшая постоянно крестьянам, но, рано овдовев, зажила она на манер Екатерины Великой, окруженная бывшими и настоящими фаворитами; эти прихлебатели играли большую роль в волости, влияя на должностных лиц и стараясь проводить туда своих ставленников. Таковым и оказался старшина Федор Васильев Орлов, крестьянин деревни Курово, некогда служивший у княгини Голицыной при винном заводе. Мужик он был очень умный, крайне недобросовестный, очень нелюбимый в волости, но настолько ловкий, что всегда выходил сух из воды и, пользуясь темнотою крестьян, бессовестно набивал себе карман. На следующий год вступления моего в должность были выборы по Лосенской волости, и я, видя недружелюбное отношение к Орлову, был убежден, что он будет забаллотирован, и вдруг, к моему великому удивлению, оказалось, что его выбрали почти единогласно. Потом уже выяснилось, что он сам объезжал сельские сходы при выборе сходчиков и везде провел своих сторонников. Убедившись в это новое трехлетие в полной его непригодности, я применил тот же способ, что и по Лущихинской волости, то есть за какой-то его проступок перед самыми выборами посадил его под арест с повторением той же нотации, которую я сказал Севастьянову, и пока он сидел под арестом, велел проводить сельские выборы; а когда он вернулся в волость, чтобы не дать ему возможность посетить те сельские сходы, где выборы не были еще произведены, стал вызывать его чуть ли не ежедневно к себе в камеру. Результат был поразительный: Орлов был единодушно забаллотирован, но и тут этот хитрый человек стремился все-таки примазаться к хлебному месту. На сходе было решено учредить должность помощника волостного писаря с назначением нести обязанности сельского писаря, то есть по требованию сельских обществ разъезжать по селениям и безвозмездно писать сельские приговоры, а в свободное время помогать волостному писарю. И вот на эту архиподчиненную должность Орлов, когда его забаллотировали в волостные старшины, просил умильно сход его назначить, и, быть может, серый лосенский люд и исполнил бы его просьбу, но тут уж я вмешался, резко отказал ему, сказав при народе, что у него не только самолюбия, но и чести нет, и его просьба мне лишь доказывает, насколько он наживался и надеется наживаться в крестьянских делах. На его место избран был Козьма Лазарев, очень представительной наружности, но и только. Думаю, что он был относительно честный, но настолько неумен и неразвит, и без всякой инициативы, что никакой пользы волости не принес. Волостные писари в Лосенках менялись часто и все были неудачные, наилучший был Дорогов, подучившийся у меня в канцелярии, но он недолго пробыл, пошел в урядники и на этой должности проворовался. Председатели волостных судов были такие же серые, как остальные крестьяне, и должен сознаться, что Лосенскую волость мне упорядочить не пришлось. Единственная моя, быть может, заслуга — это смещение явно недобросовестного Орлова, но, впрочем, Лосенская волость мне не давала много
385
хлопот. Жалоб поступало немного и особо кляузных дел не встречалось, кроме как по деревне Средняя Фабрика, где был один старик-сутяга, заваливший меня прошениями по делу, давно решенному уже Сенатом. Помню, как раз я назначил разбор в деревне Пурове и когда подошла очередь его дела, должен был прекратить разбор, так как в соседней деревне Монорове ударили в набат, и я, несмотря на то, что это селение Лихванского уезда, поскакал со всеми тяжущимися и должностными лицами на пожар. На следующий день этот старик, помнится, его фамилия была Минлин, явился ко мне в камеру, спрашивая, когда же я разберу его дело. Я ему объявил предполагаемый срок назначения, но предупредил, что дело его кончится ничем, так как он неправ. Он, по-видимому, убежденный моими доводами, решил прекратить дело и по моему указанию, как грамотный, сделал о сем надпись на своем прошении. Эта надпись мне очень помогла в будущем, так как недели через две губернатор потребовал от меня объяснения по жалобе этого старика, в которой было сказано, что я его постоянно преследую, не даю хода его просьбам и от последней жалобы заставил с револьвером в руках отказаться. Объяснение мое, ввиду надписи самого жалобщика, было очень краткое, отослал я все производство губернатору, и старик, вероятно, устыженный, ко мне больше не являлся. По Лосенской волости такого рода прошения всегда писал Извеков, бывший когда-то земский фельдшер, уволенный за пьянство управой и приютившийся при конторе княгини Голицыной, которая поручала ему вести мелкие судебные дела по имению; получаемое им содержание было столь незначительное, а пристрастие к вину столь великое, что он прирабатывал и деньгами и натурой, строча прошения крестьянам. Бороться с этим я мог только одним способом — принимая словесные жалобы, что я и стал практиковать как можно больше, но для особенно кляузных выдуманных прошений крестьяне все-таки прибегали к Извекову. Сыновья этого Извекова служили потом у меня, один волостным писарем, а другой — по полиции в Гродненской губернии, и оба были порядочными малыми.
Чтобы картина обстановки моей служебной деятельности была полна, необходимо коснуться и состава моей канцелярии.
Со времени увольнения Левковича я стал придерживаться правила брать совсем молодых юношей, лишь окончивших школу, и уже сам их подучивать, будучи убежденным, что, по крайней мере, они неиспорченные и не придадут моей канцелярии плохой репутации. Таких мальчиков перебывало у меня много. Подучив их, я либо рассылал их по волостям, либо устраивал им дальнейшие места. Понятно, далеко не все были удачны, но были такие, которые выбились на серьезную дорогу. Настоящие волостные писари — ферзиковский, Ефим Глебов, и лущихинский, Семен Осипов, — мои выученики; один из самых симпатичных юношей, Дехтерев, подготовленный мною, выдержал экзамен на офицера и служил в пешей артиллерии, но скоро умер от чахотки; брату же своему перед смертью завещал обратиться ко мне, как будущему его покровителю, и этот Дехтерев 2-й потом и служил у меня в бытность мою гродненским губернатором. Другой, по фамилии Кривоносов, сын бывшего буфетчика родителей моей жены, сделал потом большую карьеру, поступив бухгалтером в бельгийское Общество московских конных железных дорог. Последний, Георгиевский, занял впоследствии место помощника секретаря Окружного суда. Но самую головокружительную карьеру
386
сделал некий Н. В. Чистяков, принятый мною себе в канцелярию как круглый сирота; он последовал за мной и в Гродно, и в Тулу, был долгое время при губернаторе Арцимовиче исправником, и революция застала его уже начальником каторжной тюрьмы в Ярославле.
Такой состав канцелярии создал совершенно особый характер этого учреждения. Мои письмоводители были более моими учениками, чем должностными лицами; число их варьировало между 2-мя и 4-мя, так как я редко когда отказывал в приеме способного и нуждающегося мальчика. Одно время состав подобрался такой, что образовался прекрасный церковный хор, и меня они часто услаждали летом, катая нас с женой по Оке на лодке и распевая соответствующие хоровые песни. В то время главным был Борисенко, сын нашего управляющего, а помощниками — Дехтерев, Кривоносов и один из сыновей Севастьянова. Это был самый длящийся период состава без изменений, и при них я установил такой порядок, что ежедневно один был дежурным, который вел дневной журнал с отметкой всех событий в участке, всех просителей, всех моих словесных распоряжений, а также и разбора дел. Такая вспомогательная справочная книга давала возможность восстановить в памяти все происшедшее и обеспечивала точное соблюдение сроков исполнения решения. Я лично искренно привязался к первым трем, особенно много возился с Борисенко, который попал ко мне по просьбе суда как неудачник, изгнанный из семинарии за пьянство, почему с моей стороны требовался постоянный за ним надзор. Продержался он у меня около двух лет, но под конец не выдержал, свихнулся и, не простившись, уехал.
В то время мой кабинет был соединен телефоном с канцелярией, где от 9 часов утра до 9 часов вечера бессменно дежурил один из письмоводителей. Работа шла интенсивно, и у меня было сознание, как никогда, что вожжи управления в моих руках, и не могло быть какого-нибудь упущения по забывчивости. По каждому судебному делу писался приговор в окончательной форме, изложенной не только фактически подробно, но и с разработанными юридическими мотивами, продиктованными лично мною. Писание этих приговоров лежало на обязанности Дехтерева. Переписка была громадная, редко ответ на бумагу залеживался больше суток; я рассылал постоянно инструкционные циркуляры, за которые часто получал непритворную благодарность от старшин, писарей и председателей судов за их ясность. Понятно, только при условии быть свободным от работы, требующей памяти, я мог всецело предаться творческой стороне дела и думаю, что никогда так легко и плодотворно не работал, как при этом составе. Наиболее интенсивна была работа в конце и начале года; в декабре я спешно заканчивал все судебные дела, дабы как можно меньше таковых перенести в новый настольный, а 30-го и 31-го декабря требовалось проверить все документы и патенты, выбранные виноторговцами и трактирщиками на следующий год. Без такой проверки и моей разрешительной подписи открывать питейное заведение они не имели права. Выбирать же патент они старались как можно позже, дабы деньги до конца года были бы у них в обороте. Эти дни была всегда у меня в канцелярии нетолченая труба, так как я застал в своем участке, если не ошибаюсь, до тридцати заведений, торгующих крепкими напитками и табачными изделиями. Поверка требовалась тщательная, надо было удостовериться, что есть
387
согласие сельского общества или землевладельца; что обусловленная арендная плата внесена в мой депозит, если подлежала в уплату сельскому обществу, или же выдана на руки землевладельцу; что расстояние, установленное законом от храма [и] школы, соблюдено и выбранный патент по разряду соответствует данной местности. Я не знаю, как другие земские начальники к этому относились, но я был строго педантичен, всячески притеснял кабатчиков, считая их главным злом в деле развращения народа; и ненавидели же они меня!

Михаил Михайлович Осоргин и его управляющий Николай Яковлевич Шутов.
Рисунок М. М. Осоргиной. Начало XX века. Частное собрание, Париж
На первых порах моей службы, кажется, на второй или на третий год, я задался целью сократить как можно больше питейную торговлю в моем участке. Закон предоставлял тогда сельским обществам право постановлять запретительные приговоры, после коих открытие питейного заведения запрещалось не только на земле сельского общества, постановившего такой приговор, но и на расстоянии ближе 100 саженей от границы усадебной оседлости. Правда, что акцизное ведомство ставило всякие препятствия, и запретительные приговоры эти не действовали в тех селениях, в коих бывали базары, в торговых селах, в селах на большой дороге, а также близ железнодорожных станций. По моему настоянию вопрос о закрытии винной торговли был обсужден на всех сельских и поселковых сходах моего участка, и я получил более полутораста запретительных приговоров. Большую услугу мне оказали волостные старшины, на самолюбии коих я играл в этом случае. По Горяинову пришлось мне принять личное участие: там
388
был старинный кабатчик Василий Иванов Кречетов (его кабак стоял на том месте, где сейчас стоит дом Ионовой-Турки), паук, высасывавший соки у крестьян еще с тех пор, когда у моего отца был винокуренный завод, а для того, чтобы быть в фаворе у нашего управляющего, плативший 300 рублей ежегодной аренды за развалины когда-то этого постоялого двора, стоявшего на бугре близ моста через Ожженку. Я был предупрежден, что настроение горяиновских крестьян, завзятых тогда пьяниц, живших почти поголовно в полуразвалившихся домах, не в мою пользу и что Кречетов распускает слухи, что цель моя закрыть кабак в селе, за который он платит аренду крестьянам, но зато открыть на монопольном праве таковой у себя. Предуведомленный о сем, я объяснил своему отцу свое неловкое положение и настоял на нарушении контракта с Кречетовым, на разборке здания постоялого двора, из коего часть была пожертвована погорельцам, а остальное пошло на постройку птичного двора на пруду около машины. Только исполнив это и тем воочию доказав неосновательную клевету Кречетова, я лично созвал горяиновский сельский сход в волостное Правление. Старостой был тогда Петр Иванов Дементьев, мой помощник по должности церковного старосты, любивший выпивку, но панически меня боявшийся, потому что я однажды, несмотря на его почтенный возраст и почетное положение в волости, где его всегда выбирали на должность кандидата волостного старшины, посадил его под арест за явку ко мне в нетрезвом виде. Этому Петру Иванову я и поручил наблюсти, чтобы из каждого дома явился бы представитель, а так как я знал, что многих мужиков дома нет, заручился я в лице их жен, заменивших их на сходе, сторонницами моего начинания. Предложение было принято, и это было большое облегчение для меня, когда этот приговор состоялся. Не могу не отметить, что с тех пор благосостояние крестьян деревни Горяиново на глазах ежегодно улучшалось, а теперь это самое богатое село с зажиточными <…>.
Совершенно для меня неожиданно главные хлопоты возникли у меня при закрытии кабака в доме Шишковых. Содержал его Петр Андреев, фамилии не помню, дочь коего, Маша, была замужем за Иваном Афанасьевым Шишковым. Арендная плата с этого Петра Андреева была главным источником дохода семьи Шишковых, а мужское население, и даже Василиса, спаивались в этом кабаке так, что считали его своим благодетелем. Алферьевское общество очень охотно составило запретительный приговор, так как было обижено, что никакой платы с кабака не получит, но когда возник вопрос о закрытии такового, Петр Андреев запротестовал, не подчинился <…>, оспаривая расстояние и доказывая, что кабак его отстоит более чем на сто саженей от деревни Алферьево. Дело стало спорным, полиция по моему настоянию возбудила против Андреева уголовное обвинение за открытие кабака в недозволенном расстоянии, требуя отобрания патента, я, понятно, удовлетворил это ходатайство, оштрафовав сверх сего кабатчика по статье Устава о наркотиках; он обжаловал мой приговор; выезжал на место для составления акта осмотра уездный член Александр Иванович Кологривов, последний с <…>, но все-таки определил расстояние в 99 с половиной саженей, меряя не по дороге, а по идеальной прямой, и благодаря этому приговор мой был утвержден съездом, на что последовала со стороны обвиняемого кассационная жалоба. В губернском Присутствии дело залежалось, и я с ужасом
389
видел, что если наступит Новый год, все дело придется начинать сызнова, так как приговор касался лишь уничтожения патента, выданного на определенное полугодие. Ввиду этого я поехал к Булыгину, изложил ему мои опасения, встретил в нем полное сочувствие, и он через несколько дней провел дело спешным порядком, так что я еще до Рождества успел получить распоряжение о приведении в исполнение моего приговора, что тут же и исполнил через местного станового пристава, получившего заранее приказание и губернатора, и исправника оказывать мне полное содействие, и на Рождество Петр Андреев уже не торговал. Торжество мое было полное; в моем участке осталось всего-навсего, если не ошибаюсь, четыре питейных заведения: два в Дугне, одно в Жарках и одно в поселке при станции Ферзиково. Но зато, по распоряжению управляющего акцизными сборами, обо мне, как я потом узнал, производилось тайное расследование как о беспокойном лице, наносящем своими действиями явный вред казне. Впрочем, тут же мое торжество было омрачено таким случаем. На двор к нам как-то весной зашел крестьянин незнакомый доискивать, где тут торгуют водкой, и, о ужас! обнаружилось, что наш буфетчик Егор, служивший у моих родителей и до того у сестры в общем более 15 лет, торговал водкой, для чего имел в подвале близ кухни целый склад вина. Он в тот же день был уволен и к вечеру со всей семьей выехал совсем из дома. Но мне это было невыразимо неприятно.
Как я сказал выше, последний день года был крайне суматошный, и когда я отпускал всех, подписав последний патент, я, действительно, с облегченным сердцем возвращался домой, давая себе и канцелярии на 1-е января полный отдых. Зато уже со второго числа начиналась снова усиленная работа по приведению дел и переписки истекшего года в порядок для сдачи в архив, а также по открытии новых книг, чем и начинался годовой служебный круг. В январе же составлялось расписание дней ежемесячных заседаний волостных Правлений и судов моего участка, срок созыва очередных волостных сходов для учета старшины и раскладки повинностей, что должно было быть окончено не позднее марта [и] назначения летних волостных сходов для выбора тех волостных старшин, сроки службы коих в этом году истекали. Распределив так занятия по всему участку и имея у себя в канцелярии расписание того, где что делается, мне оставалось лишь наездами, запросами проверять исполнение моих приказаний. В феврале начинали поступать раскладочные и учетные приговоры по сельским обществам. Требовались очень кропотливые с моей стороны работы для проверки всех сумм и итогов, особенно когда был какой-нибудь навет на сельского старосту; но за все время моей службы я отдал под суд за растрату не более двух старост, уже явно злонамеренных; в большинстве же случаев, а таковых было не менее десяти в год, я добивался немедленного взнесения нехватающей суммы, а на старосту налагал дисциплинарное взыскание, придираясь к какой-нибудь его небрежности. Несмотря на то, что старост у меня в участке было более 60 человек, я их всех знал настолько хорошо, что безошибочно судил об их порядочности и честности. Зимой я всегда их вызывал по каждому делу, в коем замешан был их односелец, дабы староста был в курсе дела всего, касающегося своего общества. Но летом же я объезжал не только сельские общества, но даже и их поля, особенно в те годы, когда ожидался какой-нибудь недород. Помню однодневную поездку
390
по всей Лосенской и Сергиевской волостям подряд, когда пришлось ехать даже с подставой, а в некоторых местах пересаживаться в беговые дрожки для проезда по таким полевым дорогам, по которым моя большая дорожная троичная коляска проехать не могла. При таких поездках безотлучно при мне находился дежурный письмоводитель, который и вел журнал моих распоряжений; каждый старшина провожал меня в пределах своей волости. Помню, как в эту поездку я в девятом часу вечера приехал в Бугаков, вызвал сельского старосту Воробьева, всегда очень исправного, для проверки хлебозапасного магазина, причем оказалось, что в противность закону, заперт он на один замок и ключ хранится у смотрителя магазина, который является полновластным хозяином, потому что у старосты второго ключа нет. Тут же Воробьев был отправлен под арест, а старшина Глебов оштрафован на 5 рублей, зато по всему участку, как по щучьему велению, были подвешены вторые замки на амбарах. Вообще, насколько редко я подвергал наказанию в административном порядке простых крестьян (за 7 с половиной лет моей службы я подверг таким порядком аресту лишь четырех крестьян), настолько я не стеснялся взыскивать, и строго взыскивать, с должностных лиц. Редкий сельский староста за свою трехлетнюю службу не сидел по моему распоряжению под арестом, но зато каждый из них и знал свои обязанности, и относился к ним не как к синекуре, а как к трудному и ответственному делу. В тот год, когда был избран в Лущихине старшина Пивоваров, сельскими старостами по волости были выбраны все новые лица, и даже такие, как троицкий Игнат Шарапов и висляевский Роман Данилечкин, занимавшие эту должность чуть ли не пять трехлетий, были заменены новыми, а сами попали в число сходчиков. Увидав их, я стал им выговаривать, отчего они не остались сельскими старостами, зная, что общества, во всяком случае, их бы избрали. Очень честно и открыто ответил мне Шарапов: «Очень благодарны, Ваше высокоблагородие, за честь. Хорошо вы нас уж поучили, что же учить все одних и тех же. Пусть и другие у Вас поучатся уму-разуму, да, кстати, и в клоповнике посидят». Его поддержали и остальные старые старосты, но добавивши, что хотя и «дюже строг, но зато и справедлив, и на этом спасибо», и остались мы с ними друзьями, и часто и потом, когда я уже не служил, обменивались мы с ними через знакомых поклонами. С Шараповым и Данилечкиным я как раз весной того же года, когда они еще были старостами, имел случай видеть их ближе и на деле. В Висляеве был страшный пожар; было это 24-го апреля, на второй день их храмового праздника; случилось это утром, когда народ был весь в поле на яровом посеве; я ехал в Борщевку на экзамен и, не доехав саженей 80 до начала деревни Висляево, увидал дым, понял что это пожар, и приказал кучеру Владимиру Глебову гнать лошадей, и остающиеся четверть версты до места пожара мы так скакали, что левая пристяжная Грабер схватила <…>, но несмотря на всю быстроту застали уже 4 дома в огне и, проскакав к церкви, через минуту были отрезаны сомкнувшимся через улицу огнем. Севастьянов спасал свое имущество и ни на что не был способен, а Данилечкин, изба коего была в полной безопасности, так как находилась в другой слободе, вместо того чтобы запрягать бочку, помогал лавочнику Овчинникову опорожнять лавку. Тут я не выдержал и в первый раз в жизни ударил его палкой, после чего бочка немедленно явилась, а подоспевший из волости Шарапов привез и пожарную трубу. Ввиду
391
полной растерянности Севастьянова я приказал Шарапову его временно заменить здесь. Тушение длилось несколько часов, и только благодаря пожарным трубам, привезенным через речку от нас, распространение огня, гонимого ветром к реке, было остановлено. Шарапов все время распоряжался молодцом и оставался до позднего вечера главным распорядителем, пока я ездил в Барщевку производить экзамены. Пожар и по размерам, и по убыткам был грандиозный. Были даже человеческие жертвы, между прочим, девочка 12 лет. Я из того дома, где это случилось, сам лично палкой выгнал бабу, таскавшую какие-то полотенца из избы в то время, когда крыша готова была обрушиться. Но едва я отошел, как девчонка залезла опять в избу и была задавлена.
Сельские пожары вообще очень отравляли мне жизнь, так как по закону при отсутствии станового я руководил всеми действиями полицейских чинов; я считал своей обязанностью, когда только это было возможно, выезжать на пожар. У себя на усадьбе я установил бочки, чтобы при первой тревоге запрягались бы пожарные трубы, а кучер немедленно подавал бы мне беговые дрожки; один же рабочий скакал узнать, где пожар, и если он был слишком дальний, он с полпути нас возвращал. Редко пожарная команда выезжала в срок более 20 минут, что, надо сознаться, для сельской местности исключительно быстро. Кучера же были так мною навострены, что однажды случился такой казус. Трифон отвез меня на вокзал и когда, вернувшись домой, отпрягал лошадей, услышал набат; немедленно бросив отпряжку, он заложил беговые дрожки и подкатил к подъезду, и тут только вспомнил, что я уехал в Калугу.
Действия моей команды приносили громадную пользу, но в таком ограниченном районе, что я был совершенно неудовлетворен и всячески добивался улучшения пожарного дела по всему участку. По моему настоянию во всех волостях с пособием от Земства было увеличено число пожарных труб; каждая обслуживала свой и соседний район, так что на пожаре действовали всегда 2 трубы. Выезжать с ними на пожар мог каждый крестьянин, первый приведший лошадь, за что получал наградные деньги из волостных сумм, и такое вознаграждение вызывало большое соревнование. Сельские старосты, не доставившие на пожар свои сельские бочки, штрафовались мною беспощадно, и, действительно, последнее время моей службы это дело несколько упорядочилось, но все-таки русская деревня, деревянная, соломенная, с застроенными и заваленными хворостом проулками, горела немилосердно и вновь отстраивалась так же безалаберно, как и прежде.
Еще много заботы мне давало другое дело, а именно хлебозапасные магазины. Закон был мудрый и, действительно, мог обеспечить население от бедствий неурожая, но крестьяне его не понимали: спутанные в своих понятиях круговою порукою, они считали весь запас своим собственным и соглашались раздавать его не по степени нужды, а по размеру участия каждого в его составлении. Я уже тогда ясно сознавал, что крестьянин относится доброжелательно лишь к своему собрату среднего состояния. Бедного он заклюет, а богатому завидует и если может безопасно для себя нанести ему вред, не упустит к этому случая. Во времена недорода, голода это особенно резко сказывалось. Один год был особенно грозный в этом отношении. Еще с осени я предвидел большую нужду, но рассчитывал
392
на то, что население отхлынет на заработки, а Земство подвезет хлеба. Как только урожай был собран, я, через посредство особых доверенных лиц, не причастных к Крестьянскому управлению, как-то помещиков, членов причта, учителей, начал собирать сведения о нужде каждого двора, предполагая потом через старшин и старост проверить эти сведения и выяснить запасы. Получились замечательные курьезы. Общая цифра дала такую сумму, которая могла прокормить всю губернию; когда же я лично в отдельных селениях и дворах проверял запасы и нужду, крестьяне наивно заявляли, что раз будут давать хлеб, отчего не брать, а один меня разыскивал по деревне и спрашивал: «Где царский хлеб раздают? Раз он царский, значит — даровой, и я дюже мало записал на себя». Это, ради заботы прокормления населения, я принимал на себя очень неохотно, потому что никакой обязанности за государством кормить население под видом продовольственных ссуд я не признавал; я гораздо более сочувствовал даровым раздачам, даровым столовым, что было делом благотворительности, а для государства и Земства оставалось широкое поле деятельности в смысле организации в пострадавших местностях продажи хлеба по заготовительным ценам в большем размере, а также организации работ, полезных для населения и дающих ему заработок. Но я был подначальное лицо, должен был соблюдать существующие законы, и сколько мук я перенес с крестьянами по поводу всех их ходатайств о получении ссуд из хлебозапасного магазина! Запасы эти, хотя не были доведены до нормы, могли все-таки оказать существенную помощь действительно нуждающимся и самым бедным, но общество всегда в таких приговорах отказывало и постановляло разобрать магазин всем домохозяйствам по количеству душ. Приговоры эти я опротестовывал, они отменялись, но редко добивался я составления правильного, а без приговора сельского схода руки земского начальника были связаны. Начались самовольные разборы запасов. Виновного старосту и смотрителя магазина я отдавал под суд, но дело было сделано, а других это не устрашало. В селе Дальняя Борщевка сход додумался до следующего: старосту и смотрителя они заперли, я думаю, не без их согласия, а само население, преимущественно одни женщины, привязали веревки к замкам и запорам и общими усилиями сорвали дверь с петель и тут же растащили весь хлеб. Сделано это было сообща, дабы согласие и совет держать. Смотритель, чтобы оправдать себя, прибежал ко мне с докладом, а староста поехал к старшине. Дело принимало серьезный характер, виновных уличить нельзя было, ибо участвовала вся деревня, хотя для очистки совести следствие было возбуждено. Не знаю, что подействовало, страх ли волокиты, незначительность ли полученного результата, но такие явные бунтовщицкие разборки магазинов больше не повторялись; я же, видя полную невозможность бороться, стал менее требователен при поверке приговоров и удовольствовался тем, что наказывал лишь явно богатых домохозяев, что встречало отчасти сочувствие в самом населении. Помню свое удрученное состояние в этом году, и как, бывало, сжималось у меня сердце, когда мне канцелярия по телефону сообщала во время еще моего одевания, что меня уже ждет целая толпа просителей по поводу хлеба, а я был совершенно беспомощен. Но настроение населения в общем было не очень удрученное; гораздо хуже было в другом году, когда к весне все корма были съедены и начался падеж скота и лошадей от бескормицы; до подвоза концентрированных
393
кормов Земство еще не додумалось, [а также] переводить голодающий скот в другие обильные кормами местности; как бывало во время голода, семьи отсылали на юг всякого трудоспособного члена на заработок для прокормления; со скотом [этого] делать нельзя было, и население безмолвно присутствовало при падеже своих кормильцев, единственной лошади или последней коровы, и уныло и тупо взирало на свое разорение. Я тогда понимал, что попечительная и близкая к народу власть есть часто для любящих народ непосильный подвиг, так как благие результаты этого попечительства скажутся лишь через десятки лет и зависят от целого ряда общих условий. Прежде чем перейти к судебной моей деятельности, хочу вспомнить и рассказать один период интенсивной моей работы под самый конец моей службы земским начальником, давший мне полное удовлетворение, а именно всеобщую перепись.
По семейным обстоятельствам, о чем будет речь впереди, я почти два месяца перед самой переписью был в отпуску и к ужасу своему увидал, когда вернулся, что заместитель мой, кандидат Юрий Дурново, не только ничего не подготовил, а даже не сообщил волостям распоряжение губернской власти по поводу переписи; времени же оставалось для подготовительных действий месяц с небольшим. Вызвал я к себе одновременно всех старшин с писарями, объяснил им свое положение и сказал им: «Выручайте, друзья мои. Только при вашей дружной работе день и ночь мы не очутимся позади всех». И выручили же они меня! Они так работали, с таким вниманием отнеслись к этому делу, что перепись по моему участку была признана образцовой, и я лично был награжден вне всяких правил орденом. Привлек я учетчиками всех более или менее благонадежных и способных к работе местных лиц, сокращая их район до минимума; созывал их неоднократно к себе, читая им целые лекции, затем со всеми с ними составлял примерную перепись деревни Зиново, заставляя их группами описывать по одному двору и лично руководя и проверяя их записи, пока не убедился, что они вполне все усвоили. В день, назначенный по всей России для начала собрания переписного материала, который затем должен был быть однодневно проверен, дабы ни один даже проезжающий не был упущен, мои учетчики начали перепись, и дня через 3 стали доставлять мне весь этот материал. У меня было набрано несколько запасных и 4 районных учетчика, в том числе и мои родители, жена и тетушка Небольсина; запасные под моим руководством проверяли собранный переписной материал, подводили итоги и отмечали всякую ошибку. Районные учетчики по моему указанию, на выдержку, проверяли два-три переписных листа на месте у каждого учетчика, с тем чтобы, если выяснится неверность записанных сведений, доказывающая невнимательность или непонимание учетчика, собрать вновь весь материал по его участку, а его самого от работы отстранить; эту меру пришлось применить только в одном участке, в остальных же работа была сделана вполне удовлетворительно, а ошибки, обнаруженные при поверке и суммированные по каждому участку отдельно, легко могли быть исправлены в самый день переписи. За два дня до этого срока все учетчики, старшины, писари были вновь ко мне вызваны; прием был такой большой, что для него были открыты гостиная и столовая, в которой весь день шло непрерывное чаепитие с разными закусками; в бильярдной занималась канцелярия и бессменно сидел письмоводитель
394
Георгиевский, докладывавший о каждом прибывшем, а в кабинете я принимал каждого в отдельности, возвращая ему проверенный его переписной материал, давал последние инструкции и с соответствующими старшиной и писарем составлял план поездки каждого учетчика, с тем чтобы каждый из них по окончании поверки переписи в селении высылал бы мне с нарочным донесение о минуте и часе, когда он выехал в следующее селение своего участка. Наряд нарочных и наблюдение за своевременным доставлением этих сведений лежали на старшинах и сельских старостах, которых главная обязанность заключалась в наблюдении за тем, чтобы никто из проезжающих по дорогам в часы переписи не был бы пропущен и не миновал бы регистрации учетчика, для чего, по требованию последнего, староста должен был нагонять уклонившегося и лично отобрать у него сведения. Прием был такой длительный, что, начав его в 9 часов утра, я едва его кончил к 6 часам вечера; и я, и канцелярия моя падали от усталости, но зато все мои посетители были более чем довольны, съевши за весь день гомерическое количество разных кулебяк, пирожков, битков, телячьих котлет, а постники — всякой рыбной снеди и выпив бесчисленное количество самоваров чая.
В самый день переписи я разослал некоторых районных учетчиков для наблюдения за действиями более слабых участковых учетчиков и уже с 11 часов стал получать, как главнокомандующий, донесения из ближайших селений об окончании учета в них. Первая перепись была кончена, понятно, в усадьбе и на Поповне, а затем в участке Горяинова и Зинова, коим заведовал диакон Ратмиров. Ему пришлось разыскивать какого-то странника, ушедшего из чайного заведения Фомичева раньше его прихода. Показания о дороге, по которой этот странник пошел, были сбивчивы; староста помчался не по нужной дороге, и лишь днем удалось установить, что странник этот попал в регистрацию по деревне Поливаново. С каждым часом прибытие нарочных с донесениями учащалось, канцелярия вела картограмму движения переписи. Поздно вечером, почти ночью, пришли одновременно два последних донесения из Ивашева Ферзиковской волости и Варваровки Сергиевской волости, и перепись была окончена. После дня отдыха, который я заранее уже дал своим учетчикам, каждый из них приехал мне сдать весь материал; тут же ему вручался на память портфель из Статистического управления и денежная плата за труды по переписи по количеству переписанных людей; расчет канцелярией производился тут же; если же учетчик отказывался от платы, он включался в наградной список для получения медали по переписи. Угощение моих милых сотрудников было такое же, как и в первый прием; благодарил я их за содействие, но, когда все разъехались, особенно горячо благодарил и обнимал моих хороших старшин и писарей, действительно потрудившихся сверх меры и доказавших мне свою преданность. Кого только мог из них, я представил к очередным наградам. Но это была моя лебединая песнь, уже в сентябре этого года я ушел из земских начальников, а перепись была в феврале, и награды получили мои подчиненные без меня. Систематизировать и снять копии с собранного материала помогали все, не только семья, но и Мамоновы, и даже случайные гости. Отец мой сам лично заказал какие-то особые удобные папки по волостям и селениям, и через 2 недели в особом ящике все это было отослано в уездную переписную комиссию и произвело, как я сказал выше, полный фурор.
395
В моей судебной деятельности я довольно скоро приобрел необходимый опыт и должен сказать, что отмены кассационным порядком моих решений редко бывали, а под конец даже совсем и не встречались. По существу, съезд часто со мной не соглашался, считая меня слишком строгим судьей, но на это обижаться нельзя, был у всякого свой взгляд, и, во всяком случае, такая отмена приговора не доказывает незнакомства судьи с законом. Главная борьба со съездом у меня была по питейным делам. Я беспощадно боролся с шинкарством, в особенности после вышеупомянутых запретительных приговоров, польза коих этим совершенно утрачивалась. На съезд приговоренный мною шинкарь всегда приводил какого-нибудь лжесвидетеля, опорочивающего те показания, на которых построен был мой обвинительный приговор, и съезд выносил заведомому для меня шинкарю оправдательный приговор. Закон тогда точно разграничивал промышленное шинкарство и случайную продажу вина без патента и относил к подсудности земскими начальниками лишь последний случай, и то, если он повторялся не более двух раз, третий уже признавался промыслом и подлежал ведению суда высшей инстанции. Видя, как оправдательные приговоры съезда дурно влияют на население и препятствуют мне в борьбе с пьянством, я взял себе за правило налагать наказания не свыше 15 рублей штрафа или трех дней ареста, благодаря чему мой приговор был окончательный, и съезд не мог вмешиваться в существо дела. Результат был блестящий: ни один такой мой приговор не был отменен, а человек, осужденный мной два раза, по третьему протоколу уже с ярлыком шинкаря по промыслу попадал по приговору уездного члена в тюрьму, так как его прежняя судимость говорила, во всяком случае, против него. За один год я таким образом перештрафовал человек 15, и все стали опасаться. Имея точные сведения о таком лице, торгующем водкой, я обыкновенно давал поручение полиции сделать расследование; становой кого-нибудь подсылал и в случае продажи ему водки составлял протокол. Если такая продажа обнаруживалась в селе, где был запретительный приговор, я сажал сельского старосту за отсутствие надзора под арест.
Много позднее, когда я частным человеком уже жил в деревне после полной отставки, один из таких приговоренных мною, Алекс[андр] Захарович Фомичев, ныне давнишний казначей нашего Братства, говорил мне, что он был осужден мною неправильно, но даже приговора моего не обжаловал, потому что до того торговал неоднократно и считал это наказание совершенно справедливым за прошлые деяния; меня это вполне удовлетворяет, потому что доказывает, что нюх на людей у меня был правильный, и в борьбе с этим злом я всегда попадал в точку.
Частные разногласия со съездом получались также по делам о порубках, особенно, когда в составе коллегии не было ни одного земского начальника. Каждый порубщик выставлял целый ряд свидетелей, готовых показать под присягой, что отобранный лес куплен на их глазах у такого-то, и съезд не обращал тогда внимание на протокол осмотра и сличку отруба с пнем. Сознаюсь, что по этим делам я всегда очень волновался, и формализм юристов, не знакомых с деревенской жизнью, меня всегда возмущал. Я понимал, что надо приучить крестьян к особому бережению лесов, что их легкое отношение к порубкам не столько проявление
396
нужды, сколько некультурность; но земские начальники за отсутствием предводителя, редко заседавшего в съезде, обычно были в меньшинстве, и долгое время практика съезда в отношении порубок была шаткая.
По делам о кражах было гораздо больше солидарности между мною и съездом. Я сам крайне остерегался приговоров о тюремном заключении и потому с особой осмотрительностью взвешивал не только показания свидетелей, но и личность самого обвиняемого. Помню один случай из моей практики, за который я должен был бы быть отдан под суд, а я был прав и поступил по совести. Обвинялся мальчик семнадцати лет в краже у хозяина-купца вожжей или хомута. На разборе дела мальчик сознался, хозяин, хотя и потерпевший, плакал об этом мальчике и просил его простить; мать обвиняемого хныкала и заставляла сына кланяться в ноги хозяину и просить у него прощения. Получилась чисто патриархальная картина общего раскаяния, и я, несмотря на возраст обвиняемого, постановил отдать его родителям на исправление, не подвергая никакому наказанию, и, как потом оказалось, мать его еще в саду моем исправляла сына розгой. Посади я его в тюрьму (исправительный приют для малолетних не принимал таких великовозрастных), он стал бы негодяем, а теперь, хотя, быть может, он и большевик, но, по крайней мере, не по моей вине. Не мог я отрешиться от неприятного чувства ко всяким поверенным. Хорошие, настоящие адвокаты, понятно, ко мне не приезжали, а главное, выступали принадлежавшие к разряду «облакатов» (крестьяне производили это слово от выражения «облаять», «дюже лаются»). Вознаграждение за ведение дел я назначал в таких случаях минимальное; впрочем, был случай, где я с воспитательной целью назначил максимальное вознаграждение и добился благих результатов. Имение Алабиных после разорившихся помещиков Боскаловых попало в руки Панова, типа кулака-мироеда. Про него всегда ходили слухи, что он не уплачивает жалованье своим рабочим, но до жалоб дело редко доходило, а вот один смельчак, решившись все равно от него уйти, стал взыскивать 8 рублей, сумму, на которую хозяин его обсчитал. Панов был купец, а потому дело поступило ко мне. На суде я старался примирить обе стороны и, казалось, достиг соглашения: Панов соглашался уплатить, а истец прекратить дело. Но перед подписью протокола, последний спросил Панова, когда он ему уплатит деньги, на что тот ответил, что он едет в Москву и лишь через неделю или дней 10 вернется домой. Это была явная недобросовестная оттяжка, но и тут истец показал свой миролюбивый характер и заявил: «Согласен, но когда приедете, тотчас уплатите?» «Да, — отвечал Панов, — если будут деньги, а то невелика беда — подождешь». «Хорошо, подожду, а кормить меня будете это время?» «Нет; на то есть мой постоялый двор, где можешь проживать». Тут уж я вмешался и, фиксируя истца, спросил: «Значит, мира не состоялось?» и, получив утвердительный ответ, написал определение о взыскании с Панова, кроме всей суммы иска в 8 рублей, еще 25 рублей в пользу истца за ведение дела. Эффект был ошеломляющий — Панов с иронией благодарил за справедливый приговор, но зато больше никогда жалоб ко мне на него не поступало. С недобросовестными расчетами приходилось мне бороться очень упорно и с Экаревым, нашим ближайшим соседом, и с Барановым, арендатором дугненского завода. Экарев разрабатывал у себя гору, увлеченный примером нашего предприятия,
397
о котором я писал выше, и так как у него оборотного капитала не хватало, а материал, поставляемый им на Рязанскую дорогу, оплачивался большими суммами, но редко, всегда должал рабочим, и летом они ко мне являлись толпами, требуя расчета и отправки на родину. Я вполне понимал, что это была не недобросовестность, а простая запутанность; положение мое было неловкое, потому что могли подумать, что я преследую как бы конкурента по каменоломному делу, которое у меня заглохло, а у него развивалось, но справедливость была на стороне рабочих и приходилось удовлетворять все иски. Неоднократно писал я Сергею Александровичу Экареву, который постоянно отсутствовал, служа в Москве, и предупреждал, что могут выйти крупные неприятности, так как к тому же его приказчик был крайне недобросовестный мужик, а жена его, г-жа Экарева, простая крестьянка, совершенно не умела вести себя с народом. Дело дошло до того, что в один прекрасный день Экарев попросил у меня разрешения передать мне крупную сумму денег, дабы я вел расчеты с рабочими, и когда я от этого очень резко отказался, привел ко мне толпу рабочих, в их присутствии призывал меня в свидетели, передал эту сумму приказчику, дабы, как он выразился, «земский начальник не мог бы меня обвинить, что я вас обсчитываю и задерживаю заработанные деньги». Понятно, отношения наши остались очень натянутыми, и только года за два до войны мы с ним встретились вполне дружелюбно на Земском собрании.
Борьба с Барановым была на другой почве. Он расплачивался хотя и аккуратно каждую субботу, но не деньгами, а продуктами из своей лавки, что строго преследовалось законом. Рабочие боялись об этом заявлять, боясь увольнения с завода, да и как было уличить в этом и доказать, что покупка продуктов была не добровольная, а насильственная. Пивоваров мне помог в этом: он уговорил некоторых и так стремившихся перейти на мышечский завод, и ко мне поступила жалоба человек от девяти. Поручил я полиции расследовать это дело, и хотя добытые доказательства были довольно шатки, я, зная, что это правда, и опираясь на показания торговца Третьякова, приговорил главу фирмы — Никиту Гавриловича Баранова — к 300 рублей штрафа. Для него, ворочавшего сотнями тысяч, такой штраф был пустяк, но самолюбие было задето, и перенес он дело в съезд, где был оправдан. Возвращался он на станцию Ферзиково с тем же поездом, как и я, вместе со своим управляющим, очень почтенным, но разорившимся помещиком Иваном Афанасьевичем Фольевым. Они ехали в первом классе, а я, как всегда, скромно во втором. Встретились мы с ними на перроне вокзала в Ферзикове, и я очень приветливо поздоровался с Фольевым, а когда Баранов с чувством торжества надо мной вследствие оправдательного приговора протянул мне руку, я немедленно заложил свою за спину и громко сказал при всех: «Подам Вам руку лишь тогда, когда Вы станете правильно рассчитывать рабочих, а до того не могу считать Вас достаточно порядочным человеком». Баранов страшно сконфузился, как-то робко отошел, но урок оказался полезный: положительно с тех пор расчеты упорядочились. Года через два после этого освящался придел в их церкви, сооруженный на средства их семьи; церковным старостой был брат Никиты Гавриловича — Герасим. Приглашен был на освящение калужский архиерей Александр, меня они не решились
398
пригласить, но мне надо было видеть епископа, а вместе с тем я хотел обласкать Барановых публично при их рабочих после того, как так оконфузил Никиту всенародно. Облекся я в мундир, надел цепь и во всем параде на четверне подкатил к крестному ходу к церкви. И как же они меня встретили! Я даже был сконфужен от избытка их почтительности и приветливости. Когда после обедни я, отказавшись от обеда, вышел на площадь поздравить заводское население с торжеством освящения храма и подчеркнул значение благотворителей, Никита со слезами сказал мне: «Значит, Вы меня простили?», а Герасим бросился целовать мою руку. Я обоих братьев обнял и под крики «ура» всей толпы уехал из Дугны. До самой своей смерти, которая случилась в 1917 году, Никита остался мне самым преданным человеком, постоянно был со мной в деловых отношениях по покупке у меня лесов и сруб, безгранично мне верил и восхвалял где только мог.
Чтобы дать полную характеристику наших с ним дальнейших отношений, несколько отступлю от темы и расскажу, при каких обстоятельствах я в последний раз продал ему лес, кажется, в 1912 году. Срок его контракта уже кончился года три, была какая-то заминка в лесных делах, и очередное мое десятилетие (то есть деревья возраста 10 лет) не продавалось; последняя покупка Баранова была по 200 рублей с десятины, я же назначил последнюю цену 250 рублей новой сводке, участок был большой, и вся сумма выражалась более чем в 150 000 рублей. Подвернулся купец какого-то дальнего уезда Гагарин, который усиленно стал торговать этот лес, но я до окончания с ним дела, решил предупредить Баранова. Последний приехал, когда уже приехал Гагарин со своим комиссионером кончать дело. Принял я Баранова отдельно и заявил ему, что для него цена не 250, а 260 рублей десятина, так как справедливо наказать его за то, что он так долго меня воловодил. Он для приличия поторговался, но, видя мое упорство, причем я ему заявил, что меня зовут завтракать, и если он леса не купит, я его к завтраку не приглашу, сказал моему старшему сыну: «Ну, что же, папаша не уступит, так видно, надо Богу молиться». Мы с ним перекрестились, ударили по рукам, он выпотрошил все свои карманы и набрал задатку около полутора тысяч, а когда я дал ему в этом расписку, демонстративно таковую разорвал, сказав, что и так мое слово верно. Дней через 10 мы с ним съехались в Калуге для заключения контракта, доплатил он мне тут же задаточные деньги до 10 000 опять без расписки, и когда я его привез в нотариальную контору Кологривова, он заявил последнему, что пусть тот пишет контракт, какой я найду нужным, что он подпишет все, что я найду нужным, даже не читая. Кологривов даже развел руками и заявил, что ему в первый раз в жизни придется писать такой двусторонний акт. Когда же я заявил Кологривову, что задаточные деньги по будущему контракту я уже получил и расписки Баранов от меня не принял, Никита Гаврилов замахал руками и сказал: «На что мне Ваши расписки? Если помрете, то и дети Ваши никогда меня не обидят». Действительно, вечером, перед отходом поезда, Баранов приехал подписать контракт и хотел это сделать не читая, и только ввиду настоятельного требования Кологривова контракт был прочитан нам вслух и обоими подписан, понятно, без всяких изменений и возражений. Сознаюсь, что такое слепое ко мне доверие и уважение со стороны такого
399
дельца, как Баранов, и к тому же после продолжительной борьбы с ним за правое дело, мне было очень приятно.
Чтобы докончить свою личную деятельность в участке, надо коснуться волостных судов, на которых, главным образом, и отразилась реформа, так как, оставаясь сословными, бытовыми судами, компетенция их была расширена почти до пределов мировой юрисдикции, и подчинены они были строгому надзору земских начальников, а приговоры о телесных наказаниях — и к контролю их. Я, хотя не был определенным сторонником розог, но считал, что исчезновение их должно последовать после осознания крестьянами позорности этого наказания, но отнюдь нельзя искусственно уничтожать оные, принципиально заменяя это наказание арестом, как практиковал съезд, когда такой приговор бывал ему обжалован. Действительно, за мою семилетнюю практику телесное наказание применялось все менее и менее судами и под конец, по Ферзиковой волости, например, вышло совсем из употребления, а вначале таких приговоров в год по участку бывало до 20-ти, если не больше. Я, до утверждения такого приговора, требовал личной явки приговоренного и, только убедившись, что, оставаясь наказанием, он вместе с тем не сверх меры его нравственного понимания и самолюбия, утверждал приговор. Как иллюстрацию, расскажу два случая, бывших со мной. Приговорен был к розгам по Ферзиковской волости за кражу крестьянин лет 40, пастух; на следующий день после суда пришел ко мне его сын, парень лет 20-ти, городской житель, довольно развитой, служащий приказчиком в булочной в Калуге, и заявил мне, что такого позора, как наказание розгами отца, он не вынесет и в случае утверждения мною приговора утопится в пруду. Я ему, понятно, обещал, когда настанет время, заменить это наказание арестом, что и сделал даже без вызова его отца, когда приговор вступил в законную силу. Другой случай был противоположного характера. Явились ко мне двое дугненских мастеровых, оба приговоренные к розгам за драку, прося их помиловать. Я им объяснил, что они могут помириться, но что освобождение от наказания ввиду обоюдности обид принадлежит самому суду, и если он этого не сделал, значит, он считал необходимым воздействовать на обоих, но что я, во всяком случае, такое наказание не заменю, так как своей безобразной дракой и продолжающейся ссорой они доказывают свою грубость; впрочем, они имеют право обжаловать приговор в съезде. Воспользовались они последним советом, дело представлено было мною в Съезд, который, утвердив приговор волостного суда, заменил каждому наказание розгами арестом на 30 суток. Не прошло нескольких дней, как оба эти драчуна явились ко мне, но на этот раз уже крайне мною недовольные: «Помилуйте, что Вы с нами сделали! Съезд только сильнее нас наказал, теперь 30 дней мы будем без работы и семьи наши будут голодать!» Вот как они относились к отмене наказания розгами и, не боясь его, не хотели мириться, а как только съезд назначил им арест, они сразу пошли на мировую.
Рассказал я самые яркие случаи, а в сущности каждый приговор о телесном наказании при опросе приговоренного совершенно различно трактовался, и такого интенсивного возмущения, как в первом рассказанном мною случае, я встречал очень редко, почему и замены телесного наказания другим у меня были нечасто; но, как сказал выше, сами судьи все меньше и меньше их применяли. Ведь
400
не надо забывать, что наказание это назначалось за самые грубые поступки, как-то оскорбление женщины, драка, нарушение общественной тишины в безобразно пьяном виде, кража и т. п., посему и сами приговоренные были вполне огрубевшие люди.
Очень интересна была практика волостных судов по гражданским делам. Лущихинский и Сергиевский суды выносили иногда прямо мудрые решения. Помню одно такое дело о разделе имущества, в котором фигурировала как главный документ старинная раздельная мировая сделка безграмотная, в которой после перечисления имущества была такая фраза: «А отец на печке»; но кому какая часть имущества должна перейти, сказано не было. Суд настолько удовлетворил всех своим решением о разделе имущества, что жалобы не поступило, причем вышеупомянутая бессмысленная фраза была понята судом так, что отец оставлен был на иждивении того, кому досталась изба с печкой, посему определением суда наследникам последнего было дано больше за расходы по прокормлению деда. Уже значительно позже, когда я губернаторствовал, товарищ министра внутренних дел Стишинский, вдохновитель временных правил о волостном суде, рассказал мне яркий пример мудрого решения волостного суда по гражданскому делу. Два общества, из коих одно — многочисленное, а другое — малочисленное, владели на равных правах лугом, и в суд поступила жалоба маленького общества на то, что большое скосило хотя и половину луга, но наилучшую часть, посему просили суд выехать на место. Пока думали да откладывали поездку, истцы, боясь потерять от дождя и последнее сено, скосили оставшуюся часть, и когда суд приехал на место, никакого сена уже не было. Видя невозможность определить, кто прав и кто виноват, волостной суд вынес Соломоново решение: «На будущий год обоим обществам косить те же части, но в обратном порядке». Такое решение, понятно, не укладывается в юридические нормы, но вполне удовлетворяет бытовую сторону. Еще ближе к жизни, чем коронный и мировой, волостной суд подходил в вопросах о взыскании убытков за отказ жениха или невесты от состоявшегося сватовства, [а] также в делах об исках за бесчестие. Надо было судье быть плотью и кровью от населения, чтобы понимать его этические требования. Меня всегда удивляло модное нападание либеральных кругов на правительство за притеснение крестьянства, когда в сущности это было единственное сословие, имевшее свой чисто сословный суд, и более того, выборные сословные члены администрации и фиска; ни одно другое сословие в государстве такими прерогативами не пользовалось.
Картина этого периода моей служебной деятельности будет неполна, если я не коснусь своего участия в съезде. Сессии были ежемесячные, и мне приходилось два-три дня каждый месяц проживать в Калуге. В средствах я был очень стеснен и потому расходы свои сокращал до минимума; жил в Калуге впроголодь, в наиболее дешевом номере «Кулона», питаясь привезенными с собой деревенскими запасами, и гордился, когда расход по всей поездке не превышал 10 рублей. Но несмотря на то, что постоялец я был невыгодный, встречаем был всегда и обдуман в гостинице, как самый важный приезжий. Думаю, что это отчасти было по старой памяти, а главное, благодаря тому, что многие из прислуги были крестьяне моего участка, и они, да и другие, осаждали меня просьбами,
401
толкаясь у меня в номере, когда я уже лежал, иногда до поздней ночи. Но в гостинице приходилось пробывать недолго. С раннего утра я уходил в съезд и возвращался лишь часа на полтора днем, в перерыв между утренним и вечерним заседанием, которое оканчивалось в 11-м часу вечера. Когда разбирались мои дела, и я был свободен, я пользовался этим временем, чтобы бегать по разным Присутственным местам, наводя справки или хлопоты о каких-нибудь крестьянских делах. Таких частных полуслужебных поручений у меня за месяц набиралось много; все меня знали, были крайне любезны по памяти о моем отце и моем тесте, и поэтому мне легко было помочь своим крестьянам, что очень привязывало население участка ко мне. Сначала во время каждого заседания было много споров, пока не выработалась определенная практика. Помню, как товарищ прокурора Худяков протестовал против моего участия в коллегии, когда слушалось дело волостного суда, поступившее в съезд по моему протесту. Я с большим трудом добился неподчинения съезда такому заключению, а потом смешно было, что такое сомнение могло возникнуть у прокурора. Понятно, сочетание административной и судебной власти в одном лице вызывало все время какое-то недоверие со стороны чистых юристов, но все-таки работа была дружная, центр ее тяжести оказался в Судебном присутствии, а не в Административном, где бесцветная личность председателя Сухотина не способствовала творческой работе. В Судебном присутствии, наоборот, главная роль принадлежала Кологривову, который каждое дело изучал основательно и по всем новым вопросам, возбуждаемым реформой, старался добиться решения, освещенного мнениями всех, почему редкое дело проходило без совещания в судейской комнате, и судоговорение растягивалось. Он же способствовал объединению всех членов; помню, как во время гастролей Варламова он настоял всему съезду ехать in corpore в театр, для чего заранее взял большую литерную ложу, и мы всем составом прямо из совещательной комнаты отправились в театр, где воочию показали калужской публике, дружно аплодируя Варламову и в антрактах продолжая дебатировать юридические вопросы, как мы дружны и солидарны.
Жалею, что я не художник и не могу в кратких словах передать свое настроение, но как сейчас ощущаю гамму переживаний при поездках на эти сессии; оторваться от обычной работы, от привычной обстановки как жизни, так и труда, вначале было только очень неприятно. Отъехав от Ферзикова, все те интересы, которыми жил, уже кажутся не столь важными, посторонние интересы и отсутствие у других поглощающего внимания к твоим рассказам прямо неприятны, а когда попадаешь в совещательную комнату до открытия заседания и слышишь оживленные споры Кологривова, городских судей, присяжных поверенных о чем-то тебе незнакомом, еще более чувствуешь свою отчужденность, там, где-то в деревне поглощенного крестьянскими делами, семейными заботами и радостями. Затем постепенно втягиваешься и к концу дня уже сам живешь полной жизнью, участвуя равноправно и чувствуя, что и сам вносишь что-то новое, хорошее. Особенно ярко всегда переживал я защиту интересов своего участка, для меня так важных, когда приходилось бывать у губернатора: в начале службы у Булыгина, а под конец — у князя Голицына. Чинная тишина в губернаторской приемной, разговоры полушепотом лиц, ожидающих приема, корректная
402
предупредительность дежурного чиновника и иногда долгое бесплодное ожидание, когда каждая минута дорога, сразу наводило тоску. Но, впрочем, оговорюсь: прием у Булыгина в большинстве случаев искупал все, настолько всегда интересны были с ним разговоры и польза его указаний. Помню такой случай, рисующий его личность и отношение его к делу. В самом начале моей службы ферзиковский старшина просил меня рапортом разрешить сдать в аренду надельную землю деревни Алешиной, объясняя, что там живет один лишь крестьянин, владея несколькими наделами, а остальные разбежались, земля их пустует, и в былые времена Крестьянское присутствие всегда разрешало эту сдачу, дабы не накопилось недоимок на земле. Не находя на подобный случай никакого указания в законе, я отправился к Булыгину. Последний сказал мне, что ему впервые приходится сталкиваться с подобным случаем, почему просит заехать вечерком пред отъездом на вокзал, а он пока надеется найти до этого времени надлежащие указания в «Сенатской практике». Когда я к нему вновь приехал, он меня встретил следующими словами: «Ничего в законах не нашел, почему, надо полагать, до Сената такой вопрос еще не доходил, но с практической точки зрения надо признать, что если Вы откажете, земля будет безлюдно лежать, а недоимка накапливаться. Но, так как разрешая такую сдачу, Вы превышаете свою власть, и в случае возвращения домохозяев они будут искать с Вас убытки, я советую Вам не словесно, а письменным представлением просить у меня разъяснения; я, понятно, соглашусь на сдачу в аренду земли, и тогда в случае иска об убытках мы будем оба отвечать». Надо сказать, что редкий губернатор дал бы такой жизненный и порядочный ответ своему подчиненному.
Вспоминаю его заместителя князя Николая Дмитриевича Голицына, последнего дореволюционного премьер-министра. Он был изысканно вежлив, без всякого начальнического тона, но по всякому вопросу советовал обратиться к секретарю надлежащего Присутствия, сам положительно не умея разобраться ни в одном вопросе. До того он губернаторствовал в Архангельске, вывез он оттуда правителя канцелярии Богданова, крайне подозрительного типа с большим светским лоском, но с более чем грязной репутацией. Богданов в сущности и управлял губернией.
Но вернусь к первому рассказу о моем пребывании в Калуге. Под конец сессии я уже сам относился к интересам участка как к более мелким, тянуло меня в водоворот уездных и губернских интересов, тогда казавшихся мне наиважнейшими, и по возвращении домой я с трудом впрягался в обычную работу. Особенно трудно это давалось мне после продолжительного пребывания в Калуге на Земских собраниях. Отличные от службы земские интересы, участие в прениях, интрига партий давали совершенно иное течение мыслям, и как тогда я завидовал видным деятельностям предводителя, председателя губернской управы, и как моя работа среди одних крестьян казалась мне мелкой и скучной! Боясь такого, слишком большого у себя охлаждения, однажды, когда сессия губернского Земского собрания совпала с дворянскими выборами и потому была особенно продолжительна, я нанял квартиру и перевез на все время канцелярию в Калугу, где и продолжал вести дела и даже по утрам назначал разборы. Это мне еще больше подчеркнуло, насколько интересы в уездной и губернской жизни были шире,
403
хотя побудительные причины работы далеко не всегда были чисты. Опыт такого совмещения я больше и не производил, считая полезнее всецело предаться новой среде во время Земских собраний и этим набираться новых впечатлений. Но с каждым годом я все более и более чувствовал необходимость не зарыться окончательно на этой должности, искать более широкого поля деятельности, сознавая, что и методы управления одними крестьянами — недостаточная подготовка для будущего администратора, так как совершенно непригодна к другой среде. Обратился я к своему тестю, тот меня представил министру внутренних дел Ивану Николаевичу Дурново, и как я горд был, когда мне однажды принесли в съезд во время заседания официальное извещение, что по распоряжению министра я зачислен в кандидатский список на должность вице-губернатора. Мне казалось, дело в шляпе и все мои честолюбивые желания скоро исполнятся. Рисовалось в моем воображении вице-губернаторство в Калуге, причем я мысленно уже нанимал квартиру, дом Яковлевых, представлял себе почтительное отношение ко мне уездных властей и во время заседания писал все монограммы К. В. И. Ю. Д. Е. В. М[ихаил] М[ихайлович] О[соргин]. Как все это было ребячливо и тщеславно! Более трех лет пришлось мне ждать назначения. Я только потом узнал, что этот кандидатский список не принимается во внимание во время назначения, и в нем-то я был чуть ли не под № 100. Года через два я, действительно, чуть ли не попал в Харьков вице-губернатором, но по особому случаю. Тамошний губернатор Тобизен женат был на Яковлевой, и она, встретив меня в Калуге и зная, что я домогаюсь повышения по службе, посоветовала мне обратиться к мужу, у которого на днях должна была открыться вакансия, а сам Тобизен был в большом фаворе у государя и, несомненно, мог провести желаемого им кандидата. Написал я Герману Августовичу, он выразил полное согласие и начал хлопотать. Такое назначение было бы из ряду вон блестящее, потому что служба в Харькове была наряду со столичными городами.
И он, и сестра моя держали меня все время в курсе дела, и, наконец, во время одного заседания Братства мне привезли телеграмму от сестры такого содержания: «Узнала, приказ будет подписан на днях». Земля меня не носила, но секрет я держал, и когда мне пришлось быть на съезде через несколько дней, с трудом удержался, но никому не проговорился; мысленно прощался со съездом и, когда возвращался домой, говорил себе, переезжая границу, что, быть может, в следующий раз я ее уже перееду вице-губернатором. Разочарование меня уже подстерегало. Кучер мне сообщил, что в задке почта, и мне есть заказное. Я его распечатал и увидал, что это от Тобизена, который сообщал мне, что в день подписания приказа к министру Горемыкину явилась госпожа Философова, под начальством мужа которой Горемыкин начал свою службу. Сын этой Философовой был вице-губернатором в Томске, только что овдовел, и мать просила спасти его от тоски и перевести в Россию, почему Горемыкин и решил назначить его в Харьков. Сознаюсь, что я от этого известия совершенно упал духом, и с тех пор мое желание уйти из земских начальников стало idee fixe. Во мне разыгралось и мелкое чувство честолюбия, и крестьянская среда как-то стала противна. Очень меня обрадовало назначение, помимо всякой с моей стороны просьбы, участвовать на торжествах коронации государя императора Николая II Александровича как
404
представителя от земских начальников губернии; надеялся я, что это будет способствовать и назначению моему, но во всем ошибся, наша роль депутатов от земских начальников была самая ничтожная, не только нас никто не видал, но и сам почти ничего не видел. Но все это относится уже не к деятельности земского начальника, и поэтому на этом закончу воспоминания моей первой, уже более семилетней служебной эпохи и перейду к воспоминаниям личным и семейным за тот же период времени.
Положение земских начальников в Калужской губернии было введено 1 февраля 1890 года; я переехал в Сергиевское 2-го, а жена моя с детьми приехала дня через два, и с тех пор начался период нашей семейной деревенской жизни, длившийся беспрерывно до осени 1898 года, когда мы переехали в Харьков. Приехали мы в Сергиевское с 2-мя сыновьями, а уехали уже с 6-ю детьми, так что есть что вспомнить в эту счастливую эпоху нашей семейной жизни. Когда я, как писал выше, последнее время стремился всей душой скорее выбраться из деревни, моя belle-mère меня всегда предостерегала и внушала, что я не умею ценить эту счастливую пору, когда семья вся вместе и дети растут в благотворной деревенской атмосфере. Это верно, что более счастливых условий трудно было себе вообразить. Жили четыре поколения вместе, что редко случается: моя бабушка Волконская, которой было уже под 90 лет, к ее же поколению отношу и нашего старика Платона Евграфовича, хотя он был значительно ее старше; мои родители и с ними моя старая Нюничка; наконец, мы с женой и дети. Дом был разделен на две половины; налево от парадного входа половина стариков; родители мои занимали комнаты моего сына Миши, бабушка жила в комнате перевязочной, рядом с ней в крошечной комнате помещалась Нюничка; Платон Евграфович жил в своей обычной комнате наверху, где у него были и мастерская, и лаборатория, а классная служила общим местом сбора стариков; бабушка выходила туда часам к двум, занимала свое обычное громадное кресло красного дерева недалеко от последнего окна к шоколадной комнате, целый день вязала, молилась, а вечером, после вечернего чая, который подавался всегда в классной, играла она неизменные 16 партий дурачков, угощала меня папироской Лаферм и довольно рано удалялась к себе. От передней направо за приемными комнатами была наша половина, та же, что и до переезда в Калугу; изменено было лишь то, что прибавлена была третья детская, устроенная из последней комнаты, где прежде помещалась горничная детей; подъезд был переделан в большую крытую террасу и перед ней разбит красивый палисадник. Все это было сделано в ожидании рождения третьего ребенка, который ожидался всеми нами со страхом благодаря плохому состоянию здоровья жены. Все это побудило мою мать предложить самой вести хозяйство, особенно пока жива бабушка, которую постоянно надо было особенно обдумывать. Так и порешили; мы с женой ни во что не входили, а получаемое мною жалованье земского начальника шло лишь на уплату жалованья канцелярии, своим людям и на мелкие личные расходы. Собственно наших личных людей, кроме канцелярии, было 5 человек: мой камердинер, он же и буфетчик всего дома Семен, помощник его Евмений, горничная моей жены Саша Астахова, няня Федосья Калмыкова и ее помощница, довольно часто менявшаяся. Все расходы по туалету детей, по вызову докторов, не говоря уже об обычных
405
расходах, лежали на моих родителях, так как получив после 20-го числа свое содержание и уплатив все жалованья людям, а также расходы по канцелярии, мне оставалось на все и про все и, между прочим, на поездки в Калугу на съезд, рублей 20—30, не больше. Трудно поверить теперь, что все наши люди харчевались на свой счет и получали на это от меня 6 рублей в месяц каждый, прекрасно устраивались на эти деньги артелью, столуясь у кучера Трифона (теперешнее помещение бани), жена которого Пелагея ухитрялась за эти деньги давать им вкусный обед и ужин. Мама́ вела хозяйство, постоянно заботясь о вкусах и желаниях каждого, и была мученица, стараясь всем угодить. После обеда к моей жене неизменно присылалась кухонная поварская книжка на просмотр будущего меню и заказа всего для детей; Лиза прежде всего машинально исправляла грамматические ошибки (моя мать по-старинному писала «генварь», «грешнивая» и т. п.) и потом уже вписывала свой заказ. В игральную собирались мои родители ко времени ванночек, таяли от всякой детской жентильесы; каждый имел своего любимца, моя мать — Мишу, а Папа́ — Сережу, и так вся атмосфера была любовна, ласкова, так охраняли они покой моей жены, благодаря ее за счастье, мне дарованное ею, что, действительно, жилось легко. Мама́ делила с Лизой все тревоги о здоровье детей, преувеличивая их иногда сторицею. Папа́, хотя был других со мной понятий, но живо интересовался моей новой деятельностью, вспоминая свое председательствование на мировом съезде. Понятно, за этот период бывали шероховатости, бывали кое-какие трения, но мои родители своей абнегацией, а жена моя своим спокойствием и отсутствием мелочности так легко устраняли их, что все более чувствовалось, что это не временное сожительство, а прочная семейная жизнь неразделимых до конца жизни элементов. Так оно и случилось, и какое счастье для наших детей, что все их детство, а потом и юные годы освещены были лаской и баловством дедушки и бабушки! Вот, значит, leitmotiv этой эпохи нашей жизни; перейду к подробностям.
Жена моя, как писал выше, была больна нарывом от застуженного воспаления надкостницы. Она была до того истощена от ряда бессонных ночей, что когда она въехала в Сергиевское, Нюничка, не видевшая ее довольно долго, так и ахнула, пораженная ее изможденным видом. Много страхов перенесли мы, пока наконец доктор Парфианович не вскрыл обнаружившийся на шее глубокий нарыв. Страдания прекратились, но перевязки были еще очень мучительные, и лишь на Пасху удалось вынуть дренажную трубку. Лиза причащалась в самый день праздника ночью; невесело было на душе в ожидании родов, до того Лиза была плоха, и мы с ней решили иметь кормилицу наготове, не предполагая для нее возможности кормления. Обратился я к тому же Дубенскому, как и при рождении Миши, но, чтобы быть более покойным, пригласил я для постоянного жительства в Сергиевском за полмесяца до срока женщину-врача Панфилович, предоставив ей привезти с собой и акушерку, но предупредил ее, что Дубенского я все-таки вызову как консультанта, что ее немножко обидело. 30-го мая родилась наша старшая дочь Соня. Все страхи оказались напрасными, все прошло более чем благополучно, и хотя Панфилович своим уходом далеко не оправдала возложенных на нее надежд, никаких дурных последствий не было.
406
Весь май был чудный в этом году и оправдывал свою репутацию роскоши, сочности и света, а самый день рождения Сони превозмог все остальные дни. Помню, что в этот самый день у меня был назначен разбор гражданского дела о взыскании какой-то ростовщины по векселю Дестрема, и я, спеша разобрать это дело, совершенно бесспорное, прислушивался к каждому движению, звуку, беготне в нижнем этаже. Разбор успел окончить вовремя и уже не отходил от Лизы, пока появившаяся на свет Соня не закричала жутким басом.
Кто не отходил с самого начала от Лизы все время — это была ее мать; всегда я ее любил, но в эти минуты совместных страхов, мучений, мольбы к Богу о прекращении страданий я чувствовал всегда к моей belle-mére (мне даже неприятно называть ее таким холодным родственным наимено-ванием, настолько я смотрел на нее как на родную мать, почему в даль-нейшем буду звать ее Мама́ Трубецкая) особенную близость; никто, как она, не умел внушить такого спокойствия своею верой в Бога; в церковных обрядностях она даже как бы несколько протестантствовала, не придавая особого значения постам, не посещая неукоснительно церковные службы, но в глубине души она была постоянное высокое парение души и в своих молитвах, в своем познавании смысла жизни и в своих постоянных исканиях она всех превосходила. И тут, при рождении Сони, чудесно сказалась сила ее молитвы. Во время страданий Лиза всегда держала свою мать за руку, так было и на сей раз. Мама́ Трубецкая, как потом рассказывала, переживая интенсивно все страдания Лизы, ощущая оные как бы сама и следя за ними по судорожным сжиманиям руки дочери, задумалась над вопросом, что молитвы родительские должны быть особенно действенны, если их проклятие влечет за собою несчастье детей. Вспоминала она пример тети Ольги Оболенской (жены князя Михаила Александровича), которая, проклинаемая неоднократно своею полоумною матерью Стурдзой, всю жизнь была преследуема бедствиями и глубоко несчастна. Мама́ Трубецкая стала мысленно молиться: «Да прекратит Господь страдания дочери и покажет явно, что молитва матери, угодная Богу, столь же действенна для детей, как действенно и родительское проклятие; пусть Господь ныне по ее молитве дарует дочери благополучное разрешение». Она еще с закрытыми глазами была вся в молитве, настойчиво прося исполнения оной, как Соня родилась. Лиза, видя свою мать с закрытыми глазами, говорит ей: «Мама́, кончено», а та ее стала успокаивать: «Да, душа моя, потерпи немного, это счастье». Мама́ не понимала, что ребенок уже родился и ее молитва чудесно была услышана тут же <…> Вскорости Мама́ рассказала все это во всех подробностях Лизе в назиданье нам, юным родителям.
И появление на свет первой дочери и прекращение страха за жену, все это создавало такое радостное настроение, как и при рождении Миши. Но очень скоро эта радость была омрачена скоропостижной кончиной Платона Евграфовича, к которому мы все по привычке были привязаны как к родному. Заболел он 31-го, как говорят, выпив слишком холодного шампанского за здоровье моих родителей, праздновавших годовщину своей свадьбы. Но он перемогался, ложиться в постель не любил и только не выходил из своей берлоги. 2-го июня ему было как будто лучше после опиума, который дала ему Панфилович; сестра
407
все уговаривала его заснуть, а он куражился: «Нате, матушка моя, заснешь здесь, а проснешься на лоне Авраамовом!». В этот день моя мать и Панфилович уезжали в Калугу. Платон Евграфович как бы что-то предчувствовал после того, как Мама́ с ним простилась у него в комнате, добрел до окошка в коридор и не пере-ставал следить за удаляющимся экипажем и даже, как говорят, перекрестил его, что не было совершенно на него похоже.
Через какие-то полчаса его нашли на полу в клозете мертвым, со сложенной рукой для креста. Что было причиной такой скоропостижной смерти, осталось тайной, но мы долго обвиняли Панфилович за данный ею опиум. Пока нашли меня, Папа́ и пока мы распорядились, прошло уже столько времени, что Мама́ не успели догнать, и вернулась она лишь на следующий день вечером. До ее приезда мы решили скрыть смерть Платона Евграфовича от бабушки, а Лизе я решил ничего не говорить до 9-го дня, когда она встанет. Вот почему вынос тела нашего бедного старика произошел не только не торжественно, но даже как-то clandestinement, без звона и с пением вполголоса. Тело его было давно уже в церкви, когда бабушка, слыша топот под своей головой, посылала узнавать, не хуже ли Платончику. Когда Мама́ приехала, она прямо проехала в церковь и горько плакала над бедным стариком, который действительно ее любил, как только мог. Похоронили мы его рядом с могилой моего брата. После похорон пришлось мне выдержать упорную борьбу с Нюничкой. Я вызвал станового для описи имущества покойного как безродного, и, главное, предполагая, что у него где-то есть деньги, так как знал, что моя мать незадолго перед тем отдала ему свой долг в несколько сот рублей. Сам я, хотя и земский начальник, но наиблизкий ему человек, не хотел принимать на себя меры охраны его имущества, ждал станового, а до того решил просто запереть и запечатать комнату покойника, но встретил непобедимый, яростный протест Нюнички, которая все стремилась что-нибудь спрятать в свою кладовую. «Mais, Michel, c’est à nous, c’est necessaire pour la maison!» или «Non, ça, jamais de la vie! C’est mon cadeau à lui, et je le reprends!». Действительно, все имущество пошло прахом, а были для нас ценные, по воспоминаниям, вещи, как-то его гитара, его флейта, часы башенные с боем, увезенные им из Радушина и хранившиеся у него в разобранном виде; все это продано было с аукциона в Калуге за гроши, и вырученные деньги, две-три сотни рублей, отправлены в Коломенскую мещанскую управу, в которой он был прописан. Денег, как ни перерыл становой все платья, матрасы и подушки, не нашли. До конца жизни Нюничка мне прохода не давала с этим, упрекая меня в излишней щепетильности, так как дети его Насти благодаря этому ничего не получили. Я же считал себя правым во всех отношениях, тем более что, как земский начальник, должен был еще более показывать пример соблюдения законов. Когда на 9-й день приехала Панфилович подымать Лизу, последняя потребовала, чтобы докторша прежде всего навестила больного Платона Евграфовича, посему я ей и объявил, что он не только умер, но уже давно похоронен, а присутствовавшая при разговоре глупая земская учительница Александра Александровна Децемвирская, взятая на это лето занимать Мишу и Сережу (крайне неудачный опыт, так как через месяц пришлось ее отправить восвояси), глупым голосом подтвердила: «Даже давно
408
сгнил в земле, вот мы как поторопились!». Лиза сначала не поверила, а потом очень огорчилась и до сих пор настаивает, что такое объявление горестного события было для нее вреднее, чем если бы ей сказали раньше.
Лето прошло вполне благополучно, жили у нас Жилинские, не только моя сестра с Мусей, но и дети покойного брата ее мужа — Лиза и Гриша; последнему я даже давал уроки по какому-то предмету. В августе приезжала тетя Маша Бенкендорф с Лизочкой, так что, в общем, в течение этого лета доминировала атмосфера моих родных. Осенью впервые была приглашена гувернантка к мальчикам, некая Fraulein Luisa Lüsk, рекомендованная тетушкой моей жены Раевской. Она была совершенная перла и сразу внушила моей жене полное доверие. Не было человека в доме, который бы ее не любил, а Миша к ней так страшно привязался, что когда она уходила, плакал безутешно. Ушла она, пробыв менее года, по-видимому, соскучившись в деревне. Действительно, эта зима была довольно унылая, а в январе к тому же скончалась бабушка Волконская.
Заболела она на Крещение, а 10-го ее не стало; какая была ее болезнь, никто так и не понял, обвиняли ее в том, что она в крещенский Сочельник обкушалась любимой тюрей; доктор же говорил, что организм ее так износился, что малейший толчок был для нее роковым. Нюничка и ее горничная Дуняша, младшая дочь Трифона, почти не отходили от нее, так как она по своей толщине была совершенно беспомощна. Последние сутки она была без памяти, так что ее причастили после глухой исповеди; соборовалась она еще раньше, во время другой болезни, и повторять это таинство почему-то моя мать не нашла нужным. Я помню, как меня вызвали из канцелярии по телефону ввиду ухудшившегося состояния бабушки, и когда я прибежал к ней в комнату, застал моих родителей и Нюничку около ее постели на коленях. Варвара-прачка держала в руке бабушки зажженную свечу и кто-то громко читал «Отче наш». Было послано за священником прочесть отходную, но он не поспел. Это была первая смерть, при которой я присутствовал, и меня поразило, как можно было уловить момент исхода души. Все время я слышал клокотание в груди, дыхание все реже и реже, и наконец Варвара с какою-то опытностью приняла свечку, перекрестилась и шепнула: «Кончилась». До того она наблюдала, чтобы никакой шум, кроме молитвы, не отвлекал бы; по ее понятию, не надо было смущать душу, а то агония продолжится. Лизы в комнате не было, ее все, и я первый, берегли; она была в детской, где было время обеда детей. Я пошел к ней объявить, она не поверила и даже возразила: «Почему ты знаешь, что она умерла?» Тут же был послан Николай в Москву к тетушке Кутузовой приготовить и условиться на счет похорон бабушки в Девичьем монастыре, где ей было куплено место рядом с дедушкой; а меня Папа́ отправил в Калугу покупать гроб, пригласить певчих и исполнить все формальности для перевозки тела. Помню, как я выезжал через какие-нибудь полтора часа после кончины бабушки в темноту, в сильную метель на вокзал. Ветер так завывал, такие фантастические вихри снега неслись по полям, что было жутко, а Трифон глубокомысленно мне заметил, что это всегда так бывает, когда умирает старик. Булыгин отсутствовал, но все мне устроил довольно быстро вице-губернатор
409
Маслов, брат мужа тети Наташи Волконской. Задержался я из- за гроба, который пришлось делать новый по заказу громадных размеров; и когда я вернулся в Сергиевское на другой день поздно вечером, застал приехавших Небольсиных, примирившихся по этому случаю с Мама́. Ссора их началась, как я писал выше, во время жениховства Яши. Комната бабушки вся была обита елью и можжевельником. Две монашенки читали Псалтирь, и только ждали меня с хором, чтобы отслужить вечернюю панихиду. На усадьбе было уже много чинов полиции, присланных из Калуги, усиленно расчищались дороги для провоза тела. Мама́ была очень жалка, много плакала и вместе с тем все беспокоилась, как в такой холод Папа́ поедет с ней в Москву, как бы не простудился он. Решено было, что я останусь дома, а родители мои с Небольсиными будут сопровождать тело. Лиза телеграфировала в Москву, прося своих родителей их встретить и устроить. На следующий день после отпевания я один со всем духовенством проводил тело до Ферзикова, где уставил его в вагон и дождался прибытия на вокзал моих родителей, которых посадил и с которыми простился. Сознаюсь, что жутко было на той половине, когда я вернулся. Нюничка, никогда ничего не боявшаяся, и та пригласила к себе на ночь Fraulein Lüsk, и мы с Лизой не завидовали им обеим, когда они обе после вечернего чая входили со свечкой на ту темную половину. Хотя все служащие протестовали, говоря, что комнату покойника 6 недель нельзя трогать, я поторопился отремонтировать эту комнату совершенно заново, и к возвращению моей матери после 9-го дня в ней жила уже Нюничка, и вся та половина приняла опять уютный вид. Против нарушения таких поверий особенно восставал старый управляющий Иван Фомич Гусев. Это был замечательный тип; рекомендован он был нам дядей Митей Наумовым, был великолепный управляющий, знающий свое дело, но, к сожалению, попал к нам уже очень старым и страдающим одышкой. Привык он управлять крупными волжскими имениями в несколько десятков тысяч десятин, называл Калугу — Самарой, Оку — Волгой, не мог мириться с тесными рамками нашего хозяйства и от этого всегда был не в духе. При нем была сестра, красивая старуха Ольга Фоминична, и воспитанница Авдотья Ивановна Капралова. Обе эти женщины вдвоем занимали должность экономки при моей матери. Старуха занималась самим хозяйством, которое знала в совершенстве, а молодая вела счета и все записи; но главная их забота была ублажить Ивана Фомича, накормить его вовремя, оберечь его сон. Помогал им в этом конторщик Пожидаев, которого старики прочили в мужья Авдотье Ивановне. Смешно было глядеть, как они утром отправляли Ивана Фомича объезжать работы. Все присные выходили его подсадить, закутать; севши верхом, он уже и не порывался слезать до возвращения домой, до того немыслимо было ему без их помощи сесть в седло. Вот эта руина и говорила, что тронуть до срока комнату покойника — будет новый покойник в доме, и, действительно, сбылось это над самим Иваном Фомичом, но только через год.
В апреле в Сергиевское приезжал, ввиду предположенной им покупки имения, великий князь Константин Константинович. Переговоры о сем шли чуть ли не всю зиму; предварительно приезжал доктор и какой-то управляющий
410
для решения вопроса, стоит ли его высочеству смотреть это имение, и после благоприятного их отзыва ждали его приезда чуть ли не целый месяц. Провизия, выписанная моим отцом для завтрака и обеда, несколько раз протухала, заменялась новой, а его все не было. Меня отчасти радовала перспектива продать Сергиевское, так как я думал на этом построить свое дальнейшее служебное благополучие, ибо, лишая меня ценза, великий князь мог мне взамен устроить назначение вице-губернатором. Ожидание длилось так долго, что наконец и ждать перестали, и моя мать уехала в <…> к <…>, которая была больна, как вдруг получена была телеграмма от управляющего Двором генерала Кеппена, что великий князь выехал и такого-то числа будет. Папа́ страшно засуетился; я поехал сейчас же в Калугу к Булыгину предупредить его и сговориться, не удобнее ли будет ехать великому князю от нас пароходом через Калугу.
Мне смешно вспомнить, какую это тревогу сделало во всех калужских кругах. Помню, как на вокзале в Калуге, встретив начальника участка инженера Когена, я обратил его внимание на непроездность дороги по полосе отчуждения до станции Ферзиково, и он довольно дерзко мне возразил, что он совершенно закроет эту дорогу, если я как земский начальник буду требовать ее исправления, после чего я от него отошел, бросив ему на ходу лишь известие, что великий князь на днях приезжает и проедет по этой дороге. Когда же я в тот же день вечером возвращался домой, дорога уже фундаментально исправлялась и к следующему дню обращена была в настоящий паркет. В Калуге, по распоряжению полицмейстера, мостовые по улицам, ведущим к пристани и к вокзалу, чинились; архиерей прислал ко мне благочинного выведать, не лучше ли будет ему самому приехать для церковной встречи великого князя; Булыгин просил меня телеграфировать ему, если я замечу, что великий князь удивлен, что он его не встречает, и поручил мне объяснить ему, что он этого не делает, чтобы не быть назойливым; одним словом, приезд великого князя делал из меня какую-то персону. Со мной вместе приехала в Сергиевское целая туча полицейских с исправником во главе, а ферзиковский вокзал разукрашивался и чистился. Накануне дня приезда великого князя, вечером, когда все уже было готово к его приему, сад, несмотря на раннюю весеннюю пору, блестел чистотой, дорожки к нам и весь двор были усыпаны красным песком, вся усадьба была вычищена, мы с Лизой вышли погулять. Вечер был чудный, апрельский, еще несколько свежий, но с такой прозрачностью воздуха, что самый дальний звук звенел как бы рядом. И вот услыхали мы с женой скрип затворявшихся ворот; по этому скрипу я мог в точности определить, какие это ворота, по филиации идей сейчас же знал точно, кто их запирает и почему, и вдруг меня охватила такая тоска, что все это для меня родное, знакомое навсегда для меня прекратится, что вся эта жизненная обстановка, в которой я вырос, а теперь растут мои дети, будет принадлежать другому, чужому, для которого все сие — чуждо, что мы переглянулись с женой и оба подумали и, как бы сговорившись, одновременно сказали: «Неужели эта продажа состоится?»
На следующий день встречал я великого князя на вокзале. С ним приехали генерал Кеппен, управляющий его Двором, доктор Муравьев и измайловский
411
офицер, тульский помещик Волков, с которым я потом во время моего губернаторства встречался в Туле, где он был городским головой. Сначала подъехали мы с великим князем к церкви под торжественный трезвон; там встретило его духовенство со святой водой и кратким молебном. Старик-священник Дмитрий Васильевич Извеков, по незнанию, встретил его как простой зритель на паперти, и когда великий князь к нему подошел, вместо того, чтобы благословить его и поцеловаться, как полагается по этикету, рука в руку сделал простой handshake, чем всех нас очень смутил. На подъезде дома ждал Папа́ во фраке, что смутило на этот раз уже великого князя, который просил и отца моего и меня переодеться и быть по-домашнему, что мы немедленно и исполнили. Тотчас после завтрака, который президировала Лиза без всякого смущения и конфуза, начался осмотр дома и имения, длившийся до самого обеда, после которого я проводил великого князя на вокзал. Поезд там его уже ждал, встречен он был целым сонмом железнодорожных властей и толпой народа. Уезжая, великий князь сказал моему отцу, что о своем решении он ему напишет; но, видимо, впечатление было неблагоприятное, хотя по дороге он меня спрашивал, чем он может мне помочь в случае утраты мною ценза, и я ему довольно прозрачно сказал, что, во всяком случае, я бы хотел продолжать службу, и на его вопрос, в той же ли должности, я объяснил, что нет, так как служба земским начальником мыслима лишь в своем селении. Приблизительно через месяц отец мой получил письмо от великого князя, что он отказывается от покупки имения, и мы все, кроме Папа́, были этому очень счастливы. Помню, как все были поражены нашей Соней. Она при входе великого князя со своей свитой в детскую не только ничуть не смутилась, но прямо протянула ему руки, чем привела его в большое умиление. Помню, как население Сергиевского отнеслось к его приезду. Иван Палладьев шаховский, тогда еще нестарый человек, бежал через поле, волоча за собой какого-то внука, и кричал великому князю: «Ваше величество, князь, остановись! Дай на себя поглядеть, а то помрешь, и никого из царей не видел». Великий князь очень добродушно посмеялся на такое изъявление восторга и обласкал внука, давши ему на память какую-то серебряную монету. При отъезде всем нашим людям были розданы полуимпериалы, и долго это событие со всеми подробностями служило главным предметом бесед. Меньше всех об этом вспоминала Лиза, вся преданная заботам о детях и радовавшаяся, что Сергиевское прочно осталось нашим гнездом.
В январе 1892 года скончался Иван Фомич Гусев, а 18-го января получена была телеграмма из Калуги о кончине там в больнице моего Семена Рогозина, помещенного туда за месяц перед тем ввиду хотя и тихого, но ясно выраженного умопомешательства. Посетил я его в Хлюстине недели за две до его смерти. Он почти не разговаривал, а только гладил меня и безутешно плакал. Он настолько был нам с Лизой дорог, что весть о его кончине ее сильно потрясла; она слегла, и 20-го родилась наша Льяна. В день ее рождения заезжала к нам Ольга Александровна Мамонова, тогда уже купившая Тимофеевку и предполагавшая к лету окончательно в нее переселиться. Эта семья наших ближайших соседей играла такую большую роль в нашей жизни, так
412
родственно делила с нами все наши радости и невзгоды, так была близка и такую большую роль играла в детской жизни моих детей, что я хочу на ней поподробнее остановиться.
Ольга Александровна, урожденная Рачинская, сестра известного С[ергея] А[лександровича] Р[ачинского] — деятеля по народному образованию, была женщина редкого ума, начитанности и полна самых серьезных интересов. Ее минус был отсутствие религиозности, что придавало всем ее суждениям какую-то сухость и рассудительность, хотя сердце ее было горячее, и нашей семье она его показывала вовсю. Ольга Александровна была вдова известного когда-то художника, знаменитого, главным образом, как crayon’иста; и теперь его карандашные рисунки разыскиваются и очень высоко ценятся. С ней жила ее дочь Софья Эммануиловна, на год меня старше, но по характеру и внешнему облику много меня моложе. Она, значительно менее развитая, чем Ольга Александровна (и даже просто совсем неумная), искупала это большим практическим смыслом, а к нашей семье была привязана так сильно, что все недостатки забывались, а оставалась в памяти лишь искренняя ее дружба, делавшая ее для нас ближе многих родственников. Обе они делили с нами с момента своего поселения в Тимофеевке и горести, и радости, и все семейные события. Впервые они приехали к нам, когда Соне был год, а в это лето, после рождения Льяны, поселились окончательно и виделись с нами постоянно. Старший сын Ольги Александровны, как говорят, был какой-то неудачник, жил всегда за границей, и единственное сношение с матерью заключалось в том, что она ему посылала деньги. Его единственный сын Миша был бабушкой Ольгой Александровной взят на воспитание в Тимофеевку и с этого момента стал товарищем и другом моих детей. Младший сын Ольги Александровны, Алексей Эммануилович, никогда долго не жил со своей матерью; куплена была Тимофеевка даже на его имя, с целью дать ему ценз; но он избегал семейной жизни, тяготился сожительством со своей сестрой, с которой совершенно не сходился характерами, и устроился на службе — то в Москве, то в Петербурге, то на Дальнем Востоке, постоянно путешествуя и только изредка навещая мать, с которой они проводили дни и ночи в спорах и беседах о прочитанных книгах. Как я сказал выше, отсутствие религиозности и полное отрицание всякой церковности было их отрицательной чертой и отчасти усложняло полную нашу с ними солидарность, посему мы старались этих вопросов не касаться, а в остальном сближение с ними с самого первого дня знакомства росло не по дням, а по часам. Тимофеевка была им рекомендована сестрой моей жены Ольгой, которую, несомненно, в тайных мечтах Ольга Александровна и Софья Эммануиловна прочили в жены своему сыну и брату. Я думаю, что дальнейшему движению этого проекта и некоторому охлаждению Алексея Эммануиловича был мой разговор с ним о том, что за неверующего человека никогда не пойдет замуж религиозная молодая девушка. Как увидим впоследствии, и в этом Мамоновы изменились под конец, и заметно было другое их отношение к этому вопросу, более вдумчивое и, во всяком случае, более толерантное.
Поселившись в Тимофеевке, они весь дом перестроили, сделали большие пристройки, придав дому и всем усадебным строениям комфортабельный,
413
уютный вид, использовав все то, что дала природа в этом совершенно исключительном по красоте уголке. Жизнь они вели самую простую, не роскошную, но ни в чем действительно необходимом и приятном для жизни себе не отказывали. Выписывали они массу книг, много журналов, Софья Эммануиловна ездила в Москву набираться впечатлений. Маленького своего Мишу обставили и гувернантками, и гувернерами и, как могли, старались его повеселить. Всякого приезжающего, не говоря уже о нас, принимали столь радушно, что чувствовалось приезжему, что он не в тягость, а желанный гость; приезд же каждого из нас приветствовался ими особенно радостно; всегда вспоминаешь с особым чувством умиления и благодарности к ним приятную и интересную у них беседу за обычным чаепитием, во время которого Софья Эммануиловна деловито и без всякой суеты угощала разными своими деревенскими приготовлениями, на которые она была особенная мастерица. Традиционно, помимо таких частых наших посещений, мы всей семьей у них обедали раз на Масленую и на Рождество перед елкой, а они у нас — на каждый семейный праздник. Но об этих посещениях, полных воспоминаний, будет речь впереди, когда перейду к описанию строя и уклада детской жизни за эти годы.
Вернусь к событиям этого года. К крестинам Льяны приехал старший брат Лизы Петя, который вместе с Мама́ Трубецкой и окрестил ее. Льяна родилась очень миниатюрная и с момента рождения засосала свой палец — привычка, от которой она впоследствии с трудом отучилась. Я особенно настаивал на имени Иулиания, потому что в то время уже стал интересоваться житием этой святой нашего рода. Помню, что Капнисты, у которых умерла дочь, носившая это имя, убеждали этого не делать, но я был тверд, нашел поддержку и в жене, и даже в ее матери, которая и придумала уменьшительное — Льяна. По поводу этого уменьшительного братья и сестры жены написали коллективное протестующее письмо в шутовском тоне, заявляя, что они племянницу отказываются звать «лианосом, ниже пампасом». Теперь же это имя столь привилось, что все его особенно полюбили.
Летом пришлось делать переделку в доме, а именно — присоединить весь верх над ним, который соединился внутренней лестницей, ныне существующей в коридоре. Верх этот, вновь отделанный, предназначался отчасти для помещения гувернантки, девушки жены, а главное, для приезжающих к нам родных. Родные моей жены нас баловали, и не было года, чтобы многие из них у нас не гащивали подолгу. Осенью в этом году приехали Самарины, Федя и Тоня, с двумя дочерьми и Дмитрием. Очень весело прошло их пребывание. Тоня всегда умела придать оживление своим веселым, шутливым характером. Чувствовала она себя, слава Богу, неплохо, а когда это бывало, Федя сиял всегда от счастья. Тоня была ближе всех к Лизе из сестер, и поэтому можно понять радость их встречи. Кажется, в этот приезд она довела свои шалости до того, что перед нашим земским доктором, ужасным дураком, Грузинским представлялась несчастной женщиной, страдающей от мужа-алкоголика, и спрашивала у него совета, как в таком случае лечить. Никогда не забуду удивленный шепот моей матери, с которым она обратилась к Феде, спрашивая, о ком Тоня советуется, на что Федя со вздохом и улыбкой ответил: «Кажется, обо мне, Мария Алексеевна», на что
414
Мама́ ответила неудержимым смехом. Самарины пробыли у нас довольно долго, и после их отъезда как-то стало очень пусто.
Мы им уступили всю нашу половину, а сами перебрались во вновь отделанный верх, который соединен был впервые ныне существующей в коридоре внутренней лестницей. Сделано это было ввиду ожидавшегося рождения нашего четвертого ребенка, и приходилось уже обдумывать помещение для новой гувернантки, Marguerite von Herrn, приехавшей к нам прямо из Германии по рекомендации M-lle Mathé, гувернантки Мусиной. Luisa Lüsk осенью же ушла, рекомендовав на свое место дочь пастора города Двинска, оказавшуюся никуда не годной, почему скоро мы с ней и расстались.
Marguerite von Herrn была уже настоящая гувернантка, и на ее попечение поступили оба сына; девочки же оставались при няне, но, понятно, все и вся в детской была моя жена.
В имении также произошли перемены. После смерти управляющего Гусева Папа́ взял нового управляющего Борисенко. Что побудило Папа́ остановить свой выбор на нем — для меня до сих пор загадка. Папа́ был всегда очень подозрителен и очень осторожен в выборе людей. Борисенко же, прослужив около 10 лет в имении светлейшего князя Голицына Городне (это имение, говорят, описано Маркевичем в его романе «Четверть века назад» как имение князей Шастуновых), только что был удален за неблаговидное управление. Рекомендовала же его моему отцу Маня Полторацкая, известная своим неумением разбираться в людях и всегда устраивавшая аферы с темными личностями. Действительно, после неподвижности и ворчливости Ивана Фомича Яков Михайлович Борисенко, вечно деятельный, подвижной, не возражавший на все проекты моего отца, хотя часто пассивно им противодействовал, делал очень выгодное впечатление, и мои отец и мать первое время не могли им нахвалиться. Часто можно было наблюдать из окон детской, через весь двор, как Папа́ ходил по классной, как маятник, строя проекты и заставляя Борисенко часами их выслушивать и обсуждать. Многое текущее благодаря этому упускалось, но это была слабость моего отца, и такой покладистый и терпеливый управляющий был ему надобен. Пребывание Борисенко было не особенно длительно — менее двух лет, но и он оставил свой след в совершенно другой области, не хозяйственной. О его сыне я уже писал, описывая мою деятельность земским начальником, а теперь упомяну о его зяте, Иване Ивановиче Ратмирове, женатом на единственной дочери Якова Михайловича, замечательной красавице. Ратмиров был преподавателем пения в семинарии и одно время регентом архиерейского хора. Он и положил начало церковному пению у нас, что такое имело влияние впоследствии на всех детей. Проводил он все праздники с женой у Борисенко, организовал из всех наличных сил первый настоящий церковный хор и так всех заинтересовал этим, что даже мой отец при найме кого-нибудь в имение не упускал случая спросить, умеет ли он петь.
В том же году, то есть в 1892, родилась у меня мысль основать в Сергиевском Братство имени нашей семейной святой, праведной Иулиании Лазаревской (по мужу Осоргиной). Всегда, еще в моем детстве, я слышал разговоры родителей, что у них в роду имелась святая, почему когда я стал больше вникать в церковные
415
вопросы, я занялся этим и докопался до жития Иулиании, прославившейся своим благотворением во время голода при Борисе Годунове. Я непременно хотел иметь дочь ее имени, чтобы теснее связать наш род с прославленной родней, что собственно и сделал. Первую дочь Лиза, понятно, хотела иметь Софию, почему мы помолились с нею <…>, и я особенно счастлив был, как в этом году с рождением второй дочери это имя стало семейным. Но на этом моя Мама́ не успокоилась. Год этот был тоже трудным годом в России — был серьезный недород, а в некоторых губерниях и голод, почему еще знаменательнее сделалась память преподобной Иулиании, спасшей многих от голодной смерти чудесным хлебом, выпекаемым ею из древесной коры. Профессор Ключевский в лекции, прочитанной в пользу голодающих, как раз упомянул об Иулиании как о примере великого подвига благотворения. Лекция эта очень нашумела в Москве, и кто-то в светском разговоре упомянул одной из моих belle-soeurs, что Ключевский, по-видимому, так талантливо изобразил личность Иулиании, что наши родители, которые воспламенились этим, назвали свою дочь в ее честь.
Моя belle-soeur, кажется Варя, рассмеялась на это и объяснила, что она чрез родителей знает, ибо это ее сестра, но поводом к названию племянницы Иулианией [была] не лекция Ключевского, а то, что муж ее сестры, то есть я, потомок этой святой. Мысль такого родства была встречена вполне сочувственно причтом нашей церкви. Нашему духовенству никак нельзя было потрафить желанию епархиального архиерея. Архиереи часто менялись и каждый имел новую личную мысль насаждения в своей епархии каких-нибудь просветительных или благотворительных учреждений при церквах. Последний архиепископ Виталий, только что скончавшийся в Киеве, куда ездил лечиться, настаивал на открытии при каждом храме церковного попечительства, и прихожане, обратив внимание, что в положении о церковном попечительстве значится работа об устроении церковных домов для приюта, резко отказались дать свое согласие на открытие таковых. Для открытия же Братства не надо было согласия прихожан, довольно было собрать группу учредителей и, понятно, с согласия причта просить благословения архиерея и утверждения им Устава, который вырабатывался учредителями самостоятельно. При таком положении нельзя было опасаться трений между прихожанами и духовенством, главное со священником о. Сергием, который в то время далеко еще не был любим и популярен среди своей паствы. Вместе с тем при наличности в приходе Братства священник видел, что последующие преосвященные не будут требовать открыть еще иные благотворительные и товарищеские учреждения и его оставят в покое. Он [Виталий] совершенно лишен был таланта организаторства, его сфера была особая неизменность служения как всем собором богослужения, так и треб, в коих он никогда, несмотря ни на какую усталость, не отказывал.
Таким образом, встретив от него сочувствие, поехал я к епископу Анатолию, только что занявшему место Виталия, и от него получил и одобрение и обещание всячески содействовать. Анатолий был тот самый епископ, о котором я уже упоминал как об архиерее, старавшемся в отличие от обычного приведения к присяге дворян перед Дворянским собранием объяснить событие назидательно и заставить нас призадуматься о важности наших обязательств в эти минуты.
416
Как раз это совпало с декабрьским постом этого года, почему и вернусь скоро к описанию этого знаменательного Дворянского собрания. Но у епископа Анатолия я со своим проектом об открытии Братства был гораздо ранее самого Собрания. До начала Собрания я уже успел выработать Устав Братства и представил его на утверждение архиерея.
Все-таки коснусь личности самого Анатолия, так как это был совершенно незаурядный человек. Был он до приезда в Калугу викарием Киевской епархии и был командирован в Калугу викарием управлять Калужской епархией за время отсутствия Виталия. Когда же последний умер, Анатолия Синод утвердил Калужским архиепископом. Это была его первая самостоятельная кафедра и поэтому дело ему уж очень новое. Он был совершенно белый, но благодаря своей аскетической жизни очень худой и подвижный. Глаза его горели каким-то особым блеском, но не были ласковы. Приехал он уже обиженный на то, что так долго был в немилости. В архиереи он попал из архимандритов посольской церкви в Афинах, был очень образован и принадлежал к видным ученым монахам. Немилость к нему объясняют его самостоятельным, неуживчивым характером, а К. П. Победоносцев, всесильный обер-прокурор Святейшего Синода, не допускал людей со своим определенным, собственным мнением. Калужскому духовенству, довольно избалованному, Анатолий пришелся не по сердцу, его не возлюбили, и довольно скоро пришлось от него отделаться. В Калуге большую роль в церковных кругах играл товарищ председателя Окружного суда Станкевич, он был вечным церковным старостой в приходской церкви Георгия за Верхом, считал себя великим знатоком церковного устава и обрядности. Привыкши к полной самостоятельности в епархии и к особому всегда уважению архиерея к его особе, он как-то не поладил с Анатолием на первых же порах, недоразумения эти разрослись в неприязнь и после не более чем годового пребывания Анатолия на кафедре Калужской его убрали на покой. Рассказывали, что Станкевич будто бы донес в Петербург, что Анатолий нарушал монашеские обеты, то есть ел мясо — правда, на каком-то завтраке у градоначальника <...>. Духовенство радо было отделаться от строгого архиерея. Тот во время его управления епархией досаждал многим и как-то однажды на каком-то докладе консисторском он написал: «Куда ни кинь, везде архиерею клин». Его имеющиеся резолюции славились. Однажды бедный иерей подает ему просьбу об увольнении в заштат, между тем тогда место свое в епархии разрешить передать дочери, которая хотя и перезрелая девица, но все же нашла себе жениха. Анатолий на прошении написал: «Снисходя к бедности определить любителя древности». Все же кто умел давать ему отпор, смело ему возражал, [тех] он уважал и менял свое решение. Однажды, обходя городские приходы (ходил он без свиты по ранним обедням), наткнулся он на очень плохую службу. Священник был очень старый, едва шамкал, народу было мало, и даже многие молящиеся не скрывали своего недовольства на такую плохую службу. Вызвал Анатолий к себе сего старца и сразу обрушился на него со словами: «Подавай немедленно в заштат!» — «Но Ваше преосвященство [же] не подает, а я еще могу служить, и пока силы мне позволяют, не покину своего места тоже». «Вы слишком стары», — гремел архиерей, — а иерей отвечал резонно: «Моложе Вас, а Вы все же служите, и не священником, а
417
архиереем». Тогда уже Анатолий приводит последний аргумент: «Тебя в приходе не любят». «А Вас в епархии, Вы думаете, кто-нибудь любит? — возразил священник, — А вы все же не уходите!» Опешил архиерей от такого резкого ответа и оставил древнего старца в покое.
Вот к этому-то епископу, сотканному из противоречий, умному, энергичному, но и серьезному, я и повез свой Устав. Для составления его я выписал мнения <…>, подтвердил их рядом калужских дел <…>, опытом прихода <…>. Дабы Братство с самого своего основания было бы живое и не могло быть задушено по недостатку средств, я включил [в Устав] такой пункт, что ежемесячно проверяя все средства, поступившие ото всех, вносить в братскую кружку, а также членские взносы, пожертвования и [отчисления] от продажи икон и брошюр и десятую часть поступлений из наличности <…> Братство хранило бы в сберегательной кассе Государственного Банка. Когда они достигнут тысячи рублей <…>, продолжат беспрерывно накопляться ежемесячными отчислениями. Учредителей я заставил подписаться, кроме всех членов причта, всей моей семьи, да и многих крестьян-прихожан. Последним прибавлено, что всякий поступивший брат (вносящий ежегодно не менее 10 рублей) после смерти записывался бы при церкви на вечное поминовение. Привлек я в учредители и мою belle-mère и сестру мою, так что подписей набралось много, и архиерей довольно скоро утвердил Устав, внеся какие-то редакционные поправки. Сам он представил мне утвержденный Устав, благословил Братство иконою Калужской Божией Матери. Икона преподобной Иулиании была заказана мною в Сергиевский иконостас водворенной в киот, нарочно для этого сооруженный у левого придела Василия Парийского <…>
Само открытие Братства предполагалось 2-го января 1893 года в день памяти святой Иулиании. Все же разрешения я получил от архиерея еще в декабре во время Дворянского собрания, на которое я возлагал большие надежды. Я не боялся пройти в кандидаты уездного предводителя дворянства, с тем чтобы в случае ухода настоящего предводителя иметь больше шансов занять его место. Началось Собрание под впечатлением вышеуказанного мною прочувственного слова Анатолия при приведении к присяге. Между тем настроение дворян было довольно повышенным по случаю только что разыгравшейся сцены и конфликта между губернатором Булыгиным и одним земским начальником, Михаилом Михайловичем Унковским, принадлежавшим к особо уважаемой в губернии семье. Этот Унковский, как говорят, я его мало знал, был невысокого уровня и к тому же мало сведущим, держался он, главное, своей жены, которая, говорят, и целиком всем и управляла и место предводителя заранее подготовила мужу. Говорили также, что Унковский был пристрастен к вину, не знаю, правда ли это, но это послужило Булыгину поводом написать ему с советом покинуть службу, так как его деятельность вредна и многие дворяне его участка его осуждают и недовольны им. Унковский, получив это письмо, написал циркулярное обращение ко всем дворянам своего участка с запросом, правда ли губернатор говорил, утверждая, что дворяне его участка возмущены недворянским будто бы поведением своего земского начальника. В числе дворян участка Унковского оказался один полицейский урядник, который, получив такой запрос земского начальника о мнениях губернатора, представил эту циркулярную бумагу земскому волостному при
418
рапорте своему становому, тот — исправнику и последний — губернатору. Тогда уже Булыгин встал на дыбы и добился от Губернского присутствия постановления об устранении Унковского от должности впредь до окончательного его увольнения министром. Дело это находилось в пос<…>стной, когда открылось Дворянское собрание и многие родственники и друзья Унковского кипятились и просили дворянство тем или иным путем реагировать на это оскорбление, нанесенное дворянину Калужской губернии. Булыгин был все-таки уважаем в то время очень многими, почему никаких шагов против сего выступления согласились не делать, но между некоторыми сторонниками Унковского возникла мысль провести его в предводители дворянства Малоярославецкого уезда, где была вакансия и никто не претендовал на этот пост. Этот план особенно поддерживал дядя Михаила Михайловича Яков Семенович Унковский, женатый на Кологривовой, имевшей большие связи среди дворянства губернии <…> Яков Семенович был постоянно по своему уезду избираем в кандидаты предводителя, и я мечтал как раз его заловить, для чего приехать в Сергиевское, подготовить почву и переговорить со стариком, чтобы [он] на это дал свое согласие.
Одновременно с этим у наших дворян зародилась мысль дать от дворянства обед Булыгину, чтобы этим подчеркнуть, что против самого Булыгина дворянство ничего не имеет, и выборы Унковского в предводители, если они состоятся, не демонстрация против губернатора, а компенсация дворянину, потерявшему службу. Обед губернатору был с радостью приветствован дворянами не только из сочувствия к Булыгину, но, к стыду надо сознаться, главным образом как предлог еще раз хорошенько пообедать и покутить. Обед назначен был на вечер того дня, когда должны были состояться уездные выборы. Моя личная комбинация не прошла; по-видимому, Сухотин не подготовил почвы и ограничился лишь тем, что когда он <…> первым кандидатом в уездные предводители, и, вернувшись к уездному столу, предложил приступить к выборам второго кандидата, назвав меня, но его предложение даже не было расслышано, потому что как только Платон Александрович Сухотин произнес слово «второй кандидат», все собрание обратилось к Я. С. Унковскому, который, трудно поднявшись с кресла, сразу удалился из комнаты и его тотчас же избрали.
Я был очень огорчен таким оборотом дела и долго дулся за это на Сухотина. Лиза даже было приехала на эти выборы, кончив уже кормить Льяну, чтобы немного меня поддержать, зная, какое значение я придавал возможности попасть в кандидаты предводителя. Она ждала на улице, и я с грустным лицом только мог махнуть ей головой отрицательно, намекая, что моя надежда не сбылась. Малоярославецкий уезд, куда намеревались провести Унковского, был не самостоятелен, то есть в нем считалось недостаточное число дворян для выбора предводителя, каким признано 5 человек; в таких случаях обязанностью губернского предводителя было прикомандировать к малочисленному уезду другой, полноправный, и Яновский назначил наш Калужский уезд, так что нам приходилось активно выступать по делу Унковского. По принятому обычаю чужой прикомандированный уезд всеми клался бы направо и таким образом от баллотировки первых дворян уезда зависело указать старшинство лишь выставивших свою кандидатуру и выбранных.
419
Так было и на сей раз; мы, калужане, положили все направо, и дворяне Малоярославецкого уезда решили судьбу и избрали первым кандидатом в предводители Михаила Михайловича Унковского.
Выборы кончились, все сразу разъехались, чтобы переодеться во фраки и вернуться в ту же залу уже на обед, даваемый дворянством Булыгину. С ним приглашен был и бывший вице-губернатор Маслов. Приехали они вдвоем, зала блистала огнями, размер стола, накрытого в большой бальной зале Дворянского дома по числу участвовавших, поражал. Губернский предводитель и старые уездные (новые еще не были утверждены) встретили начальника на верху лестницы и ввели его в залу под звуки оркестра. Все было и чинно и красиво, ничто не предвещало того урока, который собирался Булыгин дать нам, дворянам, по-видимому не проникшимся словом архипастыря о том, что по присяге обязаны избрать лучшего. Правда, уже кое-кто побаивался, что избрание Унковского — скандал, что Булыгин рвет и мечет и едва ли его утвердит. Булыгин был очень сдержан, обошел всех присутствовавших и, когда его посадили на почетное место рядом с губернским предводителем, обед начался — как всегда немного сдержанно вначале и все более шумно соответственно выпитому. В срок подали шампанское. Начались официальные тосты за царя, царскую семью, потом за здоровье Булыгина. Говорил Яков Семенович не умнее, но как мог выразил ему уважение дворянства. Поднялся Булыгин, и я, сидевший неподалеку, не мог не заметить его бледности. Понятно, всех слов точно передать не могу, уж слишком много воды утекло с тех пор. Все-таки такие выборы, и вообще всякие дворянские выборы, кажутся если не легендой, то анахронизмом; все же постараюсь рассказать о них возможно точно, придерживаясь смысла. Начал он с благодарности дворянству, почтившему его таким вниманием. Ибо он всегда и прежде всего помнит, что он дворянин, гордится тем, что долгое время был уездным предводителем дворянства, правда, другой губернии, но дворянство и его славные традиции везде одинаковы, ибо основаны на понятиях чести, порядочности и долга, присущих всему нашему благородному сословию. Кончил он следующими словами: «Как дворянин и бывший предводитель дворянства желаю калужскому дворянству, чтобы мой заместитель, будущий ваш губернатор, управлял бы так же бережно и ответственно. По всем дворянским понятиям, прислушиваясь к ним прежде всего, я мог бы и далее высоко держать его знамя. Я же, ознакомившись с результатами уездных выборов, только что подписал министру письмо, в коем уведомил, что я не считаю [возможным] оставаться после всего случившегося калужским губернатором, а потому предлагаю тост за Вас, за здоровье калужского дворянства. Ура!» И тут уж едва ли кто <...>, до того все были поражены. Наступил полный конфуз. Все же некоторые дворяне, не возвращаясь к вопросу, поднятому Булыгиным, поддержали его profession de toi о дворянстве и без расписания, без стеснения, по собственному почину стали провозглашать здравицы Александру Григорьевичу, одну более сочувственную другой. Очень красивый тост провозгласил Голубицкий, земский начальник Тарусского уезда, известный изобретатель телефона. Темой его тоста была красота гармонии, Булыгина он считал виновником гармонии в Калужской губернии, а потому и поднял бокал за его здоровье. Эти тосты немного разрядили обстановку. Когда обед кончился и губернатор уехал, начались совещания предводителей [о том],
420
как реагировать на слова Булыгина и как ослабить внимание выбора Унковского, дабы добиться, чтобы из-за этого не лишиться только губернатора, с которым легко и приятно было работать. Порешили на том, что на следующий день губернский предводитель с двумя своими коллегами уездными еще до начала Собрания будут у Булыгина и объяснятся с ним начистоту. Подробности объяснения я тогда узнал из вторых-третьих рук, почему не могу их в точности передать. Рассказывали, что Булыгин ставил условием, при котором бы соглашался оставаться в Калуге, неутверждение Унковского малоярославецким предводителем, на что Яновский возразил, что это невозможно, что это было бы унижением для дворянства, и Булыгин ответил: «Похоже мне, что именно уважая дворянство, я не могу смотреть на пост предводителя как на какую-то клиентуру: или предводительство это высокое служение, или это пустой звук для чванства; я как старый предводитель, сохраняя дворянство, не буду участвовать в разделении сословия, умаляющем само звание предводителя». В общем нельзя было не согласиться с Александром Григорьевичем, и согласились на том, что Булыгин не утвердит Михаила Михайловича Унковского предводителем, но зато если его выберут членом Губернской Земской управы, он этому препятствовать не будет, и на этом условии Булыгин обязался бы взять свое прошение об отставке назад. Все так и было исполнено, и еще года два после того Александр Григорьевич губернаторствовал у нас, пока не был переведен на тот же пост в Москву. Все же многие качали головами и приговаривали: «Однако отличилось наше дворянство действительно и дало живой пример, как ни поняло оно напутственное слово своего архипастыря».
Вернувшись с этих выборов в Сергиевское, я стал готовиться к открытию Братства, написал письма к о. Иоанну Кронштадтскому, духовнику государя нашему калужанину Янышеву, многим знакомым. Все прислали что могли, а первые двое прислали по 100 рублей. 2-го января, после торжественной обедни и молебна перед иконой Братства св. Иулиании, я всенародно объявил, что Братство открыто, причем прочел Устав и предложил желающим записываться в члены. Не помню, сколько братьев вступило в день открытия, но помню, что было тут же в храме собрано членских взносов и в кружку 107 рублей с копейками. С этого и начало работать Братство под моим почти бессменным председательством вплоть до выселения меня из имения во время революции. Тогда Братство обладало уже капиталом в Государственном Банке в размере 8—9 тысяч рублей. Капитал этот накопился из ежемесячных 10%-ных отчислений от чистого братского дохода.
Трудно описывать по годам нашу тогдашнюю жизнь — мою служебную деятельность я уже изложил, вторая же часть моей жизни протекала в семье: редко выезжал я из Сергиевского в Москву повидать родных или в Симбирск по поручениям моего отца; первое продолжительное отсутствие было в 1896 году, осенью, когда я повез жену за границу по предписанию врача ввиду ее сильного нервного расстройства, к коему приведена она была слишком однообразной жизнью в детской. Привел ее к этому состоянию строй нашей жизни, весь поглощенный заботами о детях.
В 1893 году родился наш сын Георгий; роды были, как и все остальные, трудные, но, во всяком случае, много труднее и болезненнее предыдущих, что
421
приписывалось именно изнурению Лизы. Рождение Георгия было 12 октября; стояла чудная осень, помню, как в октябре вечером мы с женой сидели в спальне у открытого окна, до того тепло было, и вдруг на поле у Поливановской дороги, совсем близко за амбаром, раздался продолжительный вой волка, звук, напоминающий зиму, а обстановка совершенно летняя. Перед родами Лиза чувствовала себя столь плохо, что я выписал доктора Дубенского; последний, осмотрев ее, сказал, что он предвидит скорые роды, почему остался ночевать. И, действительно, в ту же ночь начались боли, а через полторы сутки и Георгий появился на свет Божий. По приметам он должен стать замечательным человеком, ибо на руках уже был ноготок шестого пальца, который Дубенский во избежание уродства удалил, перевязав <…>. Крестили его моя сестра Варя и дядя Петя Самарин. На его крестинах уже дети наши порывались подтягивать «елице во Христа креститеся», что мы с умилением слушали с женой из спальни. Вскоре после его рождения приехала к нам новая гувернантка (Fraulein von Herrn уже год перед тем уехала в Германию, и ее заменила довольно неудачно г-жа <…>, рекомендованная тетушкой жены Еленой Павловной Раевской) француженка M-lle Poirot, особенно прижившаяся у нас и ставшая самой близкой и <…>. Нашла ее и кормилицу с нею моя belle-mère и прямо прислала к нам; приехала Marguerite (дети прозвали ее Diditte) и год жила <…> она видела у нас <…> с ясно выраженным французским пошибом, большим апломбом, и, казалось с первой минуты, едва ли подойдет к нашему патриархальному укладу, но влияние моей жены, искренняя ее <…>, а также и серьезная привязанность Diditte к жене и совестное ее отношение к детям совершенно ее переродили, и она стала настоящим членом семьи, а под конец, как увидим, и настоящей русской и православной. В начале 1894 года <…> заменила немка Розали Рейссар, рекомендованная моей сестрой из Петербурга, и она тоже привязалась по-настоящему ко всей семье и стала совершенно членом семьи (дети ее звали Ролька). Они обе были различны, но отлично дополняли друг друга. Diditte была веселая, живая, вечно смеющаяся, с некоторой французской аффектацией, но очень необразованная. Помню ее ответ мне, что au couvent, где она воспитывалась, она прошла les cinq règles d’arithmétique; какая была пятая после деления, она никак не могла объяснить, да едва ли такую пятую règle придумали монахини специально для нее. Розали была восторженная немка, крайне экзальтированная, понимающая всю красоту и значение <…>, очень образованная по части немецкой литературы, разных саг и сказаний немецких, а также мифологии, понимала искусство, и в особенности красоту <…> природы, была неутомима, без всяких претензий, и мастерица на всякие занятия, развивающие детей. В это время няня наша, Федосья Калмыкова, стала проявлять серьезное психическое расстройство, так что пришлось с ней расстаться. Взятая на ее место старушка Елизавета не внушала должного доверия, и Розали во многом ее заменила при Георгии, к которому она поэтому особенно привязалась. Няня Калмыкова в течение года дала нам много хлопот, от родных своих из Вениковского уезда постоянно убегала и невзначай возвращалась к нам, иногда ночью, пугала детей и довела Лизу до серьезного нервного расстройства. Поместили ее в Хлюстино в Калуге, но и оттуда она раз убежала; пунктик ее был, что она либо моя жена, либо Богородица. Помню один вечер, сидели мы на террасе
422
после чая и благодушествовали, вдруг раздался неистовый крик детский близ скотного; все всполошились, и когда меня вызвала Нюничка знаками, чтобы не испугать Лизу, я понял, что опять здесь, наверно, няня; и, действительно, это был ее последний побег из больницы, после чего я, несмотря на мою дружбу и уважение к Дубенскому, который был старшим врачом <…>
Как я уже писал, нас жило три поколения (моя бабушка Волконская и Платон Евграфович уже скончались) и дом делился на половину стариков и половину молодых, а объединяющим центром были столовая, гостиная и мой кабинет. После утреннего чая и кофе, к коим собиралась вся семья, каждый расходился по своим половинам, и я либо занимался в кабинете, либо в своей канцелярии, либо уезжал в какую-нибудь служебную поездку. Жизнь наша с Лизой в тесном смысле слова сосредоточилась в детской, где в игральной младшие играли, а грудные и ползающие гулькались; с уходом няни Фени была взята веселая приветливая старушка Лиза; с младшими возилась Розали, а старших обучали либо моя жена, либо Diditte. В определенный час была прогулка, всегда с Лизой, и этой прогулкой она пользовалась, чтобы развивать детей рассказами не только интересными из обыденной жизни или воспоминаниями ее собственной семьи, но и из животного царства, ботаники, а часто и про звездный мир, для чего моя жена сама многое прочитывала и изучала, выписав, например, сочинения Брэма. Она так пристрастила к этому детей, что они, в особенности Миша и Сережа, а впоследствии Льяна, стали знатоками по флоре и фауне нашей местности. Со временем дети завели себе гербариум и альбом с рисованными цветами, а Сережа коллекцию, очень полную, бабочек и жуков. Зимою же прогулки обращались в хождение на лыжах со старшими, и тут развивала она в старших мальчиках смелость и умение во всякое время года чем-нибудь наслаждаться и этим наслаждением хвалить Творца. Вообще надо сказать, что в настоящее время la bolle de la bonne éducation потеряна; на воспитание детей смотрит новое поколение за редким исключением как на простое дело, к которому нечего готовиться, не понимая, что если растение выводить прилагая к нему особенное внимание и заботу, чтобы оно не скривилось и дало бы в полной мере пышный расцвет, Боже упаси не пустоцвет, а хороший цветок и семена, то тем паче душа младенца, ребенка, а затем и юноши, на которой все неизгладимо запечатлевается как на гладкой, еще не тронутой, но восприимчивой поверхности, требует ухода, внимания и постоянного наблюдения. И вы, дети и внуки, читающие сии записки с вниманием и благодарностью, вспоминайте мою жену, а вашу мать и бабушку, которой вы обязаны всем первым хорошим впечатлением, всей той важности значения жизни, коими, надеюсь, вы прониклись и понимаете, что жизнь есть дело и непрестанное дело, конец которому предвидится лишь когда отойдем от земли.
Я помню рассказ про Мама́ Трубецкую, как однажды, когда она была в детской со старшими сыновьями, пришли ей доложить о приезде какого-то совершенно нежелательного гостя, и она ответила лакею: «Скажи, что меня дома нет». На удивленный вопрос ее сыновей: «Как же? Ведь ты дома!» Мама́ объяснила, что она не совсем точно выразилась, что она хотела сказать, что сейчас уходит. И дабы не дать детям понятия о лжи, даже самой невинной по нашим светским извращенным понятиям, оделась и ушла из дома, хотя это совершенно не соответствовало
423
ее планам. Такие серьезные взгляды она передала и моей жене, и дай Бог, чтобы они перешли и дальше моим дочерям и внучкам.
Летом еще прибавлялось купанье, для чего запрягалась таратайка — низкий кабриолет с рессорами лишь под сидением. На неизменном Красавчике (рыжий старый-престарый конь) Лиза с партией детей и одна из гувернанток ехала купаться на Оку; купальня была разделена на две половины: для больших и маленьких. Там жена перевозчика, прозванная братьями Лизы по воспоминанию Miserables ввиду ее значительной корпуленции и совершенно мужского вида Mme Trenardier, их охраняла и однажды а la lettre спасла их жизнь, перерубив канат барки, вытягиваемой лошадьми и бурлаками, когда канат этот захватил крышу купальни и стал было ее крутить, а Лиза с Мишей и Розали были в купальне.
Завтрак и обед снова объединяли всех кроме самых маленьких. После обеда дети бегали и веселились в гостиной и часто плясали; и тут и в веселии Лиза не переставала с умом и материнским чутьем развивать детей: приучила петь хором, развила им слух, дала если не шаблонные уроки танцев, то возможность каждому проявить свое личное веселье в грациозных, смелых, а иногда, как, например, Миша, в творческих танцах, в которых сказывался их русский дух, русская природа. Это время положило начало любви детей к музыке и развило в них музыкальность, благодаря которой они получили в жизни столько возвышенных наслаждений, которых другие, не понимающие красоты музыки, лишены.
Веселье это прерывалось началом ванночки очередного младенца. К этому ежедневному событию собирались в купальную и дедушка с бабушкой и сколько было радости всякому крику, гульканию купаемого; все помогали, а чаще своею суетливостью мешали, но Лиза и тут умела без резкости, без обидной бестактности оставить за собой такое верховенство, что все как бы ее боялись, старались не нарушить ее порядок.
Все успокаивалось с относом очередного грудного младенца для кормления из игральной в соседнюю детскую, где в полной тишине, при зажженном ночнике около кроватки Лиза кормила с такою нежностью, что было настоящею поэзией молодого материнства.
В игральной в это время старшие дети усаживались за свой столик — большой низкий стол с приделанными с двух сторон скамейками наподобие классных парт, причем на столе были рисунки, сделанные еще Fr. Luise — пить молоко, и здесь продолжалась еще детская болтовня, а иногда одна из гувернанток что-нибудь рассказывала; если участвовала в этих рассказах Розали, то она всегда темой избирала либо немецкую сагу, либо сказку, или же рассказ из мифологии. Укладывала их всех и поочередно с каждым молилась непременно Лиза и, вероятно, каждый из детей помнит этот момент: зажжена лишь лампадка, няня и ее помощница бережно и бесшумно прибирают снятые одеяния; одни уже отключились и лежат в кроватке, перекидываясь либо замечаниями, либо какой-нибудь фразой особенно дразнящей, а молящийся, стоя в кроватке лицом к своему образу, повторяет за матерью слова молитвы и, окончив оную, бултыхается в кроватку и, перекрещенный Лизой и ею же выжированный за закрытыми кисейными занавесками, мирно засыпает.
424
Простившись с детьми, мы с Лизой немного задерживались в спальной за какими-нибудь счетами или необходимыми разговорами, причем тут-то я и узнавал от Лизы подробности проведенного детского дня, и шли мы к родителям на общее чаепитие и затем на партию в винт, которую непременно играли partie fixe и счет выигрыша выводили каждую субботу для внесения оного в кружку Братства.
Разнообразилась эта жизнь катаниями или приездами кого-нибудь из родных или же, чаще всего бывало, приездами Мамоновых, посещениями их в Тимофеевке и, главное, праздниками, из коих Рождество и Пасха имели свои традиции для празднования, а также и семейные праздники самих детей (рождение и именины) были целыми событиями в их жизни, к которым они задолго радостно готовились. Катанье летом в линейке за грибами или ягодами обыкновенно сопровождалось и чаепитием в лесу, в коем весь труд возлагался на Розали, а Нюняша, если принимала участие, организовывалась разливанием чая и наблюдением, чтобы всем всего хватило et que rien ne le perde. Черную же работу, собиранье хвороста, разжигание костра, а, главное, самое скучное — укладка и уборка посуды и провизии — все это делала Розали с особенным азартом, успевая еще с кем-нибудь из детей обежать поллеса и принести или наибольшее количество или наилучшие по качеству грибы или ягоды. Она в этом видела спорт и в лесу, в коем все свое детство провела (ее отец был лесником), наслаждалась как никто. Нюняша, разбирая принесенные грибы, главное, наслаждалась соображениями хозяйственными и на вопли Розали, поддержанные детьми при особенных экземплярах гриба [нрзб] возражала деловито: cela cru pour la сушка et ça on pour donner au cuitimer. Всякий такой пикник кончался печением картофеля в костре, и хоть этот картофель пах дымом, часто был не допечен, и подай его в таком виде дома повар, никто бы его не ел, здесь он весь поглощался и [все] обжигались, доставая его из-под золы, лишь бы получить поскорее сей лакомый кусочек. С пением возвращались домой, каждый имел свое определенное место в экипаже — Лиза всегда рядом с кучерским местом, а я на обратной стороне к задним колесам и кто из детей займет место близ матери, тот особенно счастлив, но место на козлах еще привлекательнее, особенно когда возможно хотя бы одну возжу подержать; Лиза и одна из гувернанток, смотря по тому, чей питомец сидит на козлах, в две руки держат счастливца, другая же [гувернантка] наблюдала, чтобы остальные дети были накрыты и не простудились.
Зимою наилучшие катания были в розвальнях, и безопасно и весело; обыкновенно подавались лошади, которыми можно было бы самим править; на конюшне для такого катания имелось до четырех меховых полостей; дети окутывались и размещались по саням, причем всякий норовил попасть в сани головные, которыми правила сама Лиза; Миша со своим настойчивым характером добивающийся всего, чего особенно хочет, в большинстве случаев попадал на это привилегированное место. Катание это приобретало особую прелесть весною, когда каждый день с прогулки Лиза и дети привозили вести об успехах весны. Тогда уже все числа и русские поговорки были известны детям: со Спиридона-поворота, когда солнце на лето, зима на мороз, дети следили и радовались увеличению дня: на Аксинью-полухлебницу расспрашивалось у людей, служащих у нас и имевших
425
семьи на деревне, сколько у них хлеба осталось и хватит ли до нового урожая. Но интенсивно жилось с 4-го марта, Герасима-грачевника; с какой радостью сообщалось, что там-то, рассказывают, видели грача, причем расспрашивали: сели ли они тотчас на прошлогодние гнезда, по примете простонародья это обещает дружную весну. Но еще более радостно дети с визгом и криком прибегали к дедушке и бабушке с известием, что жаворонки прилетели, и какое это было событие, если случалось до 9-го марта: значит, весна будет ранняя, а зима успела уже надоесть. В этот день к дневному чаю подавали по числу членов семьи a compris Нюняша и гувернантки жаворонка; в одного из них впекался гривенник, никто не знал в которого, и даже сам Иван повар, а впоследствии Филипп, до того бывший его помощником, не знали который из них явится вожделенным куском. Получивший сей жаворонок с монетой должен был быть по поверью счастливым и богатым весь год, если сохранить найденный гривенник.
Но вот, наконец, и 17 марта — Алексей Божий человек, по народной поговорке с гор потоки, и вот-вот начнется настоящее таянье снегов, хотя, как я испытывал раньше, до моей свадьбы, я наблюдал и такую позднюю весну, что [еще] 13 апреля на санях ездили. Начинается самое оживление в детской жизни. При прогулках и как умела Лиза не только поддержать это настроение, но и сама, со всей чистотой нетронутой чуткой души, предавалась ему. Уже давно сапожник из Жарок, получивший прозвание «барину сапожки», осмотрел прошлогоднюю весеннюю непромокаемую обувь, которую починил, кому сшил новую, и все, начиная с Лизы и гувернанток, снабжены болотными сапогами (валенки спрятаны до будущей зимы). Портной Филипп, хромой из Зинова заика, а потом такой же заика по прозванию «кут», так как от заикания к каждому слову прибавлял он «кут, кут», осмотрели сундуки со старьем, выбрали и сшили весенние поддевки мальчикам и такие же девочкам и все снаряжены, чтобы достойно встретить распутицу. Теперь цель прогулок — это Зараза и пускание ручейков по дороге к Оке. На дворе и кругом дома идет спешное рытье канав и спуск воды от здания. От подъезда настилаются доски до второй клумбы, где наст еще держится долго. Возвращение с каждой прогулки сопровождается рассказами кто какой ручеек проводил, а Сергушка с настойчивостью, достойной лучшей доли, делает ежедневно новые лодочки пускать по ручейкам. И дома, когда прогулка кончена, весь интерес у окна — наблюдение за таяньем снега на дворе и постепенным раскрытием круга; на обратной стороне дома снег еще долго пролежит и там его придется просто раскидать; также наблюдать за тем, как галки начинают вить гнезда, и уже известно заранее в каких местах таковые будут — излюбленные две тесины на подъезде и на балконе Лизы, где каждогоднее гнездо, и летом [слышен] оттуда писк галчат, хорошо известный детям. Вот-вот уже начинают говорить о скором вскрытии Оки, [а] у нас такая примета: либо неделю не доездят, либо неделю переездят после Благовещенья. Дедушка из газет сообщает известие о вскрытии рек, Лиза читает детям сообщения Капсородова о прилете птиц (впоследствии Мария была его корреспонденткой весной по сему поводу). Река пухнет, синеет и с какой радостью сообщают, что уже окраины отошли, что уж гати переброшены; наконец и они не достают и от берега до льда перевозят на лодке M-me Trenardier с сыновьями, сдирая немилосердно
426
с каждого что ей вздумается, и, наконец, река тронулась; это обычно бывает или ночью или поздно вечером, когда наплыв воды от таяния особенно велик. Тогда новый детский интерес, разделяемый Лизой, а потому и оставляющий в душах детских неизгладимое впечатление — это разлив. Каждый день они приносят новые рассказы, которые передают с восторгом, захлебываясь, дедушке, интересующемуся лишь постольку, поскольку это предвещает начало сельскохозяйственных работ, особенно им любимых. Он расспрашивает, каковы дороги: низки или высоки по проезжим трактам (Поливановская и Пышковская) — примета, что низкие обещают низкие цены, то есть изобилие хлеба, а высокие дороги — высокие цены. Бабушка довольно равнодушна к природе, но так она любит внучат, в особенности Мишу, ничуть не скрывая своего предпочтения, что будто и она интересуется весенними новостями. По дороге и к Нюняше — она на своем диване, с очками на носу, либо штопает белье, либо возится у шифоньерки, перебирая и припрятывая какие-нибудь сокровища в виде разного старья, но там же хранятся и сладости, которыми, стараясь быть справедливой, она оделяет каждого; на все восторженные рассказы детей она только восклицает: «Que me tu est-ce possible?» И тут же считает нужным что-нибудь нравоучительное сказать, вроде ее стереотипной фразы, когда кто-то из детей заспорит с Лизой: «Les parents ont toujour raison». В особенности доставлялось Сергушке; он был безобиднее Мишука, не умел отпарировать.
Цель ежедневных прогулок — это Ока. Разлив занимает всех: сравнивают его с предшествующим и какое счастье, какой восторг, когда он достигает наивысшего предела, пойдут пароходы и они будут причаливать к дубу близ сторожки, плывя напрямик по гладкой поверхности воды, разлившейся по заливному лугу.
Эта пора во всех отношениях радостная, так как большею частью совпадает с приготовлением к Пасхе — этим праздником из праздников, Лиза сама любила праздники, а потому умела внести в жизнь детскую сознание важности и радостности праздников; с самого раннего детства дети отличали эти дни, для них это было событие, оставлявшее впечатление на всю жизнь; вследствие этого они приучились к церковности, к ее спасительной и благотворной для души атмосфере.
Еще в Вербную Субботу чувствовалось особенное настроение, и всенощную с вербами, которую по традиции служили всегда в столовой, дети ожидали с нетерпением, готовились к ней, заранее высматривая, где можно нарезать хорошо распустившихся верб. Миша, любящий все традиции, и в юношеских годах ставил себе задачей эту службу быть с нами, для чего раз, находясь за границей, так заранее рассчитал время своего возвращения, что вернулся из Италии и приехал, несмотря на распутицу, как раз к самой службе. Помню, какое было особенное настроение во время вербной всенощной. Стол с образом-складнем моей матери с изображением Спасителя в терновом венце и Божией Матери, несомненно католического письма, стоит в углу по направлению церковного алтаря; сзади на табуретке большое ведро, окутанное чистой скатертью и наполненное вербами; на средней, самой высокой, воткнута свеча и Мишук уже давно вовремя наметил себе эту лучшую вербу. Духовенство наше — маленький священник и диакон Ратмиров служат истово и благолепно; один из начальных возгласов
427
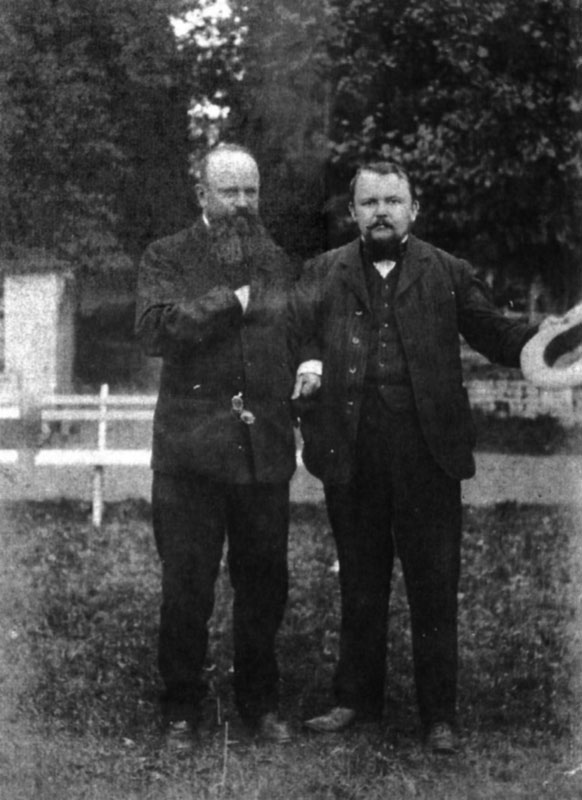
Михаил Михайлович Осоргин
и Григорий Николаевич Трубецкой в имении Меньшово.
Частное собрание, Париж
священника «Приидете и припадем к Нему» звучит особенно музыкально. Они в праздничных ризах, но без кадила. Кадильный дым не выносил дедушка Волконский, говоря, что пахнет покойником, и моя мать по традиции в дом не допускала ладана, что впоследствии и блюлось всем нашим духовенством, даже когда моя мать скончалась. Направо у окна стоит столик и за ним псаломщик старик Семен, а впоследствии Илья, и с каким воодушевленным чувством он поет разбитым старческим голосом: «Общее воскресение»; все стоят на коленях, один дедушка стоит рядом с псаломщиком и крестясь торопливо по одной груди, подтягивает, не всегда верно, но зато низко звучащей октавой. Обеденный стол сдвинут в сторону; пол постлан ближе к буфету узкими половиками и на них стоят все кто хочет из служащих и домашние с нами помолиться. Лиза стоит за стулом, окруженная детьми, которые стоят чинно и лишь от скуки кланяются иногда в землю в совершенно неурочное время; бабушка имеет и кресло для сидения и другое перед собою, чтобы опирать[ся на него], истово молится и иногда бросает умиленные взгляды на внуков. В дверях гостиной стоят иноверцы — и Нюняша, и Diditte, и Розали. Когда Евангелие прочтено и священник подходит к вербам для прочтения освятительной молитвы и раздачи их, настроение у детей повышается, а когда каждый заполучит свою вербу и свечку, много труда стоит Лизе, педагогам и няне усмотреть за всеми, чтобы они себя не сожгли; мальчики уже высмотрели, что дид (так они звали моего отца) и я не держим свечку в руках
428
и для облегчения прилепляем ее к вербе, и их мечта сделать то же; но детские руки не умеют этого делать, свеча падает, тухнет, и большим приходится неоднократно им помогать; понятно, с этого момента внимание к службе ослабело, канон едва ли кто слушает, да и читается он псаломщиком сокращенно и из рук вон плохо; все ждут заключительной молитвы первого часа, и когда раздается веселый и торжественный мотив «Взбранной воеводе», дети с облегчением еще раз становятся на колени и не дожидаясь, когда духовенство разоблачится, бегут в гостиную. Я или кто-нибудь из моих родителей для вежливости спрашиваем священника что-нибудь, благодарим за службу, Мама́ еще спозаранку отдала ему плату (тогда платили два рубля при самой первой встрече с ним, говоря, что иначе он их потеряет); мы уславливаемся со священником, когда завтра начнется обед. А в гостиной уже детский визг и хлестание друг друга вербами с пожеланием здоровья; Миша, пока его наконец не уведут в игральную пить молоко, успеет всех обегать и всякого потрепать вербой; он и в буфете побывал, и в девичьей, на половину стариков забрался и старухе Василисе пожелал здоровья. В игральной веселье продолжается. Каждый из детей спешит засунуть свою вербу к своим образам, сравнивает качество каждой, дома продолжается еще игра со свечкой, а во время питья молока все строят планы, где и когда посадить вербу, которую для этого поставили в воду в бутылку, чтобы у нас в саду со временем была своя большая верба и не приходилось бы каждый год посылать дворника в Дмитровку, где славилась особенно рано цветущая верба.
Я не писатель, а тем более не художник, а потому не умею передать все настроение такого дня, но оно так живо мною чувствуется, так пережито мною и глубоко пережито, что, надеюсь, дети переживали эти минуты со мною, а помнящие свое тогда бесшабашное счастье, читая эти строки, дополнят их своим воображением, своей памятью и ощутят то же настроение, что и я, окунаясь в счастливое, хорошее, здоровое прошлое.
На Страстной все меняется — за чайным столом появляется вместо молока и сливок для всех уже (ибо все одинаково постятся, даже иноверцы наши) миндальное молоко, варенье, лимоны, жареный миндаль; масло для видимости изъято, хотя в кушанье оно продолжает употребляться, но чтобы не оскорблять религиозного чувства, в поваренной книжке пишут не масло, а просто букву «М». За завтраком появляются рисовые и картофельные котлеты, кисель, левашники и тому подобное, и хотя невкусно, но зато в таком изобилии, что все сыты вполне. Вечером идут службы, всенощные в уборной жены перед ее киотом, а в Великую Середу подле нее исповедь всех говеющих. Каждый из моих детей помнит это волнующее и чудное время исповеди, каждый из них по нескольку раз исповедовался у нашего маленького о. Сергия, и для многих из них он был и первым духовником.
Всенощная кончена, и говеющие удаляются из комнаты, а мне с Лизой и детьми священник читает молитвы перед исповедью, кончая их обращением к нам со славянским поучением о необходимости быть вполне искренним. Его обращение к нам со словом «чадо» и на «ты» как-то подчеркивает важность минуты; все переходят в спальную, в уборной остается один младший, заранее попросивший у всех прощения и перекрещенный нами, родителями. В уборной перед открытым
429
киотом, в котором резко выступает икона Иерусалимской Божьей Матери с висящими на ней зелеными и белыми четками, горит лишь одна висячая лампада, дверь в спальную наглухо закрыта и даже опущена портьера, и там перед иконами в угловом киоте горит стоячая лампадка с изображением на фарфоре Иоанна Крестителя; в комнате тихо, дети спешат еще попросить прощения у тех, у кого не успели до всенощной (мы же сидим [и] молимся за того, кто исповедуется); из уборной слышно лишь слабое шептание, но вот голоса становятся громче — это священник читает разрешительную молитву; слышатся шаги кончившего исповедь, дверь открывается, его встречаем мы с Лизой, благословляем, и в уборную входит следующий по старшинству (начиналось всегда младшим, а кончалось мною). Первого Лиза уже увела в игральную пить постный чай, и там окружающие встречают ребенка особенно любовно, проникновенно, дабы не смутить его мирное, счастливое настроение, и в спальной вновь тишина, и лишь изредка легкий молитвенный вздох; нет места не только праздному разговору, но и посторонней мысли (и мне самому, тогда уже зрелому человеку, кажется, никогда так осмысленно, трепетно не приходилось ожидать последние минуты перед этим таинством). Но вот и я кончил исповедь, священник поздравляет меня с очищением совести и из строгого духовника обращается в простого милого нам всем, но и не страшного отца Сергия; я его провожаю до передней; ему ввиду позднего часа и распутицы подана лошадь, уныло стоящая у подъезда, а помощник кучера греется и калякает в комнате истопника; на прощанье мы сговариваемся с батюшкой, когда привезти завтра детей, чтобы они не слишком устали, прошу передать непременно диакону, чтобы он не затягивал особенно длинное Евангелие Великого Четверга, и затем иду спешно пить чай и читать с Лизой вечерние правила. В те годы, когда она себя чувствовала особенно плохо вследствие беременности, она обычно причащалась ночью, в самый светлый праздник, и говение детей от этого не нарушалось; и так же в Великую Среду Лиза дожидалась с ними исповеди, напутствуя каждого советом и особенно прочувствованным словом; эти последние наставления материнские были для них всегда особенно ценны, и в юношеских уже годах они так же в них нуждались и ждали их.
Но вот на следующий день дети причастились, тут же в церкви роздали всем присутствующим нашим служащим целый короб просвир, вынутых за каждого в отдельности; и священник, и диакон, и псаломщик с семьями не забыты. Нерозданные просвиры везутся в корзине домой, где уже разносятся детьми кому следует. После завтрака начинается крашенье яиц, и какое оживление царит, хотя Страстная неделя; но само причастие — такое радостное, счастливое событие, что и настроение не великопостное, а праздничное. Крашение происходит в классной, и живое участие принимают Нюничка и Розали, первая умудряясь какие-то особые рисунки и комбинации красок сочинить, а вторая то и дело бегает на кухню варить там яйца или разводить свежую краску. Сверх праздничных платьев и матросских курточек всем надели фартуки; крик, визг, хохот стоят неумолкаемые. Дед мирно почивает у себя в спальной за плотно затворенной дверью, а бабушка тут же, в классной, пишет кому-нибудь поздравительное письмо, но также реагирует на веселье детей. Лишь к приходу священника для службы 12 Евангелий настроение становится вновь более минорным; служба скучная для детей,
430
хотя те, кто могут, следят по русскому Евангелию. Нюняше, Розали и Diditte уже спозаранку отмечено в их французских и немецком Евангелиях, что за каждым Евангелием будут читать, чтобы и для них служба была понятна. Но и тут детям есть источник наслаждения: это свечка и налепляемые на нее кусочки воска по прочтении каждого Евангелия, чтобы знать, сколько еще осталось. Я особенно любил эту службу благодаря отчетливому и проникновенному чтению отца Сергия; у меня до сих пор звучит в ушах выражение, с которым он читал слова из первого Евангелия: «Яко возненавидеша мя втуне» (25 ст. XV гл. от Иоанна). Великий он был труженик и, несмотря на часто совершенно непосильные труды, служил всегда одинаково неторопливо, истово. В Великий четверг после всенощной у нас на дому он еще такую же служил и в церкви, почему у нас обычно она начиналась довольно рано, и в ней он многое пропускал из чтений, что и не было жалко, ибо, как я уже упомянул, оба псаломщика были из рук вон плохие чтецы. Дети, да и мы все, после ухода священника сидели дома и следили по церковному звону, какое Евангелие в эту минуту читают в церкви.
Пасха начиналась для детей в Великую Субботу с вечера. Утром их водили в церковь приложиться в последний раз к плащанице. Обед был ранний, и после него в классной, как я уже упомянул это раньше, готовили стол с пасхами и куличами для освящения. Дети и все к ним причастные переодевались к приходу священника в светлые платья, и Лиза и бабушка этого придерживались. Начиналась пасхальная всенощная, то есть пели один пасхальный канон, и когда дело доходило до «Да воскреснет Бог», и потом «Друга друга обымем и тако возопиим: “Христос воскресе...”», дети с восторгом подхватывали знакомое уже им песнопение, и особенно торжественно и восторженно звучала петая детскими голосами эта вечная песнь и хвала Воскресшему. Не дожидаясь прикладывания ко кресту, они уже втихомолку похристосовались с нами, а после отпуста и во время чтения благословляющих молитв над яствами и кропления их дети уже всех без пропуска расцеловали и ждут не дождутся, когда уйдет священник, чтобы получить от дедушки и бабушки пасхальные подарки. Восторгам и радостным возгласам при получении подарков нет конца. Бабушка задолго их обдумывала и с помощью Лизы выписывала их из Москвы, сообразуясь со вкусом каждого внука и внучки. Еще на 6-й неделе начиналось беспокойство — не опоздают ли подарки, но я не помню такого случая, [чтобы] хотя [бы] раз пришел один в самую Великую Субботу. Сами дети разносили всем свои подарки, а также и людям те подарки, которые предназначались от нас, родителей, служащим в доме. Ни в ночной службе, ни в ночных розговеньях они в этот период нашей жизни не участвовали, и мы с Лизой, как только возвращались из церкви, шли в детские крестить их по кроваткам. Зато утром около двери нашей спальни уже рано слышны и возбужденный и сдержанный шепот, и стоит им услыхать первое слово, сказанное в спальне и доказывающее, что мы проснулись, как вся шумная ватага с Мишей во главе врывается в комнату, лезет на наши кровати и тут же получает от матери приготовленные подарки, а от меня традиционные красные деревянные яйца с деньгами, сообразно возрасту каждого, и шоколадными пастилками. Дети сообщают нам, что из церкви уже понесли образа по духовенству и скоро к нам придут, так что надо спешно вставать и одеваться. Едва успеешь
431
выйти в столовую и сесть за кофе, пасху и кулич, как уже раздается на дворе пение «Христос воскресе», и появляются образоносцы, а за ними, шлепая по грязи, мой помощник по церкви с церковной кружкой и духовенство. Люди, девушки вытирают образа на подъезде и вносят их в столовую, где расставляют на сдвинутые стулья, покрытые чистыми белыми скатертями, прикрепляют к каждому свечки; помощника церковного старосты уводят в буфет пить чай, туда же и я отношу свою мзду в церковную и братскую кружки; образоносцев отводят в контору, где они до отвала угощаются конторщиком пасхой, куличом и яйцами. Духовенство же кратко служит молебен и садится за чай, за которым обычный разговор о ночной службе: как она была хороша, сколько было народа, какой сбор был на тарелке и в братскую кружку, рано ли кончилось. Одновременно приходят и учителя из второклассной школы, управляющий с женой, а когда был у нас медицинский пункт, то и земский доктор. Настроение благодушное, все всеми довольны, жалеют священника, которому предстоит всю неделю ходить по приходу в слякоть. Дети же ждут не дождутся, когда духовенство уйдет, ибо уже Нюняша ушла к себе и, как только священники уйдут, она появится со своими подарками. Наконец эта счастливая минута настала, и в гостиную возвращаются Нюняша с Розали, несущие на половой щетке нанизанные корзинки по числу детей; в каждой корзинке и яйца пасхальные, и какие-нибудь подарки, и все это так красиво, так обильно, что дети визжат, понятно, во главе всех Миша; никто, как он, не умел так проявлять радость, веселье и заражать им всех. Дети слушали его беспрекословно. Помню год, когда он до нашего просыпления заставил своих братьев и сестер съесть каждого столько крутых яиц, сколько каждому лет; они давились (некоторые из них не ели и до сих пор не любят кто желток, кто белок, но его ослушаться не смели); кончилась эта prouesse тем, что как Лиза встала и узнала все это, она во избежание дурных последствий, не ожидая результатов, немедленно администрировала каждому касторки, так же сообразно возрастам. В этот год и к пасхальной вечерне их не брали, а то старшие ходили обыкновенно к этой службе с Лизой. Вечерня начиналась лишь только священник обойдет усадьбу; уже после вечерни начинался обход прихода, начиная с Горяинова. В церкви после вечерни и Лиза, и дети христосовались, главное, с бабами; мужики еще ночью успели все подойти к Лизе, а к детям подходили лишь особенно им близкие, имевшие связь с нашим домом. После службы возвращение домой к завтраку, состоявшему из тех же розговень с прибавлением горячего бульона, подававшегося в больших зеленых чашках и diabolos, а затем катание яиц, в котором принимает участие и бабушка — и сколько веселья!
Обыкновенно приезжал и Миша Мамонов, если не накануне, для хождения с нами в церковь, то на первый день, и как мальчики радовались своему товарищу! Он с ними делил все детские удовольствия. На Рождество после елки у нас, где Миша Мамонов непременно бывал, устраивалась таковая же у Мамоновых. Но у нас она была обычная, традиционная: в сочельник маленькая в игральной, которая была подарок от Нюнички и Розали, [а] в первый день праздника большая в столовой и на следующий день повторялась она же для детей служащих и дворни; у Мамоновых же елка устраивалась в разные дни и всегда представляла собой какой-нибудь неожиданный сюрприз.
432
И традиционность наших елок и разнообразие рождественских праздников у Мамоновых одинаково нравились детям и как бы дополняли друг друга, но, думаю, что устрой Лиза елку дома не по обычному, детям было бы разочарование: до того они все любили свои традиции. Елка Нюняши и Розали маленькая ставилась в игральной на стол, где обычно дети пили свое молоко; одним из ее украшений была мотеранская сческа, которая ежегодно ставилась у ее подножия и затем тотчас [же] убиралась Нюней; каждый из детей кроме подарков от Нюняши и Розали получал от первой неизменно большой пряник в виде куклы; приготовление этого пряника на швейцарский манер с обилием пряностей составлял специальность Нюняши. К большой елке уже задолго дети вместе с Diditte и Розали, главное с последней, готовили украшения, клеили цепи, фонарики и т. д. Лиза в последнюю предпраздничную поездку за покупками в Калугу составляла длинный список специально елочных украшений и угощений. Чего там [только] не было! Но и этого было мало и еще заранее списывались с Москвой и оттуда высылались какие-нибудь новости для елки и, главное, подарки детям.
Утром в самый день Рождества дети сначала нам, а потом моим родителям и Нюняше славили Христа, за это каждый получал серебряную монету. Деньги у них не залеживались: еще с первого денежного подарка Мише Лиза завела порядок все эти деньги класть на книжку в Сберегательную кассу и у многих из них эта сумма достигала столь значительных размеров, что, например, Мише дала возможность на свои деньги сделать интересную поездку за границу уже студентом, о чем речь будет впереди. Обеденный стол в этот день выносился в гостиную, дверь в столовую плотно закрывалась, и детям объясняли, что там печки дымят и ждут печника, чему они, понятно, не верили. В раннем их детстве, то есть именно в тот период, который я описываю, они не принимали участия в украшении елки и всякими правдами и неправдами старались их удержать в их детских, пока Лиза с гувернантками развешивали все, раскладывали сладости и готовили столы с подарками. Выбор самой елки лежал всегда на старосте Михайле, а столяр должен был приготовить крест для постановки и укрепления самого дерева. Часто дерево браковалось, к великому огорчению Михайлы-старосты, которому тогда разрешалось для спешности, если необходимо, и в саду срубить нужное дерево, или же столяр как-то особенно умело приделывал лишние посторонние ветки к стволу pour que l’arbre soit plus touffu. Я лично в украшении елки не принимал участия и это время проводил у себя в кабинете, читая на досуге что-нибудь интересное и часто прибегая к своему шкафу, где всегда лежали какие-нибудь сладости для угощения детей, а в тот день припрятано было несколько коробок конфет и неизменного chocolat du rhom, которым к таким праздникам меня всегда баловали. После более раннего обеда, когда нетерпение детей достигало наибольшего напряжения, дверь в столовую торжественно распахивалась и под звуки марша из «Конька-Горбунка», который для этого всегда играла Лиза, дети входили в ярко освещенную комнату. Первая минута была всегда какая-то молчаливая, как они ни ждали, ни знали что сие будет — эта разукрашенная елка, горящая огнями как-то их всегда ошеломляла; из этого оцепенения обыкновенно первым выходил Мишук, а часто и младший, еще несомый на руках няни; последний бессмысленно, но не менее восторженно громко подвизгивал, и тогда
433
очарование было сломано: начинались такое веселье, беготня, топотание и разыскивание своих подарков! Обыкновенно каждому был свой маленький столик и всегда совершенно одинаковый с нашими мальчиками столик Мише Мамонову. Бабушка, желая на свободе наслаждаться весельем детей, бросала фортепиано и с очками на носу усаживалась в кресла и любовалась внуками, понятно, всегда особенно отличая своего любимца Мишу. Устраивали grand rond вокруг елки, в который входили и большие, дверь в буфет открывали и оттуда выглядывали не только все домашние люди, но и люди, пришедшие с усадьбы, а иногда и случайно зашедшие с деревни. На следующий день то же повторялось для детей дворни, но здесь дети были уже хозяевами и наблюдали, чтобы всем было весело. Приводили и приносили разных детей — от карапузов, которые ничего не понимали и только хныкали, до детей, имевших смелость и вприсядку пуститься и русскую с платочками пройтись. Родители их выглядывали из буфета, громоздясь друг над другом и радуясь на своих чад.
У Мамоновых елка была лишь предлогом, в сущности же всегда это был какой-нибудь отличный от предыдущего года детский праздник. И старушка Ольга Александровна и Софья Эммануиловна и гувернантка Миши (а их переменилось у них много) всю осень и начало зимы что-то шили-клеили для сего. Один год кроме елки весь большой кабинет, все стены и колонны были разукрашены висящими и как бы реющими большими бабочками, отчего получалась особенно фееричная декорация. Другой раз в том же кабинете Софьей Эммануиловной была устроена другая декоративная обстановка — пряничный домик бабы Яги, которую изображала сама Софья Эммануиловна. Еще помню как в один из позднейших годов дети нашли под своими салфетками почтовые повестки из Тимофеевского почтового отделения и по окончании обеда приглашены были получать эти посылки в организованном в том же кабинете Софьей Эммануиловной почтовом отделении. Смотрителем почты была сама Софья Эммануиловна, а жена его — Миша. Один сюрприз кончился совсем плохо: детям приготовлены были каждому [свой] костюм, и Софья Эммануиловна повела их после обеда наверх одеваться, но натолкнулась на такое упорство Сергушки, который ни за что не хотел облачаться в костюм Pierrot; пришлось позвать Лизу, что совершенно не входило в расчеты Софьи Эммануиловны, готовившей, главное, сюрприз самой Лизе; последней едва удалось уговорить Сережу и то напирая на огорчение Софьи Эммануиловны, на то, как она готовила ему этот подарок; Сережа, наконец, сдался, но при условии, что как только он в своем наряде всем покажется, немедленно его снимет; и сошел он, одетый Pierrot, вниз, держась холодными ручонками за мать, от коей ни на шаг не отходил. Льяна тоже не была любительницей всяких переодеваний, а масок она боялась ужасно.
Но эти Мамоновские праздники я больше описываю понаслышке, а сам редко в эти дни их посещал. Поездки туда в возке-кибитке с опасностью детской простуды и иногда в метель (отменить никогда нельзя было намеченный день, слишком много приготовлений сделано было Мамоновыми) меня не привлекали; обычно я оставался с родителями дома, ждали мы детей, которые возвращались полные впечатлений, рассказов и нагруженные подарками. Я больше любил посещать Мамоновых вдвоем с Лизой или один, посидеть у них уютно за чаем
434
дневным, а летом на балконе вечером и слушать рассказы Ольги Александровны о старине. Так было всегда у них уютно, радушно, тепло, так чувствовалась их непритворная, настоящая к нам дружба, что когда бывало нелегко на душе, нельзя забыть — едешь к ним и согреет тебя их дружба и ласка.
Наши с Лизой именины и рождения, а также дедушки и бабушки ознаменовывались какими-нибудь либо стихами, либо маленькой пьеской, разыгранной детьми; и то и другое было большей частью сочинение Розали, которая издали, вся красная от волнения, подсказывала, а когда мы ее благодарили, сконфуженно трясла руку прямой ладонью. Детские праздники начинались обедней, но еще до обедни празднуемый поджидал наше просыпление, чтобы быть нами скорее поздравлен. Накануне к нему направлялся повар для получения заказа как на обед и завтрак, так и на дневное угощение. После обедни виновника торжества не пускали в столовую, пока все не соберутся и не уставят стол с подарками, а затем под общие крики ура он входил сконфуженный и счастливый. Лиза показывала ему его подарки и объясняла что от кого; благодаря моим родителям, Нюняше, Diditte и Розали подарков было всегда множество и новорожденному или имениннику приходилось благодарить и целовать многих. Но самым торжественным днем был день рождения Миши. В тот год, когда ему минуло три года, а именно в 1890 году, Лиза решила ознаменовать этот день весельем для крестьянских и дворовых детей, его сверстников, и созвала таковых для раздачи им подарков и угощений. Повторялось это ежегодно до 1914 года, года войны, когда Миша в этот день отсутствовал, был уже призван по мобилизации, и празднование это принимало все более грандиозные размеры. Последние года детей с утра набиралось несколько сот человек изо всех деревень всяких возрастов; день проходил в играх на дворе и в саду; среди дня устраивалось чаепитие и угощение детей, для чего ставили столы на кругу, готовили несколько ведер воды, затапливали несколько кубов и на господской кухне и на людской; заведовали этим чаепитием горничные при содействии дворника. По окончании нашего обеда, когда пили за здоровье Миши, дети со двора кричали ему ура. Потом все выходили на крыльцо и при помощи гостей (всегда бывали Мамоновы, Раевские, Максимовы, Полторацкие) устанавливали возможный порядок, дабы никто из детей вторично не подходил за подарком и угощением, но редко это достигалось; всегда оказывалось, что подарков не хватило и надо спешно добавлять из детских игрушек. Лиза выписывала из Троицы сотнями игрушки, а потом уже один игрушечный магазин в Калуге взял на себя этот труд и к этому дню готовил нужную партию. Пряники, орехи, жамки выписывались ящиками, баранки — пудами, и дом после этого дня, двор и круг представляли жалкую картину, как после ярмарки. Миша и остальные дети сновали между своими гостями-детьми, меняли игрушки тем, которые были недовольны доставшимися им подарками. Кончался праздник тем, что толпы детей расходились по всем дорогам домой, оглашая воздух свистом и писком игрушек, свистушек, губных гармоний и трещоток. Каждый год в этот день снимались фотографии со двора с веселящимися детьми; редкий молодой мужик нашего прихода, а в особенности наших деревень, не увидит себя мальчиком на одной из групп, ибо почти каждый из них в том или ином году принимал участие в этом празднике. С самого начала лета,
435
когда катались в линейке, проезжали мы какую-нибудь деревню, за нами неслись ребятишки с криком: «А когда бал?»
Меня могут спросить, отчего я все описываю праздники и когда же были будни в детской жизни? Да их никогда не было; более счастливого детства, чем у моих детей, я думаю, трудно себе представить. Привольное житье при матери, которая всю свою жизнь на них положила, жила их детскими интересами, окружаемые ласками и баловством дедушки, бабушки, особенной любовью Нюнички (дети звали ее Нюню и Нюняша) и постоянными заботами Diditte и Розали, привязанных к ним как к близким родным — что может быть счастливее? Лиза умела осветить, окружить всю детскую жизнь, без всякой сухой педантичной педагогии, интересами; сама она лишь впервые после замужества, поселившись окончательно в деревне, не была ею избалована и проникалась красотой природы во все времена года, сама интересовалась деревенской жизнью и дети к ней пристрастились; и прогулки, и уроки, и разговоры, и игры — все их развивало, не потому что заранее была задумана так или иначе система воспитания, а потому, что Лиза жила жизнью их, потому что дети были центром нашей жизни семейной, целью нашей, почему при помощи Божьей все так складывалось радостно. Бывали, понятно, минуты тяжелые — это их болезни, и болели они довольно часто, и тогда бывало тревожно. Особенно вначале каждая не болезнь, а даже недомогание ребенка казались страшным делом, но с годами, когда опыта у Лизы прибавилось, уже не так страшно стало; но бывали и длящиеся опасные болезни; помню, как все старшие пятеро одновременно ранней весной болели коклюшем, помню еще корь у многих. Это были шипы, но цветов было больше, и общий фон нашей жизни того времени был счастливое детство наших детей; дай Бог, чтобы и они это время также вспоминали.
Семейная тесная жизнь разнообразилась приездами на долгий срок или моей сестры с Мусей, или матери Лизы, или ее сестер и братьев. Моя сестра обыкновенно приезжала каждый год ранней осенью или поздним летом, то есть в конце августа или же начале сентября, и проводила у нас время до середины ноября, когда уезжала прямо в Петербург. Нюничка считала ее гостьей моих родителей, не допуская ни Лизы, ни наших людей готовить им комнаты; сама их устраивала на половине стариков, обычно в шоколадной, зеленой, а Мусю — в комнате Нюнички. Варя тоже очень любила и восхищалась своими племянниками, а Муся, хотя на четыре года старше Миши, очень с ним дружила. От пребывания Вари жизнь детская мало менялась, разве только она им певала. Никогда Варя не любила деревни, все ее мысли были в Петербурге, и чуть ли не на следующий день приезда она вооружалась путеводителем и рассчитывала, с каким поездом надо ей через два месяца ехать в Петербург. Она была всегда слабого здоровья, и редкое ее осеннее пребывание у нас не сопровождалось какой-нибудь болезнью. Я в это время чаще приходил в классную, где Мама́, сидя у рабочего столика близ среднего окна на двор, работала. Папа́ и Варя arpentir’овали классную, и Варя что-нибудь рассказывала из своей личной петербургской жизни или вспоминала нашу общую там жизнь до ее замужества, а я слушал, но, сознаюсь, так далеко отошел от Петербурга, что все эти воспоминания коробили, были совершенно для меня чужды, что не способствовало нашему с сестрой сближению, а
436
скорее отдаляло нас друг от друга. Она не понимала меня, а я перестал ее понимать. С Лизой отношения моей сестры были самые теплые и этому я был рад. Совсем другое было, когда приезжали сестры Лизы, и в особенности ее мать. Они были общими, всеми любимыми, всеми ожидаемыми гостями; я, хотя и конфузился Мама́, с которой до ее кончины у меня были не совсем простые отношения, все же исключительно ее любил, ценил каждое ее слово, каждую ее ласку; сестры же Лизы вносили громадное оживление в нашу жизнь, и тогда делалось весело не только по участию в детском веселье, но сами мы вспоминали, что и мы, хотя родители пятерых детей, все-таки еще молоды, и сами веселились, катались сами по себе на розвальнях, устраивали игру в снежки, при непременном участии Нюнички, которую мои belles-soeurs особенно любили и она их. По вечерам устраивались общие игры; я уже раньше описал, как однажды составился домашний семейный спектакль, в коем приняли участие и обе наши матери и мой отец. Насколько весело и радостно встречали мы Мама́ и сестер, настолько же грустно было их провожать. После их отъезда мне лично казалась жизнь наша немного унылой и слишком однообразной, но ненадолго; опять и занятия детские, и жизнь захватывали тебя всего.
Лиза сама мало выезжала из Сергиевского, хотя все-таки несколько раз побывала с детьми у своих родителей либо в Москве, либо в Меньшове; я их ни разу в эти поездки не сопровождал, почему воспоминанием о них у меня остались лишь скука, тоска и постоянная тревога за них, а потом безумная радость при возвращении Лизы…
Болезнь, а затем кончина императора Александра III как-то совершенно особенно меня потрясли, и тут я еще интенсивнее почувствовал, что уже раньше описывал в своих записках о службе земского начальника, — отдаленность ото всех в деревне. Я имел к этому государю особенное чувство уважения, преклонения перед его стойкой личностью, так высоко поднявшей знамя России без войны, без громких реформ и лишь одною честностью, прямотой и уверенностью в мощь и значение русского народа. Для меня царь-мученик и освободитель был тоже высоко политическая фигура, но шум, поднятый шестидесятниками при освобождении крестьян (реформы необходимой и исторически своевременной, ибо с освобождением дворян при Петре III от службы оставлять крестьян закрепощенными во имя государственности перед другими сословиями была явная несправедливость), мне претил. Я видел во всех высокопарных фразах, во всех выступлениях корифеев этой реформы (Милютина, Юрия Самарина, Черкасского) отсутствие умения ценить историческое прошлое нашего сословия и, главное, подчеркивание лишь темных сторон его деятельности; поэтому мое внутреннее чутье видело в них тех первых революционных новаторов, которые и простому, законному, освященному царской властью эволюционному движению придавали революционную окраску, открещиваясь двумя руками от прошлого и тем отграничиваясь нравственно от своих предков; так как эта эволюция и могла и должна была быть объяснена лишь как улучшение прежнего строя, то есть переработка ее на новых началах и в новом освещении, оставляя за дворянством водительство народной жизни как за тем сословием, которое было наиболее государственно в те времена и было близко к народу и как-никак любило его. Но недаром русский народ
437
давно сказал: «Худая слава по дороге бежит, а добрая дома лежит». Забыто было все сделанное дворянством и вспоминались лишь Салтычихи, Аракчеевы и тому подобные. Александр III введением института земских начальников хотел повернуть колесо на правильную стезю и вырвать судьбу крестьян из рук беспочвенных интеллигентов, привлечь к заботам о них старое дворянство: мысль верная, но, увы, слишком запоздалая. Дворянство измельчало, а интеллигент в худшем смысле этого слова слишком высоко поднял голову. Тем не менее меня, убежденного сторонника, польза земских начальников, где было еще дворянство, понятно, влекло особенно к императору, а потому весть о его болезни, а затем и кончина была для меня тем более тяжка, что [я] переживал их в тиши деревенской жизни: такие же минуты особенно хочется переживать в водовороте жизни, часто иметь сведения и делиться и узнавать от каждого новости. С исправником я сговорился, чтобы он присылал мне возможно часто бюллетени; он же мне и прислал телеграмму о кончине императора. Ознаменовал я оную, как мог, торжественной всенародной панихидой в волости и торжественным заседанием Братства, в котором почивший император был записан на вечное поминовение. И тут и там я сказал соответствующую событию речь и послал две телеграммы с выражением скорбных чувств: одну от волости и крестьян министру внутренних дел через губернатора, другую, от Братства, через обер-прокурора Святейшего Синода. Проделав все это, меня еще больше потянуло в город, к такой деятельности, где не возиться бы мне всегда с одними лишь крестьянами.
В одну из моих очередных поездок в Калугу я встретился в доме С. С. Яковлевой с ее сестрой Зинаидой Семеновной, женой харьковского губернатора Тобизена. Сей последний был до того томским губернатором и так умело, по-петербургски (Тобизен был светский придворный человек), принял и сопровождал по своей губернии императора Николая II в бытность его еще наследником, что обратил на себя особое царское внимание, и когда место губернатора в Харькове освободилось, государь вопреки докладу министра внутренних дел к великому изумлению последнего чуть ли не на первых порах своего царствования написал первым Тобизена. Зинаида Семеновна, узнав о моем желании продвинуться по службе и будучи всегда особенно близка как дочь Семена Павловича к нашей семье, по секрету сообщила мне, что в Харькове на днях будет вакансия вице-губернатора; тамошний вице-губернатор Бельгард, женатый на двоюродной сестре Лизы, Зиновьевой, назначен в Полтаву губернатором и пусть я начну хлопотать, она же напишет своему мужу, который наверное рад будет иметь меня своим помощником. Я ее очень благодарил и сейчас же написал Герману Августовичу (так звали Тобизена); вскорости получил от него ответ, что он очень рад и сам будет просить за меня министра. Получив согласие Тобизена, я написал своему тестю и сестре своей Варе, чтобы они начали действовать со своей стороны. Соединенные усилия привели к тому, что, казалось, дело несомненно удалось, даже министр в разговоре с Тобизеном сказал ему, что в принципе согласен и, как я узнал впоследствии, запрашивал обо мне калужского губернатора.
Однажды во время заседания Братства, где я, как обычно, председательствовал, а Мама́ исполняла обязанности казначея, мне принесли телеграмму от моей сестры Вари из Петербурга: «Узнала приказ будет на днях подписан»; никогда не забуду
438
той радости, которую ощутил, меня [словно] земля не носила; не говоря уже о том, что исполнялась моя мечта [о] новой, более разнообразной службе. Сам Харьков в те времена был маленькой столицей и назначались туда вице-губернаторами заслуженные люди, почему для меня, совершенно юного и притом никому не известного деревенского деятеля, это была головокружительная карьера. А я был не лишен тщеславия и честолюбия. Скоро мне предстояла поездка в Калугу на очередной съезд, и я себе вообразил, что это мой последний съезд в качестве земского начальника. Я так преисполнен был неожиданным счастьем, что боялся проговориться своим коллегам; за судейским столом, слушая доклад какого-нибудь дела, чертил на бумаге начальные буквы своей будущей должности. Заехал я к Софии Семеновне Яковлевой вечерком узнать, нет ли оттуда каких-нибудь новостей, хотя она и не была посвящена по желанию Зинаиды Семеновны в наши переговоры с Тобизеном. Когда же она, теперь думаю, не без ехидства, ибо меня не любила, а сама была столь умна, что многое понимала без того, что ей говорили, рассказала мне вскользь, что Бельгард назначен, а на его место переведен бывший вице-губернатор Тобизена по Томску Философов. Я этому не придал значения и сам себе представлял картину, как она будет поражена, узнав о моем туда назначении, до того я был убежден после телеграммы сестры, что оно уже состоялось. Возвращаясь домой и проезжая вечером в коляске нашу границу, я думал, что это в последний раз я еду как земский начальник, что завтра или послезавтра я уже буду иметь приказ, хотя бы по телеграфу, в руках, как вдруг кучер мне объявил, что почта лежит в задке коляски и что там есть заказное письмо ко мне. Я бросился его отыскивать, оказалось оно большое по размерам и от Тобизена, значит он передает мне приказ. Но, распечатав, увы, с первых слов я увидал, что все мои мечты разбиты в прах, действительно, Бельгард ушел, но на его место назначен Философов. Тобизен сообщал подробности: черновик приказа о моем назначении был уже составлен, как вдруг к Горемыкину, тогдашнему министру внутренних дел, явилась мать Философова; Горемыкин был обязан ее мужу своими первыми служебными шагами. Философова сообщила Горемыкину, что получила телеграмму от сына о кончине жены последнего (он был очень неудачно женат, вопреки желанию матери, на особе много старше его и с довольно сомнительной репутацией, почему и был назначен в Сибирь) и просила министра перевести его в Россию, вырвать его из той обстановки, где ему, одинокому, особенно тяжело переживать свою утрату. Горемыкин тут же велел вычеркнуть из приказа мою фамилию и вписать туда Философова; он, зная, что Тобизен, когда был в Томске губернатором, всегда ладил с Философовым и неоднократно хвалил его в Министерстве, и не ожидал от Германа Августовича возражения. На окончательном свидании Тобизена с Горемыкиным последний и объявил ему это изменение, а на восклицание: «А что же Осоргин?» возразил: «Он еще молод, может подождать, но я могу ему предложить вице-губернатора в Тобольске». Все это сообщал мне Тобизен, пересыпая письмо фразами, казалось, искреннего сожаления. Можно понять, как я был огорчен. От Тобольска я отказался, что тут же написал Тобизену, прося не допускать формального мне предложения, зная, что отказ с моей стороны может надолго повредить мне в Министерстве.
Потянулась опять моя прежняя служебная деятельность, и только было одно утешение в семье, в веселье детей, но все-таки все мои мысли и мечты еще
439
интенсивнее стремились к другому. «А счастье было так близко, так возможно», применяя к себе, говорил я стих Пушкина. Тем более я обрадовался, когда весною 1896 года мне написал губернский предводитель дворянства Яновский, что на совещании с губернатором их выбор пал на меня для участия в коронации в качестве земского начальника (от каждой губернии должен был быть один), и Яновский спрашивал меня, согласен ли я. Я, понятно, согласился. Папа́ стал обдумывать меня с точки зрения финансов, а Лиза списалась со своими в Москве, чтобы узнать, где бы я мог остановиться. Родители жены сдали квартиру какому-то корейскому посольству; Тоня с мужем уступила свое помещение брату дяди Капниста Петру, бывшему тогда нашим посланником в Вене. Зато Марина с Николаем, тогда молодожены, это был первый год их супружеской жизни, и Марина ожидала рождения первого ребенка, предложили мне у них остановиться, предоставив мне и свой экипаж, но без лошади, которую в Москве на время коронации невозможно было иметь. Сговорился я с калужским одним извозчиком, нанял у него пару лошадей и отправил их в Москву вместе с бывшим нашим, а потом Трубецких, кучером Никитой.
Мой отец видел в этой командировке верный шаг к вице-губернаторству, и я хотя на словах оспаривал это мнение, в душе сам на это надеялся. И он и я во всем вполне ошиблись и даже удовольствия я очень мало получил — все мы, мелкие депутаты от губерний, как набранные земские начальники совершенно были забыты, и из всех торжеств мало что видели. Выход государя мы смотрели с трибун у соборов, но так были плохо размещены, что я со своим плохим зрением почти ничего не видел. В самый день коронации мы участвовали только в голове процессии, так что только спешно нас провели из одной двери в другую через Успенский собор, не дав даже разглядеть его убранство, и всю церемонию пережидали на другой стороне собора в каких-то убогих комнатах, где на свои деньги кое-как подкрепили свои силы у монахов и сторожей соборов. Когда церемония кончилась, нас опять построили на подмостках и той же процессией вернули во дворец, где нам были отведены места за городскими дамами, до того нас стеснившими, что я опять мало что видел. В зале, где я был, стоял караул Кавалергардского полка под командой Евгения (Коти) Бернова. Помню, как среди меня окружающих раздались насмешки по адресу нашего полка, насколько этот полк есть лишь дорогостоящая фантазия, ненужная в военном отношении. Во мне заговорил старый кавалергард и я резко возразил этому лицу, упоминая и упирая на бывшую славу полка в войнах с Наполеоном, так картинно описанных Толстым в «Войне и мире». На его удивленный взгляд на такое горячее заступничество со стороны штатского я показал ему свой кавалергардский жетон, и он благоразумно умолк. Помню, как мы посидели на скамеечке, любуясь иллюминацией и, главное, колокольней Ивана Великого, освещенной электрическими лампочками по всем архитектурным линиям. В день куртажа я мог мало тоже что видел, ибо оставался лишь в одной зале, где нам указано было быть. Толпа была большая и все так толкались, что через головы и шляпы передних я едва разглядел высочайший полонез, дважды проходивший по анфиладе зал; зато неоднократно выходил на большой балкон и оттуда все освещения Кремля и Москвы были действительно восхитительны. Что мне было приятно в этот вечер — это встреча со многими бывшими
440
друзьями и знакомыми еще по Петербургу; они меня еле узнавали, приходилось называться, и я еще раз почувствовал, как я одинок в деревне и как мало у меня осталось общих интересов со старыми товарищами и знакомыми.
Ожидали мы большого удовольствия от фейерверка, долженствовавшего быть вечером для народного гуляния; но что же повторять о стихийности злополучного дня, на деле омрачившего начало царствования и так схожего с праздником, данным в честь несчастной королевы Марии-Антуанетты. Помню, как рано утром среди людей и горничных Марины шел разговор о каком-то несчастье на Ходынке; слухи все усиливались, а потом осталось только выйти на улицу, чтобы убедиться в их основательности. Толпы народа шли оттуда мрачные, угрюмые; на извозчиках счастливцы, нашедшие своих родных. Везли их либо перевязанных, если они не были окончательно задавлены, либо их трупы в ужасно растерзанном виде. Ломовые везли целые груды мертвых тел, едва прикрытых рогожей. Уже потом от очевидца и участника, нашего буфетного мужика Ивана Ермакова, едва спасшегося и то с поломанными ребрами лишь благодаря тому, что был как-то выдавлен наружу и по головам и по плечам окружавших его людей добежал до простора, я слышал подробности. Он рассказывал, что еще ночью, когда народ столпился у узких проходов в ожидании сигнала начала раздачи, над толпой стоял пар от дыхания и тогда уже многим делалось дурно, а когда по отдаленному сигналу или даже по своеволию толпы все ринулись вперед, послышался треск от сдавливаемых костей. Я как не очевидец и не берусь судить, что и как было, но считаю нелишним передать случай, рисующий положение в высших сферах и едва ли известный широкой публике. Церковным маршалом коронационным был граф Пален, бывший министр юстиции, человек, славившийся своею неподкупной честностью и благородством. Он был очень близок с дядей Капнистом, который когда-то был директором его канцелярии; и вот на следующий день после Ходынки Пален его призывает и сообщает ему, что получил высочайший рескрипт встать во главе следственной комиссии по сему ужасному происшествию, и он, Пален, рассчитывает на дядю, который был в то время сенатором, что тот по старой памяти ему поможет в этом деле. Пока они разговаривали и намечали, кого привлечь к работе и как ее организовать, явился фельдъегерь или чиновник Двора (не помню) с личным письмом и требованием государя вернуть ему высочайший указ, и на этом дело и встало. Пален был вновь приглашен и расследование велось двумя более покладистыми людьми; как на человека виновного указывали на великого князя Сергея Александровича, не принявшего должных мер благодаря прениям, происходившим между его генерал-губернаторским Управлением и Министерством Двора. Пострадали лишь мелкие сошки — московский обер-полицмейстер, ожидавший назначения в Свиту и вместо того уволенный по 3-му пункту, да еще какие-то мелкие чиновники Министерства Двора. Великий же князь и барон Фредерикс вышли сухими из воды. Настроение всех было подавленное и недовольное, обвиняли государя в бездействии, что несмотря на такое народное бедствие ни одно празднество не было отменено и даже вечером того же дня государь был на балу в каком-то иностранном посольстве. Уныние это передалось всем во время обеда старшин. Слово, сказанное волостным старшинам, было почти повторением слов Александра III и опять о нас как о власти,
441
наиболее близкой крестьянам, в царском слове было забыто. Отвечал от предводителей Петя [Капнист] и сказал очень хорошо, а, главное, взволнованно, что совершенно подходило к моменту. По отъезде государя все мы тут же, на веранде дворца, снялись группой; только эта группа и группа отдельно всех земских начальников, командированных на коронацию, остались у меня воспоминанием о том времени. Кантаты коронационной на Ходынском поле я не слыхал — ожидали от нее особенного эффекта, сопровождалась она и звоном колоколов и даже залпом пушек, для чего у дирижера от пюпитра была проведена электрическая связь к батарее, так что в нужный момент оставалось дирижеру только нажать кнопку. Вечером, наполненные всем совершившимся, мы и на фейерверк смотреть не ездили, а старались, что можно было, разглядеть с балкона и, понятно, кроме отдельных дальних вспышек ничего не видели.
Служебного повышения я не получил, даже никакой награды. Представлялся директору Общественного дома барону Гревеницу в Московском Губернском правлении, выслушал от него неутешительную весть, что моя кандидатура в вице-губернаторы очень ненадежна, что министр поручил ему предложить мне место в Семипалатинске. Он сам по собственному почину такое предложение отклонил, понимая всю нейтральность для меня, семейного человека, такого назначения.
На следующий день поспешили мы с Лизой от всех этих ужасов домой. С большим трудом добрались мы до вокзала; я постоянно отвлекал внимание Лизы, когда натыкались мы на какую-нибудь сцену, напоминающую вчерашнюю катастрофу. Уборка и разборка и похороны жертв шли несколько дней. Благодаря большему, на что удалось, сносно устроились в поезде и с таким наслаждением вздохнули мы полной грудью, отъехав от Москвы. На нашей дороге было уже совсем свободно и даже разговоры другие, и когда мы вечером в Ферзикове сели в свою коляску, въехали в свой лес — все ужасы, все эти волнения, а также и недовольство от неудовлетворенного самолюбия и тщеславия были забыты. Да и вообще забыты все городские скверности. Чудный вечер, благоухание весеннее, оглушительное пение и трели бесчисленных соловьев в Молчановке, а на перекрестках в лесу к Алферьеву костры и ночное с детьми в красочных ярких рубашках и платках, простая их незамысловатая песнь, побрякивание бубенцов спутанных в лесу лошадей — все это была такая гармония звуков, красок и запахов, что все забылось и только ощущалось радостное чувство возвращения домой к своим детям.
В том же году после дня своего рождения заболел Миша тифом, заболел он сразу, неожиданно почувствовав себя за завтраком дурно. Diditte, на руки которой он чуть не упал со стула, отнесла его в постель, поставила градусник, оказался сильный жар. Земский доктор Миша Полторацкий долго упорствовал в диагнозе, и несмотря на то, что Лиза ему подсказывала, что это тиф, самоуверенно смеялся и отрицал, леча Мишу от желудочного заболевания. Вызванный из Калуги врач подтвердил диагноз Лизы, и тогда Полторацкий, желая загладить свою ошибку, всей душой отдался лечению Миши по указанию калужского врача, сам делал ему ванны и посещал его по дватри раза в день. Страшно было, ибо только что умерла у нас в доме от брюшного тифа жена нашего повара; а после Миши заболела еще Розали и ее едва выходили, но уход и здоровая натура, а главное, помощь Божия дали Мише выздороветь. Лиза и Diditte от него не выходили, лежал
442
он в последней детской, и чтобы Лизе быть ближе, мы перенесли нашу спальню в игральную, а в нашей спальне поместили детей. И болезнь психическая няни и, главное, постоянное пребывание с детьми, тревога за них вконец подорвали силы Лизы. Сама она стала сдавать, делались головокружения, боялась она открытого пространства, от большого общества ей делалось дурно, и она поехала в Меньшово отдохнуть к своим родителям. В Туле ей стало особенно дурно, и сопровождавшая ее горничная Саша едва довезла ее в Меньшово. Мама́ выписала доктора по нервным болезням, который сказал, что Лизе необходим полный отдых и другая обстановка, почему решили меня выписать телеграммой. Получил я телеграмму рано утром, и текст ее был запутан, помню фразу: «Лиза очень нервно говорит, если приедешь, будет лучше». Я, не желая будить родителей, пришел к Нюничке делиться моей тревогой; мне казалось, что явствует, что Лиза нервно, если не психически, заболела. С первым поездом поехал я в Меньшово даже без отпуска, имея несколько дней свободных от разборов. Застал я Лизу в таком плохом виде, что когда мне сказали, что желательно увезти ее за границу, я не возражал и только стал обдумывать, как это устроить и куда направиться. Место, куда ехать, определилось само собой. Сестра Лизы Маня Кристи, страдавшая тем же самым во второй раз, ехала этой осенью в Гриз, недалеко от Мерана, где спокойная тихая жизнь, бодрящий горный воздух очень ей помогли, и она очень звала туда Лизу. Доктор одобрил этот выбор, говорил, что главным образом нужен покой и перемена обстановки; все-таки решено было заехать в Киев к Жене и Верочке Трубецким и посоветоваться с местными профессорами, очень рекомендованными Женей. Чтобы не утомляться, Лиза даже не вернулась в Сергиевское и хорошо сделала: новое прощание с детьми ей было бы не под силу, особенно ввиду того, что она не переставала беспокоиться за Мишу, только еще поправлявшегося после тифа. Поехал я один, с остановкой в Калуге, где выхлопотал себе заграничный отпуск от князя Голицына: требовалось на это разрешение министра, и губернатор очень обязательно сам вызвался телеграммой настоять на скорейшем благоприятном ответе. Вопрос денежный был более сложный, но мне и родители моей жены помогли и призанялся я у брата Лизы Сережи, так что с этой стороны я все наладил довольно быстро.
В день рождения Георгия 12-го октября после ранней обедни, нарочно отслуженной в неурочное праздничное время, дабы я попал на поезд, я двинулся в путь. На время отсутствия Лизы из Сергиевского приехала сестра ее Варя, имевшая в то время особый дар занимать детей и исключительно привязанная к нашим за время неоднократных ее осенних пребываний в Сергиевском, да и дети наши и родители мои особенно любили Варю Трубецкую по прозванию «тетя Вавашка», а потому ее присутствие было и приятно и полезно всем. Я лично мечтал о том, чтобы Варя сопровождала нас за границу, помогала бы в уходе за Лизой и, главное, если бы все пошло благополучно, была бы мне возможность своим присутствием поездить из Гриза по разным заграничным местам, кои были для меня совершенно неизвестны. Но Мама́ Трубецкая энергично этому воспротивилась. Расставание с детьми и для меня, не столь страстного родителя, как моя жена, было тяжело; вспоминается мне огорченное заплаканное лицо Мишука. Как старший он больше понимал значение долгой разлуки; вижу его, припавшего к стеклу и
443
провожавшего меня взглядом, тогда как бабушка стояла около него, ласкала его и меня крестила издали. В Меньшове я пробыл лишь одни сутки — необходимое время, чтобы заручиться свободным купе в вагоне прямого сообщения в Киев, и, наконец, мы двинулись в дальнюю дорогу, сели на поезд в Подольске.
Родственник Мамоновых, Александр Николаевич Волков, известный художник, лично лишь мне крайне антипатичный и плативший мне той же монетой, с насмешкой говорил про меня, что я принадлежу к тому роду людей, которые, описывая свое путешествие, главное, распространяются о тех женщинах, где останавливаются, и о тех ресторанах, где едят. Боюсь отчасти оправдать его мнение, столь презрительное обо мне. Но действительно, не любя и не понимая искусства в области живописи, главное потому, что мой дальтонизм лишает меня возможности ценить краски, я всегда к музеям, картинным галереям во время путешествия относился довольно равнодушно; меня, главное, интересовал и теперь интересуют быт страны, с которой я знакомился, дух и строй жизни ее народа в настоящем, и куда бы я ни попадал, я старался мысленно представлять себя ее постоянным жителем и стремился проникнуть в те условия ее жизни, которые привлекают и привязывают человека к данному месту. С самого раннего детства, чувствуя болезненную привязанность к своему Сергиевскому, в самом тесном смысле этого слова своей родине, и испытывая, где бы я ни находился, чувство тоски по нему, мне хотелось понять, как люди привязываются к другим местам и совершенно иная обстановка, условия, привычки делают мне грустными родное, близкое. В это свое первое продолжительное путешествие это чувство меня преследовало; в каждом новом городе, месте, даже в наскоро проеханном красивом местечке я на него смотрел с точки зрения путешественника, а потом прочувствовать его как местный долголетний обыватель, что ничуть не мешало наслаждаться и ценить красоту окружающей природы, как один из главных факторов, освящающих и дающих колорит местной жизни.
Первая наша остановка была в Киеве, где мы прожили дня три-четыре, пока не повидали нужных профессоров Афанасьева и Рейна, которые оба вполне согласились с мнением Рота о необходимости полного покоя для Лизы и по возможности забывания ее детей. Подъезжая к Киеву со стороны Курска и переезжая железнодорожный мост через Днепр, мы оба были совершенно охвачены красотой и величественностью панорамы Киева. Подъезжали часа в три дня, когда в октябре солнце уже ближе к закату и садится как раз за Киевом вправо, так что весь город с Лаврой и золотыми куполами церквей ярко освещены и блестят на солнце. И после того, когда мне приходилось подъезжать к Киеву с этой стороны, я всякий раз поражался величественностью картины, и казалось мне, что проживи хоть десятки лет на этом месте на берегу Днепра в Черниговской губернии, насупротив Киева, нельзя привыкнуть к этому виду как к почти обыкновенному. Киев и вблизи оказался столь же красивым. Женя и Верочка nous en faisaient les honneures. Сами они жили уже несколько лет там на Подлипках в собственном доме, откуда два шага до Царского сада с открытым видом на Днепр и всю заречную сторону с сосновыми громадными лесами. Это было наше первое посещение Жени после его свадьбы, и у них было уже двое сыновей. Дом их был обдуман и уютно и домовито стариком князем
444
Щербатовым, купившим и отделавшим этот дом, когда Женя был назначен профессором в Киев. Каждый день возили наши милые хозяева нас по городу; посещали мы и древние соборы, и собор Св. Владимира, побывали несколько раз в Лавре, только в пещеры не спускались из-за состояния здоровья Лизы. Все-таки самое сильное впечатление было не дело рук человеческих, а красота Днепра, к которому, куда бы мы ни ездили, хотелось вновь вернуться, до того нельзя было насладиться им.
Из Киева я по совету кого-то избрал путь на Вену не обычный, а на Радзивилл, потому что по этому направлению мало кто ездит, и от пограничной станции австрийской против Радзивилла имелся вагон 1-го класса прямого сообщения до Вены. Из Радзивилла поезд приходил утром, а в Вену на следующий день рано утром, в 5 часов, и я надеялся занять для Лизы отдельное купе в этом поезде и удобно ее довезти. Но во всех своих расчетах ошибся: пришлось перебираться вечером в прицепленный на ночь wagon-lit, и, слава Богу, что нам еще нашлись места, а то путешествие для Лизы было бы ей не под силу. Первое впечатление при переезде границы было не столь резкое, как, например, в Александрове, где из Польши попадаешь в настоящую Германию, до того немцы задавили в своих польских провинциях национальный колорит. Здесь же ничего австрийского не было, если под этим именем понимать не винегрет народов, а доминирующее немецкое с некоторым славянским умягчением, кроме разве мундиров. Все окружающее, от людей до надписей включительно, было польское, и только совершенно явным оказательством в отличие от того, что мы видели в России. Правда, заспанная жидовская толпа, которая кишмя кишела на всякой станции до Радзивилла, здесь была совершенно иная; их было много, но уже нельзя их было назвать жидами, а скорее евреями, до того вид их был преображен сознанием своих прав, как и всех на жизнь. Станции блистали чистотой, и те полтора часа, которые пришлось провести там, не представляли тех неудобств, как у нас в России. Вагон прямого сообщения, поданный к станции, поражал своей чистотой, весь был в зеркальных окнах, дабы с каждого места можно было бы смотреть и любоваться видами на обе стороны. Австрийская таможня была просторна, а также и поверка паспортов вся была изысканно вежлива и предупредительна, и мой чин Hofratt (надворного советника) производил должный эффект, не было никаких стеснений, как в Радзивилле, где нас, отъезжающих, держали в запертых вагонах под охраной жандармов, пока не проверили все документы и не убедились, что нет нелегально убегающих из России. Помню, как на обратном пути к границе нас встречал по просьбе Сережи Зыбина, бывшего тогда секретарем Департамента полиции, начальник пограничного Жандармского управления, изысканно вежливый генерал, облегчивший нам все формальности и предложивший даже Лизе, если она пожелает, не покидать вагон, и все время занимавший нас. Во время разговора с нами к нему подошел его адъютант за указанием, как поступить в одном деле. Уезжала семья польского магната, у коих все паспорта были в полном порядке, только у их горничной был какой-то дефект в паспорте. Генерал приказал горничную эту не пропускать за границу, но если ее господа будут очень настаивать, то разрешить ей выезд, и на мой недоумевающий вопрос, почему
445
так, ответил: «Я по опыту знаю, что паспорта не в порядке могут быть лишь у совсем легальных людей, и потому убежден, что ее выезд никакого преступления не скрывает». Вспоминалось изречение Петра Великого: «Всуе писать законы, коли их не исполнять».
Наконец мы двинулись. Сразу почувствовалось, что мы не в России: поезд летел так, как у нас никогда этого не бывает с курьерскими поездами; вагон бросало из стороны в сторону; на станциях, которые мы проезжали мимо, на стрелках так бросало, что надо было держаться; если же были остановки, то минутные; звонки давал сам начальник станции уже после крика передних кондукторов «fertig» и ответа заднего, влезавшего на свою вышку (на переднем и последнем вагонах есть вышки на крыше для кондукторов), и поезд с места летел. Лизе такая быстрота не нравилась и энервировала; она все боялась, что мы сошли с рельс. Устроились мы, благодаря любезности начальника станции, очень удобно в заднем маленьком купе, откуда, благодаря тому, что вагон был последний, видели отлично всю местность. Тут впервые я натолкнулся на своеобразную немецкую честность, не прочь попользоваться Trink-Geld’ом, но зато и пунктуально сдерживающий свои обещания. При смене поездной бригады я, по совету начальника станции, давал старшему кондуктору на чай, прося его не пускать к нам никого в купе, и помню, как один из них не взял заранее такового, боясь, что ему не удастся это исполнить ввиду нескольких требований об отводе по пути отдельных купе; когда же его дистанция кончилась, зашел к нам проститься и получить свой Trink-Geld.
В Италии потом я наблюдал совершенно другое: начай был взят, и не прошло минуты, как тот же кондуктор с нахальным видом ввел к нам в купе целую ораву даже сверхкомплектных пассажиров, а на мой негодующий возглас что-то закричал мне на своем языке, чего я не понял; а на железнодорожных билетах меня в Италии обсчитали, заявляя, что их бумажные деньги имеют особый курс, что в действительности оказалось по поверке неправда.
Жутко было ехать с больной женой и чувствовать себя так далеко от своих. Женя, проводив нас накануне, на прощание нашел нужным подтвердить мне, что я и сам знал, что в случае чего он к нам приехать не может, потому что выезд за границу для должностного лица, каковым он был в качестве профессора, сопряжено с большими, длительными формальностями. Все-таки новизна постепенно развлекала, и хотя местность австрийской Польши ничего из себя красивого не представляет, но настолько отлична по благоустройству своему и культурности от нашей России, что было что и посмотреть. Когда был прицеплен wagon-restaurant, я привел туда Лизу завтракать, и, пробираясь к своему столу, мы должны были пройти мимо компании толстых немцев-австрияков, распивавших пиво и игравших в карты. Они были видом какие-то местные жители и смотрели на свою поездку не как на путешествие, как мы; было это для них обычно, и самодовольное выражение и возглас одного из них, удачно покрывшего взятку соседа королем «und er war Singleton!», так и звучит у меня в ушах. Мне, да и Лизе казалось, что нельзя себя чувствовать в этой чуждой атмосфере как дома, и как-то сердце заныло по оставленным далеко-далеко детям. При переходе в спальный вагон, наш по-рассейски туго набитый подушками и всякими
446
ночными принадлежностями брезент вызвал и протест, и смех кондуктора вагона, так как ни в одно окошко не пролезал, а за границей пронос вещей по коридору воспрещен, и мне как-то стыдно стало за то, что мы не умеем путешествовать. Останавливаюсь на всех этих подробностях потому, что все эти мелочи вначале отравляли мне удовольствие быть в новой обстановке, пока мы сами не применились и не приобрели кое-какой опыт. В Вену мы приехали рано утром и решили отдохнуть дня два; воспользовались этим, чтобы подробно осмотреть Stephan’s Kirche, и даже присутствовали в ней на каком-то богослужении; меня поразило, как такое красивое по архитектуре здание, коего каждая линия своею стремительностью и смелостью останавливает внимание, так стеснено окружающими постройками, что общего впечатления от него нельзя получить, не имея возможности объять взглядом весь фасад с той или иной стороны. Побывали мы и на набережной Дуная; кучер-извозчик с торжеством повез нас смотреть den grossen Donau, но он не показался нам величественным, настолько река эта в Вене узка; смешно было даже сравнивать Дунай в Вене с Днепром в Киеве, до того первый казался мизерным; были мы и на знаменитом гулянье Prater, поколесили по городу, наслаждаясь, действительно, такими мостовыми, о коих и представления не имели, до того они гладки и чисты как зеркало; громадные омнибусы с империалами, нагруженные пассажирами, как никогда наши петербургские и московские конки, здесь без затруднения катились, возимые лишь парой лошадей.
Впечатление наиболее couleur locale’ное производила венская толпа к вечеру, когда все улицы полны гуляющей публики, нарядной и элегантной; одно только бросалось в глаза — это то, что большинство молодых девушек было без шляп; тут же на тротуарах против каждого café, а их такое множество, что попадаются они на каждом шагу, под тентом столики, где венцы и венки распивают свой кофе, пьют прохладительные напитки в высоких стаканах, втягивая жидкость через длинные трубочки; местами Bier-Halle, где прямо из бочек наливают пенящиеся громадные кружки пива; улицы ярко освещены электричеством, никакой разницы нет по гладкости и чистоте между самой улицей и тротуарами, и все так оживленно, так нарядно, что ясно понимаешь выражение «венский шик», передающий этот жанр: в нем есть и немецкая чистота и аккуратность, есть оживление и легкомыслие французские, есть и красота итальянская, доказывающие, что Австрия — не что иное, как винегрет народностей разных.
Ввиду неважного состояния здоровья Лизы мы решили ехать первым ночным поездом, в котором имеется спальный вагон прямого сообщения на Меран, благодаря чему нам не было пересадки до Боцена, откуда мы на извозчике должны были ехать в Гриз; правда, что с этим поездом мы проехали Земмеринг ночью, но надеялись наверстать потерянное на обратном пути. Когда мы на следующее утро проснулись в вагоне и отдернули занавески с обоих окон, мы уже ехали по Бреннеру, и Боже! Какая это была красота! Картины менялись поминутно; едва успеешь разглядеть какой-нибудь красивый шумящий водопад, как поворот дороги заслоняет эту картину, и уже виделось что-нибудь новое — то залив, то поэтичная и таинственная развалина, то вдруг в глубине долины раскинувшиеся в живописном беспорядке деревушки уже тирольские. Лиза пыталась из окна вагона снимать моментальные фотографии, но ничего хорошего из этого не вышло. Самое эффектное
447
было на вершине горы, когда на перевале достигли мы такой высоты, что попали в холодную область; вся местность была в снегу, была метель, и начальник станции встречал наш поезд, закутанный в капюшон, а через каких-нибудь десять минут, спустившись на южный склон, наш поезд летел под ярким солнцем по красивой долине, в коей цвели розы, как у нас летом, вершина же горы продолжала быть окутана облаками, значит, снежная метель там продолжалась.
В Боцене на перроне вокзала встретила нас Маня Кристи с детьми, и много стоило труда уговорить Лизу сесть в ландо и ехать в Гриз — четверть часа езды от станции. Она была так утомлена, так ослабела от вагонной тряски, сильных впечатлений и сознания, что отныне она надолго отрезана от своих детей — в путешествии эта тоска еще не так сильно чувствуется, — что заявила, что не в силах никуда ехать, чувствует, что умирает, и пусть ее довезут до гостиницы, которая оказалась как раз против вокзала, и она там окончательно сляжет. Как-то правдами и неправдами довезли мы ее до Гризерхофа, где Маня устроила во 2-м этаже для нас апартамент в 3 комнаты с балконом, откуда вид на горы и все долины (Франценсфет, итальянскую и Мерана); сама Маня со всей семьей занимала весь 3-й этаж этой гостиницы. С трудом ввели или внесли мы Лизу в ее спальню и положили на постель отдохнуть. Невесело было у меня на душе, видя такое начало; вышел я с Маней на балкон покурить, и не прошло и 10 минут, как Лиза к нам присоединилась и с тех пор ни разу она днем больше не ложилась и не жаловалась на свое сердце. Живительный воздух совершенно ее переродил, правда, воздух там совершенно особенный, так как Гриз в котловине защищен от холодных ветров, в нем всегда тихо, ночью и по утрам обыкновенно холодно, но стоит показаться солнцу, и сразу тепло, но не жарко; сезон в этой местности начинается осенью, летом там жить совершенно нельзя, и даже все гостиницы закрываются, до того там невыносимо жарко. Наш балкон, спальня и гостиная обращены были на юг, и когда утром по нашему звону входила девушка, отдергивала занавески и открывала окно настежь, видно было вершину горы Розенкранц со снеговой вершиной (область вечных снегов), и была примета: если эта вершина курится и в тумане — будет хорошая погода, если же, наоборот, ярко блистала своими ледниками и снежными полями — днем будет дождь. День проходил в прогулках сначала по прямым дорожкам, а потом постепенно поднимались мы и на горы. Все прогулки там распределены на известные подъемы, к коим доктора по известным дозам приучают своих пациентов. Все лечение там состоит в отдохновении и постоянном пребывании на воздухе. Когда мы получили первую телеграмму из Калуги (в Ферзикове заграничного телеграфа не было), а потом стали ежедневно получать и письма из Сергиевского, жизнь наладилась совершенно. Утром и вечером пили мы чай у себя в гостиной, для чего лакеи с необыкновенной ловкостью вносили на одной руке поднос, уставленный весь посудой, а вечером и самовар, и обильное количество разных хлебов (специальность австрийская), масла, сыра и меда. Завтракали и обедали мы с семьей Кристи за table d’hôte, но отдельно от других жильцов, в час дня и 6 часов вечера; остальные в 2 часа обедали и в 7 часов ужинали. Наш завтрак и других ужин состоял из двух блюд и обильного десерта: фруктов, сыров и сладостей; вообще кормили нас доотвала и присматривались к вкусам каждого, старались всем угодить: мне всегда в виде extra
448
были макароны. Самые любимые блюда были Mehl-Speise, тоже специальность австрийская, сладкое мучное блюдо, ежедневно разнообразившееся и всегда особенно вкусное. Дневной чай пили мы у Мани в ее гостиной, и в это время мы с ее детьми играли; частого общения с ними я избегал, боясь утомления для Лизы, хотя дети были очень милы. Их было четверо: старший, Володя, сыгравший потом столь печальную роль в семье, о чем напишу впоследствии, был лет 12-ти, следующий за ним Гриша, потом Тосик (уменьшительное Виктора) и младшая, Соня, пяти лет; она была общей любимицей, все ее баловали, братья и даже мать говорили ей «Вы», я ее в шутку называл «тетя Соня», до того она была полна достоинства; все дети были очень заботливы и ласковы и всякому нашему приходу особенно радовались; к себе я их старался не звать, дабы не напоминать Лизе отсутствующих детей, и по совету доктора старался отвлекать ее от этой атмосферы. При детях Кристи были две гувернантки, очень милые, и еще одна горничная, особенно почтенная; она была тем приятна, что своим присутствием, привычками вносила какую-то чисто русскую, хорошую атмосферу.
Гризхоф совсем не походил на гостиницу, мы жили совсем особняком, наши апартаменты были совершенно отдельно, и Кристи занимали, как я писал выше, целый этаж, так что посторонних жильцов мы редко и встречали. Gerant пансиона Herr Schmidt и главная распорядительница Fraulein Mumm скорее напоминали милых хозяев, постоянно заботящихся о своих гостях, чем содержателей гостиницы. Каждый этаж имел своего кельнера (они же подавали и за table d’hôte) и свою горничную; был еще Hausdiener для чистки обуви и платья, он же садовник и помощник кухарки, которая была одна на весь пансион; и это весь персонал, а жило нас всех человек 60—70 в Гризхофе, я думаю, считая и прислугу приезжую, для коих был отдельный более простой table d’hôte. Платил я за нас обоих всего 15 крон в день за помещение и пансион, что на наши деньги составляло тогда по курсу около 6 рублей 50 копеек, то есть по 3 рубля 25 копеек с персоны; как не верится этой дешевизне в настоящее время (июнь 1920 года), когда мы у себя в нашей страждущей, но и дикой и несуразной родине ныне платим за пуд ржаной муки 20 тысяч рублей (а в октябре 1924 года — 175 тысяч рублей, и в январе 1929 года — 16 миллионов за тот же пуд муки). Поучиться бы и в то время нам, русским, как можно дешево жить (а ведь получая с нас так дешево, владелец Гризхофа ведь еще и наживался), а нашей прислуге — как надо поспевать все делать, и притом делать все вовремя и чисто. Утренний кофе и вечерний чай приносили так аккуратно, что по проходу кельнера можно было хоть часы проверять. Поверку часов я делал à la lettre ежедневно по движению поездов. В 2 часа приходил из Alla (via Verona) поезд в Боцен, откуда он шел дальше на Франценсфет и Вену; к этому поезду в Боцене прицепляли вагоны, прибывавшие из Мерана на минуту позже, и вот минут за пять до 2-х часов я смотрел в бинокль на долину итальянскую и издали видел дымок приближавшегося поезда, тогда поворачивал бинокль направо на Меранскую долину и знал, что сейчас увижу дымок и поезд из Мерана. Оба поезда один за другим скрывались в долине Франценсфет, и ровно в 2 часа раздавался свисток уже отъезжающего поезда (прицепка была кончена); по этому свистку я и проверял часы.
449
Так день шел за днем; в этой тихой обстановке Лиза крепла. По вечерам всегда садились мы за свою корреспонденцию, и ежедневно одно-два письма шло от нас к своим. Читал я Лизе большей частью на воздухе, когда она устанет гулять и лежит где-нибудь на chaise-longue. Ходили мы из Гриза пешком в Боцен — столицу Тироля, но не часто. Город древний, поэтичный, по-старинному с узкими улицами, довольно мрачными, и по которым вечный сквозной ветер; я бывал там каждое воскресенье, посещая, за неимением своей церкви, католический храм. Месса с органом и пением большого хора была очень торжественна, а сходство ее со строем нашей литургии способствовало молитвенному настроению. Окрестности Гриза непривлекательны, кроме разве вершин гор и области вечных снегов и ледников, недоступных нам по состоянию здоровья Лизы. Съездил я один обыденкой в Меран, но ничего ни типичного, ни красивого там не нашел, а вид толпы, состоявшей по преимуществу из чахоточных, был даже удручающ, почему с облегчением вернулся обратно в свой Гризхоф, который имел правилом легочных, больных туберкулезом не принимать. С Лизой, когда она окрепла, совершили мы две поездки: первая с одной ночевкой в Arco и Riva на озере Гарда, а вторая, длившаяся несколько дней, в Венецию; и туда и сюда путешествие по железной дороге не длинное, в несколько лишь часов, в Венецию без пересадки, а в Arco с пересадкой на узкоколейную горную ветку. Путешествие по этой ветке, начинающееся на границе Тироля с итальянской и австрийской провинциями, уже тем оригинально, что стоит войти в крошечные эти вагончики узкоколейные, как чувствуешь в окружающей толпе другую национальность: степенность, молчаливость тирольца заменяется крикливостью, экспансивностью итальянца. Поезд, который с трудом тащится в гору маленьким, сильно пыхтящим паровозиком, с треском и визгом вздрагивая, идет по таким смелым и кривым изгибам, что часто изображает вопросительный знак «?», и из окошка видишь повернутый боком к тебе и паровозик, и хвосты вагона, причем из всех вагонов несутся песни, крики итальянские, выплеванные апельсиновые корки, скорлупы ореха, миндаля, без всякого внимания на соседа. Стоит на обратном пути вновь попасть в Тироль, как физиономия железнодорожной толпы сразу меняется на тихую, благообразную, скорее молчаливую.
Приехали мы в Arco в лунную ночь и ввиду усталости жены могли только походить по саду гостиницы. Там уже другая растительность, пальмы, хотя [и] посаженные в кадки, но достигают почтенных размеров настоящих деревьев; с наслаждением сидели мы поздно вечером на своей террасе и любовались при лунном свете этим необыкновенным видом тропической растительности, слушая игру на мандолине какого-то местного музыканта. На следующий день уже в экипаже поехали мы, с заездом на местный водопад и особенно красивый point de vue на озеро из туннеля, проделанного в скале для шоссе, в Riva. Проезжали мы мимо виллы нашего соседа, хотя не близкого, по калужскому имению — князя Горчакова, но ни его, ни его жены там не было, да и заехать к ним невзначай не могли, мало зная его жену, для здоровья которой он и переселился в эту местность. Riva — типичный маленький итальянский городок со всеми своими недостатками и красочностью, то есть с грязью, вонью, по улицам местами целая клоака, ибо нерачительные хозяйки, не утруждая себя, все нечистоты выливают тут же;
450
но зато яркие краски костюмов, красивый южный тип лица, пластичность движений и стройность так и просятся на полотно художника. Дети, хотя и назойливы и неугомонно шумливы, но так красивы со своими горящими глазами, что невольно привлекают к себе. Завтрак на веранде ресторана, выходящей непосредственно на озеро, надолго останется в памяти. Озеро, хотя неширокое и окаймленное местами отвесными скалами, беспредельным кажется лишь в длину. Итальянская граница проходит по озеру и горам недалеко от Riva, так что таможенные пароходики то и дело снуют, наблюдая за лодками, дабы не проскочила контрабанда. Ночью лодочное движение в этой его пограничной полосе совершенно запрещено, и срок закрытия сего движения, когда темнеет, возвещается пушечным выстрелом. Мы воспользовались дневным временем, чтобы покататься на парусной лодке; но катанье это было нам испорчено разыгравшейся у Лизы такой мигренью, что пришлось пристать к берегу у какой-то деревушки, разыскать там аптеку для получения там соответствующего лекарства и потом уже в экипаже пробираться на ближайшую железнодорожную станцию к обратному поезду в Гриз. Идя по этой деревушке, гораздо более напоминающей по своим постройкам маленький городишко с крутыми, высеченными в скале узкими улицами, через которые протянуты местами веревки для сушки белья, я наблюдал внутренний быт его жителей: все настежь, и улица кажется продолжением их жилищ; где у открытой двери стоит жаровня и пекутся каштаны или варятся макароны; тут же эти макароны на веревках сушатся еще в свежем виде, изображая из себя длинные белые ленты, обдаваемые пылью уличной; где не в корытах, а в широких деревянных баках итальянки полощут белье, перекрикиваясь с соседками; где ребятишки полунагие, почти бронзовые от загара, копаются в уличных отбросах, и все это при ослепительном свете южного солнца на фоне горы, к которой прилеплена деревушка, или синей воды озера, к которому ведут все эти улицы.
В Венецию мы предприняли поездку тоже во время лунной ночи. Поезд приходил туда поздно вечером, и я никогда не забуду впечатления фантастичности и чего-то сказочного, когда после шума поезда с его итальянской толпой, еще более шумливой, на перроне вокзала мы вышли на лестницу, спускающуюся к Canal Grande, ярко освещенному полной луной, отраженной в его водах. Нам подали очередную гондолу. Описывать ее — повторять еще раз сказанное, но не могу не передать, что черный ее цвет с серебряными украшениями, фигура гондольера, стройная и пластичная в движениях, в черном джерси, действительно производили сильное впечатление, совершенно с первых же шагов отрывающее вас от прежних условий жизни. Тишина, сразу вас охватывающая, сразу как-то особенно на вас действует. Подана была гондола во всей своей красе и типичности, то есть с черной крышей, дающей ей вид гроба, но чудный вечер заставил нас потребовать ее открыть, и, сев в гондолу на удобные задние ее сидения в виде кресел, скользя бесшумно по гладкой поверхности воды, не видя даже гондольера, стоящего сзади нас, и только слыша его гортанный крик при встречах, как-то не веришь, что видишь все это наяву и что это не сон, от которого только боишься проснуться. Поехали мы в Hotel Danieli и потому не прибегая к ракурсам, плыли все Canal’ом Grande, и под мостом Rialto проехали, и лучшие дворцы видели, освещенные все той же ослепительной луной. Это просто ощущение сказки. Если
451
уж я наслаждался, забыв всякую Sehnsucht, то можно понять, как восторгалась Лиза. Hotel Danieli, где мы остановились, представлял тогда еще старое помещение былого дворца (филиального отделения в новопостроенном доме тогда еще не было), и совершенно не чувствовалось, что мы в гостинице, переходя не по шаблонным коридорам, а по разным комнатам, уставленным старинной мебелью, пока не дошли до заранее приготовленного нам апартамента с видом на лагуну. Вид лагуны из porte-fenêtre нашей гостиной с церковью Santa Maria della Salute вправо, а прямо вдали Lido, искупал тот недостаток, что здание гостиницы отделялось от воды широким тротуаром с вечно снующей толпой, почему нет той тишины, как в тех гостиницах, которые непосредственно выходят на канал. Сколько мы пробыли в Венеции, не помню, но все пребывание в ней было сплошной праздник. Для Лизы эта еще большая отдаленность от детей скрасилась тем, что встретились мы в Венеции у А. Н. Волкова (его дворец на Canal Grande против дворца Desdemone) с Софьей Эммануиловной Мамоновой, которая была как бы кусочком Сергиевского, и как выехавшая оттуда позже нас, была живой грамотой о наших. Каждый день с утра мы отправлялись для осмотра чего-нибудь. При выходе из гостиницы слышу крик обступивших гондольеров: «Una gondola, una lira per ora»; с трудом, бывало, от них отделаешься, когда собираешься пройти пешком на piazza San Marco или походить по магазинам главной улицы.
Столько раз описана была Венеция, что не мне ее описывать моим дилетантским пером. Смотрели мы в подробности Дворец дожей и из одних окон, выходящих на внутренний двор, наблюдали типичную венецианскую сцену, где ребенка-итальянца, несмотря на его назойливость, особенно почитают и всегда безнаказанно. Был какой-то национальный праздник, и местные власти собирались на внутреннем дворе, откуда, имея во главе не то префекта, не то военного начальника, должны были шествовать в собор San Marco. Пока они все собирались в своих эффектных, но совершенно опереточных костюмах, мальчишки типа парижского gamin, но, как и все в Италии, более красивые не только по лицу и стройности, но и по ярким костюмам, назойливо прыгали около них, нагло передразнивая их в глаза совершенно безнаказанно, хотя тут же стояли полицейские, и лишь отстали от шествия, когда оно приблизилось к ступеням собора; тогда вблизи церкви стоило лишь одного окрика полицейских, ставящих тишину и благолепие в храме выше гуманности к детям, чтобы все мальчишки сразу разбежались. Эти полицейские ходят всегда попарно, и злые языки говорят, что это для того, чтобы в одиночестве полицейского не обидели бы мальчишки уличные. Перед нашим приездом был такой случай. Какой-то иностранный художник, недостаточно знакомый с венецианскими нравами, рисуя на площади San Marco, был все время осажден мальчишками, дошедшими до такой наглости, что когда художник отошел немножко от мольберта, посмотреть издали свою работу, они движением руки что-то смазали на его полотне. Он рассердился и схватил виновного за ухо; толпа заступилась за ребенка, и художник принужден был покинуть Венецию, не докончив своей работы, до того обнаглели эти дети, не давая ему на следующий день прохода и забрасывая его камушками. Все, что стоило внимания, мы осмотрели; каждое славящееся художественное произведение или стоящую церковь осмотрели; были мы и на Lido, где наслаждались картиной
452
рыбной ловли: каждый pescatore (рыбак) был красив и как картина, и как статуя. Но стоит на кого-нибудь засмотреться, как уж он протягивает к вам руку за «начаем». При всякой пристани гондолы либо ребенок, либо нищий крюком притягивает вашу гондолу и тут же требует себе начай. Покорно осмотрели мы и знаменитые стеклянное и кружевное производство. На память взяли мы стеклянную фигурку, при нас же сделанную, кормили голубей на площади, пили шоколад там же; каждый вечер катались на гондоле вслед барки-гондолы, на которой хор певцов исполнял свои национальные песни и вечную «Santa Lucia»; поехали для курьеза в итальянский ресторан, славившийся чисто итальянскими кушаньями, но, не зная языка, выбрали по карточке наиболее замысловатое название и попали на простую разварную цветную капусту, которую могли с тем же успехом и в Сергиевском поесть; провели один вечер у А. Н. Волкова, где с Софьей Эммануиловной повидались; мне как-то особенно странно было чувствовать, что в этой сказочной обстановке есть люди, и иногда знакомые, которых я видел при других условиях, которые ведут здесь свою обыденную обывательскую жизнь. Interieur венецианских жилищ, если судить о них по дому Волкова, не соответствует понятиям нашего уюта: много красивого, художественного, но низ дома и передняя à fleur d’eau с втянутой в саму комнату гондолой, делают впечатление такой сырости, что просто неприятно. Лестница же и комнаты темные, ввиду скученности построек. Самое все-таки для меня сильное впечатление в Венеции была торжественная месса в соборе San Marco, с крестным ходом из собора в церковь Santa Maria della Salute в день ее праздника. Собрание духовенства было большое, и кажется мне, что президировал и сам кардинал Moro; в службе католической при этой обстановке еще ярче подчеркивается та сторона (нам, православным, непонятная) обрядов, как-то эти вечные припадания на одно колено всеми проходящими перед maître-autel, преподавание мира, то есть благословения толпе, по нашему «мир вам», которое у них совершается передачей этого благословения от старшего лица к младшему постепенно, и уже sous-diacres’ы, подходя к решетке, окаймляющей ступеньки алтаря, раскрывая ладони по направлению молящихся, отпускают их как бы находящимся в их до того закрытых руках благословением, полученным ими от высшей иерархии, что и театрально, и даже как-то комично. Но все сие забываешь, когда слушаешь орган. В этот день, говорят, играл знаменитейший органист какой-то, кажется, Pergolese, настолько известный, что его выписывали в Рим для участия в мессе по случаю свадьбы итальянского наследника на престол. Как известно, во время благословения и пресуществления Святых Даров у католиков служащий (le servant) не произносит никаких слов и все молитвы произносит про себя, играет лишь орган, и, Боже мой, что это была за музыка! Я эту музыку не слышал, а прямо реально ощущал как действительно нечто потустороннее; да, много в реальной жизни в эту минуту исчезло; я прямо ничего вокруг себя не видел, и звуки, лившиеся с хор, казались гимном всего воздуха, окружавшего нас. Когда вновь начались возгласы священнослужителей, это было как бы просыплением и возвращением на землю. На следующий день пошел я узнавать, что играл органист, и приобрести это чудное произведение, но мне сказали, что это была его импровизация, и потому оную запечатлеть не удалось, но какое это было дивное восхваление Творца! Никогда этого момента не забуду.
453

Михаил Михайлович Осоргин и священик Покровской церкви.
Рисунок М. М. Осоргиной. Начало XX века.
Частное собрание, Париж
После всех красот Венеции возвращение в тихий Гриз с его обстановкой покоя, имеющей целью, главное, плоть, показалось нам столь мещанским, что мы оба еще более затосковали по своим и счастливы были, когда наконец истек срок, положенный нам для пребывания за границей, и двинулись мы в обратный путь с остановкой в Вене для отдыха и покупки подарков. Выбор таковых для всех был нешуточное дело, и для Лизы это было время наслаждения. В это время начались уже во всех венских магазинах выставки елочных подарков, везде в витринах виднелись грандиозные елки, чем только не разукрашенные, и у Лизы прямо глаза разбегались, желая всем угодить и, главное, детей обрадовать. Все наши мысли были так направлены к своим, что я почти не помню подробностей обратного пути, даже Земмеринг не помню; вспоминаю резкое ощущение холода в Франценсфете после тепла тирольских долин; еще сильнее это впечатление сказалось в самой России, но там нам все казалось мило: и вид унылых польских, литовских, белорусских, а потом и русских селений, платформы вокзалов с грязной толпой, неповоротливыми носильщиками, усатыми бравыми жандармами — были нам родные. Вагоны русские — широкие — казались нам верхом удобства; с одним только было трудно мириться, это с русской грязью и, главное, медленностью движения; казалось, поезд едва тащился, выжидая на каждой станции свои три звонка и долго еще после того раскачиваясь, пока не двинется окончательно; после заграницы, где все так пунктуально и быстро, и при
454
том стремлении нашем к своим — это было невыносимо. В Калуге нас встретила Вавашка и рассказала, что у нас все благополучно. Боялся я для Лизы волнения первой встречи и боялся, как бы этот choc не уничтожил все достигнутые заграничным лечением результаты.
Поезд приходил в Ферзиково вечером, и подъехали мы к дому уже в темноту; счастье детей было exubérant’ное, особенно Миши, зато Льяна так была потрясена, что попросилась скорее к себе в детскую в кроватку. Раздача подарков была тоже хорошим моментом; всех одарили, никто из прислуги дома и имения не был забыт, и, кажется, их всех осчастливили. Миша получил коллекцию бабочек, самую полную, с дивными редкими экземплярами, Сережа — симфонион, девочки — кукол, зонтики и коралловые бусы, Георгий — солдатиков; мой отец был очень доволен усовершенствованным барометром, а Мама́ — ящиком с собранием всевозможных игр (карты, шахматы, шашки, домино, tric trac и т. д.), остальных подарков и не упомню. На Вавашку было обращено Лизой особенное внимание, дабы ей угодить, и, кажется, все были довольны, и мы еще более почувствовали себя дома.
Жизнь потекла прежним обыкновенным порядком, я вновь погрузился в свои служебные дела, приходилось, как я писал выше, наверстывать потерянное время и усердно готовиться к предстоящей переписи. В декабре были дворянские выборы, и я был выбран кандидатом в уездные предводители дворянства; хотя губернатор и не утвердил меня, но самих выборов не кассировал и официально сообщил уездному Правлению дворян, что утвердит меня, если я буду уволен от должности земского начальника. Такого прошения я и не подал, считая вполне законно, что успею это сделать, если должность калужского уездного предводителя станет вакантной. Зимой, в одно из моих посещений Мамоновых, гувернантка Миши Мамонова M-lle Chaperon гадала мне на картах, и ее предсказания настолько сбылись, что эта подробность врезалась мне в память. Она мне сказала, что умрет старик, мне не родной, смерть его не причинит мне горя, но последствием ее будет полная перемена моей судьбы, и я предприму на недолго недалекое путешествие, после чего предстоит мне со всей семьей уже переезд в другое место. Весной 1897 года Сухотин (предводитель дворянства) опасно заболел раком печени; так как я, его кандидат, не был утвержден, сдал он должность депутату Андрею Дурново, своему сыну от тайного брака его, Сухотина, с соседкой Дурново, теперь уже вдовой, но когда брак, по словам Сухотина, состоялся в Париже, даже еще не разведенной. Дурново только заменял Сухотина по Опеке, дабы создать законную комиссию из трех лиц, [но] по остальным учреждениям своей деятельности не проявил, и все и вся смотрели на меня как на будущего предводителя, ибо положение Сухотина, по мнению докторов, было безнадежное.
Лето 1897 года было последнее, проведенное мною в тихой семейной обстановке. Была у нас опять Варя Лермонтова, которая особенно уговаривала меня, в случае кончины Сухотина, идти в предводители, что я безумно хотел, но притом понимал, что состояние наших финансов таково, что должность эта для меня недопустима. Я и жалованья земского начальника лишался, и расходы увеличивались по найму квартиры в Калуге и жизни на два дома. Лиза была беременна, и думать для нее о переезде в город было немыслимо; и то вспоминались с болью все лишения, коими сопровождалась наша короткая жизнь в Калуге до земского
455
начальника. Как сложились финансовые дела, право, не помню; на мне и на моих исполнилась истина, что каждому дню довлеет своя забота. Оглядываюсь на прошлое с благодарностью Богу и с каким-то внутренним трепетом вижу, как все являлось именно когда нужно было. И тут нашлись какие-то лишние 3 тысячи рублей, частью, кажется, занятые мною у Нюнички или полученные от Папа́, которые могли быть мне ассигнованы на годовой расход, если я стану предводителем; содержание же моей семьи Папа́ всецело брал на себя. В августе Сухотин скончался, прислан был мне нарочный из Калуги с этим известием, и я поехал его хоронить. Провожая его тело до границ города, мы разговаривали с губернским предводителем дворянства, который настаивал, чтобы я немедленно подал бы в отставку как земский начальник, и тогда он, Яновский, возбудит дело об утверждении меня уже предводителем; я просил назначить новые выборы, желая попасть на эту должность уже нарочито для сего избранным, а не случайно, из кандидатов; он возражал, что не стоит собирать уездных дворян для сего, время летнее неудобно, да и вполне ясно, что я единственное желаемое на сей пост лицо; он, как дворянин нашего уезда и бывший (до Сухотина) нашим уездным предводителем, был в этом вполне компетентен, почему я, не ломаясь, дал согласие, и тут же сговорились мы с губернатором, князем Голицыным, как ускорить это дело. Мой отец тоже настойчиво хотел для меня предводительства, главное, после того, что весной после переписи я был в Петербурге и представлялся министру, дабы выяснить, имею ли я дальнейшие шансы на вице-губернатора. Принял меня Горемыкин особенно сухо, даже неприязненно, и сказал мне категорично, что отныне он ни одного земского начальника больше в вице-губернаторы не проведет, что институт он наш почтил дважды, дав место вице-губернатора двум земским начальникам, и считает, что достаточно; отныне претендовать могут на такие назначения лишь предводители дворянства и непременные члены, почему предлагает мне, если я желаю продвижения по службе, должность непременного члена; от этого я, понятно, отказался. Типично, как в Горемыкине сказался бюрократ: земские начальники, являющиеся по мнению государя местной властью, связанной с землей, с деревенским бытом, должны быть отрываемы от всего этого и идти в другую губернию непременными членами, дабы быть признанными годными для активной административной деятельности; тогда как непременные члены по закону тоже должны были быть местные. На мой вопрос Горемыкину: «Что же случилось в моей служебной деятельности, что Вы так переменили обо мне мнение, когда около двух лет тому назад предполагали меня назначить в Харьков вице-губернатором?» Он ответил: «Кто Вам это сказал?». — «Тобизен, харьковский губернатор». — «Не верьте, если я сам Вам этого не говорил»; и здесь, я знаю, Горемыкин говорил неправду. Но назначение этих двух земских начальников — одного из Смоленской губернии за брошюру, им изданную о вреде телесного наказания и недопустимости розог в практике волостного суда, а другого из Калужской губернии, дабы предотвратить семейный скандал в одной влиятельной петербургской семье — были, по-видимому, неудачны, и он хотел поставить предел всем домогательствам. Как тягостна была эта поездка в Петербург с бесконечными ожиданиями в приемных министерства: то у министра, то у его товарища, то у управляющего Земским отделом. Бывало, ждешь по три и четыре часа,
456
пока удостоишься улицезреть одного из сих сановников [на] какие-нибудь пять минут. Такое я всегда чувствовал унижение от этой томящей скуки в приемных, при свете электричества, ибо прием начинался часа в три, когда уже совсем темнело; в приемной по углам сидят и шепчутся ожидающие, и только по наружному виду одного из них понимаешь, что он сам чиновник министерства, чувствующий себя как дома. Нигде так не чувствовалось значение табели о рангах, как в этих приемных, и я со своей сенситивностью и самолюбием и большой долей честолюбия много трудных минут там пережил. Зато какой-нибудь любезный прием одного из сих сановников, на которые некоторые из них были падки, зная que cela ne les engage en rien, принимался за чистую монету и приносил мне много радостей и надежд. Останавливался в Петербурге я обыкновенно у своей сестры и с ней делился я и своими разочарованиями и надеждами и находил в ней верного друга, еще острее моего переживавшего все мои мытарства. Думаю, что эти бесплодные поездки в Петербург (а их до того было еще несколько) особенно отвратили меня от сего города; вместе с тем полная перемена во мне, со времени моей женитьбы, прежних светских понятий настолько отдалила меня от прежних товарищей, друзей и знакомых моей юности, что я всегда сугубо чувствовал тоску по семье и с счастьем садился на поезд, увозивший меня обратно. Не мог я попасть в тон моей сестре, хотя сознавал, что она меня совершенно исключительно любит; но и это не служило к нашему с ней сближению.
Но вернусь к рассказу о новой предстоящей мне деятельности. Ко дню похорон Сухотина в Ильинской церкви, соседний с нами приход, созвал я особыми повестками всех волостных должностных лиц моего участка и с ними вместе возложил на его гроб венок от трех земских участков. Тут же я передал Яновскому свое прошение об отставке, предоставив ему дальнейшее направление моего дела; сговорились мы с ним, что он будет настаивать на замене меня земским начальником I-го участка Полторацким, который год уже как занимал эту должность после выбора Лебедянцева председателем Калужского уездного Земского управления. Ожидая своего увольнения, я стал готовить свои дела к сдаче; без самохвальства скажу, что, думаю, редко кто сдавал дела и канцелярию своему заместителю в таком порядке. К сожалению, я, по скромности, до утверждения предводителем не счел себя в праве вмешаться в выбор нового земского начальника своего уезда по I-му участку, и, как увидел впоследствии, это дало мне много хлопот на первых порах моего предводительства. Очень тепло простились со мной мои должностные лица: каждая волость благословила меня образом; снялись мы общей группой со всеми волостными старшинами, волостными писарями и председателями волостных судов, но я не чувствовал никакого сожаления, тем более что оставался во главе уезда и не терял связи со своим участком, лишь характер деятельности делался обширнее. Увольнение меня из земских начальников и затем и утверждение предводителем состоялось довольно скоро; способствовал такому ускорению родственник Лизы, князь Алексей Дмитриевич Оболенский, бывший в то время товарищем министра внутренних дел, а до того служивший козельским предводителем дворянства, почему, по просьбе Яновского, всегда особенно принимал к сердцу все дела, касавшиеся Калужской губернии. Получив извещение об утверждении, сдал я должность Мите Полторацкому и поехал в Калугу
457
принимать предводительство. До того успел я нанять себе маленькую квартиру в Калуге с лишними двумя комнатами для приезда своих; перевез туда мебель, нашел себе чистенькую, благообразную старушку для своего несложного холостого хозяйства и придал ей в помощники молодого малого из Алферьева, Александра Рогичева, которого и облек в ливрейное платье. Семья много надо мной смеялась за цвет этой ливреи, который, по моему дальтонизму, был выбран совсем неподходящий, кажется, зеленый, а я хотел серый. Заранее сговорился с одним из лучших калужских извозчиков, Михайлой Корьгой, что на время моего пребывания в Калуге я его беру всякий раз на целый день, за что плачу ему 2 рубля в день (вот какие были цены!). Приехав в Калугу, первым делом побывал у губернатора и у Яновского. Моему самолюбию очень льстило, как меня принимали, как у князя Голицына (губернатора) меня, предводителя, приняли первым. Сделал я и все официальные визиты своим дворянам, живущим в городе, и всем губернским властям; везде был принят очень любезно и с выражением уверенности, что у такого энергичного молодого человека дело в уезде закипит; а надо сознаться, что Сухотин и до болезни мало занимался, большую часть времени проживая в деревне своей не вполне законной супруги, а уж во время его болезни дела пришли в полное запущение. При первом свидании с князем Голицыным он мне сказал, что за переводом Полторацкого в III-й участок им представлен на вакантную должность земского начальника I-го участка князь Мещерский, сын покойного очень уважаемого в губернии предводителя дворянства Медынского уезда. Этот молодой Мещерский, по словам Голицына, служил исправником в Пензенской губернии, где должен был, по настоянию губернатора, имевшего своего кандидата, оставить службу, почему он, Голицын, в память его отца и остановил свой выбор на нем, на что будто бы было согласие и Яновского; меня же и не запрашивали, так как я еще не был утвержден в должности. Это было законно, но некорректно, ибо служить с ним приходилось мне, и коллегии, коих он делался членом, президировались мною во всех тех Присутствиях, куда земский начальник входит по должности. Это назначение Мещерского и было первым камнем преткновения; но прежде чем описывать этот инцидент, надо рассказать само вступление мое в должность. Приходилось мне принимать все суммы от Андрея Дмитриевича Дурново, депутата дворянства; главным образом, предстояло мне проверить опекунские суммы, ибо говорили, что там дело не в порядке. Членами Опеки были: 1) другой брат Дурново, Владимир, очень хороший, порядочный человек, но, к сожалению, безвольный и глупый, 2) некто Рахманов (Аркадий Петрович, дальний мне родственник, ибо брат моего деда князя Волконского, Николай Дмитриевич, был женат на Софье Аркадьевне Рахмановой, моей крестной матери, а со стороны отца дядя его Дмитрий Дмитриевич Ахлестышев, мой крестный отец, был женат тоже на Рахмановой Пелагее Павловне), очень толковый, деловитый, знакомый с бухгалтерией, но, увы!, он пил запоем. При Сухотине члены Опеки не играли никакой роли, а все дело велось секретарем Опеки, неким Хоботовым, служившим очень давно, и секретарем предводителя Давидом Демьяновичем Тищенко. Опека была соединенная на Калужский, Тарусский, Малоярославский, Перемышльский и Лихвинский уезды; ящик с деньгами за печатями предводителя и членов Опеки хранился в Казначействе, и, чтобы получить его оттуда, надо было одному из членов лично
458
ехать к губернскому казначею, предъявить ему требование письменное от коллегии Опеки со снятыми на оном слепками печатей, и по поверке их подлинности и целости на самом ящике таковой выдавался без ответственности Казначейства за содержимое, ибо правительство отвечало лишь за целость печатей и замка сданного ему на хранение денежного сундука. Долго мне пришлось возиться с Андреем Дурново, который много и часто кутил, пока не заполучил его для сдачи должности. Съехались мы все в помещении Опеки, которое я в несколько дней облагообразил, устроив себе там и личный служебный кабинет, так как в этом здании почти все подведомственные мне учреждения были под рукой; написал Хоботов требование казначею о выдаче денежного ящика Опеки, я его подписал, и оставалось лишь всем, начиная Андреем Дурново, приложить свои именные печати, как вдруг на мое предложение это сделать, они все ответили, что их личные печати, а также и ключ всегда хранились у Хоботова, почему сей последний мог единолично брать ящик, когда бы ему вздумалось. Начало показалось мне подозрительным, и я с тревогой ожидал привоза ящика. Когда Владимир Дмитриевич Дурново вернулся с ящиком, я проверил в присутствии всех целость печатей и стал открывать его ключом, но не успел я открыть окончательно замок, как за моей спиной раздался какой-то крик, и Хоботов свалился на пол в глубоком обмороке. Мне стало прямо жутко, думая, что я натыкаюсь на какую-нибудь крупную растрату; ящик вновь запер и послал за врачом, который скоро привел Хоботова в чувство. При поверке ящика потом в тот же день, позднее, выяснилось, что мои опасения были напрасны; еще до сдачи Андрею Дмитриевичу Дурново Сухотин, опасаясь безалаберности сына, все капиталы внес на сохранение в Государственный банк, и в ящике лежали лишь расписки Банка и книжка сберегательной кассы, которые легко можно было проверить, и все оказалось в порядке; правда, была необъяснимая книжка на суммы, неведомо кому принадлежавшие и потому написанные на имя самой Опеки; было еще несколько вымороченных капиталов, давность коих давно истекла, и следовало уже много лет перед тем возбудить ходатайство о передаче этих капиталов дворянству, но это была лишь неаккуратность, а не злоупотребление, почему все мои страхи, казавшиеся столь основательными при обмороке Хоботова, в действительности были преувеличенными, и я с удовольствием и благодарностью вспоминаю дальнейшую совместную службу с Хоботовым, которого пришлось мне только вернуть к исполнению круга его деятельности, то есть из всерешающего вершителя судеб опекунских дел обратить в простого протоколиста, каковым он был хорошим по знанию законов. Сложнее было принять суммы по остальным учреждениям и, главным образом, по дворянским сборам, причем оказалось, что покойный Сухотин уже несколько лет не платил за свои имения (грех этот был и за моим отцом, но Папа́, не желая меня подводить, как только я стал предводителем, единовременно внес всю дворянскую недоимку, числившуюся за Сергиевским); Дурново должен был мне сдать и суммы по содержанию Воинского присутствия и по земским школам, то есть по Училищному совету. Все это было невыразимо запущено, и мы несколько дней, то есть вечеров, должны были у меня на квартире подсчитывать все суммы; помогли нам с Дурново и Тищенко, и Хоботов, и даже Архангельский, смотритель уездного училища, он же и делопроизводитель Училищного совета. Выяснилось, что остатки
459
за много лет оставались у Сухотина на руках, он никакого им определенного счета на вел, даже не имел особых текущих счетов по каждому учреждению и все держал на своем личном счету. Пришлось Дурново вернуть мне в общем около 6 тысяч рублей; но так как за закрытием расходных смет прежних лет большая часть этих денег, около 4 тысяч рублей, не имела определенного назначения, хотя, во всяком случае, несомненно не составляла частную собственность покойника, я воспользовался первым уездным Земским собранием, чтобы предложить образовать из этих сумм фонд имени Платона Александровича Сухотина для выдачи беднейшим селениям беспроцентных ссуд на постройку школ. Таким образом, неаккуратность при жизни принесла пользу впоследствии Земству и связала имя Сухотина с благим делом.
Очень я был рад развязаться окончательно с Андреем Дурново и начать уже работать на новой должности по-своему. По Опеке Рахманов составил, по моему поручению, особую форму счетоводства, которая впоследствии так понравилась контрольному ведомству, что оно просило губернское Правление ввести таковую и по всем остальным Опекам губернии. Во всех учреждениях, мне казалось и мне говорили, закипела работа, а время было самое деловое, и Земское собрание должно было скоро собраться, а вслед за ним начинался и набор, не говоря уже о сентябрьской сессии уездного съезда, всегда особенно длинной, ибо на июль и август дела волостных судов не назначались и все они переносились на сентябрь. В съезде все мне было знакомо, и там я только переменил кресло за судейским столом, но взял себе за правило всегда без пропуска председательствовать; вел я дело живо и быстро; без похвальбы скажу, везде чувствовалась моя молодая энергия, нашедшая себе, наконец, более широкое применение; мне было 36 лет. Однажды, в третью или четвертую сессию съезда под моим председательством Александр Иванович Кологривов, бессменный докладчик по всем судебным делам, заболел, и я взялся его заменить. Сессия прошла быстро и оживленно; но каково было торжество Кологривова, когда несколько решений съезда этой сессии были отменены губернским Присутствием в кассационном порядке, что в бытность Кологривова в заседании почти никогда не случалось, и, во всяком случае, как редкое исключение, а тут несколько решений одной сессии кассированы: то-то надо мной смеялся Кологривов, а я отшучивался: «Не болейте в другой раз». Но самое начало работы в уездном съезде испорчено было для меня неприятностями с князем Мещерским, который оказался алкоголиком самым злостным, что и было, вероятно, причиной его увольнения из Пензенской губернии. Приехал он в Калугу и вступил в должность во время моего отсутствия: я был у себя в Сергиевском, где заболел афтами и около недели пролежал. При моем возвращении в Калугу, кроме появления князя Мещерского, я застал еще новость, а именно, состоялся перевод губернатора князя Голицына, о чем давно говорили, в Тверскую губернию; заместителем же его был назначен служивший до того в Калуге вице-губернатор Александр Александрович Офросимов. Попал я как раз на прощание знакомых с семьей Голицыных в губернаторском доме; пожелал ему от души дальнейшего успеха, и он при расставании сознался мне, что назначение князя Мещерского, по-видимому, большая с его стороны ошибка, ибо последний, только что ввалившись в Калугу, где должна была быть его камера, запил и, о ужас!, даже, как говорили, успел перехватить
460
какие-то деньги взаймы у волостного старшины I-го земского участка. Скандал получился настоящий. Сговорился я с медынским уездным предводителем Сорохтиным, как предводителем того уезда, к дворянству коего принадлежал Мещерский, что мы общими усилиями добьемся от него немедленно подать в отставку, для чего Сорохтин телеграммой выписал его жену. Говорить с самим Мещерским было трудно, он все время был в невменяемом состоянии; но жена его, очень милая женщина, имевшая вид совершенно забитой судьбой, сама предприняла его: все деньги, взятые у волостных старшин, тут же им возвратила и заставила мужа подписать прошение об отставке по болезни. В Калуге в то время командовал артиллерийской бригадой мой бывший старший камер-паж князь Кантакузен; он все пугал Офросимова, что если Мещерского насильно заставят уйти в отставку, последний вызовет его, Офросимова, на дуэль. Александр Александрович (так звали Офросимова), старый уездный предводитель дворянства Орловской губернии, оказался на высоте своего положения начальника губернии и шутя ответил Кантакузену, что он ничего не боится и, во всяком случае, не позволит из-за личных опасений за себя отдать судьбу и дела крестьян в недостойные руки. Правда, Мещерский еще несколько дней побушевал, но, наконец, удалось жене его с Сорохтиным увезти его из Калуги в деревню; он тотчас был уволен в отставку, и о его дальнейшей судьбе я ничего потом не слыхал.
На его место с общего согласия губернатора, Яновского и меня был назначен Михаил Антонович Брещинский, служивший до того в другом уезде земским начальником и мечтавший о Калуге для воспитания детей. К сожалению, он не был местным помещиком, но среди своих калужан или не было желающих, или же желающие, как братья Дурново, не могли быть рекомендованы. Брещинский был человек недюжинный, очень умный, решительный, энергичный, немного резонер. Его недостатком было прожектерство, он всегда мечтал о какой-нибудь либо реформе, либо крупном хозяйственном предприятии, почему, не упуская своих служебных дел, плодил и рассылал разные проекты с подкрепляющими их записками, чем всем надоедал. С большим интересом провел я Земское собрание и набор по III-му воинскому участку; вел я все заседания быстро, так что без ущерба для дела занятия кончались всегда раньше того времени, как бывало при моем предшественнике. Правда, что я приступал к председательствованию, заранее изучив все дела, подлежавшие к слушанию; например, перед Земским собранием проштудировал все доклады уездной Управы, а по Воинскому присутствию просмотрел все призывные списки и сделал себе отметки против тех льгот, которые для меня были недостаточно обоснованы и сомнительны. Надо объяснить, что Сухотин, а может быть, и его предшественник, держались порядка, по-моему, незаконного: все списки раздавались членам Присутствия по рукам, и каждый из них единолично выставлял льготу, которая проверялась коллегией лишь во время самого набора при жеребьевке. Я, чтобы отчасти исправить это, до начала призыва созвал Присутствие (к которому, как сказал выше, и подготовился тщательно) для определения коллегиальным постановлением прав на льготу каждого призываемого; вторично призывные списки с проставленными льготами прочитывались и объяснялись призываемым в первый день набора при вынутии жребия. Во время набора я устроил и обед, и завтрак в самом помещении не только для
461
членов Присутствия, но и для волостных должностных лиц, которые усиленно помогали канцелярии Воинского присутствия; все были очень довольны и благодарили меня за радушное хлебосольство. В прежние времена, до меня, это делалось на суммы, которые отпускались казной для усиления средств в канцелярии на время набора (1 рубль на каждого новобранца), но я эти средства обратил к прямому назначению, то есть на выдачу наград членам канцелярии и волостным должностным лицам, им помогавшим; и как меня за эти гроши благодарили! Я думаю, что поступил правильно; впоследствии по этому поводу спорил со мной старик князь Щербатов, тесть моего beau-frère’a Жени, говоря, что с моей стороны это излишняя щепетильность, так как кормление Присутствия, которое по закону не может расходиться до конца заседания, может быть отнесено на вышеуказанные казенные средства, как экстраординарный расход, вызываемый набором, и что он, князь Щербатов (а он был, действительно, рыцарь честности и благородства и притом опытный общественный деятель), так и делал; но я все-таки не жалею, что поступал иначе, ибо многих осчастливил наградными. Окончив набор en gros III-го участка 16 октября, я уехал на два дня к себе, беспокоясь за Лизу, которая ожидала со дня на день рождения нашего шестого ребенка, и сдал окончание по этому участку призыва исправнику Мантейфелю, предполагая вернуться 20-го октября ко дню жеребьевки по II-му участку. Но 18-го октября (1897 года) родилась Мария, и я остался дома до набора по I-му участку — самому буйному, ибо в нем призывались все горожане, не имевшие даже таких лиц, как волостные старшины и сельские сторожа, надзиравших за порядком среди своих сельских новобранцев. Набор по этому участку был всегда самый трудный и хлопотливый. Но теперь прервусь, чтобы описать рождение нашей Марии.
Как всегда, заранее приехала Мама́ Трубецкая, на этот раз ее сопровождали Варя, Лина и Марина. Акушеркой приглашена была новая, московская, бывшая до того у кого-то из семьи и сделавшая особенно хорошее впечатление на мою belle-mère. Эта особа была Анна Михайловна Альянчикова; была она, скорее, из нашего круга, урожденная Благово, двоюродная сестра одного бывшего уездного предводителя дворянства Калужской губернии, которого я когда-то знал; муж ее был председателем губернской Земской управы Рязанской губернии. Пошла она на акушерские курсы с целью помогать в своем крае, а затем, овдовев, нужда заставила ее и приняться за эту профессию для воспитания сына, ставшего потом довольно известным оперным певцом. Все эти подробности я отмечаю, чтобы дать понять, какого рода была эта милейшая женщина. К тому же очень умная, культурная и тактичная; впоследствии она так прижилась к семье моей жены, что принимала [роды] у всех родных и даже ездила, когда требовалось, и за границу: к Варе — в Софию и [к] Марине — в Париж. В этот раз Линочка, всегда чем и кем-нибудь увлекавшаяся, возымела engouement к Анне Михайловне, главным образом потому, что последняя была опытная акушерка, часто выступавшая на московских клубных сценах; Линочка сама возмечтала поступить на сцену и была с Альянчиковой неразлучна. В самую ночь моего возвращения в Сергиевское Лиза почувствовала первые боли, тотчас же послано было в Калугу, и, как сказал выше, 18-го октября под вечер Бог дал нам Марию. Хотя время было осеннее, и притом погода дождливая, пасмурная, Мария, в противоречие настроению окружающей природы, родилась
462
жизнерадостная, светлая, ясная как утренняя заря, с чудными золотистыми волосами. Думали, что ее будет крестить старшая сестра Лизы Тоня Самарина, но при болезненном состоянии последней приезд ее в такую дорогу в деревню был немыслим, я же торопил крестины, чувствуя необходимость скорее вернуться в Калугу на набор, почему просили мы вместо Тони приехать мужа ее Федю, крестной же матерью была Варя Трубецкая (Лермонтова). На этих крестинах уже вполне организованно пел хор наших детей с Diditte под управлением Сергея Александровича Вознесенского, к тому времени уже старшего учителя вновь открытой у нас школы, которую Епархиальное ведомство предполагало устроить в другой местности, близ станции Желябужской. Когда же я добился своего, начальство всячески урезывало сметы на постройку, хотя большая часть материала, кирпич, была вся пожертвована мною, подвоз же материала крестьяне брали на себя. Но председатель уездного отделения протоиерей Цветков (Иван Васильевич), по-видимому, боялся моего влияния и вмешательства в школьные дела, так как надо признать, как это ни грустно, что духовенство видело в этих школах новый способ пристроить своих присных на хлебные места. На первых же порах пришлось мне вынести целую бурю и борьбу, чтобы закрепить за С. А. Вознесенским, бывшим до того учителем нашей церковно-приходской школы, место старшего учителя второклассной школы. Цветков назначил какого-то своего protege, почему я обратился к содействию архиерея, дабы добиться своего. Архиерей вообще благосклонно относился к моим просьбам, видя, что побуждения мои были не личный интерес, а местная польза, которую я как старожил был наиболее компетентен различать. После же моего знакомства с товарищем обер-прокурора Святейшего Синода Владимиром Карловичем Саблером, с которым меня познакомила моя сестра, бывшая с Саблером в приятельских отношениях, фонды мои у архиерея еще более поднялись. Все лето под неустанным наблюдением моего отца возводилось новое двухэтажное здание: каждый камень, кирпич, балка были положены при нем; осенью здание было освящено, и вот, Вознесенский утвержден старшим учителем этой школы и регентовал хором детей на крестинах Марии; было это очень умилительно. Хотел я на следующий день после родов Лизы ехать на набор II-го участка, но на меня так напала семья, обвиняя в бесчувствии, тогда как делал я это лишь как исполнение своего прямого долга, что я сдался и только после крестин вновь уехал в Калугу. Набор I-го участка ознаменовался инцидентом, оставшимся у меня в памяти; призывался сын матери-вдовы, у которой был еще сын; первый, благодаря семейному положению, получил льготу, которая освобождала его от призыва; когда это было ему объявлено, подошла к присутственному столу мать и заявила мне, что лишает своего сына льготы, просит его немедленно принять, а льготу оставить за младшим, который ее кормит, тогда как старший только пьянствует; надо было видеть злобный взгляд призываемого; но закон был точен и ясен: родители имели право лишать своих детей льготы, почему, так как призываемый был вполне здоров, его тут же приняли, и во избежание с его стороны мести против матери я прямо из Присутствия отправил его в распоряжение воинского начальника, лишая его, таким образом, обычного отпуска.
Скоро пришлось мне выступить непосредственно в роли предводителя дворянства по дворянскому, не служебному делу, и как это меня интересовало и волновало!
463
В одной из семей дворян моего уезда — Дурасовых, владельцев при селе Забелине — произошла ссора между членами семьи, состоявшей из нескольких сестер и братьев. Одна из сестер обратилась ко мне с просьбой разобрать их спор и примирить их. Пригласил я их к себе на дом на чашку чая и, кажется, при участии Н. С. Яновского, привели мы их к миролюбию и полному прекращению всяких споров; по крайней мере, я более о распрях в этой семье не слыхал; были же они моими соседями, нас разделяло не более 7 верст, и ближайшая их соседка, Екатерина Семеновна Раевская (их усадьбы разделялись лишь маленькой лужайкой и церковью), которую я часто видел, рассказывала мне, что там мир и согласие, чему она очень удивлялась, не зная о моем вмешательстве, которое осталось вполне конфиденциальным. Деятельность предводителя меня все более и более захватывала; пребывал я дней четыре-пять подряд в Калуге, а затем ехал дня на два, на три домой; и в Калугу и домой ехал с одинаковой радостью и интересом; несомненно, это была лучшая пора моей служебной деятельности. Разнообразия было хотя меньше, чем в губернаторской работе, но зато не было дерготни последней, а также не было того напряжения и ожидания всяких беспорядков и осложнений, коими изобиловали те губернии, где впоследствии пришлось мне быть администратором. Самостоятельность же предводителя была особым плюсом: ни от кого не зависишь и распределяешь свои занятия, как сам того пожелаешь.
Всех уездных предводителей губернии я уже знал раньше по губернскому Земскому собранию, но теперь пришлось мне с ними ближе сойтись и познакомиться на депутатских собраниях, где я как предводитель старшего уезда занимал первое место после Яновского. В то время самым выдающимся и деятельным был предводитель Жиздринского уезда Николай Петрович Булгаков, служивший, как и я, когда-то кавалергардом; о нем я уже упомянул, описывая встречу мою с его братом в Пажеском корпусе. Он был настоящий хозяин и глава своего уезда, без него там никто ничего не предпринимал. Когда он приезжал в Калугу, останавливался неизменно в 5-м номере «Кулона» (в котором впоследствии и умер почти скоропостижно), одной из больших комнат этой гостиницы, и уже с 6 часов утра в халате сидел у себя за самоваром, принимая с раннего утра всех желающих его видеть, начиная с крестьян, за которых он вечно хлопотал. Всегда у него были препирательства с губернскими властями, с Земством, защищая интересы своего уезда; он был так настойчив, так напорист (прошу извинить грубость выражения), что ему почти всегда все удавалось выхлопотать, тем более что он и не терял, а напротив, заводил новые связи в Петербурге, куда неоднократно ездил ходатайствовать за свой уезд. Его представительность, деловитость, уменье говорить указывали на него как на достойного занять пост губернского предводителя, чего он всегда в душе желал, но, к сожалению, его характер и частая заносчивость создали ему немало врагов, почему шансы его на этот пост никогда не были сильны. По Козельскому уезду предводителем был Алексей Николаевич Домогацкий, вечно в ссоре с Булгаковым, который не мог ему простить занятие винным делом. Домогацкий имел один из самых крупных в губернии водочных заводов и для сбыта водки ряд трактиров; это-то и было причиной частых язвительных замечаний Булгакова, справедливо считавшего такое дело не дворянским занятием и при всяком случае высказывавшего ему
464
это очень резко. Но в остальном Домогацкий был человек очень толковый и, во всяком случае, играл среди предводителей не последнюю роль. В Лихвине был генерал Евгений Александрович Погожев, владелец дугненского завода, человек ненормальный, неоднократно лечившийся от психической болезни в разных санаториях, но в обращении очень мягкий, любезный, благовоспитанный и со мной как с предводителем, в уезде коего была большая часть его земельного имущества, особенно ладивший, подчеркивая, что он мой дворянин, а я его предводитель. В Тарусе был молодой предводитель, оканчивавший свое первое трехлетие, князь Горчаков; в Мещерском — Густав Карлович Шлиппе, совершенный немец; в Перемышле — Дмитрий Александрович Попов, очень милый молодой человек, не имевший в уезде земли и избранный из числа дворян соседнего Лихвинского уезда за неимением у себя кандидатов. Про медынского предводителя А. С. Сорохтина я уже писал, но тут добавлю, что его неудачная женитьба на крестьянке очень вредила ему, почему он и не играл той роли, на которую как предводитель одного из больших уездов губернии мог претендовать. В Мосальске предводительствовал Николай Иванович Булычов, с которым я впоследствии неоднократно сталкивался, когда он был уже губернским предводителем дворянства; Булычов был совсем неумен, но очень воспитанный, страстный археолог; его внешний лоск помогал ему выходить из каждого положения удачно; сам он был довольно богат, но кроме того за женой, урожденной графиней Шуваловой, получил громадное майоратное состояние; злые языки очень смеялись над этим браком, утверждая, что жена его была полуидиотка, которую принудили, а Николай Иванович польстился на ее состояние; правда, что никто никогда эту особу не видал. Если к перечисленным предводителям прибавить Курносова (имени не помню) Боровского уезда, совершенно незначительной личности и промелькнувшего, как метеор, лишь по памяти отца, некогда старшего по годам и службе предводителя губернии, избранного у себя в уезде, и малоярославецкого bon vivant’а Александра Ивановича Храповицкого, список будет исчерпан.
О губернском предводителе дворянства Николае Семеновиче Яновском я уже раньше писал, теперь лишь добавлю, что это был честнейший, благороднейший человек, но по отцу получивший дворянство за орден св. Владимира, почему был новоиспеченный дворянин, без старых дворянских традиций и без всякого светского воспитания, внешнего лоска; жена же его Варвара Егоровна, урожденная Титова, коей он был когда-то репетитором, скромная женщина из хорошей купеческой семьи, но и только. Понятно, что при таких свойствах Николай Семенович не мог быть руководителем и arbitre’ом сословия, главным представителем его нужд и защитником его прав в Петербурге, где он положительно никого не знал. Избирался же он неизменно и всегда блестяще только вследствие борьбы других лиц, боявшихся увидать на этом посту лицо самостоятельное, с коим пришлось бы считаться. Секретарь дворянства был Дмитрий Валерианович Панин, о котором уже писал в своих детских и юношеских воспоминаниях. Он меня знал ребенком, и мне очень трудно было, когда за отъездом Н. С. Яновского я вступал в исправление его должности, становясь тем самым и непосредственным начальником Панина. Я всегда старался предупредить его доклады и сам приезжал к нему подписывать нужные бумаги, одновременно посещая
465
и его жену Евгению Николаевну, урожденную Бельченко, которая меня очень любила и всегда хлопотала напоить чаем с каким-нибудь особенно вкусным вареньем. Самовар, кажется, никогда не сходил у них со стола; когда к ним ни зайдешь, стол накрыт клеенчатой скатертью, уставлен аппетитными деревенскими угощениями, самовар кипит и за ним сидит какая-нибудь бедная родственница, которую Дмитрий Валерианович неизменно звал «тетенька», и разливает чай, зная и тонко изучив вкусы всех посетителей этого гостеприимного interieur’a; каждого встречали с радостью и объятиями; Панин всем говорил «душенька» и большей частью по имени, и целовался со всеми. Милейшая это была парочка, и как всегда у них чувствовалось легко и приятно, до того они были искренны. Исправление должности губернского предводителя вводило меня в круг и губернских Управлений, где приходилось постоянно заседать. Это меня очень интересовало, и многому я научился у Офросимова, который дело знал и, не будь он глухим, был бы выдающимся председателем; участвуя в занятиях губернского Присутствия, приходилось мне часто себя отводить, ибо при мне восходили еще дела моего участка, разобранные мной в первой инстанции как земским начальником. Я так был занят, что положительно едва успевал немного отдохнуть между дневными и вечерними заседаниями, и то за обедом у меня всегда был кто-нибудь, с кем надо было поговорить по делу. Мне для полного удовлетворения не хватало Лизы в Калуге, тогда бы, кроме уюта, был бы у нас и открытый дом, что дало бы мне возможность принимать своих коллег-предводителей при их приезде в Калугу (Яновский никаких приемов у себя не устраивал, кроме одного во время губернского Земского собрания), приглашать своих уездных гласных во время очередного Земского собрания и объединять, наконец, своих уездных дворян. Пытался я раза два устроить у себя карточные вечера, но так как мне самому приходилось и все обдумать, и устроить заранее, не полагаясь на свою старушку, оказалось это слишком хлопотливым. Общества в Калуге в то время почти не было, то есть домов, открытых для приема. Софья Семеновна Яковлева уже скончалась, и с ее смертью этот гостеприимный дом, куда всякий мог приехать, зная, что он будет радушно принят, закрылся. Офросимов, как холостяк, не принимал; одни Кологривовы всегда были мне рады, но там кроме карт мало было интересного: Екатерина Ивановна, жена Александра Ивановича, урожденная Храповицкая, вечно была недовольна своей судьбой, жаловалась на всех и немилосердно злословила. Правда, были еще две престарелые княжны Горчаковы, но у них уж до того бывало скучно, что кроме визитов я туда и не показывался, да правду сказать, и некогда было.
Во время губернского Земского собрания я узнал, что приехал в Калугу мой товарищ по Пажескому корпусу Дмитрий Борисович Нейдгардт (Мимка, по пажескому прозвищу) и меня разыскивает. Нашел я его у «Кулона» бравым преображенцем и от него узнал впервые, что я должен был быть назначен в Калугу вице-губернатором, но что он, Нейдгардт, невольно перебил мне дорогу. Произошло это так: Нейдгардт только что женился на жене своего товарища по полку Монахова, давшего, по требованию первого, ей развод, и, по традициям полковым, оба должны были покинуть полк; тогда Мимка просил своего командира полка великого князя Константина Константиновича устроить его вице-губернатором. Великий
466
князь, всегда особенно заботившийся о своих офицерах, немедленно написал об этом Горемыкину, который в почтительных выражениях отказал, высказав [мнение], что командование ротой (Нейдгардт был командиром роты его величества Преображенского полка) — недостаточная подготовка для такой ответственной административной должности и что у него, Горемыкина, есть уже намеченные кандидаты из уездных предводителей дворянства. Тогда великий князь поехал прямо к государю ходатайствовать за командира его роты, и его величество при приезде в тот же день министра внутренних дел с докладом (в портфеле его был приказ о моем назначении в Калугу) встретил Горемыкина вопросом: «Какие у Вас имеются вице-губернаторские вакансии?», на что Горемыкин ответил: «Две, ваше величество, в Калуге и Екатеринославе». На что государь сказал: «Екатеринослав слишком далеко, а потому командира моей роты Нейдгардта назначьте в Калугу — это последний раз, что я Вам навязываю своего кандидата на эту должность». Министру оставалось только молча поклониться и исполнить высочайшее повеление. Все это было подробно описано в письме великого князя Нейдгардту при объявлении удачного исхода его домогательства и начиналось словами: «Что вчера было признано невозможным, сегодня уже состоялось!» Письмо это Мимка давал мне читать. Он мне сказал, что его предупреждали в министерстве, что в Калуге он встретит во мне врага, как человека, по его вине лишившегося особенно удобного для него назначения, причем добавил, вероятно, pour me dorer la pillule, что ему рекомендовали на первых порах советоваться со мной как с выдающимся опытным местным общественным деятелем, очень популярным. Врага он во мне не нажил, но и дружбы большой не завелось; приехал он в Калугу, начиненный петербургской фанаберией и военными гвардейскими понятиями, провинции не знал, смотрел на нее свысока, почему, не отличаясь умственными способностями, совсем не сумел себя поставить; с Офросимовым у них отношения были все время неважные, но в этом виноват был и губернатор, слишком автократичный и потому недостаточно внимательный к своему помощнику. Кто знает, я, может быть, избег много неприятностей, не попав в Калугу, ибо с моим деятельным характером я никогда бы не примирился с той пассивной незначительной ролью, которую Офросимов отводил своему вице-губернатору.
На губернском Земском собрании все мои друзья и приятели, зная о моей деятельности по школам и об открытии мною у себя в приходе второклассной школы, задумали провести меня в попечители земского Сиротского дома, который к тому времени совершенно опустился, и все на него жаловались; многие даже хотели брать оттуда своих детей — до того заведение было распущено. Долгое время смотрителем был некто Воскресенский, при коем ученики из Сиротского дома были во всех учебных заведениях — и в гимназии, и в реальном училище — одни из первых, правда, что достигались эти успехи нещадной поркой; говорили, что по субботам были там регулярные экзекуции, которые не миновали и старших. В бытность председателя Губернской управы князя Сергея Дмитриевича Урусова об этом режиме заговорили с большим порицанием как в обществе, так и в Земском собрании, почему под давлением общественного мнения Воскресенский после чуть ли ни 20-летнего смотрительства был уволен и на его место назначен был какой-то молодой учитель, только что окончивший университет;
467
последний повел дело диаметрально противоположно: все наказания были отменены, смотритель обходился со старшими воспитанниками как со студентами, почти запанибрата, дисциплина совершенно пала, начались кутежи и всякие безобразия; попечитель, князь Горчаков, никогда не бывал в этом заведении и свою деятельность проявил лишь в том, что подписал доклад, составленный архитектором о полной перестройке здания, требующей огромных сумм. Председатель Губернской управы, заменивший князя Урусова, Дмитрий Иванович Ртищев, бывший до того тарусским уездным предводителем (на этом посту его заменил князь Сергей Дмитриевич Горчаков, мой коллега), страшный враг всяких трат, уговорил Горчакова отказаться не только от своего доклада, но и от звания попечителя, и я таким образом был избран, кажется, единогласно на эту должность. Новые занятия прибавились мне, но я настолько любил всегда педагогическую деятельность, что охотно пошел на это. Первое мое посещение земского Сиротского дома в сопровождении Губернской управы in corpore произвело на меня гнетущее впечатление. Состав воспитанников был более чем разнообразен. Старший из них, кажется, Соколов, был юноша 24 лет в 8-м классе гимназии, а младший, крошка лет семи, учился в приходском училище. Не говоря уж о разновозрастности воспитанников (их было более 40 человек), учились они во всех калужских учебных заведениях, и гимназисты и реалисты считали себя аристократами, обдавая своих товарищей по Сиротскому дому, но учащихся в низших учебных заведениях, презрением. Первой моей задачей было подыскать хорошего смотрителя; либерал-универсант благоразумно сам ушел, видя полный неуспех своей системы. Выбор мой пал на Сергея Александровича Вознесенского, старшего учителя моей второклассной школы; тот охотно согласился, и я довольно скоро добился от Ртищева и его назначения; и тогда уже с его помощью принялись мы за приведение в порядок этого заведения; бывал я там ежедневно во время моего пребывания в Калуге, и не раз в день, а по два-три раза, приезжая иногда и невзначай ночью. Чтобы иллюстрировать найденные мною порядки, расскажу два случая. В день своего вступления в должность Сергей Александрович сказал воспитанникам несколько теплых слов; и я, со своей стороны, добавил, что особенность Сиротского дома та, что в нем воспитываются либо круглые сироты, либо полусироты, и мы с Сергеем Александровичем ставим себе задачей по силе возможности и умения заменить их недостающих родителей; пусть они знают, что мы готовы их любить как своих детей, но и требуем от них доверия, а потому и послушания; надеюсь, что ни к каким наказаниям не придется прибегать, если же к таковым и пришлось бы в будущем обратиться, то с болью в сердце, так же, как это бывает с родителями, которым трудно наказывать любимых своих детей. В ответ на такую profession de foi вечером пальто Сергея Александровича неизвестно когда было изрезано вдоль и поперек и приведено в полную негодность, письменный стол его был залит чернилами и постель загажена чем-то зловонным. Второй случай еще более ужасен. Среди воспитанников был мальчик Протасов, ученик 5-го класса гимназии, с открытым, красивым лицом, вьющимися волосами, но страшный задира. Приезжаю я как-то в Сиротский дом и вхожу в комнату для занятий в тот момент, когда другой воспитанник (фамилии его не назову, и впоследствии поймут, почему) бросается на Протасова с ножом, ранит его и сам падает на пол в припадке эпилепсии.
468
Оказалось, что Протасов своим дразнением довел его до такого исступления; хотя Протасов был ранен совсем легко, все-таки его и его противника пришлось отослать в Хлюстинскую больницу. Протасова там перевязали и отпустили обратно, а второго оставили в больнице ввиду чересчур сильного нервного возбуждения. Надо было отослать последнему вещи в больницу и для этого открыть его шкапчик, и тогда, о ужас!, нашли у него в шкафу фальшивые монеты 20-ти копеек достоинства, форму для их отливки и весь нужный для сего материал. О том, что в этом районе города в лавочках появлялись фальшивые двугривенные, я уже слыхал, почему обратил серьезное внимание на сделанное открытие. Вызвал я Ртищева, и с ним вместе поехали в Хлюстино добиваться признания этого юноши; он даже и не отпирался, а только безутешно плакал, умоляя его не губить, был же он уже взрослый, если не ошибаюсь, гимназист 6-го класса. Долго я препирался с Ртищевым, пока не добился его согласия совершенно замять это дело. Когда виновник происшествия выздоровел, уволили мы его из Сиротского дома, дали ему стипендию для окончания образования и он уехал на юг, где окончил гимназию, потом медицинский факультет университета и вышел доктором; потом я потерял его из виду. С гордостью скажу, что в довольно короткий срок дух заведения изменился; ввиду хорошего поведения детей я разрешил им на Масленице или Пасхе устроить свой спектакль любительский, на который съехались и Губернская управа в полном составе, и матери, и знакомые воспитанников по их приглашению, а также и ученое начальство тех заведений, где они учились. Сами воспитанники были хозяевами вечера, принимали всех гостей; я им дал средства на устройство угощения, Губернская управа ассигновала средства на постановку спектакля, костюмы, сооружение сцены; и спектакль, к общему удовольствию, прошел очень хорошо. Среди учеников старших были очень талантливые певцы и музыканты; особенно помню юношу Татаринова, игравшего виртуозно на балалайке. Этот спектакль еще более способствовал разряжению атмосферы. Выбор Вознесенского был вполне удачен, чему доказательством служит, что он остался смотрителем до самой последней волны революции, когда общий сумбур смел всех, и все начальства были уволены большевиками. Уже в апреле месяце Сиротский дом принял настолько благообразный вид в смысле поведения воспитанников, что я просил Офросимова приехать его осмотреть. До того ни один губернатор не посещал этого заведения, и я хотел воспользоваться приездом Офросимова, чтобы, польстя Губернской управе, приналечь на Ртищева и убедить его в необходимости расширить дортуар учеников и вообще сделать капитальную перестройку не в духе князя Горчакова, проектировавшего какие-то особенно большие залы и красивый парадный вход, а в смысле улучшения гигиенических условий дома. Офросимов остался очень доволен, хвалил порядки, Управа была удовлетворена вниманием губернатора, почему Ртищев легко сдался и обещался внести соответствующий доклад от лица самой Губернской управы.
469
Глава VIII
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. ХАРЬКОВ
(1898—1902)
Будь у меня больше средств, я никогда сам не покинул бы предводительство, и думаю, что мой дальнейший выбор был бы обеспечен, до того ценили мою кипучую деятельность; но для финансов надо было думать о платной должности и, главное, о дальнейшем продвижении по службе. Этому способствовало отношение ко мне великого князя Сергея Александровича, тогда московского генерал-губернатора и командующего войсками Московского округа. Великий князь, желая заручиться любовью москвичей, старался вербовать себе сторонников среди общества и родовитого московского дворянства, почему всегда был особенно внимателен со всей семьей Трубецких. От них же он узнал о моем служебном положении и чаяниях и обещался мне помочь. С благодарностью вспоминаю его особенную предупредительность и любезность, когда он приехал в Калугу инспектировать местный гарнизон. По должности предводителя я его с остальными должностными лицами встречал на вокзале, где и был ему представлен; поздоровался он со мной совершенно официально, хотя меня он знал раньше, но, по-видимому, не узнал. В этот же день был завтрак в местном военном клубе, куда и я был военными властями приглашен. Перед самым приездом туда великого князя его адъютант Гадон, мой старый знакомый, но тоже меня не узнавший, подошел ко мне и всякими расспросами, обиняком, с ловкостью придворного человека выяснил себе из разговора со мной, что я женат на княжне Трубецкой, сестре московского губернского предводителя и дочери московского почетного опекуна. Как-то Гадон сумел передать все это великому князю, и тот, войдя в зал, демонстративно прошел через весь зал до того угла, где я скромно забился, извинялся, что меня тотчас же не узнал, просил передать поклон Лизе и минут десять беседовал со мной, приводя в отчаяние хозяев-генералов, ожидавших его у закусочного стола; повторил он эту беседу со мной и после завтрака, так что все обратили внимание на такое видимое отличие великого князя меня перед всеми остальными. Это настолько было явно, что какой-то военный доктор (фамилии его не знаю, ибо не был с ним знаком) нашел нужным при разъезде подойти ко мне, представиться, чтобы сказать мне, что я далеко пойду по службе, раз великий князь так меня любит. Одновременно с этим вновь открылась вакансия вице-губернатора в Харькове. Философов женился на дочери Тобизена, почему
470
не мог там продолжать службу с своим beau-père’ом, для чего поменялся местом со смоленским вице-губернатором, графом Мусиным-Пушкиным (Александр Александрович, сын моего бывшего начальника дивизии), а теперь и Пушкин, наконец, назначался губернатором в Минск.
Вероятно, поддержка великого князя и хлопоты Алеши Оболенского, бывшего в то время товарищем министра внутренних дел, на этот раз имели успех, и вот, так давно ожидаемое и желанное сбылось. Был я в последних числах апреля в театре по случаю какого-то благотворительного спектакля, как вдруг во время антракта мой ливрейный малый в своей пресловутой зеленой куртке появился передо мной в фойе и передал срочную телеграмму сестры: «Приказ подписан — счастлива». Очень я этому обрадовался, но, уже раз проученный, боялся сему верить, пока на следующий день мне, еще лежавшему в постели, принесли вторую телеграмму такого содержания: «Высочайший приказ о назначении Вас харьковским вице-губернатором подписан, сердечно поздравляю. Барон Таубе». Этот Таубе служил в Департаменте общих дел Министерства внутренних дел; через его отделение проходили эти приказы, почему его сведения были уже совершенно достоверны. Все-таки я еще не решался об этом кому бы то ни было говорить и только сказал об этом Офросимову, на которого, к моему большому разочарованию, такое назначение не произвело никакого впечатления. Перед этим только что были назначены вице-губернаторами предводитель тарусский, князь Горчаков, в Архангельск и предводитель мосальский, Булычев, в Уфу, так что в среде предводителей ожидалась, если не сказать уже совершилась, большая перемена, что и озабочивало калужского губернатора. В этот же день я поспешил домой поделиться этой радостью со своими, но они уже получили такие же телеграммы от Вари и от Тобизена, так что для них это не было новостью.
Последние дни моего предводительства плохо помню; спешно ликвидировал свою квартиру, подал заявление в губернскую и уездную управы об отказе от всех тех должностей по выборам, куда меня последнее время избрали. Таких выборных должностей я занимал чуть ли не десять, и скажу, что мне больно было отрываться от интересов местной жизни, и особенно сдавать попечительство по Сиротскому дому. Сергей Александрович Вознесенский особенно нуждался в моей поддержке и сам он был еще недостаточно опытен, не сумел себя еще поставить среди земских служащих, а главное, лично переживал драму: он сделал предложение нашей Diditte, а та, уехав во Францию после объяснения, уже оттуда решительно ему отказала, и этот отказ совпадал и с моим уходом из Калуги, и он был очень жалок; я же боялся и для воспитанников, что его настроение без моего руководства дурно повлияет на всю предпринятую работу по реформам Сиротского дома. Очень важен был вопрос, кого избрать на мое место; я сам был из кандидатов, а потому необходимо было назначить новые выборы. Я лично наметил себе в преемники двух: начальника II-го участка Александра Михайловича Желябужского и командира артиллерийской бригады князя Кантакузена, нового калужского помещика; женат он был на дочери бывшей танцовщицы Числовой, подруге великого князя Николая Николаевича Старшего, дети коей по отцу получили фамилию Николаевых; жене Кантакузена в приданое было куплено известное подгороднее имение Грабцево, славившееся и своей усадьбой и своим
471
хозяйством (моя мать уверяла, что Маркевич в своем романе «Четверть века назад», описывая Сицкое — имение Шастуновых, взял за образ либо это Грабцево, либо Городню, соседнее имение светлейших князей Голицыных). У обоих своих кандидатов я успеха не имел — оба категорически отказались; пришлось собрать на частное собрание видных дворян уезда и сообщить им полный неуспех моих поисков; после долгих обсуждений и рассуждений, пришли к заключению провести в уездные предводители сына Николая Семеновича Яновского — Николая Николаевича, только что окончившего Правоведение и в это время лечившегося на Кавказе. Он был совсем юн и мало известен дворянам, но из уважения к его отцу и за полным неимением другого кандидата это было решено; я хотел запросить его телеграммой, но Николай Семенович не только за него дал согласие, но и добавил с большим волнением, что выбор сына на такую важную должность по доверию к нему, отцу, будет наилучшей наградой ему, старику, за продолжительную службу дворянству. Когда, наконец, получен был в губернском Правлении приказ о моем назначении, сдал я должность опять тому же Дурново, оформив сдачу и протоколом Опеки, и нужными расписками. Яновский же вошел в соглашение с губернатором о назначении уездных выборов через месяц, срок, когда сын его кончал свой курс лечения.

Евгений Николаевич Трубецкой с матерью Софией Александровной.
90-е годы XIX века. Частное собрание, Париж
Очень тепло меня проводили в уезде: все мои коллеги по уездным учреждениям снялись общей группой для поднесения мне и также для помещения
472
в совещательный комитет уездного съезда, где уже висела группа старого мирового съезда под председательством моего отца. Устройство уездного прощального обеда я отклонил, очень стесняясь таких выступлений, где пришлось бы выслушивать речи и на них отвечать, в чем я был совсем неопытен; предлогом я взял, что едва прошло полгода со смерти П. А. Сухотина, и как-то неудобно его уезду устраивать фестивали; но я не мог отказаться от частных приглашений и пришлось мне принять прощальные обеды у Офросимова, Яновских, Кологривовых и Александра Владимировича Толстого (непременного члена Калужского губернского присутствия). Чествование у Яновских совпало с празднованием их серебряной свадьбы. На этом обеде в ответ на тост за мое здоровье я впервые в большом обществе (обедали у них все представители администрации, общества и дворянства, человек 75) сказал целый спич, в котором уже открыто, во всеуслышание, заявил о желании уезда видеть своим предводителем его сына, разъяснив, что дворянство в этом случае не может руководствоваться желанием иметь своим представителем определенное лицо, не зная совершенно Николая Николаевича, только начинающего свою жизнь, но верит в традиции семьи Яновских, зная, что от хорошего дерева и плоды такие же. Старик расчувствовался до слез и долго меня обнимал. Распростившись с Калугой, уехал я в Сергиевское, где собирался прожить все свободное время, на которое имел право по расчету поверстного срока для прибытия на новое место службы; списался об этом с Тобизеном, который меня не торопил, почему у меня было около месяца совершенно свободного отдыха; пришлось мне лишь съездить в Москву поблагодарить великого князя Сергея Александровича за поддержку и заказать себе новую обмундировку. В Сергиевском предстояло мне ликвидировать свою прежнюю деятельность как по церкви, так и по Братству. Председателем Совета Братства избран был священник отец Сергий, а казначеем в школе моей матери — наш управляющий Родион Иванович Корчагин; на этом же заседании Совет, по инициативе Миши Полторацкого, бывшего в то время у нас земским врачом, благословил меня образом и записал пожизненным почетным братчиком. От должности церковного старосты мне так и не пришлось отказаться. На приходском собрании в Жукове, когда было объявлено священником о моем отказе от должности и о необходимости избрать мне заместителя, поднялись такие просьбы прихожан, дошедшие до плача, оставаться мне церковным старостой и хоть издали руководить нашим церковным хозяйством, который мой помощник, крестьянин деревни Горяиново Петр Иванов Дементьев мог вести и в моем отсутствии по установленному мною шаблону, что я согласился остаться. Мне совестно об этой писать, ибо это кажется самохвальством, но, действительно, желание было столь искреннее, огорчение от моего отъезда казалось столь сильным, что я совершенно был растроган. Помню, как один крестьянин деревни Пышково, Василий Филатов Виноградов, зажиточный трактирщик поселка при станции Ферзиково, бросился ко мне, стоявшему на амвоне близ священника, стал целовать мою руку, обливая ее слезами и прося меня их не покидать. Вернулись мы всей семьей из церкви совершенно счастливыми от этого неожиданного проявления ко мне чувств прихожан и никогда не забуду горячее, ласковое, хорошее письмо Мама́ Трубецкой в ответ на описание сего события. Некоторые
473
служащие у нас в доме в качестве отцов и дедов учеников школ, устроенных мной (второклассная и образцовая-приходская), благословили меня образом, который преподнес старший из них, наш кучер Трифон, со словами благодарности за заботы о детях и внуках.
Наконец настал и день отъезда. К этому времени вернулась из заграницы Diditte и поселилась у нас на лето, поставив условием, что не встретится у нас с Сергеем Александровичем. Решено было ехать мне одному и лишь поздней осенью, когда я найду и отделаю квартиру, переехать и остальной семье, понятно, с моими родителями и Нюничкой. Вперед уехал Евмений с вещами и с тем, чтобы жить при мне, пока не заменит его мой новый камердинер, моряк, обещанный Алешей Капнистом (двоюродным братом Лизы, служившим в гвардейском экипаже) из числа лучших матросов, отпускаемых этим летом за выслугой срока; таковым оказался Афанасий Доколин (дети дали ему прозвище «огромадный»), бывший вестовым и дядькой при детях великого князя Константина Константиновича; Доколин долгое время прослужил у меня и перешел потом к Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу, бывшему тогда петербургским градоначальником.
Проводить меня съехалась вся полиция моего участка, а на вокзале в Ферзикове ждали все волостные и сельские должностные лица. Ехали мы в нескольких экипажах — целым поездом. Выехали после напутственного молебна и традиционного прощания со всеми; для этого все служащие, начиная с управляющего, вся дворня, собирались в гостиной и все, кто были в комнате, садились и, посидев несколько секунд в полном молчании при закрытых дверях, вставали, причем сигнал к вставанию подавал младший (тут — Георгий, четырехлетний, ибо Мария была еще на руках); все крестились и молились перед образом, и прощались, целовались; на этот раз много было слез и волнения; чувствовалось, что наша семья как-никак отрывается от Сергиевского и начинается для нас новая страница жизни. По пути было несколько остановок: в Поливанове, где еще раз меня встретили местные крестьяне с подношением яиц; в начале леса при въезде в Молчаново депутация от Алферьевского общества благословила меня образом, а на границе имения депутация от Пышковского общества поднесла мне адрес. На станцию съехались ближайшие местные дворяне, а с моим поездом приехали из Калуги все мои коллеги по уездным учреждениям и тут же на перроне поднесли мне группу и чудный серебряный бювар с подписями и видами калужского Земского дома, где была Опека и остальные учреждения; они же меня провожали несколько станций до скрещения поездов, после чего единственным мне компаньоном остался А. М. Желябужский, ехавший в Москву, а потому мне попутчик до Тулы.
Когда в Туле я уселся в свое отделение спального вагона и остался один, я особенно больно ощутил свое одиночество — это была первая продолжительная разлука с семьей; думал я приехать в отпуск не раньше августа, сентября месяца, и жутко стало на душе, не оправдаются ли слова моей belle-mère, что мы не умеем достаточно ценить свое счастье тихой деревенской жизни; как бы не сбылась над нами истина русской пословицы: «Что имеем, не храним, потерявши плачем». Но шаг был сделан, отступления не было и начиналась для меня новая полоса
474
жизни: деятельность административная в местности и в кругу лиц, мне совершенно незнакомых. Итак, служба моя в Калужской губернии кончилась!
Утром, когда я проснулся в своем купе, сразу почувствовал, что нахожусь уже в другой местности, и, странное дело, и впоследствии, подъезжая к Белгороду, куда поезд приходил около 9 часов утра, всегда это ощущение было особенно живо. Еще не поднимая сторы окна, слышишь гудок паровоза Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги совершенно отличный: мне говорил начальник этой дороги фон Ренкуль, что паровозы его дороги снабжены прерийным американским свистком, настолько пронзительным и густым, что в Америке им спугивают стада диких буйволов, пасущихся вдоль полотна железной дороги. Вид из окна вагона уже напоминает Малороссию: необозримые поля хлебов с переселками по балкам; в деревнях избы (хаты) выкрашены в белый цвет, деревни громадные и кругом каждой целые полчища ветряных мельниц; костюмы населения белые, повозки длинные, лениво ведомые парой волов; жара нестерпимая, но жара сухая, без томительного банного воздуха. Проехав Белгород, поезд берет большой подъем, пересекая край Карпатских гор, протянувшихся здесь, в России, не величественно и грандиозно, как в Австрии, а лишь как воспоминание былого величия незначительным отрогом.
Когда поезд очутится на южной стороне этого перевала, жара еще сильнее дает себя чувствовать: железнодорожное полотно не защебенено, а потому пыль вокруг поезда такая, что приходится, несмотря на духоту, закрывать окна вагона. В Харьков поезд приходил тогда около 10 часов утра; уже в Белгороде продавались номера «Харьковских губернских ведомостей» и «Южного края», наиболее распространенные харьковские газеты, так что до приезда в Харьков я успел пробежать местные известия и узнать, что в газетах было сообщено о моем приезде. Очень я сконфузился, когда увидал на перроне вокзала Тобизена, выехавшего меня встретить; любезность со стороны губернатора своему вице- — исключительная, но Герман Августович уж такой был человек: всех он очаровывал своей любезностью. Рядом с ним стояла совершенно мне неизвестная личность, с которой Тобизен меня познакомил; это оказался губернский предводитель дворянства граф Василий Алексеевич Капнист (брат дяди моей жены), выехавший встречать своего брата Дмитрия Алексеевича, но последнего в поезде не было; я его хорошо знал еще по крымским воспоминаниям нашего свадебного путешествия. Тут же был полицмейстер Герман Карлович фон Вилькен, которого Тобизен мне представил, и целая уйма полицейских чинов с приставом VI-го участка Занфировым во главе, последний — в черном дымчатом pince-nez, которым прикрывал свои юркие бегающие глаза. Мой скромный Евмений захватил ручной багаж и исчез; Тобизен же сам хотел меня водворить в номер гостиницы «Prosper», для меня задержанный. Помню, какую я сразу сделал gaffe’y. Подали губернаторскую коляску, Тобизен рукой приглашал меня садиться, а я, забыв que la vraie politesse, no словам Людовика XV-го, это точно исполнить приглашение, хотел уступить первенство своему принципалу, а он из вежливости обошел коляску и в экипаже очутился на левой стороне, что ему не подобало. Довез он меня до гостиницы, поручил особому попечению содержателя ее француза Mr. Prosper’а, которому на петербургский манер и руку подал, а затем, предупредив,
475
что наверное сейчас явится старший советник Виктор Васильевич Кузин представляться, просил приехать к нему обедать запросто, безо всякого официального визита до того. Оставшись один с Евмением, я долго смотрел на Павловскую площадь, куда выходили окна моего номера, слушал рассказы Евмения и не мог я себе представить, что этот ныне чуждый мне город, город шумный, с пошибом столичной жизни, когда-нибудь сделается для меня совершенно знакомым, родным и даже одно время любимым.
После Калуги Харьков кажется не только столицей, но и европейским городом. В нем нет красоты Калуги с ее садами и видом на Оку, но зато по сравнению на первый взгляд кажется он верхом благоустройства; хотя впоследствии, когда я уже окунулся и в деловую сторону жизни, убедился, что в Харькове гораздо больше показного, чем настоящего. На первый взгляд невыгодное впечатление делает малое количество церквей в городе: всего было тогда 18, кроме домовых, а в Калуге, крошечном городишке — 36. Мостовые харьковские после калужских показались мне особенно хорошими, чего не скажу про извозчиков. Калужские пролетки на резинах с запряженными рысаками, из коих многие и призы брали на местных бегах, действительно были совсем исключительными, и таких извозчиков я не видал ни в одном городе; с ними могли только конкурировать баснословно дорогие лихачи Петербурга и Москвы. В Харькове извозчики делились на три категории: худшие — одноконные открытые пролетки без верха назывались «ванько» и имели то преимущество, что ход их соответствовал ширине колеи конки, почему они всегда ехали по рельсам без шума и толчков; «извозчиками» назывались собственно парные коляски с кучерами, одетыми летом в белые балахоны, а на лошади белые колпаки на голове, которые часто смачивались и должны были предотвращать солнечный удар; такие же коляски, но на резинах и с лучшими лошадьми, считались «лихачами» — стоянки лихачей были как раз против гостиницы «Проспер». Такса для ванько [в] любой конец — 15 копеек, для извозчиков — 30 копеек, а для лихачей — по соглашению. Гостиниц в городе было много, из них наилучшая считалась та, где я остановился; в ней останавливались все сановники; местное дворянство облюбовало гостиницу «Monnet» на Екатеринославской, судейский мир — гостиницу «Астраханскую» на Николаевской площади, а коммерческий мир и коммивояжеры — гостиницу «Россия» на Екатерин[ославской] улице. Смешно было даже сравнивать гостиницу «Проспер» с калужским грязным «Кулоном», с ее прислугой, заспанным Гаврилой, вечно шлепающим туфлями, или неизменно пьяным Иваном, но зато у «Проспера» не было того уюта, того чувства, что живешь как бы у себя дома, все твои привычки, вкусы знают и блюдут. Приехал я как-то после перерыва в несколько лет к «Кулону», и Гаврила, раскладывая мои вещи, тотчас же узнал мой старый сюртук и выговаривал, что я себе не сшил нового; такая прислуга была уже почти своей. У «Проспера» даже не было настоящего апартамента, как первый номер у «Кулона» в три комнаты, а шаблонная большая комната, где за перегородкой была спальня, а большая часть отделана под гостиную.
Пока я мысленно сравнивал свою покинутую любимую Калугу с новым моим местожительством и переодевался, Евмений делился своими впечатлениями и расхваливал мое новое служебное положение, благодаря которому ему полиция
476
не только оказала содействие, но и была особенно любезна и предупредительна; он уже свел знакомство с приставом VI-го участка, где был вокзал, и с приставом IV-го участка, где была гостиница; над вестовым же, присланным ему в помощь, уже командовал и распоряжался им, как со своим буфетным мужиком в Сергиевском. Наша беседа была прервана докладом, что явился старший советник Кузин. Вошел маленький старичок, тщедушный, в мундире с лентой через плечо: такая награда была исключительная, но и Виктор Васильевич Кузин был тоже фрукт, каких мало. Так как он становился моим ближайшим подчиненным и помощником, остановлюсь на нем побольше. Служил он в Харьковской губернии со студенческой скамьи, а было ему уже под 70, если не все 70 лет, отсюда видно, как он долго тянул лямку. Начал он службу в полиции и до назначения в губернское Правление был змиевским исправником; на настоящем месте состоял уже около 30 лет и ежегодно уезжал лишь на 28 дней в отпуск в Змиев, где у него был домик в виде дачи и где он избран был за прежнюю службу почетным гражданином. За пределы губернии выехал лишь раз в жизни по настоянию бывшего тогда вице-губернатора Димитрия Сергеевича Сипягина, который просил его писать ему свои путевые впечатления. Кузин поехал в Крым с остановкой в Симферополе, откуда писал Сипягину: «Город небольшой, хуже Харькова; первым делом пошел смотреть здание губернского Правления — совсем мне не понравилось; у городового спросил, как зовут старшего советника губернского Правления — он не знал, откуда вывожу, что полиция плохо знает свои обязанности...»; и все письмо в том же роде. Этот-то оригинал и предстал предо мной; он мне буквально в деды годился, но был очень почтителен, без всякой подобострастности; объяснил мне, что я чуть ли ни двадцатый вице-губернатор при нем и что старше его по службе в губернском Правлении лишь двое: счетный чиновник Александр Николаевич Рыжков, бывший когда-то секретарем небезызвестного архиерея Смарагды, и курьер Федор, состоящий при кабинете вице-губернатора чуть ли не пятьдесят лет и весь увешанный медалями. Сговорились мы с Кузиным, что завтра в 12 часов дня я приду в губернское Правление, где он мне представит всех чинов; расстались мы с ним вполне довольные друг другом. Много пришлось мне впоследствии бороться с рутинерством Кузина, но скажу, что более добросовестного чиновника я редко видел и всегда неизменно был доволен его отношением ко мне. Проводив Кузина и напялив мундир, я отправился к Тобизену официально представиться. Его еще не было дома, принимали меня его жена Зинаида Семеновна и дочь Ольга Германовна. Последняя была замужем за Юркевичем (Петром Николаевичем), но большую часть года проживала у родителей; муж ее служил в каком-то банке частном в Таганроге. Застал я у Тобизенов харьковского уездного предводителя Владимира Федоровича фон дер Лауница (женатого на двоюродной сестре Лизы) и председателя Харьковской уездной Земской управы князя Гагарина, двоюродного брата Лауница. Дожидаться Германа Августовича пришлось довольно долго, и жутко мне было в этой новой обстановке, в кругу чужих мне людей, которых я совсем не знал и которые имели между собой и точки соприкосновения, и общие интересы, мне неизвестные. Когда Тобизен вернулся, попенял он мне за официальный визит, потребовал, чтобы сейчас же снял мундир, для чего сам по телефону вызвал моего Евмения, и облекся
477
он в простой летний костюм, дабы быть совсем по-домашнему. Во время обеда оба они с женой всячески старались меня пригреть, приласкать, me mettre à l’aise и настойчиво требовали, чтобы я переехал к ним в дом на все лето, как только Ольга Германовна уедет, что должно было совершиться на днях. С особой благодарностью вспоминаю все их заботу и ласку; понимали они, как я тосковал по семье и всячески мне сочувствовали.
Тобизен составил мне список тех визитов, которые мне предстояло сделать, с подразделениями: кому в первый день, кому в мундире, кому в мундирном сюртуке, а кому просто в штатском платье лишь как новый член общества. Список был почтенный, более двухсот визитов надо было сделать, и я начал их со следующего дня после приема чинов Губернского Правления. В Губернское правление я приехал в мундире, на подъезде ждал меня экзекутор, он же и счетный чиновник, о котором мне говорил накануне Кузин — белый как лунь старик, и провел меня в залу заседания, дверь в которую мне открыл исторический курьер Федор, тоже белый старик в очках. В зале заседания стояли все чины с делопроизводителями включительно, полукругом. Первые подошли ко мне чины тюремной инспекции, которые, хотя и входят в состав Губернского правления, но вице-губернатору не подчинены, ибо числятся даже в другом министерстве, а именно в Министерстве юстиции. После них выступил Кузин и представил мне остальных, называя каждого. Младшим советником был Николай Григорьевич Тарановский; он был тоже харьковский уроженец, окончивший Харьковский университет, после чего поступил на службу в Петербург, в Департамент общих дел Министерства внутренних дел при всесильном тогда директоре департамента Заике; по службе подвигался быстро, и его уже называли как будущего вице-директора Департамента, когда вдруг бурно заболел болезнью легких, почему доктора потребовали немедленного его переезда на юг. В южных губерниях не было вакансии вице-губернатора, на которую он вполне мог бы претендовать, и Заика предложил ему настоящее место младшего советника в родной губернии, обещал его через несколько месяцев продвинуть в вице-губернаторы на первую подходящую вакансию. И вот эти несколько месяцев растянулись более чем на десять лет. Тарановский и состариться успел, его сын был уже старшим помощником управляющего канцелярией губернатора и в провинциальной иерархии играл более видную роль, чем отец. Заика давно уже сошел со сцены, а назначения все не было, и так до конца его жизни не состоялось. Врачебный инспектор Михаил Михайлович Стефанович-Севастьянов тоже был старожил; когда-то был хорошим врачом, всегда практиковавшим в лучших домах харьковского общества, но после того как, желая спасти Эмилию Трубецкую, belle-soeur Лауница, дочь бывшего харьковского губернского предводителя князя Александра Петровича Трубецкого (брата моего тестя) от задыхания, причиняемого нарывом в горле, он, не имея под рукой инструмента (дело происходило в их имении Рогозянко), взрезал нарыв простыми ножницами, отчего она тут же скончалась, он бросил практику. Мне он доверия не внушал — его вкрадчивый голос с сильным заиканием, казалось мне, всегда говорил неправду; еще хуже был его делопроизводитель Делонес, с черными очками, бегающим всегда взглядом: его я уже прямо подозревал в недобросовестности, особенно при докладах об открытии аптек.
478
Я любил и верил в этом отделении помощнику врачебного инспектора Михаилу Адриановичу Денисову — скромный врач, считавший своей обязанностью лечить, и притом непременно безвозмездно, и губернатора с семьей и вице-губернатора, причем сам предупреждал, что для серьезных случаев лучше приглашать другого врача, а сам он брался, главное, за лечение прислуги и наблюдение за санитарным состоянием домов губернатора и вице-губернатора. Ветеринарным инспектором был Иосиф Прокофьевич Нешумов-Сибиряк, очень знающий ветеринар, дельный чиновник и вполне порядочный человек. Если прибавить к перечисленным лицам (одного производителя не упоминаю, хотя один из них, Денченко, I-го стола, был совсем исключительный и ему подобало бы работать на более видном месте) строительное отделение, список главных чинов, мне подведомственных, будет исчерпан, но эти два отделения помещались не в Губернском правлении, и с ними мне мало приходилось иметь дела, да и вообще, как увидим впоследствии, моя деятельность по Губернскому правлению была самая малая доля моей службы. Тобизен постепенно ввел меня во всю сферу своей деятельности и я действительно заменял его во многом. Забыл еще упомянуть про секретаря губернского правления Мокринского — тип старой канцелярской крысы, вся деятельность которого сводилась к тому, что в моем присутствии он докладывал губернатору журналы Губернского правления.
Окончив знакомство с вышепоименованными чинами, принялся я за визиты. Остановлюсь лишь на тех лицах, которые впоследствии играли роль в моей служебной деятельности и с которыми приходилось мне чаще сталкиваться. Командир Х-го корпуса, генерал от кавалерии Виктор Федорович Винберг, был начальником Николаевского училища в то время, когда мой beau-frère Жилинский был там вахмистром, и от последнего я слышал про него, почему это было отчасти trait d’union между нами. Это был милейший старик, совсем не военный, а добродушный, добрый человек, страдалец в своей семье, где жена его Ольга Иосифовна была морфинистка, злые языки даже добавляли — пьяница, а дочери Ольга и Мария — странного свободного поведения, если не сказать более. Виктор Федорович был сама утонченная вежливость, и про него рассказывали анекдоты, как он, войдя в комнату, поспешил к зеркалу поздороваться со своим изображением, приняв его за незнакомого генерала; другой раз, войдя в гимнастический зал одного полка, поздоровался с манекенами, расставленными для упражнения в рубке и колке, думая, что это живые солдаты. Но что бы ни говорили про него смешного, все его любили, уважали и жалели.
Начальником Кавалерийской дивизии был Сухомлинов, некогда мой профессор военной истории в Пажеском корпусе и кончивший свое служебное поприще судом над ним как военным министром, которого хотели сделать козлом отпущения за все наши неудачи в последнюю войну; мое убеждение, что в обвинениях против него многое было преувеличено — изменником и предателем [он] никогда не был, а всегда отличался легкомыслием и женолюбством; в Харькове я его застал женатым уже во второй раз, таял [он] перед своей женой и совершенно избегал общества. Губернский предводитель дворянства, милейший, добрейший, но и оригинальнейший граф Василий Алексеевич Капнист был совершенно под башмаком своей жены «Вер-р-роники» (так он ее звал; урожденная
479
она была княжна Репнина); последняя была очень властная, мелочная и крайне бестактная; с Зинаидой Семеновной Тобизен она не ладила и отношения были очень натянуты.
Свойство Капнистов с Лизой через тетю Эмилию способствовало нашим хорошим с ними отношениям, но интимности все-таки никогда не было. Жили они в собственном доме на Благовещенской, где все было отделано со вкусом, но очень просто, кустарными произведениями, мало принимали и, главное, тряслись над сыном Алексеем, очень красивым юношей, но тогда уже кутилой и mauvais sujet. Обе их дочери были уже замужем и жили в Петербурге. Алексей Капнист настолько заботил своих родителей, что те постоянно спрашивали у всех советов по делу его воспитания. Местный остряк-стихотворец Ширков, васковский уездный предводитель дворянства (о нем будет речь впереди), составил куплеты на злобу дня, где, описывая Василия Алексеевича Капниста, поместил будто бы просьбу его к губернатору и ко всем власть имущим оберегать и охранять Алексея от дурного влияния, где каждый куплет кончался фразой Тобизена, обращенной ко мне «Mein lieber Freund Ossorguine, das müssen Wir besorgen». Я еще не приезжал в Харьков, но моя фамилия пригодилась для рифмы. Граф Василий Алексеевич Капнист был кривошейка, вечно о чем то хлопотал, не брезгая и интригами, досаждал своему собеседнику, держа его за пуговицу и заставляя его дослушать длинную и всегда малопонятную речь. Графиня часто в слезах говорила мне: «Да отойдите от него, а то он у Вас постепенно все пуговицы оторвет».
Попечитель Учебного округа Иван Петрович Хрущев, вдовец (женат он был на Поленовой), представлял из себя энциклопедию всяких знаний, учен он был до безобразия, но вместе с тем так неумен, что сношения с ним были нелегки; ввиду его одиночества моя семья особенно его пригрела, и все большие праздники, как-то Пасха, Рождество, Новый год, когда одиночество особенно больно чувствуется, проводил он у нас. Ректором университета я застал Михаила Мартыновича Алексеенко, сыгравшего впоследствии столь видную роль в Государственной Думе, состоя бессменным председателем Бюджетной комиссии. Человек этот был совершенно выдающегося ума, но никто его не любил, слишком уж он был хитер; все знали, что на него положиться нельзя и ни одному слову его нельзя верить; вероятно, потом он переродился и, во всяком случае, сильно изменился, иначе нельзя объяснить его исключительную популярность и уважение, коими он пользовался в Государственной Думе. Правда, его цель была всегда личная карьера, а в Государственной Думе он, вероятно, достиг, чего желал, и на большее не претендовал. Алексеенко по должности заменял Хрущева в случаях отсутствия последнего и, как увидим потом, пользовался этим случаем, чтобы досадить старику и напортить ему. Архиереем был знаменитый Амвросий; я его застал уже полуслепым. Мне трудно о нем высказываться, настолько мое мнение противно упрочившейся за ним репутации столпа Церкви. Мне он казался озлобленным честолюбивым стариком, правившим своей епархией отнюдь не в духе любви.
Его alter ego был профессор университета протоиерей Буткевич. В то время вышла из печати магистерская диссертация Сережи Трубецкого «Метафизика в древней Греции», которую прочел Буткевич, по-видимому, наспех, дабы дать
480
отчет архиепископу об этой новой книге, не утруждая самого Амвросия читать этот длинный труд, о котором тогда много говорили в богословских кругах. Вывод Буткевича был неблагоприятен, и Амвросий, по его настоянию, в одной из своих проповедей, которые всегда печатались в духовных органах, очень резко выступил против этой книги, обвиняя автора чуть ли не в антихристианстве и в ереси. Сережа в ответной брошюре доказал прямыми точными ссылками на свою книгу, что его оппонент либо не прочел его диссертации, либо не понял ее, и полемика завязалась такая неприятельская, что, говорят, Победоносцев вмешался и дружески просил Амвросия прекратить свои нападки. Такие обстоятельства не способствовали установлению близких отношений между нами.
Помню, как когда Лиза приехала меня навестить, я ее повез представить Амвросию, жившему тогда еще на архиерейской даче. Принял он нас очень любезно; я тогда, за отсутствием Тобизена, управлял губернией, и вдруг владыка озадачил меня следующими словами: «Я, Ваше превосходительство (этим титулом принято было в Харькове величать вице-губернатора, хотя я был, кажется, всего коллежским советником), на днях буду просить Вашего содействия и, быть может, и вызова войска» — «Для чего, владыко, Вам могут понадобиться войска?» — «Дело в том, что в одном приходе задумали строить храм, но потом я передумал строить его на прежде выбранном приходом месте и решил постройку сделать на другом месте, хотя в том же селе, но ближе к погосту, а прихожане упорствуют и возят материал на прежнее место. Послал я уладить дело благочинного Полтавцева; это ума палата, но если он их не вразумит, хоть стрелять придется, а заложу храм, где я решил». Я скромно возразил, что едва ли постройка храма при таких обстоятельствах будет угодна Богу. Как дальше решалось это дело, не помню, вероятно, Полтавцев сумел всех умиротворить, потому что иначе вызов войска остался бы у меня в памяти. Вот что меня отталкивало от Амвросия — это его самоуверенность, самомнение и злобность, доходящие до цинизма, и вместе с тем угодничество перед Победоносцевым, запретившим ему препираться с Сережей Трубецким. Как не сопоставить сему ответ епископа Феофана владимирского, впоследствии известного затворника, всесильному тогда обер-прокурору Синода графу Толстому. Феофан был скромен, любвеобилен, управлял своей епархией кротостью и всеми был уважаем; но нашлись злые люди, завистники, которые пожаловались на него Синоду по следующему поводу: на место кафедрального протоиерея во Владимире Феофан посвятил достойного человека, но своего родственника-диакона, чем вызвал страшную зависть. Граф Димитрий Андреевич Толстой, возмущенный таким, по его мнению, непотизмом архиерея, грозно запросил его: «Почему такой-то диакон посвящен во иереи и определен на самое видное место в епархии?» Преосвященный с достоинством ответил: «По изволению Святого Духа и моему епископскому избранию», и граф Толстой должен был умолкнуть. У Амвросия bêtes noires были граф Лев Николаевич Толстой и Англия как виновница войны с бурами. Я думаю, что Амвросий был инстигатором отлучения Толстого. Он неоднократно мне говорил, что хочет дожить до победы буров над англичанами и непременно пережить Толстого. Судьба над ним зло посмеялась. Скончался он на архиерейской даче, и когда тело его везли в город для предания земле в Покровском монастыре, месте упокоения архиереев, катафалк
481
был на мосту, перекинутом через железнодорожные пути, в то время как под ним проходил курьерский севастопольский поезд, в коем ехал граф Л. Н. Толстой лечиться на юг. Все, зная отношение Амвросия к последнему, обратили на это внимание. Викарными у Амвросия были преосвященный Петр, скоро назначенный в Смоленск и замененный преосвященным Иннокентием, впоследствии экзархом Грузии, на каком посту и скончался. С обоими этими викарными я очень дружил, часто летом ездил к ним в Хорошев монастырь, где была их дача, и проводил с ними вечер в мирной дружеской беседе.
Из судейского мира особенно был близок к нам прокурор Судебной палаты Владимир Васильевич Давыдов, дядя моей жены. Это был человек из ряду вон умный, способный, очень приятный и, когда я с ним познакомился, человек совершенно почтенный; молодость свою провел он бурно, женат он был на Дохтуровой Юлии Сергеевне. Кто из них был виноват — не знаю, вероятнее всего, оба; они долго жили врозь, каждый своей собственной полной жизнью и только в Харькове вновь соединились в дружную семью, каковыми я их застал. Давыдов до того всех затенял, до того был головою выше других, что губернские прокурорские чины совсем игнорировались, и прокурор Окружного суда Ипполит Викторович Деларов, очень порядочный, милый и дельный человек, все-таки не играл роли. Был в Харькове еще один родственник жены, Александр Павлович Евреинов, но тот был совсем полупочтенный и с ним случалось обратное Давыдову; его я застал женатым во второй раз (первая его жена была Полторацкая) на особе очень сомнительной; никуда он не показывался, служил в Страховом обществе, часто разъезжал по своей инспекции и совершенно, казалось, не принадлежал к обществу. А было время, как рассказывали, что до своего второго брака он был любимым членом общества, без коего не обходился ни один, как бы ни был он интимен, вечер; он был le boute-en-train всех светских удовольствий, и про него говорили qu’il faisait la pluie et le beau temps. С его женой ни я, ни Лиза не познакомились. Общество в Харькове было самостоятельное, не в зависимости от служебного элемента, которое, как скоро меняющееся, лишь принималось, но не доминировало. Но к нему я вернусь, когда начну описывать нашу первую зиму в Харькове, а теперь кончу рассказ о своих первых административных шагах.
Когда уехала семья Тобизена и он остался один, он настоял, чтобы я переехал к нему в дом, где отвели мне две комнаты рядом со столовой, совсем отдельный апартамент. Переехал я в губернаторский дом как раз [тогда], когда шло в верхней большой зале заседание Благотворительного общества при участии чуть ли не пятидесяти членов, все наиболее видные лица разных слоев харьковского общества; много было среди них купцов. Помню, как видя это многочисленное собрание чужих мне людей, подумал, как долго еще надо будет мне свыкаться с ними, изучать их, прежде чем моя деятельность станет плодотворной, тогда как в Калуге, среди всех своих, моя административная работа с первых же шагов была бы продуктивна. В таком же положении очутился, по-моему, Нейдгардт в Калуге, почему казалось мне ошибкой Министерства избегать давать движение в своей губернии местным людям; если человек способен был злоупотреблять своим служебным положением в целях личных, помещичьих, то такой
482
человек и в другой губернии не заслуживал доверия. Но с течением времени я все-таки так освоился с Харьковом и всеми его деятелями, что мне даже представлялось потом странным мое первое отношение к нему. Тобизен предполагал скоро ехать в разрешенный ему заграничный отпуск, а потому, чтобы подготовить меня к самостоятельному управлению губернией, предложил мне вместо ежедневного посещения губернского Правления проводить утра у него в кабинете и присутствовать на всех докладах, что мне значительно потом облегчило работу. Но отъезд его чем-то задерживался, и он после нескольких дней совместной работы, видя мою тоску по семье, предложил мне на недельку съездить домой и воспользоваться этим, чтобы быть и на экстренном уездном Калужском Дворянском собрании, где должны были произойти выборы нового предводителя. С радостью и благодарностью принял я его предложение и покатил обратно. С завистью проводил меня Евмений; к тому времени ему успела надоесть чужбина, несмотря даже на все его в Харькове привилегированное положение камердинера вице-губернатора. Уезжая из Харькова, я испытывал то же чувство, как когда-то в Петербурге, когда впервые уехал в отпуск после первой зимы обучения в военной гимназии. Но тут уж я воочию сумел оценить и мое служебное положение: когда я был уже на вокзале, Евмений спохватился, что забыл уложить мне папиросы и поскакал назад в губернаторский дом за ними, не успев передать мне железнодорожный билет, заранее им для меня купленный. К отходу поезда он не поспел и я уехал без билета, но уже на второй станции подана была мне служебная телеграмма по линии для предъявления бригадам кондукторов о том, кто я и что мой билет за таким-то номером высылается вслед начальником станции Харькова; понятно, мне было отведено отдельное купе, и до самой Тулы предупредительность поездной прислуги была необычайная. Как при въезде в Харьков настроение меняется между Курском и Белгородом, так и обратно то же чувствуется, подъезжая к Курску. Поезд проходил эту местность уже вечером, в сумерки, пересекал целый ряд лесков, речек, вершин; казалось, в каждом кусту пел соловей, и трели их заглушали даже поездной шум и ночью врывались в открытое окно купе. Чувствовалась прохлада, свежесть, путь был защебенен, а потому окно всю ночь можно было держать открытым. Казалось, что из какого-то адского пекла вырвался в благодатную местность.
В Сергиевское приехал я совершенно неожиданно, чуть ли не даже на почтовых, но приезд был нерадостный. Застал я Марию серьезно и опасно больной — у нее было что-то похожее на дизентерию и дня два положение ее было очень тяжелое. К счастью, ко времени моей поездки в Калугу на Дворянское собрание она уже была вне опасности. Чтобы не терять лишнее время, поехал я в Калугу на лошадях, рассчитывая по окончании Собрания немедленно вернуться домой. Приезд мой, совершенно неожиданный для калужских дворян, тем более был ими оценен; все выборы были разыграны как по нотам. Узнав о моем приезде, князь Кантакузен пытался меня увидать, но нигде не мог меня перехватить, и впервые встретились мы с ним в дворянской Опеке перед началом Собрания. Сдается мне, что он одумался и в ту минуту решил идти в предводители, сожалея, что до того отказался от моего предложения; но было уже поздно менять решение и выбраны были намеченные лица: предводителем — Николай Николаевич
483
Яновский, а кандидатом к нему — Никандр Александрович Лебедянцев; против последнего препятствовал Кантакузен, но его голос остался втуне; заранее было подсчитано, сколько надо класть шаров Лебедянцеву, чтобы его избрать, но вместе с тем и не переложить против Яновского, который все-таки получил несколько черных. Один черный шар был всегда каждому обеспечен; практиковал это некто Иван Иванович Рахманов, непременный член губернского Воинского присутствия; если баллотировалось малознакомое ему лицо, он оправдывался тем, что мало его знает; если же это был его друг и приятель, он всегда клал налево: «Дабы не зазнавался», — добавлял он. Всеми выборами официально руководил Андрей Дурново, сидевший на председательском месте, но душой их был я, и в последний раз я сыграл свою роль предводителя, хотя негласно, но так же авторитетно, как и в бытность мою в этой должности. Пробыл я, в общем, в Калуге лишь несколько часов и покатил обратно в Сергиевское, но и там прожил очень недолго; помню, что отъезд Тобизена был назначен на 27 июня, и я решил накануне, 26-го, быть уже в Харькове, дабы принять от него губернию и получить нужные инструкции.
Уезжал Герман Августович в не совсем покойное время, но откладывать он более не мог, иначе не успел бы проделать свое лечение и вернуться вовремя для встречи государя, долженствовавшего в августе проезжать через Харьков с остановкой в Борках. Непокойно же было в губернии в том отношении, что вновь боялись беспорядков в Святых Горах Изюмского уезда, имении графа Рибопьера. За год перед тем там было настоящее побоище между крестьянами и служащими в имении; отношения всегда были неважны с крестьянами, а последние годы особенно обострились из-за приглашения в объездчики графских лесов и полей черкесов; последние же были и буйны, и вольно держались с молодыми деревенскими девушками, откуда и загорелся весь сыр-бор; тогда туда и войска вызывались. В этом же году изюмский исправник барон Рауш фон Траубенберг шифрованной телеграммой доносил, что настроение очень повышенное и он боится повторения прошлогодней истории. Тобизен его вызвал для личного доклада, но, не дождавшись его, уехал, сдав мне это дело без особых директив, советуя мне только согласовать свои действия с распоряжениями прокурора Судебной палаты (к сожалению, в это время и Давыдов уехал, сдав должность старшему своему товарищу Добрынину). Когда поезд с Тобизеном скрылся из виду, я особенно остро ощутил ту громадную ответственность, которая ложится отныне на меня, еще совершенно неопытного администратора. Первое мое самостоятельное управление губернией сошло благополучно, без осложнений и инцидентов. Волнения в Святых Горах улеглись, после того как по моему требованию исправник настойчиво добился увольнения управляющим наиболее буйных и нахальных черкесов; но до сих пор помню то напряженное состояние, в каком я провел это время, боясь ежедневно каких-нибудь неожиданностей. Каждый утренний доклад полицмейстера был для меня страхом, не ожидаются ли какие-нибудь беспорядки; ведь Харьков в прошлом видел их немало. Зато это время я имел возможность ближе ознакомиться со всеми сослуживцами и подчиненными и войти в курс дела. Надо сказать, что Герман Августович, сам не особенно деятельный губернатор, имел талант окружать себя людьми не только высоко порядочными,
484
но и очень способными. Почти все служащие до мелких даже чиновников были из окончивших высшее учебное заведение. Правитель канцелярии Гавриил Федорович Пивоваров, который служил потом со мной в Туле, обладал из ряда вон блестящим пером, и бумаги, прошедшие через его цензуру, были образцом делового стиля. Однажды государь сказал Тобизену, что восхищался, читая его всеподданнейший отчет, до того его изложение было сжато и ярко, на что Герман Августович, стремившийся всегда выдвинуть подчиненного, доложил, что обязан он этим перу Пивоварова. Непременные члены разных Присутствий были столь же деловиты, в особенности старший непременный член Губернского присутствия Дмитрий Валерианович Де-Коннор, доклад коего по сжатости, яркости и выводам походил на доклад сенатора в Общем присутствии, как мы читали их в различных юридических сборниках. Второй член того же Присутствия, князь Лобанов-Ростовский, был довольно бесцветен и скоро заменен был неким Федором Федоровичем Безобразовым, о котором расскажу впоследствии. Непременный член губернского Воинского присутствия Нил Петрович Савицкий окончил Нежинский лицей, знал свое дело в совершенстве, помимо своей должности заведовал делопроизводством Благотворительного общества и комитета по постройке храма в Борках. С ним и по его настоянию я поехал в Борки удостовериться в успешности работ по приведению сада и окружающей местности в красивый вид для ожидаемого посещения государя. Брал я с собой в эту поездку и полицмейстера фон Вилькена, так как Тобизен решил на время пребывания его величества охрану Борок возложить на Вилькена как особенно опытного и развитого полицейского чина. История Германа Карловича фон Вилькена была совершенно особенная. Учился он в Правоведении одновременно с Тобизеном, с которым были друзьями. Когда Вилькен был, кажется, в 5-м классе, умер его отец, оставив ему большое наследство в Эстландии, откуда он был родом; мальчик бросил учиться и, недостаточно поддержанный опекуном и попечителем, скоро все свое состояние спустил и, когда ему минуло 20 лет, оказался без гроша. Недолго думая, он отправляется искать счастья в Америку, где ведет самую трудовую жизнь, начав с каменобойца-мостовщика на шоссе, чем себя прокармливает. После семилетнего пребывания в Америке он уже настолько освоился и применился к местным нравам, что решается предпринять собственное дело: он заарендовал рыбную ловлю, завел большие рыбные снасти и стал не только уже жить сносно, если не богато, но и скопил капитал. Болезнь, причиной которой, по словам докторов, была тоска по родине, и местный нездоровый климат заставили его все покинуть, распродать и спешно вернуться в Европу. Поселился он в Риге, где он поступил чиновником-цензором при Губернском правлении, владея в совершенстве, кроме французского, немецкого и английского языков, еще и местными наречиями — эстонским и латышским. Его деловитость, уравновешенность, спокойствие и благовоспитанность побудили курляндского губернатора Димитрия Сергеевича Сипягина, переведенного туда из харьковских вице-губернаторов, поручить ему должность полицмейстера города Либавы — пост, очень ответственный по значению самого города-порта и по положению самого полицмейстера, являвшегося первым лицом в городе в административной иерархии, как бы градоначальником. Из Либавы Герман Карлович при губернаторе Петрове,
485
предшественнике Тобизена, был переведен приказом Министерства внутренних дел в Харьков. Встреча его с Тобизеном была трудная. Они как товарищи были на «ты», а служебное положение по иерархической лестнице ныне становилось очень различно, но Вилькен был так умен и тактичен, что умел всегда себя держать как следует: в кабинете наедине или при мне, говоря с Германом Августовичем по-товарищески на «ты», на народе он стоял перед ним навытяжку, сыпал «Ваше превосходительство» и был преувеличенно почтителен. Я очень любил Вилькена, ценил его, но сознаюсь, всегда остерегался его, не доверяя ему в денежных делах — уж очень много было на него жалоб по еврейским делам и часто он был несправедлив, потворствуя одним и преследуя других. Я предостерегал Тобизена, но последний не верил моим опасениям, и кто знает, может быть, и был прав, потому что Вилькен после десятилетнего полицмейстерства в Харькове выехал в Читу, куда был назначен вице-губернатором, совершенно бедным и не мог даже взять свою семью с собой, а отправил их к родным на родину, не имея достаточно средств, чтобы оборудовать там семейную квартиру. Он, бедный, скоро там и скончался.
Сошелся я в это лето с васковским предводителем дворянства Валерианом Валериановичем Ширковым и управляющим Дворянского и Крестьянского банка Димитрием Александровичем Свербеевым, отдаленным родственником моей жены. Первый был очень талантлив, он был и писатель и музыкант. Еще в Сергиевском я прочел, не помню в каком журнале, его повесть, сюжетом коей была кончина его дочери от дифтерита. Повесть эта написана так тепло, с таким неподдельным чувством, что тогда же я обратил на нее особенное внимание, не зная, что судьба скоро столкнет меня с самим ее автором. Часто Ширков заезжал ко мне вечером и музицировал в большой зале губернаторского дома, либо исполняя свои произведения, либо тут же импровизируя. Это не было серьезной музыкой, но все же она была глубоко им прочувствована, почему производила впечатление. Почти каждый вечер меня посещал и Свербеев — тип совсем другой. Он был крайне обязательный человек, с практической складкой ума, знавший все обстоятельства харьковской общественной жизни как старожил, хотя поселился в нем незадолго до моего назначения. Димитрий Александрович умел со всеми сходиться, со всеми заводить если не дружбу, то интимность, а в губернаторском доме играл роль домашней кошки, совершенно освоившись с ним и ставши его принадлежностью. Впоследствии Тобизена сменил князь Иван Михайлович Оболенский, правда, дальний родственник Свербеева, и последний остался той же принадлежностью дома, свободно в нем распоряжался и был как-то всем необходим. Был еще другой тип, присосавшийся к семье Тобизенов и с их отъездом часто меня навещавший: это был офицер одного из местных полков Лордкипанидзе (грузин); он прекрасно играл в карты, во все игры и по какой угодно ставке, почему для отдохновения от служебных трудов был очень приятным гостем, сообщая поминутно все новости, которые он всегда знал раньше других, вращаясь во всех кругах; его отличительная черта была та, что он никогда не злословил и потому везде принят был дружески. Вечера свои проводил я обыкновенно, сидя на балконе губернаторского дома, выходящем к реке Харьковке с открытым видом на заречную часть; так как дом был на полугоре, он доминировал надо всей
486
этой частью города, и в темноту при свете лишь электричества видимая часть города казалась величественной. Каждый вечер, распивая свой вечерний чай, слушал я оркестр сада «Бавария», расположенного от губернаторского дома очень недалеко. Этот дальний садовый оркестр, заглушаемый иногда городским шумом, часто наводил на меня ужасную тоску и Sehnsucht по деревенской тишине; тогда я отправлялся к Лауницам в Алексеевку, их подгородное имение в пяти верстах от города. Там жена Владимира Федоровича, Марья Александровна, двоюродная сестра моей жены, особенно приветливо меня встречала и, понимая мою тоску по семье, всячески старалась меня развеселить, главное, давая мне возможность говорить с ней о своих. Ее дети были почти одного возраста с моими, их было тогда пятеро и лишь старшие два — Бадя (Владимир) и Маруся — были постарше моего Миши, а потом шли такие, которые имели сверстников и среди моих детей. В этой теплой, родственной атмосфере и отдыхал я в минуты особенно острой тоски. Как я писал в своих детских воспоминаниях, редко кто так болезненно пережил первую разлуку с семьей, когда меня отправили одного готовиться и держать вступительный экзамен в военную гимназию; я тогда и заболел первым приступом желчной болезни, от которой всю жизнь потом страдал. Эта болезненная тоска как острое физическое ощущение с новой силой обуяла меня в Харькове вдали от семьи, в новой, чуждой и далеко не успокоительной обстановке. Это чувство, столь острое, отравило мне во многом харьковскую жизнь, так как мне пришлось впоследствии, как и в первый год, проводить лето в одиночестве; под конец, не доверяя своим силам и сознавая, как тоска осложняла мою и без того трудную работу, а вместе с тем не имея возможности отрывать Лизу от детей, я стал выписывать к себе Нюничку, дабы она своим родным присутствием вносила бы уют в мою временно одинокую жизнь.
Как только вернулся Тобизен, я чуть ли не в тот же день выехал к себе домой, но на очень короткий срок, ибо ожидался проезд государя, и Тобизен настаивал на моем присутствии, обещая тотчас после проезда его величества отпустить меня на более продолжительный срок. До возвращения еще Тобизена я с трудом нашел себе квартиру — деревенскую усадьбу, дом со службами и садом на 3-х десятинах, включенную с течением времени в черту города; правда, расположена она была на самой окраине города близ Карповского сада, места сборища всех харьковских «ракло» (местное прозвище босяков и хулиганов), у подножия Холодной горы и совсем рядом с железнодорожным поселком. Дом и службы надо было и отделывать, и приспособлять для житья столь большой семьи, что требовало много времени, почему на ранний переезд семьи из Сергиевского нельзя было рассчитывать. Тобизен, всегда сердечно входивший во мое положение, поэтому и обещал мне более продолжительный осенний отпуск неофициальный.
Приехал я назад в Харьков накануне проезда государя и застал всех en emoi от сего события. Дворянство в лице всех своих предводителей встречало царскую семью; город в лице представителей от городской Думы, депутации из гласных, с городским головой Голенищевым-Кутузовым (не графом) во главе тоже должен был быть в Борках, а также и сословия в виде депутатов от цехов и местных волостных и сельских должностных лиц; духовенство в большом составе
487
ожидало царя в Борках, имея во главе и архиепископа Амвросия, и его викарного. Дамы, предводимые Зинаидой Семеновной Тобизен и графиней Капнист, должны были там же представляться государыне. С экстренным поездом для всех сих лиц я и отправился в самый день проезда рано утром из Харькова, поместившись в дамском вагоне, где атмосфера общественная была сгущенная благодаря пикировкам графини и Зинаиды Семеновны. Тобизен уехал с полицией и Вилькеном еще накануне. Я предлагал Герману Августовичу остаться на всякий случай в Харькове и быть на перроне вокзала, когда царский поезд будет проходить городскую станцию, но Тобизен и слышать об этом не хотел; у него всегда было доброе желание выдвигать своих помощников и тем, по его мнению, способствовать их карьере. В Борках у подножия лестницы, спускавшейся с насыпи, с одной стороны стали дамы, а с другой стороны — дворянство, имея первым графа Василия Алексеевича Капниста, а за дворянами я и потом следующие представляющиеся. Очень торжественная минута была, когда плавно подошел поезд под звон колоколов (особенно гармоничный звон) храма в Борках и соседнего Спасова скита. Государь с государыней в сопровождении Тобизена, графа Гендрикова (моего товарища по полку, служившего потом волчанским предводителем Харьковской губернии, а в эту минуту состоявшего при государыне императрице), спустившись с лестницы, подошли к дворянам, и граф Капнист, поднеся букет императрице, обратился к государю с речью, начинавшейся словами: «На этом месте, некогда пустынном...». Милейший граф Василий Алексеевич до того всем надоел этой речью, которую он каждому декламировал! Но всего лучше было то, что он ее уже раз сказал без всяких вариантов в предыдущий проезд его величества. Il ne variait pas! Государь на это приветствие улыбнулся, потому что, как оказалось потом, Гендриков в поезде за завтраком изобразил в лицах ожидаемую речь Капниста, и столь похоже, что, увидав и услыхав подлинник, его величество не удержался от улыбки. Пребывание царской семьи в Борках длилось не более получаса времени, включая и краткий молебен в храме, а сколько для сего было сделано приготовлений и положено напряженного труда! Помню, как в этот день, вернувшись в Харьков, сидел я с Гендриковым у Германа Августовича вечером, когда принесли телеграммы змиевского и изюмского исправников о благополучном проследовании царского поезда через губернию. Тобизен с женой перекрестились и облегченно вздохнули, а Гендриков резонно заметил: «Неужели Вы интересуетесь благополучным проездом государя только по Вашей губернии, а не вообще его счастливым путешествием?» Тобизен как-то лишь сконфуженно улыбнулся, а Гендриков был действительно прав: не одна лишь любовь к царю руководила нашими заботами о его беспрепятственном благополучном проезде, а во многом бюрократические опасения за могущую оказаться оплошность. Мое личное представление царю ограничилось лишь тем, что Тобизен назвал мою фамилию и должность, а его величество спросил, давно ли я здесь вице-губернатором, и, увидав на моем мундире кавалергардский жетон и знак Пажеского корпуса, спросил, какого я выпуска и когда покинул полк.
На следующий день Тобизен отпустил меня домой, где я пробыл около месяца. Во время моего пребывания в деревне Diditte свиделась с Сергеем
488
Александровичем не у нас в доме, а на квартире управляющего и на этот раз вновь дала ему согласие, но при условии, что зиму она проведет с нами в Харькове и лишь на следующее лето будет свадьба. Таким образом, в смысле педагогии с нами ехали в Харьков Diditte, Розали и еще учительница-фишеристка Ольга Александровна Алферева, что составляло с нами, родителями и Нюничкой 14 человек. Из прислуги за нами следовали Евмений — буфетчик, Афанасий — выездной, он же мой камердинер, Иван — буфетный мужик (по прозвищу детей «болезненный»), няня, ее помощница Мавра, Саша — девушка жены, Василиса — горничная моей матери и Иван — повар с женой, которая была и его помощницей. В общем, надо было поместить 23 человека, да еще вестового и кучера, нанимаемого у извозчика вместе с лошадьми. Послал я вперед Петра-столяра и Евмения, объяснив, какие перегородки ставить и как отделать квартиру. Но все это взяло столько времени, что моя семья могла переехать лишь в конце октября, я же приехал в Харьков много раньше. Не помню последовательно ход всех событий моей служебной деятельности и параллельно семейной жизни в Харькове, но для первой хронологический порядок не столь важен, почему я в дальнейшем изложении разделю их и сначала опишу, что помню, про свою службу вице-губернатором в Харькове, где мне пришлось на опыте пережить самые различные административные случаи.
Тобизен с первых же шагов ввел меня, как я уже сказал, в самую суть губернаторской деятельности. Ко времени моего назначения, он уже настолько устал, пробыв до того около 10 лет вице-губернатором в Риге и 5 лет губернатором в Томске (в Харькове я его застал уже на четвертом году его там службы), что рад был сдать мне большую долю своей работы, оставив за собой лишь общее руководство. Таким образом, он всецело возложил на меня председательствование в Губернском присутствии, в Воинском присутствии, в Промысловом присутствии, в Распорядительном комитете, в Лесоохранительном комитете и в Общем присутствии Губернского правления по освидетельствованию сумасшедших, а также передал мне ведение всего по еврейским делам. Такое обилие работы, и притом работы напряженной, отвлекло меня от моих прямых обязанностей по губернскому Правлению, коему я мог посвятить лишь утро, а в час дня уже начиналось какое-нибудь заседание под моим председательством. Приходил я обыкновенно в Губернское правление, помещавшееся в начале моей службы в разваливавшемся здании Присутственных мест против собора (последний год перевели Правление в наемный дом на Екатеринославской); в 10 часов утра принимал доклады советников, всех делопроизводителей до 12 часов, когда начинался прием посетителей, и уже в час дня надо было открывать заседание какого-нибудь из вышеперечисленных Присутствий или комитетов, большей частью в зале Губернского правления, а иногда — в Управлении государственных имуществ или Казенной палате. Заседание затягивалось часов до 6, так что редко я возвращался домой раньше 6 с половиной часов; возвращался домой утомленный до крайности, но зато по вечерам избегал всякую работу, проводя это время в семье или же выезжая в общество, что было необходимо в Харькове для поддержания добрых отношений, но и, что я больше всего любил, посещая театр. По всем Присутствиям, сданным мне губернатором, все дела были в порядке и залежей
489
не было, кроме губернского Присутствия, где я застал несколько тысяч (кажется, около 4-х) судебных дел не разобранных. Были дела, ожидавшие своей очереди по пять, по четыре года. Непременные члены их докладывали, лишь когда поступала жалоба на медленность производства, а то они вносили в заседание лишь текущие дела и так хоть достигали, что залежь не увеличивалась. Пришлось просить командировать 3-х непременных членов специально для доклада старых дел и назначить особый день заседания (по субботам через неделю) для сего. Вначале я относился очень добросовестно к этой работе, прочитывая заранее все дела, но с течением времени это оказалось совершенно не по силам; каждую середу докладывались до 50 дел (одну неделю судебных, другую административных), а по субботам доходило до 80 дел в заседание. Пришлось довериться докладчикам, хотя иногда я и видел их ошибки; лучший из них, Де-Коннор, имел своих нелюбимцев, и когда докладывал дело Харьковского уездного съезда, всегда persifl’ировал, стараясь подцепить <…> этот съезд, а кто не знает, что кассационных поводов к отмене решения можно почти всегда найти? Но эти поводы бывают подчас столь незначительны, что на суть решения не могут влиять, но Димитрий Валерианович (так звали Де-Коннора) особенно недолюбливал Харьковский уезд, ибо перед своим назначением едва не лишился такового ввиду усиленного ходатайства Лауница назначить на эту вакантную должность земского начальника его уезда Петра Ричардовича Богуславского. Правда, среди земских начальников Харьковского уезда был один, Левшин, очень уж дилетантски решавший свои дела, хотя он был вполне порядочен и, думаю, по существу всегда старался добиться правды; камера этого Левшина была в Харькове, сам он постоянно бывал в обществе, где все его любили, и все это не нравилось анахорету Де-Коннору. Ввиду этого я всегда особенно внимательно следил за докладами по Харьковскому уездному съезду. Остальные непременные члены не отличались талантливостью доклада и вдумчивым отношением; понимал я, что недостаточно сам вникаю в дело, но физической возможности к этому не было, и благодаря этим обстоятельствам, думаю, что кассационная практика Губернского присутствия за эти годы грешила непоследовательностью; зато ко времени моего отъезда из Харькова залежь была почти вся ликвидирована и, надеюсь, более не возобновлялась.
Много неприятных минут мне дало свидетельство сумасшедших. Так как Харьков изобилует частными психиатрическими лечебницами, не говоря уже об образцовом Земском доме для умалишенных на Сабуровой даче, весь юг свозил сюда своих больных, почему в заседаниях, назначаемых два раза в месяц по субботам, свидетельствовалось человек до десяти, причем кроме тех, которых лечебные заведения привозили в губернское Правление, приходилось разъезжать и по частным лечебницам, и даже и по частным квартирам, когда состояние здоровья больного не позволяло его перевозить. И чего-чего я не насмотрелся за это время; мне, всегда болезненно боявшемуся сумасшедших, это было в большую тягость. Помню неоднократные освидетельствования одного чиновника, у коего была мания, что он призван раскрывать злоупотребления; и где только он не перебывал и не надоел администрации: и на Кавказе он досаждал главноначальствующему своими докладными записками о злоупотреблениях в Управлении
490
Кавказа, и в Курской губернии он настолько надоел губернатору графу Милютину, что наконец его оттуда выслали как зловредного кляузника. В Харькове он еще более приставал к Тобизену и ко мне с самыми несуразными заявлениями; когда же его перестали пускать на прием, он затеял такую проделку: по телефону вызывал от имени губернатора то полицмейстера, то прокурора, то жандармского полковника Маврина в губернаторский дом ночью будто бы по важному делу. Наконец удалось его в этом уличить, требовали с него и его домашних подписку о том, что он прекратит свои проделки, но его семья прямо наотрез отказалась брать его на поруки и сама возбудила ходатайство о его освидетельствовании, на что, по словам докторов, наблюдавших за ним до того в одной санатории, где он просидел около месяца, было полное основание. Дважды Сенат вернул нам дело для нового освидетельствования, не считая по его запротоколированным ответам достаточных оснований к ограничению его в правах; выходило из заключений Сената, будто обвинение сего помешанного властей в злоупотреблениях правильно. Для третьего раза я созвал целую экспертизу во главе с уважаемым профессором-психиатром Анфимовым, и только после веского слова последнего Сенат, наконец, согласился с нами. Никогда не забуду тяжелого впечатления при виде молодого человека, юноши, заболевшего на последнем экзамене университета, где он слушал и кончал второй факультет, не удовольствовавшись медицинским, и пожелавшего еще прослушать и естественный факультет. Эти усиленные занятия и надломили его психику — надо было видеть слезы его матери, для которой он был и гордость и надежда, когда она рассказывала обстоятельства его болезни. Бывали и дикие сцены: раз одна больная отвечала столь разумно на все мои вопросы, что у меня закралось действительное подозрение в ошибке. Тогда врач Сабуровой дачи, где она пользовалась, шепнул мне задать ей какой-то вопрос (какой — не помню, но он всегда возбуждал в ней раж), и я едва это сделал, как она вскочила с поднятыми кулаками, диким воплем, и только благодаря тут же находившимся служителям больницы, подоспевшим вовремя, отстранен был удар, который она намеревалась мне нанести, после чего полился такой поток несообразных слов, что сомнения не могло быть в ее болезни. Возвращался я домой после этих заседаний особенно измученный и нравственно, и физически.
Тобизен неоднократно возлагал на меня и поручения, связанные с представительством, так как сам часто болел. Раз в год бывал базар Благотворительного общества, для чего в зале Дворянского собрания на особой эстраде устраивались четыре ложи с колесами лотереи-аллегри: одна — для администрации, и в ней президировала З. С. Тобизен с дамами, женами должностных лиц, и в том числе всегда моя Лиза; другая — для дворянства, где первое место занимала графиня Капнист; в третьей, для городских дам, не помню кто первенствовал, а в четвертой, Купеческого общества — главенствовали всегда госпожа Ващенко и госпожа Монакова; кассиром же был непременно кучер Орлов, увешанный медалями от подбородка до пояса; эта ложа всегда отличалась особенно богатой отделкой, хотя иногда довольно безвкусной. Все колеса были зашнурованы и запечатаны, выигрыши были тут же выставлены по стенам (наиболее громоздкие, как-то экипажи, лошадь, иногда корова, оставались на улице за особой перегородкой)
491
и заранее осматривались толпой, которая ко времени открытия базара набивалась в зал плечом к плечу. По поручению Тобизена, заменяя его, я в мундире должен был приехать в определенный час, когда уже все были на местах, и, встреченный тушем оркестра, шествовать под звуки торжественного марша в сопровождении многочисленных чинов полиции через всю толпу, обойти всех дам и разрезать шнуры на колесах, проверив целость печатей, что было сигналом начала продажи. Это было очень эффектно, а для меня, не привыкшего ни к каким помпам, очень конфузно. Однажды я иногюрировал вновь построенный городом мост через реку Харьковку; жена моя и Соня Тобизен (младшая дочь, а он уже не был губернатором) разрезали ленты золотыми ножницами, поднесенными каждой городом в презент, а я во главе городского Управления впервые прошел через мост и объявил движение открытым. Всему этому предшествовало торжественное молебствие с архиереем. И на пожары приходилось выезжать, хотя такие случаи были редки. В таком большом городе пожары были почти ежедневно, но четыре пожарные городские части были вполне образцовы и потому пожары скоро локализировались. Ездил я, только когда пожар был особенно грандиозен или когда горело казенное или общественное здание. Помню один очень большой пожар, как раз у подножья спуска от губернаторского дома, на той стороне реки Харьковки: горела шестиэтажная мукомольная мельница, взрывы от вспыхивающей мучной пыли следовали один за другим, сила их была такова, что громадные балки взлетали на воздух и при падении грозили задавить прохожих, почему место пожарища пришлось оцепить на далекое расстояние, не допуская глазеющую толпу. Все распоряжения передавались сигналами на трубе; трубач-сигналист стоял всегда за Вилькеном, когда тот приезжал, а до того его место было при брандмайоре, но при появлении старшего, то есть меня или Тобизена, трубач от них переходил к нам; я лично всегда его отсылал к Вилькену, возлагая тем на последнего и обязанность распоряжаться; надо отдать ему справедливость, никогда впоследствии я не видал такого хладнокровия и обдуманности в распоряжениях. Правда, что и команды пожарные были образцовые, и город на них средств не жалел. Однажды, когда я управлял губернией, приехал известный деятель по пожарному делу, князь Львов, и я для него после обеда устроил пожарную тревогу, для чего повез я его к заречной пожарной части, стоящей на большой площади, где удобно было сосредоточить и маневрировать со всей пожарной командой города. Подъехав неожиданно к части, приказал часовому ударить тревогу, часовому на вышке — выкинуть флаг сбора всех частей, а дежурному по части — по телефону дать знать, что пожар на Михайловской площади. Очень эффектна была картина: 1-ая часть, которую я вызвал и при которой мы остались, была готова в четыре минуты, а самая дальняя прибыла сюда через двадцать минут. Князь Львов был очень доволен и пригласил нашего гроссмейстера на съезд по пожарному делу, который он устраивал, что было большой честью для провинциального деятеля. Ездил я однажды по поручению Тобизена в село Малиновское, близ Чугуева, которое более чем наполовину сгорело от искры паровоза. Поручено мне было организовать там комитет для помощи погорельцам, оказать первоначальную помощь и собрать точные сведения, дабы обосновать иск крестьянского общества к Управлению железной дороги. Первую
492
часть поручения мне удалось хорошо исполнить благодаря содействию начальника Чугуевского Юнкерского училища, который еще до моего приезда неофициально устроил такой комитет. Для раздачи первых пособий мне были даны значительные средства, так что острая нужда сейчас же была удовлетворена; а когда благодаря собранным мной сведениям Управление дороги пошло на мировую и, не доведя дела до суда, уплатило добровольно убытки крестьянам, последние отслужили благодарственный молебен с крестным ходом; фотографию же, снятую с этого торжества, поднесли мне с соответствующей надписью через депутацию, присланную для этого специально в Харьков; такой же снимок поднесен был и Тобизену.
Очень я любил эти поездки по губернии; совершались они всегда с большими удобствами в отдельном вагон-салоне и длились иногда довольно долго. Благодаря им я ознакомился с губернией если не лучше, то, во всяком случае, не хуже самого Тобизена. Ездил я однажды в Святые Горы выяснить на месте настроение крестьян в этой местности, бывшей всегда очагом всяких осложнений; это дало мне возможность посетить и осмотреть Святогорский монастырь, раскинутый по течению реки Донца в глубокой балке. Подъезжаешь к нему по необозримому пространству хлебных полей, где негде и глазу отдохнуть, до того картина однообразна, и вдруг, подъехав к краю спуска к реке, видишь в глубине балки целый оазис красивого дубового леса, растущего по обоим берегам реки, и среди него белые церкви и постройки монастыря. Свежесть, лесную тень особенно ценишь после зноя степи. Монастырь, хотя и не древней постройки, очень красив благодаря своему местоположению. Настоятель монастыря особенно любезно принял меня, и я с удовольствием отдохнул, пользуясь его радушным гостеприимством. По дороге заезжал я на курорт Славянск и осматривал близлежащие соленые озера и видел добычу из них соли. Другая поездка была на станцию Чертково, единственную железнодорожную станцию в пределах Харьковской губернии, где останавливался траурный поезд, в коем следовало тело в Бозе почившего наследника Георгия Александровича. Для встречи гроба я и выезжал, дабы отслужить панихиду в траурном вагоне, хотя на этой станции не предполагалось длительной остановки, почему и служение панихиды не было назначено по расписанию; но, узнав о моем прибытии, генерал-адъютант, провожавший тело, разрешил открыть траурный вагон, и местное духовенство, приглашенное мною, и отслужило панихиду. Станция Чертково расположена на самой границе Харьковской губернии и области Войска Донского, так что станционные здания расположены в разных губерниях: вокзал — в области Войска Донского, а депо — в Харьковской губернии. Эта поездка оставила мне одно из самых приятных воспоминаний; путь Балашовской ветки, подъезжая к станции Миски, расположен по самому берегу Донца и вместе с ним круто извивается, и проложен у подножия меловых гор. Из моего вагон-салона, прицепленного в хвосте поезда, открывалась чудная картина Дона и местных гор, картина, напоминающая альбомы заграничных путешествий по Саксонской Швейцарии, хотя даже по сравнению с ней en petit. Но самая продолжительная поездка по губернии была предпринята мной в неурожайный год, когда в губернии ожидался голод. Тобизен, возложив на меня все дело по губернскому Присутствию, поручил мне
493
и продовольственное дело в широком масштабе; лично он предполагал обследовать нужду в губернии, но свою поездку все откладывал, ожидая какой-нибудь счастливой перемены благодаря дождям, и уехал он в отпуск, не объехав пораженные неурожаем местности, так что на меня одного легла эта работа. Я поставил себе задачей объездить не только наиболее пострадавшие уезды, то есть Старобельский, Изюмский и Купянский, но и побывать в других, дабы проверить вообще их благосостояние и, главное, убедиться, можно ли в губернии получить достаточно хлеба для голодающих и насколько местные крестьянские власти в курсе продовольственного дела. Ввиду сего я был в Сумском, Лебедянском и Змиевском уездах. В общем, эта поездка длилась около двух недель. Брал я с собой редактора «Харьковских губернских ведомостей» Андрея Яковлевича Ефимовича для составления не только отчета по поездке, но и корреспондентского отчета всего виденного, дабы общество было поставлено в известность о надвигавшейся на губернию беде.

Осоргины и Трубецкие за рыбной ловлей в Сергиевском.
Начало XX века. Частное собрание, Париж
«Харьковские губернские ведомости», в отличие от других официальных губернских органов, была газета очень интересная, где официальная часть составляла лишь десятую долю материала, печатаемого в каждом номере. Руководитель ее, Ефимович, был очень развитый человек с некоторой либеральной окраской, но сдержанный. Тобизен, дабы снять с губернской администрации всякую ответственность, подчинил неофициальную часть газеты общей цензуре. В мое время
494
в Харькове, кроме вышеупомянутой газеты, был только еще «Южный край», издаваемый Иозефовичем. Эта газета считалась реакционной, а «Харьковские губернские ведомости» — прогрессивной. Помню, как архиепископ Амвросий хотел напечатать в газете одну из своих ярких обличительных проповедей, в которой громил интеллигенцию и отчасти и бюрократию, и послал ее Иозефовичу, который отказался ее поместить, считая таковую несогласной с направлением своей газеты; тогда владыка прислал проповедь в редакцию «Харьковских губернских ведомостей». Редактор Ефимович ничтоже сумня[ше]ся внес эту проповедь в ближайший номер газеты, зная, что губернатор всегда стоял за полную солидарность со всеми властями, тем более с церковными властями; но когда гранки посланы были цензору, Борису Борисовичу Алмазову, человеку, кстати сказать, весьма ограниченному, тот телефонировал мне как ближайшему начальнику газеты, что он положительно не считает возможным пропустить эту проповедь; я ему ответил, что это его дело, но что я, во всяком случае, не буду об этом объясняться с владыкой, пусть он сам возьмет на себя этот труд. Случай этот доказывает, как Амвросий был иногда резок и как, в общем, наши губернские «Ведомости» были терпимее и шире по взглядам «Южного края». Такое направление газеты имело последствием большее ее распространение — тираж ее был больше. Ефимович получал отдельное содержание, с тем что все расходы по оплате статей и корреспондентов были его. Губернское правление платило за бумагу, печатание (типография была своя) и агентские телеграммы. Содержание Ефимовича достигало 18 тысяч [рублей] в год при готовой квартире, отоплении и освещении, хотя за точность цифры не ручаюсь; знаю, что она меня тогда поразила своей величиной и значительно превышала губернаторское содержание. Но зато и доход газеты, служивший единственным источником для увеличения содержания чиновников Губернского правления и канцелярии губернатора, отличавшегося при дороговизне жизни в Харькове своею мизерностью, достигал, кажется, 60 тысяч [рублей] в год. Тобизен, убедившись однажды в необходимости увеличить штат городской полиции и не имея надежды получить на это достаточную ассигновку от правительства, решил обратиться к городской Думе с предложением увеличить чуть ли не в полтора раза смету на содержание города, но, чувствуя, что в этом не встретит сочувствия города, поручил Ефимовичу рядом газетных статей постепенно готовить общественное мнение к такому расходу. Ефимович талантливо исполнил возложенное на него поручение: написал он ряд маленьких писем в своей газете, на манер писем Суворина в газете «Новое Время», где постепенно приучал читателей к мысли, что размер нынешнего штата полиции совершенно не обеспечивает спокойствие жителей, а незначительность содержания, получаемого городовыми, не соответствует тем сложным обязанностям, которые на них возлагаются. Все это было написано в несколько юмористичном стиле, почему охотно читалось публикой. Первое письмо начиналось перечислением обязанностей городовых, для чего Ефимович с компетентностью изложил чуть ли не весь Устав предупреждения и пресечения преступлений, по коему полиция должна следить: и за добрыми нравами жителей, и за воспитанием родителями своих детей, и за согласием между супругами и т. д.; он был совершенно точен, ибо ссылался все время на законы, а вместе с тем выходила такая
495
несообразность, что каждый городовой должен был не только следить за частной жизнью обывателей, но и поучать их. Во втором письме он доказывал трудность пополнять контингент полиции достаточно развитыми и тактичными лицами, для чего привел два примера: 1) изречение Петра Великого, что «всуе писать законы, коли их не исполнять» и 2) два повеления того же императора, до сих пор не отмеченные: а) если два фендрика (сиречь прапорщика) встретятся на улице и начнут о чем-нибудь рассуждать, то их следует разогнать, ибо оные два юнца ничего путного между собой говорить не могут, и б) если фендрик будет зван к своему командиру обедать, по окончании первого кушанья ему надлежит удалиться, ибо к роскоши приучать его не следует. С юмором Ефимович рисовал картину исполнения полицией сих распоряжений и скандала, получавшегося от сего. Вот этот талантливый Андрей Яковлевич и сопровождал меня в поездке по губернии перед голодом, а потом в нескольких ярко написанных статьях обрисовал серьезность положения. В захваченных недородом уездах я просил местных уездных предводителей указать мне наиболее пострадавшие и наиболее благополучные волости, и именно эти волости я и посетил.
В Старобельском уезде предводительствовал Георгий Андреевич Фирсов, впоследствии член Государственной Думы, в Купянске — Сергей Николаевич Курченинников, вскоре заменивший графа Капниста на посту губернского предводителя, a в Изюмском уезде — Василий Александрович Бантыш. Семья Бантышей была одна из старинных помещичьих фамилий губернии. Отец Василия Александровича, феноменально богатый, был и феноменальный оригинал-самодур; однажды без всяких оснований пришло ему в голову, что его жена изменяет ему с давних пор, почему неожиданно выгнал ее без всяких средств вместе с ее младшим сыном Федором, женившимся впоследствии на дочери Александра Павловича Евреинова; несмотря на всю несообразность сего предположения, неоднократно ему доказанную близкими людьми, он остался непреклонен, не принимал ни жены, ни сына, не давал им ни копейки, а они влачили в Харькове нищенскую жизнь; скоро и второго сына, Василия, он прогнал от себя за то, что последний потихоньку от отца помогал матери и младшему брату; остался старик с одним любимым старшим сыном Антиохом, и надо было видеть отчаяние отца, когда этот его любимец был убит ревнивым мужем Лесевицким, заступившимся и отомстившим за поруганную честь жены. Всегда я не любил вызова ночью к телефону; аппарат висел на стене, внутренней стороной выходившей в мою уборную где обыкновенно я и спал, и жутко бывало, когда спросонку слышишь звонок: значит, что-нибудь экстренное, а если к этому присоединялся одновременно и звонок телефона, стоявшего на моем столе в кабинете, значит, что-нибудь и секретное, ибо тот аппарат имел прямой провод с кабинетом полицмейстера и не входил в общую сеть. И вот однажды глубокой ночью вызывает меня к телефону Вилькен доложить, что сейчас Антиох Бантыш убит Лесевицким (членом губернской Земской управы) на лестнице последнего выстрелом из револьвера. Приехавший на другой день старик-отец уже не самодурничал, был сломлен горем и помирился со своими оставшимися в живых сыновьями Василием и Федором, приехавшими на похороны. После этого случая я еще с большим сжиманием сердца подходил к телефону по ночным вызовам.
496
После убийства Антиоха Бантыша предводителем стал его брат, с которым мне и пришлось работать во время голодного года. И в Старобельском, и в Изюмском уездах на объезде и подробном осмотре указанных мне предводителями волостей я созвал уездные съезды, с коими и наметил план будущей кампании. Волость, наиболее благополучная Старобельского уезда, была одна из южных, граничащих с Екатеринославской губернией, и, чтобы попасть в нее, пришлось мне ехать в город Луганск Екатеринославской губернии и оттуда уже на лошадях проехать в намеченную местность. Не скажу, чтобы урожай в ней был лучше, чем в остальной части уезда; все было выжжено палящим солнцем, за всю весну не было дождя и растительность представляла удручающую картину, а пыль, несущаяся от экипажа, походила на горячую золу. Но эта волость имела то преимущество, что могла надеяться на подспорье от подсобного производства, имевшего тесную связь с разведением птиц. Юг Старобельского уезда вел крупную торговлю яйцами и битой птицей с заграницей, отправляя сотни вагонов на прусскую границу. В эти же волости, кроме собственного разведения птиц (стада гусей достигали тысячи голов), сосредоточивалась сортировка яиц и упаковка таковых, что и давало крупный местный заработок. Очень интересно было смотреть эти мелкие заведения по сортировке и упаковке яиц: сортировку производил старший опытный крестьянин в темной комнате при свете маленькой лампы, для чего он подносил яйцо к ней и просвечивал; делал он это так быстро, что я с трудом улавливал секрет распознавания свежести, а также и плодотворности яйца. В Купянском уезде я съезда не созывал, ибо особенно острой нужды, требующей имперской помощи, не предвиделось, а можно было, как выяснилось, ограничиться лишь частными местными ссудами, что входило в компетенцию Губернского присутствия. Из неурожайных уездов я, для более яркого контраста впечатлений, проехал прямо в наиболее богатый уезд — Сумский. Наметил я себе север этого уезда как наиболее плодородную его часть и, главное, чтобы встретиться с сестрами жены, Варей и Линой, проезжавшими через станцию Ворожбу по Курско-Киевской железной дороге по пути в Константинополь. Варя не только была уже замужем, но и кормила своего старшего сына. Жаждал я их повидать и иметь от них свежие известия о своих. Так оно и случилось: во время получасовой остановки я видел Линочку (Варя все время кормила своего Николашку), посидел с ней, поговорил о Сергиевском, и одно то, что я видел кусочек семьи, мне придало бодрости и веселости души.
Правда, что после уныния выжженных степей Сумский уезд с роскошной растительностью был настоящим отдохновением. Здесь я, главным образом, осмотрел хлебозапасные магазины, дабы знать, возможно ли будет из них черпать для нуждающихся уездов. Вечер я провел в гостеприимной хлебосольной семье уездного предводителя Траскина, который созвал и местных земских начальников; с ними надо было всесторонне выяснить вопрос, как отнесется население к позаимствованию у них натуральных запасов, что было совершенно законно и даже в пределах власти Губернского присутствия, но лишь с ведома Министерства. Но, как я уже раньше писал в воспоминаниях моей службы земским начальником, одно — писать законы, а другое — проводить их в жизнь. Между прочим, я выяснил тогда, что закон о частном переделе земли не ранее 12 лет совершенно
497
игнорировался в Харьковской губернии и очень ловко обходился — ежегодно земля в натуре переделялась, хотя это и не оформировалось приговором, дабы не вызывать протеста начальства. Доли оставались те же до нового разрешенного в срок общего передела, в натуре же земля была у многих новая, что именно и противоречило духу закона: цель законодателя была обеспечить за каждым домохозяином продолжительное, хотя бы 12-летнее пользование одной и той же землей, дабы приохотить его положить усиленный труд на увеличение урожайности участка. Вечер, проведенный мною у Траскина, остался очень приятным воспоминанием, перенеся меня в обстановку и быт малороссийского помещика-хохла, напоминающего отчасти повести Гоголя. Большой просторный дом в виде избы с соломенной крышей под щетку и вымазанными набело известкой и глиной стенами обдавал, как в него войдешь, уютом и свежестью, хотя потолки были довольно низки; достигалась эта прохлада, по словам хозяйки, тем, что весь день все ставни были плотно закрыты, а ночью зато все окна настежь; потолки же были засыпаны толстым слоем гречишной лузги, не пропускающей ни холода, ни тепла. Жена Траскина своим хлебосольством и приветливостью прямо очаровывала и согревала всех. Чего-чего только не было наставлено на столе ее заботливой рукой: помню какие-то дыни, совершенно особенные и по сочности, и по величине, и притом очень различные по вкусу — одни, совсем несладкие, служили закуской перед ужином, другие же десертом. Талант хозяйки-хохлушки сказался здесь вовсю, и я со своей свитой вдоволь насладился и угощением, и отдохновением после дневной жары и пыли, для чего предупредительные хозяева прежде всего отвели меня в приготовленную комнату с приспособлениями для окачивания, чем я с наслаждением воспользовался. После сытного ужина с варениками с разнообразной начинкой перешли мы на террасу, не то галерею, тоже под соломенной крышей, где за стаканом чая, сопутствуемым неимоверным количеством разнообразных печений, варенья, морсов, молочных изделий, долго беседовали о настроении крестьян в уезде, и выяснялось, что тронуть их натуральные общественные запасы будет нелегко.
Поздно вечером уехал я от Траскиных ночевать в свой вагон для дальнейшего путешествия. Переезды совершались всегда ночью, дабы не терять времени, полезного для обследования местности и беседы с крестьянами и должностными лицами. Точность маршрута и наблюдение за временем отъезда возлагались мною на чиновника особых поручений, который меня сопровождал в таком случае. Обыкновенно я брал или Бориса Иосифовича Гулак-Артемовского, или Димитрия Васильевича Познанского. Первый был очень близок к моей семье и постоянно у нас бывал; нас с ним связывали разговоры о Симбирской губернии, коей он был уроженец и очень любил; по службе он был мне ближе остальных чиновников особых поручений, заведуя еврейским столом, непосредственно мне подчиненным Тобизеном, как я уже упомянул выше. Это был очень порядочный молодой человек, холостой, несчастный сын своей матери, приобретшей печальную известность по ее процессу о зверском обращении со своими детьми; о своей семье он никогда не говорил, всегда был какой-то грустный и только оживлялся, рассказывая про свое имение в Симбирске и устроенную им там школу; отец его, давно умерший, или дед, точно не помню, был когда-то ректором Харьковского
498
университета, почему Борис Иосифович и основался в Харькове, но несмотря на все его качества, он был скучноват, особенно часто обижался. Познанский, наоборот, был человек очень способный, хотя и не особенно основательный; когда хотел, работал легко, шутя, но, главное, был необыкновенно остроумен, весел, а потому для продолжительного совместного путешествия незаменимый спутник. Оба они были светски благовоспитанны, почему за них не только можно было быть спокойным, что они везде будут на месте и не ударят лицом в грязь, но я еще был уверен, что они в случае чего сумеют и мне шепнуть нужные сведения или подробность, необходимые для избежания возможной в незнакомом обществе gaffe’ы с моей стороны. Поездка эта была настолько плодотворна, дала столько материала и правильно осветила положение дела на местах, что с голодом удалось справиться сравнительно легко. Когда года через полтора я был в Петербурге, услышал такую оценку моей деятельности от тогдашнего товарища министра внутренних дел (бывшего до того управляющим Земского отделения) Стишинского: «Министерство знает, что Харьковская губерния исключительно обязана Вам и Вашим трудам, если голод прошел для нуждающихся местностей более или менее благополучно, не подорвав их хозяйственного благосостояния и не вызвав ненужных затрат имперского капитала».
Через Харьков постоянно проезжали и высочайшие особы, и министры, так что представительной стороне приходилось уделять довольно много времени. Редкая неделя проходила без одной-двух таких встреч на вокзале. Министр юстиции Н. В. Муравьев, кратковременный министр народного просвещения Зенгер и государственный контролер генерал Лобко приезжали в Харьков на несколько дней, и как нарочно в отсутствие губернатора, так что мне пришлось их встречать и принимать в роли хозяина губернии. Муравьев приезжал на освящение нового здания Судебных мест, что сопровождалось большим торжеством и многолюдным раутом от судебных чинов всего округа; а следующий день министр посвятил осмотру мест заключения, и в этой части его ревизии и моя деятельность соприкасалась с его Министерством, так что я его встречал и сопровождал по губернским и пересыльным тюрьмам. Для такой ревизии Муравьев, как большинство штатских, любивший играть в военного, облекся в мундир Тюремной инспекции с военными генеральскими погонами и был очень эффектен. Приезд Лобко был для меня очень желателен, ибо я надеялся при его посредстве отстроить заново на счет его ведомства здания Присутственных мест, где помещалось наше губернское Правление в таких залах, в коих потолки подпирались подпорками. Думал я его прельстить тем, что все освобождавшееся помещение судебных учреждений, переведенных в собственное новое здание, мог занять Контроль, имевший наемное помещение, и тогда в этом здании разместились бы все учреждения, подчиненные губернатору: Государственный контроль и два учреждения Министерства финансов — Казенная палата и Казначейство. Средства на ремонт по моему проекту давали Контрольное ведомство и Министерство финансов, а здание — Министерство внутренних дел. На такую комбинацию я склонил Лобко, но сам не успел довести дело до конца, так что как оно разрешилось — не знаю: побывав впоследствии в Харькове, был с визитом у вице-губернатора в его большой казенной квартире в нижнем этаже этого здания, что
499
в моем проекте не предполагалось. Встречал я раз великого князя Михаила Николаевича. Его жена, великая княгиня Ольга Федоровна, еще задолго до моего назначения скончалась здесь, в Харькове, на вокзале в императорских комнатах, после чего комната, где она почила, обращена была в часовню. Великий князь при каждом проезде подолгу молился в этой часовне; и в этот свой приезд он также долго пробыл в полном одиночестве в этой комнате-часовне, так что нам, его встречавшим, уделил немного времени. Встречал я его как исправляющий должность губернатора, и со мной был начальник местной бригады за начальника гарнизона (проезд был летом, когда все местные войска стояли под Чугуевом в лагере). Отмечаю я этот случай потому, что в разговоре с его высочеством так конфузился, что долго без стыда не мог это вспоминать. Прежняя моя придворная и гвардейская служба могла бы меня приучить к такого рода общению с членами царской семьи; на этот же раз на меня напал какой-то столбняк, и на все вопросы великого князя я отвечал лишь отрывочно по военному: «Так точно», «Никак нет». Великий князь, видя перед собой такого неотесанного субъекта, перестал ко мне обращаться и завел беседу с моим коллегой по встрече, старым генералом, участником Турецкой кампании.
Наиболее хлопот дал всей администрации проезд шаха персидского. Тобизену было указано, что шах пробудет в Харькове дня три, дабы задержать по каким-то соображениям его приезд в Петербург до известного срока. Министерство Двора поручило губернатору обставить возможно торжественно как проезд сего повелителя, так и пребывание его в городе, увеселять и его, и его свиту, для чего открыло Тобизену широкий кредит. Долго обсуждалась в комиссии всех главных представителей и ведомств, и дворянства, и общества, и преимущественно, военных программа пребывания шаха в Харькове. Это представило особенно много трудностей, ибо восточный этикет совершенно исключителен и никому из нас, заседавших в комитете, не был известен. Генеральным консулом персидским в Харькове был еврей Рубинштейн, ничего не знавший по этой части; вообще он ничего общего с Персией не имел, никогда там не был, домогался же должности генерального консула лишь как синекуры, дававшей ему известное, по его мнению, положение в обществе. Поплатился он зато тем, что Тобизен настоял, чтобы весь свой дом он очистил, привел бы в блестящий вид для пребывания самого шаха, свиту же предполагалось поместить в гостинице «Проспер», часть которой с отдельным подъездом на реку Лопань на это время совершенно очистили от постояльцев. Программа увеселения была подробно разработана; предполагались и смотр войскам, и пожарная тревога, и иллюминация, и раут, и спектакль-гала в Оперном зимнем театре, уже закрытом по окончании сезона, так как проезд был летом. Долго подыскивали подходящую пьесу, но ничего персидского и восточного в репертуаре не было, кроме оперетки «Гейша» из японской жизни, и на ней и остановились, добавив кое-какие восточные танцы и, между прочим, танец татар из оперы «Князь Игорь». Тобизен постоянно сносился телеграммами то с министром Императорского Двора, то с генерал-адъютантом адмиралом Арсеньевым, сопровождавшим шаха по России, и приходилось иногда по настоянию последнего отменять уже сделанное или вносить что-нибудь новое в программу. В этих хлопотах прошло около двух недель, и,
500
о ужас!, все оказалось напрасным. Путешествие шаха замедлилось, по пути он заболел своей обычной болезнью почек; поездка в Петербург, кажется, была отменена, и нам дали знать, что шах по пути за границу пробудет в Харькове лишь несколько часов, никуда с вокзала по болезненному состоянию не поедет, а по принятии представляющихся будет один завтракать в своем вагоне. Пришлось все по новому устраивать — новый вокзал тогда еще не был отстроен, и вот это здание, возведенное вчерне, и надо было приспособить для приема шаха. Надо было и перрон отделать для устройства приема представляющихся и прохождения почетного караула, а главное, создать обширную залу для завтрака свиты. Тобизен был мастер на такие приемы, правда, что кредит ему был предоставлен большой, да и железнодорожное начальство, надеявшееся получить персидские ордена, не скупилось. В два дня все было устроено; для обеденного зала воспользовались недостроенным вестибюлем будущего вокзала, имевшим вид ротонды, к тому же вполне прохладным, так как [он] освещался сверху через двойной стеклянный потолок. Моего Доколина и товарища его Терентия, одновременно с ним поступившего к Тобизену, как особенно видных и больших, одели в придворные ливреи, сшитые им в одну ночь, и на них возложена была подача завтрака самому шаху в его вагоне. Тобизен выехал дня за два на границу губернии, сам должен был принимать шаха в Славянске, где назначена была ночевка, для чего взял с собой часть харьковской городской полиции, на меня же возложил последние приготовления и встречу поезда на самом вокзале. Вспоминаю курьез: скоро после отъезда Тобизена были получены телеграммы от Арсеньева, что желательно, чтобы во время завтрака шаха пела бы капелла Славянского. Потом выяснилось, что созвучие названия курорта Славянска с фамилией известного тогда руководителя хора, певшего по всей Европе, ввело в заблуждение Арсеньева. Получив такое распоряжение и зная, что желаемой капеллы в пределах губернии нет, я решил подменить оную какой-нибудь русской капеллой, подвизавшейся тогда в Харькове на открытых сценах разных увеселительных садов. В один день объездил я все сады, приказав этим капеллам собраться днем в определенные часы и демонстрировать свое искусство, но все они оказались столь неважны, что я телеграфировал Тобизену, что не решаюсь угостить шаха таким концертом, а взамен сего будет играть военный оркестр и сменяться полковыми песенниками. К назначенному часу на вокзал съехались все представители ведомств и военное начальство: военные стали на фланге почетного караула, против них расположились штатские чины, а я с полицмейстером вышел на платформу к самому тому месту, где рассчитана была остановка вагон-салона и натянут был ковер. Машинист не рассчитал и проехал много дальше, так что поезд пришлось продвигать назад. Этим маневром Тобизен воспользовался, чтобы соскочить на ходу и сам принять на перроне шаха. Как сейчас вижу радостное и возбужденное лицо помощника пристава IV-го участка Игнатьева, ездившего в Славянск за старшего полицейского; он выскочил из вагона и, забыв всякое чинопочитание, подскочил ко мне, совсем захлебываясь от волнения: «Ваше превосходительство, мне обещан персидский орден». И сколько было таких, чающих этого украшения, да и я, грешный человек, не прочь был о сем мечтать. Из всех представляющихся один лишь начальник Кавалерийской дивизии, заменивший
501
Сухомлинова, барон Штакельберг (печально известный герой Японской кампании, где, как про него рассказывали, он разъезжал с таким комфортом, что в своем поезде возил корову, ибо ни он, ни его жена, никогда с ним не разлучавшаяся, не считали допустимым пить кофе без молока) имел персидскую звезду, да консул Рубинштейн какой-то орденышко маленький того же государства; остальные все имели la poitrine vierge и так и остались — только Тобизену и Винбергу при прощании шах собственноручно вручил звезды Льва и Солнца. Подъехал вагон, и показалась изможденная, бледная фигура шаха в черном бешмете и такой же шапке с дивной бриллиантовой aigrett’кой. Принял он почетный караул, пропустил его церемониальным маршем и затем подошел к представляющимся. Винберга и барона Штакельберга Арсеньев назвал шаху и по восточному этикету каждому из них сказал: «Его величество спрашивает, как Ваше здоровье»; потом, видя что эту фразу придется много раз повторить, обратился ко всем нам вообще с общей фразой: «Его величество спрашивает у Вас всех, как Ваше здоровье». На что последовал общий поклон и шах вернулся завтракать в свой вагон. Тобизен, намереваясь и дальше следовать с поездом, просил меня его заменить при завтраке свиты, а сам хотел и переодеться и отдохнуть. Но скоро мне пришлось за ним отправиться, ибо я сделал этикетскую ошибку. Президировал стол Садразан, такая важная особа, что он никому и двух пальцев не протягивает. Арсеньев, сидевший справа от него (я сидел как раз против), назвал меня ему, почему я встал и намеревался обойти стол, дабы подойти к Садразану, но Арсеньев осадил меня, сказав, что подходить не следует, ибо руки он не подаст. Я от конфуза вместо того, чтобы сесть обратно, послал за Тобизеном, а сам остался у вагона шаха, которого обступила целая толпа глазевших и слушавших музыку и песенников. Шах сидел у открытого окна, уже окончив свой завтрак, и устало разглядывал толпу; изредка переводчик обращался то к одному, то к другому из публики, на кого его величество обратил свое внимание и говорил, что «его величество шах персидский спрашивает, как Ваше здоровье». И мне вторично это было сказано уже в одиночку, на что я ответил, как меня учили, что я молю Бога, дабы здоровье его величества было тоже вожделенно. Но ордена мне все-таки он никакого не дал и, наделав ожиданиями, приготовлениями и встречей безумную суматоху, отбыл из Харькова часа через три, не посмотрев даже украшенного города национальными и персидскими флагами, на что городское Управление изрядно израсходовалось.
Большим событием в Харькове был процесс братьев Скитских, причем на меня было возложено поручение охранять Судебную палату во время разбора сего дела от возможных эксцессов толпы, почему всю неделю, пока шло разбирательство, а затем и объявление приговора в окончательной форме, я провел очень тревожно, напряженно и в большой суете. Этот процесс теперь, вероятно, мало кто даже помнит, а тогда он волновал не один Харьков, но и по всей России следили с интересом за всеми его перипетиями. Сущность его такова. В Полтаве, принадлежащей к округу харьковской Судебной палаты, завелся секретарь Консистории Комаров, совершенный феномен: он был не только выдающимся по знаниям и деловитости, но, самое главное, был абсолютно честный человек, который поставил себе задачей вытравить в архаическом учреждении, каковым
502
была подведомственная ему Консистория, даже память о взятках. С гордостью отмечаю, что Комаров был калужанин и воспитанник нашей семинарии. Деятельность такого секретаря, понятно, не пришлась по вкусу старым дельцам Консистории. Сначала она вызвала недоумение, а затем такую ненависть, что кончилось убийством Комарова. Убит он был недалеко за городом на тропинке, по которой он ежедневно возвращался со службы к себе на дачу. Убийство совершено было, по-видимому, днем; хотя найден он был под утро, но из Консистории ушел он накануне в обычное время по закрытии Присутствия, а домой к себе не возвратился. Судебная власть привлекла в качестве обвиняемых архивариуса Консистории Скитского и его младшего брата, служившего писцом. Уликами служили, главным образом, свидетельское показание постороннего лица — дачника, видевшего издали с балкона своей дачи человека, похожего на Скитского, скрывавшегося в кустах, где потом найдено было тело, а затем спешно удалявшегося в город, и, кроме того, найденные на месте преступления остатки закуски колбасы, завернутые в бумагу, признанную оберткой старого архивного дела Консистории и перевязанную бечевкой, по отзывам экспертов, из того же архивного склада; колбаса же была именно такая, какую в это утро купил младший брат Скитский в соседней с Консисторией лавчонке. Следствие велось крайне небрежно; говорили, что местный прокурор, наблюдавший за следствием, был уже в то время психически болен и, действительно, еще до окончания оного, в болезненном припадке повесился; следователь был, по-видимому, неопытный, вел все дело спустя рукава, до того что, как уверяли тогда, существенные вещественные доказательства и, между прочим, бечевка, ко времени разбора оказались либо утраченными, либо подмененными. Все это повело к тому, что в Полтаве Скитские были оправданы, и после кассации Сенатом дело было передано для нового разбора в ту же Палату харьковскую, но при другом составе. Упущения, послужившие поводом кассации полтавского приговора, были поставлены министром юстиции в вину как старшему председателю Судебной палаты, так, главное, и прокурору ее, Владимиру Васильевичу Давыдову, почему для разбора дела в Харькове оба они решили выступить как председатель и обвинитель. Председатель Судебной палаты был только что назначен новый, Черновский, бывший до того прокурором киевской Судебной палаты. В те времена принято было ходячее, ни на чем не основанное мнение, что молодежь по своей молодости идеалистически настроена, почему особенно легко возбуждается при мысли о несправедливости. Я и тогда, как и теперь, не разделял это мнение и, главное, по отношению студенческой молодежи. В этой среде от полного безделья, ибо занятия в университете, где редко кто слушает лекции профессоров, раз они говорят о науке, а не о политическом моменте, нельзя назвать правильными занятиями; молодежь всегда суется туда, куда ей не следует, и с самомнением полуобразованных людей, к тому же как разночинцы в большинстве случаев и невоспитанных, судит обо всем вкривь и вкось, главное, осуждая прошлое, в чем им подают пример и старшие, критикуя всю нашу старину и весь уклад жизни наших предков, на коем и построено величие России. По тому ли или по другому поводу, быть может, и под влиянием злонамеренных людей, но к процессу Скитских студенчество относилось страстно, и всюду распространяли слухи, что и Давыдов, и Черновский хотят построить
503
свою карьеру на обвинении братьев Скитских и что последние — жертвы их честолюбия. Такое настроение и создало то напряженное состояние, которое побудило Тобизена поручить мне особую охрану помещения Судебной палаты, где шло разбирательство. Помещение это было в том же здании, где и Губернское правление (процесс слушался еще до освящения нового здания, о котором упоминал, описывая посещение Харькова Муравьевым), почему я почти не покидал своего кабинета, изредка лишь присутствуя на самом судоговорении, для чего по любезному распоряжению Черновского мне было отведено особенное место сзади судейского стола. Слушалось дело в Особом присутствии Судебной палаты с участием сословных представителей. Граф В. А. Капнист благоразумно сдал должность Лауницу, дабы избежать утомления многодневного разбирательства, и притом дела очень запутанного и щекотливого. Такой состав Палаты для суждения преступлений должностных лиц был новостью, как позднейшее наслоение в судебной реформе Александра II заменять обычный суд присяжных, и никого не удовлетворял. Общественный элемент (3 против 4-х коронных судей) мог быть всегда в меньшинстве и мало влиял на мнение судей, а сии последние были стеснены составом таких лиц, большей частью профанов (в особенности волостной старшина, часто едва грамотный), вместе с тем были с ними равноправными и потому каждое действие шаблонное, не вызывавшее сомнения вопроса для юриста, должно было этим лицам втолковываться. Если я не ошибаюсь, именно поступок одного из сословных представителей, внесшего в совещательную комнату и обсуждавшего какое-то частное письмо по сему делу, не бывшему предметом судебного следствия, и стало потом поводом кассации харьковского приговора. Но я забегаю вперед, вернусь к самому процессу.
Шел он мирно до допроса полтавского архиерея, самого пожелавшего дать свои объяснения на суде в качестве простого смертного и не согласившегося воспользоваться прерогативой своего сана, дающего ему право быть допрошенным на дому. Вспоминаю, как я с уважением и почтением встречал сего маститого старца (имени его не помню) и как я даже уклонился от его проводов, до того меня возмутило его показание. Это было не объективное свидетельское показание, а страстная обвинительная речь против обоих Скитских, так что даже председатель Черновский должен был в почтительной форме призвать его преосвященство к более простому изложению лишь того, что он доподлинно знал и видел, не касаясь сплетен и слухов и не делясь с судом своими догадками. В противовес ему оба брата Скитские сидели совершенно безучастные и далеко не имели вида закоренелых преступников, особенно младший, похожий на полуидиота. Особенно жутко было в это время в зале, сознавая, что все — и суд, и защитники, и обвинение — домогаются раскрыть истину: виновны или не виновны эти Скитские, и лишь одни они действительно знают правду. Но их словам все равно веры не придают, если они не сознаются. После страстного показания архиерея и настроение повысилось; защищала Скитских целая плеяда защитников, имея во главе известного петербургского адвоката Карабчевского, который ловкими вопросами особенно рельефно выставил лицеприятность, а потому недобросовестность показания владыки. С этого дня Карабчевский стал как бы кумиром студенческой молодежи, встречавшей его и провожавшей его аплодисментами.
504
Разбиралось дело чуть ли не неделю и окончилось присуждением обоих Скитских, если не ошибаюсь, к каторжным работам. Приговор был вынесен поздно ночью, но толпа, студентов по преимуществу, ожидала конец на площади, запрудив все пространство между собором и Присутственными местами. Когда Черновский и Давыдов показались на площади, из толпы раздались крики: «Палачи, карьеристы!» Карабчевского же при отъезде толпа студентов провожала на вокзал, где поднесла ему цветы при соответствующем спиче как защитнику угнетенных и поборнику правды; Карабчевский не преминул в ответной речи покадить молодежи и преклониться перед ее чуткостью; при этом и те и другие забыли, что преступление имело объектом действительно поборника правды и честного человека, с памятью которого защита не считалась, выговаривая Скитских. Очень опасались привоза Скитских через несколько дней опять в Судебную палату для выслушания приговора в окончательной форме; думали, что будут попытки демонстрации, а некоторым, более трусливым, мерещилась возможность отбития полицией Скитских у конвоя и насильственное их освобождение, почему сверх конвоя охранял Скитских при переезде из тюрьмы в Палату и обратно взвод казаков, а во дворе Присутственных мест была наготове рота солдат; но все прошло совершенно благополучно, интерес уже ослабел, даже не было заметно толпы, правда, что само объявление приговора состоялось, по соглашению с губернатором, необычно рано, чуть ли не в девять часов утра. Чтобы покончить с этим делом, скажу, что приговор этот тоже был кассирован и дело передано в киевскую Судебную палату, но с тем, чтобы они выехали в другой округ, а именно в Полтаву. Там часть судебного следствия была перенесена на место убийства, где Скитского водили по тем местам, где предполагалось, что он поджидал Комарова; свидетель же, опознавший его будто бы издали с балкона своей дачи, был поставлен на то же место, и получилась неожиданная несуразность: самого места с балкона дачи не было видно. Прокурор доказывал, что надо принять во внимание, что за два года деревья подросли и вся перспектива ландшафта изменилась; все же неблагоприятное впечатление против обвинения осталось неизгладимым. Защищал опять тот же Карабчевский, и Скитские оба были оправданы. Знаменательно суждение Карабчевского по сему поводу. Передавали, что по окончании процесса он будто бы сказал: «Когда дело разбиралось в Харькове, я был убежден в невиновности Скитских; во время же разбора дела в Полтаве я, напротив, уверился, что они, и никто другой, убили Комарова»; и между тем он их защищал и, действительно, обелил. Такова адвокатская этика!
Помню еще одно судебное дело, вызвавшее если не конфликт, то некоторое недоразумение и охлаждение между мной и Тобизеном. В течение одних из многочисленных летних месяцев, которые я провел в одиночестве в Харькове, в пределах губернии, и в соседних уездах Полтавской и Екатеринославской губерний появилась неуловимая шайка разбойников, по-видимому, цыган, грабившая, главным образом, волостные Правления, где было чем поживиться в мирских кассах. Ограблено было ими чуть ли не десять волостей в трех губерниях, причем каждое почти ограбление сопровождалось убийством сторожей, а в Полтавской губернии, если не ошибаюсь, и волостного старшины и писаря. Когда я был в отпуску и осенью отдыхал у себя в Сергиевском, прочел
505
я однажды в «Харьковских губернских ведомостях», ежедневно аккуратно мне высылаемых, где бы я ни был, что шайка эта переловлена в пределах Харьковской губернии, и губернатор возбудил ходатайство об отдаче их военному суду для суждения по законам военного времени; иначе сказать, им предстояла смертная казнь. Я, как всегдашний противник еще со времени процесса над убийцами императора Александра II смертной казни, был глубоко возмущен таким распоряжением Тобизена; при первом с ним свидании резко высказал ему свое мнение и категорично заявил ему, что если он обратится ко мне как к своему вице-губернатору с поручением участвовать в каких-нибудь действиях либо по охране суда во время разбора дела, либо по приведению приговора в исполнение, а таковое обычно возлагалось на Губернское правление, то есть постройка виселицы, нахождение палача и т. п., я немедленно подам в отставку, но ни за что je ne tremperai pas la main dans cette sale histoire (мое текстуальное выражение), претящей моему нравственному христианскому чувству. Тобизен, выслушав мою горячую отповедь, холодно и недовольно заметил, что он и без меня обойдется и все поручит тюремному инспектору; в то время таковым был Юферов (брат довольно известного музыканта). Таким образом, я совершенно отстранился от этого дела, ни во что не входил и даже избегал всякого по сему поводу разговора с Тобизеном. Все-таки мне пришлось столкнуться с этими разбойниками уже после присуждения их к повешению, и никогда не забуду впечатления от этого свидания. Приговорено было 5 или 7 человек к смертной казни, и в том числе женщина; содержались они в губернской тюрьме до конфирмации приговора командующим войсками округа, каковым был в то время знаменитый Михаил Иванович Драгомиров. Во время слушания дела в Военном собрании Драгомиров приезжал в Харьков и пробыл некоторое время на процессе, дабы дать себе личное представление о тех, коих он росчерком пера либо предаст смерти, либо дарует им жизнь. Я их, этих несчастных, видел по нижеследующему случаю. В тюремной церкви, сооруженной во имя Вериг Апостола Петра, в день храмового праздника было торжественное архиерейское богослужение, совершенное викарным епископом Иннокентием; на этом богослужении я присутствовал, заменяя Тобизена. После обедни владыка пожелал посетить заключенных, которые за малой вместительностью церкви не могли быть у обедни, и я его сопровождал по коридорам и камерам; везде преосвященный обращался к заключенным со словами утешения и наставления, раздавал каждому образки и листки. Наконец ввели нас и к смертникам, причем Юферов доложил архиерею, что они приговорены к повешению и лишь ждут конфирмации приговора. Иннокентий взглянул на них как-то особенно любовно и тихо, проникновенно заговорил с ними на тему апостольского послания «Не бойтесь людей, убивающих тело» и советовал им во искупление своих тяжких грехов отдать с покорностью свои тела и тем спасти свою душу. Говорил он с ними довольно долго и так успокоительно, примирительно, что они, бедные, все плакали навзрыд, да и у всех присутствующих, и у меня тоже проступали слезы. Между тем конфирмация приговора задерживалась Драгомировым; причиной было неожиданное препятствие: Тобизен и Юферов не могли найти палача. Тогда, не то что последнее время Столыпинского
506
режима, не говоря уже о революционном времени, смертный приговор был событие из ряду вон выходящее — жизнь человека была действительной ценностью. По газетным сведениям Тобизен узнал, что незадолго перед тем состоялась казнь какого-то разбойника на Кавказе, и он тотчас же телеграфировал в Управление кавказского наместника ссудить ему палача, но получил отказ. Юферов предложил ему поручить это дело какому-нибудь каторжнику, содержавшемуся в харьковской пересыльной тюрьме, и, получив на то его согласие, вошел в переговоры с одним наиболее отпетым преступником, который принял предложение, но при условии, что за исполнение обязанности палача его, этого каторжника, переведут в разряд исправляющихся, что имело последствием уменьшение срока каторги. Для перевода в разряд исправляющихся требовалось постановление тюремного попечительства, состоявшего под председательством Юферова из начальника тюрьмы, тюремного священника и одного или двух директоров каторги. Юферов не сомневался, что добьется желаемого, и, действительно, все согласились за исключением одного — Франциска Ивановича Шустера (губернский инженер, о котором писал выше). Сей последний — католик, человек безусловно подчиненный не только губернатору, но и мне, которые могли окончательно испортить ему карьеру, наотрез отказался подписать заготовленное уже заранее Юферовым постановление комитета, смело и разумно возразив, что принятие такого поручения — повесить человека — свидетельствует о сугубой испорченности заключенного, а никак не об его исправлении, почему он, Шустер, такого греха на душу не возьмет. Для действительности постановления о переводе в разряд исправляющихся требовалось единогласие решения членов, почему отказ Шустера аннулировал всю комбинацию Юферова. С тех пор я особенно зауважал Шустера и с удовольствием при первом свидании пожал его благородную руку. Надо отдать справедливость Тобизену, что и он не показал тени неудовольствия Шустеру, и никогда поступок последнего не повлиял на его служебные отношения с Тобизеном; таков уж был Герман Августович, рыцарь благородства, всегда уважавший чужое мнение, если только оно было искренно. Вероятно, губернатор конфиденциально сообщил командующему войсками, что палача нельзя найти, и Драгомиров заменил смертную казнь пожизненными каторжными работами, чем и кончилось все это дело, так долго меня волновавшее. Особенно тяжко было подумать об этих несчастных после посещения их архиереем и вида их раскаяния и слез. Как иллюстрацию перемены взглядов вспоминаю, как лет через десять, во времена Столыпина, вынесен был смертный приговор в Калужской губернии, и палачом вызвался быть любитель сильных ощущений, человек, говорят, из общества; единственным его условием было, что он будет в маске и свое лицо и инкогнито никому не откроет.
Только раз у меня была серьезная размолвка с Германом Августовичем, и виноват был он всецело; я просто не узнал его в этой истории, почему особенно сильно и огорчился такому отношению его ко мне. Произошло это так. Я, заведуя всецело Губернским присутствием, доложил ему однажды, что судить о деятельности земских начальников и уездных съездов по одним жалобам, восходящим до нас, невозможно, и необходимы периодические ревизии сих должностных
507
лиц. Сам Тобизен был так мало сведущ в крестьянских делах, что взять на себя эту ревизию он не решился; меня посылать на таковую влекло за собой донесение о сем Министерству с подробным объяснением, почему такое важное дело губернатор не сам исполняет, а поручает своему помощнику. Оставалось командировать на ревизию непременных членов Губернского присутствия, что составляло их прямую обязанность. Де-Коннор, ссылаясь на болезнь и старость, наотрез отказался выезжать из Харькова, а Тобизен по деликатности не сумел настоять, и пришлось поручить первую ревизию недавно назначенному второму непременному члену Федору Федоровичу Безобразову. Насколько я его успел узнать, мне он казался совершенным невеждой, очень ограниченным и к тому же с большой самоуверенностью и апломбом. Я предостерегал губернатора от посылки такого ревизора, не предвидя ничего доброго, но Герман Августович не обратил внимания на мои доводы и отправил Безобразова ревизовать один из больших уездов, Изюмский, разрешив ему воспользоваться этой ревизией, чтобы покупаться в целебных источниках курорта Славянска. Вернулся Безобразов через месяц, проделав полный курс лечения в Славянске и обревизовав, по его словам, всех земских начальников уезда, а их было, кажется, пятеро и, во всяком случае, не менее четырех, все волости уезда числом до 25 и уездный съезд. Такую обширную по количеству учреждений ревизию, если добросовестно относиться к делу, нельзя было произвести в такой короткий срок, и к тому же между лечением и принятием целебных ванн. Почему я предупредил Тобизена, что хотя ревизионного доклада не видел, но не могу по опыту допустить добросовестность и пользу такой скоропалительной ревизии и советую ему повнимательнее прочесть доклад Безобразова еще до внесения его на обсуждение Губернского присутствия, откуда доклад этот целиком — с заключением, с копией сделанных по нем замечаний и распоряжений Присутствия — следовало направить в Земский отдел Министерства. Недели через три Безобразов подал, наконец, свой ревизионный доклад губернатору, и тот опять мне же поручил его просмотреть и высказать ему предварительно свое мнение. Посвятил я изучению доклада всего один вечер, ибо это было просто смехотворное описание посещения волостных Правлений, судов, камер земских начальников на лету, по пяти-шести учреждений в день. Излагалась простая выборка из них: сколько дел поступило, сколько разобрано и сколько осталось, без малейшего вникания в сущность если не каждого дела, то хотя бы некоторых, ни выдержки. Каждому обревизованному учреждению посвящалось в докладе лишь несколько строк, а иногда для большого оживления материала вставлены были такие несообразные заключения: 1) замечено, что в таком-то волостном суде нет зерцала, и такое упущение поставлено на вид председателю волостного суда; между тем по закону и разъяснениям Министерства в волостных судах воспрещается иметь зерцала; 2) в одном волостном суде выяснено, что больше половины дел гражданских окончено примирением, за что сделано замечание составу суда как недостаточно рачительно относящемуся к своим обязанностям; между тем цель суда была бы достигнута сугубо, если бы все дела суд окончил бы примирением сторон, за исключением тех уголовных, которые по закону примирению не подлежат. Прочтя эту не только наивную, но и зловредную ревизию, ибо она вводила
508
в заблуждение должностных лиц Крестьянского управления, я доложил Тобизену, что такой ревизионный материал послать в Петербург можно лишь в том случае, если Губернское присутствие его окончательно забракует и представит в Земский отдел на предмет увольнения самого Безобразова как совершенно непригодного непременного члена; почему мое мнение — это частным образом возвратить доклад Безобразову, дабы не губить его карьеру, и посоветовать подать рапорт, что он по болезни не успел исполнить возложенного на него поручения, а все им сделанное и написанное в лучшем случае предать забвению. Тобизен, всегда всецело мне доверявший, на этот раз попросил меня еще показать эту ревизию прокурору Окружного суда Ипполиту Викторовичу Деларову, вполне компетентному по судебной части и к тому же очень уравновешенному человеку, и узнать его мнение. Так я и сделал. Деларов, возвращая мне ревизионный доклад Безобразова, вполне подтвердил мое мнение, но усугубил его заключением, что такое отношение к своим обязанностям не только доказывает полное незнание законов ревизора, но и обличает его недобросовестность; судить же по этой ревизии о деятельности крестьянских учреждений Изюмского уезда невозможно, а потому и никакого заключения по оному дать Губернскому присутствию он не считает возможным.
Когда все это стало известно Тобизену, последний просил меня дружески поговорить с Безобразовым, уговорить его взять свой доклад обратно и поступить, как я советовал раньше. Неприятно мне было это поручение, ибо между Безобразовым и мной отношения были довольно холодные; неоднократно обличал я его при докладах в полном незнании того дела, которое он докладывал. Затем обижался он на меня еще по следующему поводу: он после каждого заседания, где выступал докладчиком, устраивал у себя обед для членов Присутствия; я каждый раз от этих приглашений уклонялся, спеша к себе домой и предпочитая отдохнуть в семье, и, наконец, Федор Федорович перестал меня и приглашать. Плелись за ним на званый обед после закрытия заседания: Д. В. Де-Коннор, секретарь Присутствия, служивший еще до реформ земских начальников тем же секретарем Иван Ксенофонтович Мустафин, турецкого происхождения, и третий, временный непременный член то Зимборский, то Попов; я же, простившись с ними у подъезда, спешно шел в обратную сторону к себе домой. После поручения Тобизена пришлось мне задержать после первого же заседания Безобразова и попросить его к себе в служебный кабинет на пару слов. Объяснение было очень трудное; с книгой законов в руках я ему воочию доказал, что большинство его замечаний неправильны и он только ими ввел в заблуждение должностных лиц; объяснил ему, в чем должна заключаться ревизия волостного Правления и волостного суда, и вообще убедил, что весь его труд никуда не годен, почему дал ему совет — взять этот доклад обратно и доложить Присутствию, что по болезненному состоянию исполнить поручение не мог и просит разрешить ему на будущий год поехать ревизовать тот же уезд; понятно, это влекло за собой возвращение в казну всех прогонных денег, которые он довольно много наездил. Но Федор Федорович был богатый человек и, во всяком случае, на такие деньги никогда не льстился. Безобразов сначала как бы обиделся и резко возразил, но постепенно смягчился, заявив, что в следующее заседание внесет свое
509
представление, составленное в указанном мной духе, а доклад его просил меня ныне же ему вернуть; возвращая ему этот доклад, я ему высказал, как я тронут его хорошим отношением к моему совету; говорил я с ним по-товарищески, как старый земский начальник, и радуюсь, что он меня понял, не обиделся и послушался. На прощание мы с ним обнялись, и я тут же, отпустив его и не покидая еще кабинета, телефонировал Тобизену, что поручение исполнил и все кончилось à l’amiable, а мой принципал всегда боялся и опасался каких-нибудь трений. Казалось, и конец всему делу, почему я о нем и не заикался впоследствии Тобизену. Каково же было мое удивление, когда в следующий очередной день Присутствия Герман Августович по телефону просил меня не открывать заседания, а дождаться его, так как на этот раз он хотел председательствовать. Это было столь необычно, что я невольно насторожился, но не успел наедине спросить губернатора в чем дело; он приехал вскорости, прошел прямо в залу Присутствия и открыл заседание. На этот раз заседал, тоже необыкновенно, и губернский предводитель, так что заседание было в полном составе. Я ждал, что Безобразов тут же заявит то, о чем мы с ним сговорились, и потому особенно был удивлен, когда он встал, подал свой ревизионный доклад губернатору и просил разрешение предпослать ему несколько слов. За давностью времени не помню точно его речи, но смысл ее был таков: вносит он этот доклад с опасением, потому что некоторые члены Присутствия, ознакомившись с ним, отнеслись к нему отрицательно и, правда, в дружеской форме советовали ему взять его обратно, будто бы даже от имени губернатора, на что спешно возразил Тобизен: «Напротив, очень хочу слышать Ваш доклад и прошу его изложить нам, после чего будем иметь о нем суждение уже коллегиальное; мнение же отдельных членов здесь ни при чем». Такая двуличность Тобизена так меня взорвала, что я тут же написал на клочке бумаги, что у меня разболелись голова, и так как я, по-видимому, не нужен, прошу его разрешить мне покинуть заседание. Тобизен, прочтя мою записку, сконфуженно кивнул мне головой, и я, ни с кем не простившись, вышел из залы и уехал домой, возмущенный до глубины души.
На следующий день я уезжал из Харькова, кажется, на полугодовой день кончины моего тестя, получив на это уже заранее согласие губернатора, почему у меня и не было с ним никакого объяснения. Когда я вернулся, я уже остыл от всего происшедшего, почему ни словом не обмолвился с Тобизеном об этом инциденте, но ездил к нему только когда требовалось мое присутствие по службе. Герман Августович долго не выдержал, очень уж ему было и совестно, да по правде сказать, и трудно ему было без меня, его во всем заменявшего, настоящего его alter ego, благодаря чему он и был вполне свободен. Приехал ко мне неожиданно Тобизен, и имели мы с ним дружеское объяснение у меня на дому в кабинете, где он и извинился и просил забыть этот случай. Только одна моя жена знала про настоящую размолвку, почему ожидала с нетерпением результата нашего объяснения. Кончился наш разговор с Тобизеном тем, что мы с ним дружески обнялись, и все пошло по-старому. Со мной он после этого стал еще предупредительнее, да и раньше я не мог на него пожаловаться, особенно по части частных отпусков — в этом мне никогда у него не было отказа, правда, что я и не злоупотреблял и только пользовался ими, дабы удлинить мое пребывание с семьей
510
в Сергиевском. Однажды я отпросился, дабы съездить в Калугу во время очередного губернского Земского собрания, в коем я хотя и не участвовал, но надеялся через друзей провести проект инструкций для заведования Сиротским домом, что, по моему мнению, упрочивало его положение.
Опишу эту поездку, ибо она оставила во мне особенно приятное воспоминание. Как только я был назначен в Харьков, и Калужское уездное земство перестало быть под моим вниманием, многие мои недоброжелатели и завистники постарались сделать мне неприятность. Первое — меня в очередном Собрании уездном не избрали в губернские гласные, я оказался подбалльным, хотя и избранный, но не попавший в комплект. Полторацкий и Желябужский, попавшие в губернские гласные, столь были этим возмущены, что тотчас написали мне после собрания, предлагая мне отказаться от сего, дабы я попал в комплект, на что я, понятно, не согласился. Вторая каверза касалась моего медицинского пункта. Я в уезде был инициатором устройства земской медицины на новых началах. Когда я, скоро после своей свадьбы, начал свою земскую деятельность, я застал такое положение: в уезде был один врач (Михаил Васильевич Свечников), одна акушерка и почти в каждой волости по одному фельдшеру, которых доктор периодически навещал. Мной составлен был доклад о закрытии всех этих фельдшерских пунктов и открытии вместо них трех врачебных участков, причем на каждом полагались, кроме врача, фельдшер и акушерка. С большим трудом провел я эту реформу, встретившую большую оппозицию среди гласных от крестьян, для коих фельдшер был доступнее врача. Чтобы облегчить расходы Земства, я предложил один врачебный пункт устроить у меня в имении, для чего безвозмездно дал и помещение (ныне занятое почтовым отделением), и отопление. Когда я был назначен вице-губернатором и покинул уезд, до меня дошли слухи, что княгиня Голицына, владелица имения Жорки в Лосенской волости за рекой, желает переместить к себе мой медицинский пункт (открытый уже около 12 лет), для чего предлагает Земству в дар участок земли, где бы оно могло возвести собственные земские здания. Узнав это, я из Харькова написал письмо председателю Калужской уездной Земской управы Лебедянцеву, предлагая ему две комбинации, лишь бы медицинский врачебный пункт остался бы в Сергиевском: 1) я предлагал заключить со мной долгосрочный, хотя бы на 12 лет, контракт на настоящее вполне приспособленное помещение с обязательством с моей стороны продлить, если пожелает Земство, контракт еще на 12 лет, и, понятно, безвозмездно, только ремонт помещения в течение этого контракта относился на счет Земства, а отремонтировано оно было мной к этому времени заново; либо 2) я отводил Земству в дар полдесятины земли и отпускал на постройку даром в потребном количестве старый еще подпяточный кирпич из сгоревшей и разрушенной старой риги. Оба мои предложения были гораздо выгоднее Земству предложения княгини Голицыной, но les absents ont toujours tort; мои предложения не были даже доложены Собранию; Лебедянцев потом оправдывался, что они были изложены в частном письме; в результате врачебный пункт был переведен из Сергиевского в Жорки и более ко мне и не возвращался; значительно позднее, видя беспомощное положение своих крестьян, я на свой счет открыл фельдшерский пункт, против коего прежде так ратовал,
511
но с обязательством Земства снабжать его лекарствами и подчинить его ведению участкового земского врача.
Такое отношение к моим начинаниям поневоле заставило меня опасаться за судьбу и Сиротского дома — моего детища, для которого с основания Земства не было еще выработано даже инструкции, определявшей права и обязанности попечителя, почему я и хотел быть, хоть бы инкогнито, на первом очередном Губернском Земском собрании, дабы повлиять на своих бывших коллег-предводителей для проведения выработанного мною положения о Сиротском доме. Я проектировал для управления заведением два комитета: 1) один — Педагогический, ведающий всей воспитательной и учебной частью под председательством попечителя при участии председателя губернской Управы, члена Управы, ведающего отделом учебным и богоугодным, и всех педагогов Сиротского дома, то есть смотрителя, воспитателя и учителя; и 2) другой — Хозяйственный, под председательством председателя губернской Управы, ведал бы всей хозяйственной частью заведения, а членами комитета были бы попечитель, все члены губернской Управы и смотритель Сиротского дома. Кроме того указывал, что перед Земским собранием докладчиком по воспитательной и учебной части был бы попечитель, на обязанности коего лежало составление ежегодного отчета по этой части; по хозяйственной же части обязанности эти лежали на губернской Земской управе. Мне казалось, что при таком положении сфера деятельности попечителя и председателя Управы были [бы] достаточно определены и разграничены, почему можно было надеяться, что впредь Сиротский дом не будет заброшен и не опустится, как это случилось до моего выбора. Для проведения этого проекта я и стремился в Калугу. Приехал я туда на пятый или четвертый день Собрания. Поезд приходил очень поздно в Калугу; каково же было мое удивление увидать на платформе весь состав Калужского уездного съезда in corpore, встречавший меня с Николаем Николаевичем Яновским во главе; последний и слышать не хотел, чтобы я остановился в гостинице, и насильно повез меня к своему отцу, где я был особенно радушно принят. На следующий день часов в десять съехались к нему все предводители и Ртищев, председатель губернской Земской управы, для выслушания моего проекта, который был всеми вполне одобрен; доложить его Собранию взялся жиздринский предводитель дворянства Булгаков в надежде потом и быть выбранным попечителем Сиротского дома, что мне лично очень улыбалось, зная его настойчивость и энергию.
Весь день в Калуге прошел для меня как один миг, все время я был на народе и кто-нибудь где-нибудь меня чествовал. Завтракал я у губернатора Офросимова, днем посетил всех своих бывших сослуживцев, с которыми так приятно было встретиться; обед устроил Яновский, созвав весь Калужский уезд; вечер я провел у Кологривовых в среде уже не столь узкой, приглашены были не сослуживцы и коллеги, а более близкие знакомые калужские, а в 12 часов ночи был назначен у «Кулона» ужин, который мне давали все предводители дворянства и губернская Земская управа. Познакомился я на нем и с новыми предводителями, заместившими князя Горчакова и Булычева, назначенных, как я сказал выше, вице-губернаторами. Эти новые предводители, Полозов и Нефедьев, захотели тоже меня чествовать. Много высказано было мне разными лицами,
512
начиная с Николая Семеновича Яновского, теплых слов, сообщили мне, что проект мой об управлении Сиротским домом гласным очень понравился и был принят Собранием единогласно. Ртищев в своей речи, теплой и дружественной, поведал мне, как он опасался моего выбора в попечители Сиротского дома, думая, что я по своей энергии буду во все вмешиваться и стеснять деятельность губернской Управы, и как он рад засвидетельствовать, что, наоборот, я был настоящим помощником и опорой Управы, сняв с нее надзор за воспитанием вверенных Земству детей, а в хозяйственных вопросах был столь проникнут интересами Земства, что не менее самой Управы следил за сокращением расходов и, главное, за израсходованием средств целесообразно; насколько он опасался моего выбора, настолько он теперь скорбит о моем уходе и т. д., все в том же духе. Пришлось отвечать на все спичи, на что тогда я еще не имел привычки. Разошлись мы очень поздно, перецеловались со всеми участниками, с коими я делился своими впечатлениями о Харькове. На ужин этот приглашены были Офросимов и Нейдгардт, от коих я не скрыл, насколько деятельность в Харькове разнообразнее и шире, но что все-таки я не перестаю жалеть, что оторван от родной, дорогой мне среды калужан.
На следующий день рано утром уехал я в Сергиевское, где пробыл сутки, остановившись у управляющего Корчагина; занялся с ним днем хозяйственными делами, а вечер провел в милой Тимофеевке у всегда радушных дорогих наших друзей Мамоновых. Как приятно было рассказывать им про нашу новую жизнь, чувствуя, как все их интересует и как все они понимают. Уезжать на этот раз из пустого Сергиевского было даже приятно, я стремился всей душой в Харьков, ясно сознавая, что там, где моя семья, там и есть мой home. К сожалению, от этой моей поездки мало вышло толку. Булгаков был забаллотирован в попечители, что было прямо скандально; никто другой не соглашался идти на риск баллотировки, боясь, что партия Булгакова, глубоко и основательно возмущенная нанесенной ему совершенно незаслуженно обидой, никого не пропустит; и все осталось по старому: то есть Сиротский дом оказался без попечителя и опять подпал под единое ведение Управы, которая и так завалена делом [и] не в силах была справиться с этой задачей.
Невольно отклонился и прервал свой рассказ о службе в Харькове, вернусь к ней. Все до сих пор мной описанное относится к случаям обыкновенной административной деятельности в обстоятельствах мирной жизни. Перейду теперь к описанию беспорядков, бывших в мое время при Тобизене. Однажды при нем были крупные рабочие беспорядки и забастовки, а в другой раз в его отсутствие, когда я управлял губернией, разыгрались студенческие волнения, широко разлившиеся по всем высшим учебным заведениям империи. Начну с забастовки рабочих. В то время в Харькове самый крупный завод был паровозостроительный с семью тысячами рабочих, затем по количеству рабочих железнодорожная мастерская Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги с четырьмя тысячами рабочих и завод Гельфриха-Саде сельскохозяйственных машин с одной тысячью рабочих, а потом уже более мелкие заводики числом в несколько десятков, так что в общем рабочих в Харькове насчитывалось тысяч 15 — количество, по сравнению с большими фабричными центрами, не особенно большое,
513

Елизавета Николаевна, Михаил Михайлович и Мария Михайловна Осоргины.
Сергиевское. Рисунок М. М. Осоргиной. Начало XX века.
Частное собрание, Париж
но зато очень сплоченное и революционно настроенное. Одни лишь рабочие завода Гельфриха были более покойный элемент; материальное их положение было исключительно хорошо обдумано владельцами завода, не столько, как высокая заработная плата, сколько всякими прерогативами и выгодами, коими они пользовались при продолжительной службе на заводе. Выгода же прогрессировала одновременно с увеличением числа лет, проведенных на заводе. Незадолго до разыгравшейся забастовки владельцы этого завода праздновали какой-то юбилей, и на празднике этом выяснилась солидарность рабочих со своими хозяевами и обоюдная любовь друг к другу; обе стороны смотрели на свой завод как на нечто собственное, родное. Железнодорожные мастерские не были в ведении общей полиции, а под надзором железнодорожной жандармерии, во главе коей стоял ротмистр Ковалинский. Начальник губернского Жандармского управления полковник Маврин, на редкость порядочный человек и вместе с тем очень толковый начальник Управления, лучший из всех тех, с коими мне пришлось впоследствии сталкиваться, давно уже докладывал губернатору, что в среде рабочих неспокойно и можно ожидать со дня на день забастовки по самому ничтожному поводу; помощником Маврина по розыскному делу был ротмистр Герасимов, впоследствии известный начальник петербургского Охранного отделения; на его обязанности было руководство внутренними агентами, то есть теми лицами, которые, состоя в революционных организациях, предались на службу
514
правительству и доносили обо всем достойном внимания; для свидания с этими лицами Герасимов переодевался, гримировался, так что, встречая его на улице, его нельзя было узнать, и только потом он мне говорил, что там-то меня тогда-то встретил. По части добывания сведений он был действительно талантлив и безусловно бесстрашен. Он-то и предупреждал Маврина о предрешенной забастовке. Вилькен, имевший тоже своих агентов, подтверждал эти сведения, добавляя, что почти ручается, что движение это не распространится на завод Гельфрика-Саде. Один ротмистр Ковалинский был вполне покоен и отрицал существование агитации в подведомственных ему мастерских; а в его мастерских и начались волнения, потом уже перебросившиеся на остальные фабрики и заводы.
Однажды рано утром, дело было уже весной, когда я только что начал одеваться, меня по полицейскому телефону вызвал немедленно к себе Тобизен, добавив, что, кажется, дело началось. Не прошло и получаса, как я был уже у него в кабинете, где застал, кроме Вилькена, Маврина, прокурора Палаты Давыдова, его старшего товарища Снопко, еще и сконфуженного ротмистра Ковалинского; со мной вместе пешком подошел к губернаторскому дому и генерал Винберг. Выяснилось, что один из цехов железнодорожных мастерских объявил забастовку и препятствует рабочим других цехов начинать работу, врываясь в их отделения, стараясь их устрашить и разогнать. Тут же решено было вызвать войска в помощь полиции и, главное, казаков, коих в Харькове стоял один Донской полк, командиром коего был лихой полковник Агапов. Часть пехоты была направлена к железнодорожным мастерским для охраны тех зданий, где работа еще производилась, а другая часть и казаки были распределены по тем полицейским частям, в районах коих были крупные фабрики и заводы. Мы же с Тобизеном должны были вдвоем ехать в железнодорожные мастерские, где, как сообщали по телефону, собрался бурный митинг. Ковалинский уехал вперед встречать пехоту, назначенную ему в помощь, а мы с губернатором еще задержались на какие-нибудь полчаса в разговоре с Винбергом, который, отличаясь всегда большой prolixite, был очень медлен[ен] в разговоре, стараясь выторговать у администрации сокращение, по возможности, наряда войск. Все-таки Тобизен настоял у него вызвать по телефону из Чугуева еще один кавалерийский полк в подмогу казакам; свежо еще было предание о беспорядках в Харькове, бывших при губернаторе князе Кропоткине, начавшихся с пустяков, простой драки двух пьяных во время пасхального гуляния и продлившихся чуть ли не двое суток, за малым количеством войск, не поспевавших всюду, где бывали скопления; тогда беспорядки эти сопровождались убитыми и ранеными: один полицейский пристав, вздумавший окатить толпу из пожарной трубы, был буквально разорван толпой на части. Для предупреждения этого Тобизен и хотел лучше принять лишние меры охраны, чем что-нибудь не доделать. Получив согласие Винберга на вызов кавалерии из Чугуева и убедившись, что начальник штаба корпуса исполнил это, мы с Германом Августовичем поехали к железнодорожным мастерским; подъехать к ним за многолюдством толпы и зевак нельзя было и пришлось нам пешком пробираться в самую толщу к тому месту, где предполагались ораторы. Толпа была вполне вежлива и пропускала нас довольно свободно, но когда мы очутились в самом центре совершенно одни вблизи ораторов и вожаков движения, стало мне
515
немного жутко. Смотря на Тобизена, который не выказывал ни малейшего смущения, и я успокоился. В это время раздались какие-то крики, толпа было шарахнулась, но потом вновь замерла вокруг нас. Оказалось, была сделана опять попытка приостановить работы тех цехов, которые еще не забастовали, и, хотя это и удалось, стоявшие у станков мастеровые разбежались, но Ковалинскому удалось с подоспевшей ротой солдат задержать тех, кои снимали рабочих, и теперь он пробирался к губернатору за приказанием — куда отправить арестованных; вид этой пехоты, ведущей арестованных, и испугал толпу. Тобизен тут же приказал отправить их в ближайшую пересыльную тюрьму, роту, задержавшую этих зачинщиков, оставить при тюрьме для усиления караула и, главное, охраны наружного здания; мне же наблюсти за точным исполнением всего этого и соответствующего сношения с военными властями для оформирования нового назначения этой роты пехоты, переходящей из ведения полиции в распоряжение тюремного начальства; но губернатор задержал меня до окончательного ликвидирования митинга, на коем мы присутствовали. Толпа, видя решительные меры губернатора, как-то притихла, откуда-то притащили рабочие даже нам два стула, на которые мы воссели. Тобизен стал уговаривать их сейчас же разойтись, завтра же [в]стать на работу, и тогда обещал рассмотреть их претензии, которые были чисто экономического характера; рабочие сдавались, но лишь требовали немедленного освобождения тех, кои только что были отправлены в пересыльную тюрьму, на что получили категорический отказ. Не помню, что именно повлияло: полное ли бесстрашие Тобизена, находившегося со мной вдвоем среди толщи самой толпы, что и на меня сильно действовало и проникало уважением к нему, спокойный ли его тон, или же просто надо было чем-нибудь покончить это сборище, тем более что главное было достигнуто — все мастерские прекратили работы, но митинг стал расходиться.
Я уже намеревался ехать в тюрьму исполнять данное мне поручение, как послышались тревожные гудки на другом конце города, на паровозостроительном заводе, и по телефону сообщили, что и там работы прекращаются и толпа забастовщиков пошла снимать рабочих на завод Гельфриха. Тобизен сам поехал в пересыльную тюрьму, а меня послал на место новой забастовки, двинув по телефону туда в мое распоряжение сотню казаков. Когда я приехал туда, а надо было пересечь весь город, машинопаровозостроительный завод был уже пуст, и я только распорядился поставить охрану из пехоты вокруг заводских зданий, где были машины исключительной ценности, и поспешил на завод Гельфриха-Саде, но, к сожалению, и туда уже успели пробраться если не целая толпа, то несколько агитаторов, которые, не снимая насильно с работ мастеровых завода, действовали более дипломатично, а именно — сзывали их в столовую для обсуждения предложения об объявлении общей забастовки и тем поддержать железнодорожные мастерские. Толпу на заводской двор мне удалось не пустить, оцепив весь завод войсками, и сам [я] пошел в столовую, где застал и главных владельцев завода, и его администрацию, а также и старшего фабричного инспектора, уговаривавших местных рабочих не позориться, вспомнить, что на этом заводе никогда забастовок не было, что материальные нужды рабочих всегда удовлетворялись с избытком, что сами рабочие недавно это подтвердили на бывшем юбилее завода.
516
Старые рабочие не сочувствовали агитаторам; некоторые были не только сконфужены, но прямо огорчены; один из них, помнится, со слезами на глазах поддакивал всему, что говорило начальство, а когда я обратился к ним с предложением вернуться к работе, а свои претензии изложить фабричному инспектору, тут же находившемуся, они медленно стали выходить из столовой, но вместо того, чтобы направиться внутрь двора к заводским зданиям, угрюмо и молчаливо повернули к наружным воротам и стали уходить с завода. Итак, и здесь забастовка разыгралась. Оставалось мне принять лишь меры охраны зданий, для чего я оцепил весь завод часовыми, поставив внутри двора роту пехоты. Казакам же поручил посылать по этой части города разъезды, наблюдая, чтобы нигде не собиралась бы толпа. Исполнив все это и возложив наблюдение за исполнением сего на помощника полиции Василия Ивановича Моранди, старого полицианта, занимавшего эту должность чуть ли не 20 лет, поехал я с Вилькеном отдать отчет во всех распоряжениях к Тобизену, который все вначале одобрил.
За всеми этими разъездами, переговорами, незаметно подкрался и час обеда, а я с утра был натощак, почему поспешил домой хоть минутку отдохнуть. В этот день ничего нового нельзя было ожидать, все зависело от завтрашнего дня, но все же на всякий случай губернатор разделил город пополам: мне вверил часть его за рекой Лопань, где была и моя квартира и расположены были железнодорожные мастерские и пересыльная тюрьма, а за собой оставил надзор за остальной частью города с заводами паровозостроительным и Гельфриха-Саде. Едва я успел сесть за обед дома, где Лиза с детьми и моими родителями ждали меня весь день с тревогой, а теперь всячески ублажали, как мне сообщили по телефону из пересыльной тюрьмы, что толпа нападает на тюрьму, бросает камни и вот-вот ворвется во внутренний двор. Лошади мои еще не были отпряжены, почему я моментально поехал. Первому встретившемуся разъезду казаков велел следовать за собой; за Карповским мостом еще до пересечения Екатеринославской улицы встретил я полусотню казаков и хотел их взять с собой, но командир полусотни доложил, что он только что от пересыльной тюрьмы, где все покойно. Сбитый его докладом с толку, я не только отпустил его, но отдал ему тот разъезд, который за мной следовал и оказался из его полусотни. Никогда не удалось выяснить, почему сей офицер (фамилии его не спросил, а лица не запомнил) так нагло мне соврал и оставил одного перед нешуточным волнением толпы; мне всегда казалось, что военное начальство тех частей, которые призывались в помощь полиции, были большей частью враждебно настроены против гражданских властей и никакого ни усердия, ни предупредительности никогда не выказывали. Правда, что эти наряды развращали войска и потому были особенно ненавистны военному начальству. Так и тут, казачий офицер, успокоив меня лживым донесением, избавился от непосредственного воздействия на толпу, а сам со своей полусотней отправился в Карповский сад на отдых; я же поехал один в тюрьму выяснять, почему меня оттуда напрасно беспокоили. Стоило мне подняться по Екатеринославской, пересечь железнодорожный мост-виадук, как я понял, что дело нешуточное, что без казаков я не обойдусь, и еще как бы самому не попасть в передрягу. От моста через железнодорожные пути до самой тюрьмы довольно широкая улица идет в гору по выемке, выходя лишь на общий уровень земли
517
на площадке перед тюрьмой. Откосы этой выемки, сначала довольно большие и крутые и лишь к тюрьме понижающиеся, были с обеих сторон усеяны народом, напиравшим и на улицу. Возвращаться мне назад за казаками было бы проявление трусости и потому могло иметь дурное влияние, как бы ободряющее и так уже довольно наглую толпу, да и за участь самой тюрьмы я боялся, учитывая, что собравшаяся толпа достигла нескольких тысяч; пришлось ехать через толпу, только я приказал кучеру ехать как можно скорее. Ехал я, как бы прогоняемый через строй, и каких только нелестных эпитетов, ругательств я не наслушался, даже два или три камня были брошены, но неудачно, так что добрался я до тюрьмы цел и невредим. Администрацию тюрьмы и охранную роту застал в полном emoi. Перед тюрьмой, через улицу, толпа была особенно многочисленна и бомбардировала довольно удачно камнями тюрьму, где окна, выходящие на этот фасад, были уже все разбиты; к счастью, камеры заключенных обращены были окнами в другую сторону, так что пострадали лишь службы, канцелярия и коридоры. Командир охранной роты, не имевший еще права приступать к стрельбе, вызвал роту из внутреннего двора, построил на площадке против главного выхода, не зная сам, что дальше предпринять. Вникнув в положение, я пришел к убеждению, что, действуя пехотой для очистки улицы, придется стрелять, и тогда будут жертвы и не из числа демонстрантов. Кто знает психологию солдата в такие минуты, понимает, что солдату жутко стрелять на близком расстоянии в безоружную толпу, почему и стреляет он поверх головы нападающих, следствием чего шальные пули далеко от места стрельбы убивают и ранят совершенно неповинных людей. Надо было во что бы то ни стало дождаться кавалерии, которую я тут же по телефону вызвал, поручив приставу VI-го участка Занфиреву отыскать в Карповском саду ту полусотню казаков, которая ввела меня в заблуждение, и самому привести ее к тюрьме. Одновременно я телефонировал генералу Винбергу о ложном донесении казачьего офицера и о трудном положении пехоты, охранявшей тюрьму. Он сам возмутился и уверил, что во что бы то ни стало пришлет мне сейчас кавалерию, хотя бы пришлось для сего увеличить наряд войск. Чтобы удержаться до ее прихода без дальнейшего риска для тюрьмы, необходимо было очистить ту часть откоса, которая была против тюрьмы и откуда все продолжали бросать камни. Командир роты просил разрешить дать залп: средство, несомненно, действительное, но именно то самое, которого я и хотел избежать по причинам, изложенным выше. Разрешения действовать огнем я не дал, но приказал ему действовать холодным оружием, то есть штыками. Разделил он свою роту на две части: полуроту оставил против главных ворот тюрьмы, а другой полуроте приказал взять «на ура» указанный мною откос, действуя прикладами; но и к последнему средству не пришлось прибегнуть — толпа, увидав стремительный бег полуроты, до того испугалась, что бросилась врассыпную, и, таким образом, пространство перед тюрьмой оказалось вполне очищенным, почему я сошел на шоссе, высматривая появление вызванных мною казаков. Вдали толпа была еще так густа, что перейди она к враждебным действиям, пришлось бы стрелять, чего я так боялся; а чем дальше продолжалось ожидание, тем наглее делались нападавшие, видя, что против них не принимают решительных мер. Минуты были трудные; сознавал я, что всякое промедление и на
518
солдат действует развращающе, да и начальство, меня окружавшее, недвусмысленно осуждало мою нерешительность, доказывая, что и у заключенных настроение повышается; если же и они поднимут беспорядки, рота для действия на два фаса окажется слишком слаба. В таком тяжком раздумье я уже готов был решиться приказать перейти к огню, для чего по закону должен был свою власть передать старшему военному, то есть здесь, на месте, ротному командиру, как вдруг снизу горы послышались какие-то крики, толпа дрогнула, бросилась бежать, и через какие-нибудь три-четыре минуты вся улица опустела. Приписал я это тому, что, вероятно, вдали показались казаки, но, оказалось, причина была другая, и еще более странная. В Харькове была конная полиция в составе 30 или 40 конных стражников; они несли ту же службу, как в столицах конные жандармы, и вот лишь один такой всадник показался на рысях, как толпа вся разбежалась, боясь его нагайки. Понятно, не подоспей вскорости казаки, толпа бы вновь собралась и обнаглела бы, но казаки наконец прискакали. Установил я от них разъезды кругом тюрьмы и по улице, вверив им наружную охрану тюрьмы и дав им наказ не допускать [ни] малейшего сборища, требуя немедленного расхождения таковых, а в случае непослушания — разгонять ослушников, не прибегая к оружию; пехоту же вернул в ограду тюрьмы для содержания караула.
Ночь прошла совершенно благополучно. На следующий день Тобизен, осведомившись, что в моем районе тихо, вызвал меня к себе, так как ждал прибытия депутации от железнодорожных мастерских с повинной, о чем предупредил его ротмистр Ковалинский. Действительно, они пришли. Не помню точно всего разговора, но осталось у меня впечатление полного изменения с их стороны тона; они не требовали, а только просили. Оказалось, что у Гельфриха-Саде [в]стали на работу, за исключением отдельных единиц, да и паровозостроительный завод в большей своей части собирался прекратить забастовку, так что таковую в Харькове надо было признать неудавшейся. Переговоры, насколько мне помнится, длились не особенно долго: губернатор обещал выпустить из пересыльной тюрьмы задержанных накануне рабочих, как только работы в железнодорожных мастерских начнутся в нормальном порядке. Делегаты просили дать им время переговорить с товарищами, надеясь склонить их к возобновлению работ после обеда. Так и случилось: работы начались, хотя не полным нормальным ходом, но в удовлетворительном объеме, а Тобизен поехал со мной освобождать задержанных рабочих из пересыльной тюрьмы. На следующий день на всех заводах работы шли нормально и войска были отпущены.
Далеко не так скоро и благополучно кончились студенческие волнения, но это и понятно, ибо это было явление по всей России, и руководила этим движением во всех университетских городах, по-видимому, единая опытная рука. Случилось это как раз в отсутствие Тобизена. Уехал он в Петербург, я его даже не провожал, более<…>; быть может, его поезд даже еще не отошел от Харькова, как принесли мне шифрованную телеграмму Департамента полиции, сообщавшую, что в Петербургском и Московском университетах начались волнения, которые, по имеющимся в Департаменте сведениям, разольются по всем высшим учебным заведениям империи, так как это движение организовано Центральным революционным комитетом. Возвращать Тобизена с пути не имело смысла, да и не
519
было к тому способа, так как шифра при нем не было; не объясняя же причины, нельзя было вызывать его обратно, да кроме того я рассчитал, что в Петербурге он сам все узнает и, если найдет нужным, тотчас же вернется назад. Просил я попечителя округа Хрущева заехать ко мне, чтобы передать ему эти сведения, и, когда старик приехал, узнал от него, что и он собирается на следующий день выехать в объезд по своему округу. Спрашивал он моего совета: не отложить ли ему эту поездку, что я, со своей стороны, горячо ему рекомендовал, но, как это обыкновенно бывает с безвольными людьми, это только натолкнуло его на обратное решение. Уперся он, что ему необходимо ехать, тем более что по его сведениям в харьковских высших учебных заведениях (университете, Технологическом и Ветеринарном институтах) настроение самое мирное, и никаких волнений ожидать нельзя. Предложил я ему оставить мне свой подробный маршрут, дабы в случае начала беспорядков я мог бы ему это сообщить какой-нибудь условной телеграммой, но и от этого старик отказался, ссылаясь на то, что его заместитель, ректор университета Михаил Мартынович Алексеенко, в случае чего его немедленно известит, что он на это ему даст точную инструкцию.
Уехал Хрущев на следующий день, не слушая никаких резонов, и, как я понял потом, поездка эта была предпринята по наущению того же Алексеенко, который хотел в смутное время студенческих беспорядков остаться во главе округа, надеясь сыграть при этом удобном случае такую роль, которая бы его выдвинула. До того Алексеенко как ректор умел всегда вовремя уехать из Харькова перед какими-нибудь осложнениями среди студенчества, предоставляя Хрущеву самому разбираться. Алексеенко понимал, что вместе с Хрущевым он работать не может. Последний слишком неумен и к тому же самоуверен и самодоволен; на этот раз Михаил Мартынович, по-видимому, решил единолично испробовать если не свои силы, то свой хитрый ум. Дня через три влияние петербургской и московской историй сказалось и в Харькове: во всех высших учебных заведениях начались сходки, на коих решено было начать забастовку, которая скоро и разыгралась. Лекции, за отсутствием слушателей, пришлось прекратить, да и либеральные профессора, а их было значительное большинство, сочувствовали этому движению и, предупреждая желание студентов, сами прекращали свое чтение, заслуживая этим временную популярность среди молодежи. Когда, таким образом, все три высших учебных заведения оказались de facto закрытыми, пришлось и мне вмешаться и выступить, потому что праздная толпа студентов являлась горючим материалом в самом городе, где можно было каждый день ожидать серьезной демонстрации. Созвал я у себя совещание, пригласив прокурора Палаты Давыдова, исправляющего должность попечителя округа Алексеенко и для осведомления — начальника Жандармского управления полковника Маврина и полицмейстера фон Вилькена. Открывая совещание, я объяснил, что я ничуть не считаю себя вправе вмешиваться во внутреннюю жизнь учебных заведений, но так как волнения, начавшись в стенах заведений, могут вылиться на улицу и тем перейти в сферу моей деятельности, а затем при расследовании наказуемости деяний выступит и прокурорский надзор, нам с прокурором Палаты желательно и даже необходимо знать, что предполагает предпринимать учебное начальство при создавшемся положении; зная это, нам возможно выработать
520
директивы предстоящей деятельности; кроме того, я добавил, надо на настоящем совещании выяснить, что может быть терпимо в стенах заведений, а что может быть и опасно для общественного спокойствия. Просил я прежде всего и Маврина и Вилькена доложить совещанию сведения об этом движении, имевшиеся у них; оба они нарисовали мрачную картину, считая что движение это серьезное: главари решили довести забастовку до конца, то есть до удовлетворения их требований, а таковые, уже переданные учебному начальству, были, главным образом, политического характера. Главное, они требовали свободу сходок с допущением на них и посторонних, то есть узаконения под сенью университета или подобного ему заведения митингов; видно, опытная рука руководила всем движением. Вилькен и Маврин оба сошлись на том студенте (фамилию забыл), который был главой харьковской студенческой молодежи и служил посредником между ними и Центральным революционным комитетом.
Прослушав этот обстоятельный доклад, я обратился к Алексеенко с вопросом, что же он думает предпринять, на что получил неожиданный ответ: «Пока ничего, я еще ни на что определенное не решился». Сказано это было каким-то обиженным тоном, после чего я, инициатор сего совещания, оказался в довольно глупом положении. Как ни приставал к нему Давыдов, Алексеенко заперся в какую-то броню молчания и довольно резко отвечал, что это его дело и никому отчета он не обязан давать. Так пришлось нам разойтись ни с чем, причем и Маврин и Вилькен, уходя, шепнули мне, что Алексеенко у себя на уме и готовит нам какую-нибудь каверзу, а Давыдов ушел совсем рассерженный. Алексеенко же медлил уходить, видимо, желая со мною поговорить наедине, и когда он остался последним и перешли мы в кабинет, с обидой высказал, что он не мог говорить при жандарме и полиции, что он считает это ниже своего достоинства, а давно все решил и мне это скажет. Я, видя его обиженный тон, не стал уже его опровергать, понимая, что не обида в нем говорит, а боязнь прослыть негуманным человеком и, главное, повредить своей репутации либерального человека, которая все более упрочивалась за ним в передовых кругах, и чем он, как и многие в то время, особенно дорожил. План его был такой: если забастовка продлится, что он вполне ждал и почти был в этом уверен, и если все меры увещевания, как-то воззвание профессорской коллегии, вывешенное в аудиториях, не дадут никакого результата, что было тоже более чем вероятно, он объявит, что все студенты всех трех высших учебных заведений как прекратившие посещение лекций считаются добровольно уволившимся; университет и оба института на время закрываются, а желающие продолжить свое образование через определенный срок будут вновь приниматься, как совершенно посторонние, с соблюдением тех формальностей, которые требуются при первоначальном поступлении. При этом Алексеенко добавил, что, понятно, при приеме будет серьезная фильтрация. Я не мог спорить, целесообразна ли или нет такая мера, во всяком случае, она была оригинальна; только я его спросил, сообщил ли он Хрущеву о начавшихся волнениях и предполагает ли он ожидать его санкции для такого необычного приема борьбы с забастовкой. Он как-то сконфуженно объяснил, что не знает, где Хрущев и где его ловить; несомненно, он был неискренен, но хотел на свой риск действовать, дабы, если ему это удастся, приписать себе заслугу
521
успеха, в противном же случае свалить вину на Хрущева, который все же вернется до полной ликвидации, а потому легко можно будет на него взвалить роль козла отпущения. Я поставил ему два условия выполнения сего: 1) чтобы о принятии этой меры я был бы предуведомлен за сутки, так как увольнение всех студентов поголовно обращает их в толпу обывателей, с коей ведаются уже не учебное начальство, а гражданские власти, и 2) чтобы объявление было вывешено не на наружных стенах двора университета, а внутри двора — на дверях здания главных аудиторий. Чтобы понять смысл моего второго требования надо знать топографию Харьковского университета. Главное здание, за исключением клиник, расположенных на окраине города (оба института в то время были еще в малозаселенной части), находится на Университетской улице, крайне узкой, но внутри довольно обширного двора. Если бы закрыть ворота в этот двор, прекратить в него доступ и вывесить объявление на воротах, толпа в несколько минут запрудила бы улицу в центре города близ собора, Присутственных мест, и можно было бы ожидать всяких эксцессов. Кроме того я его предупредил, что если начнутся беспорядки внутри двора, то есть на территории университета, я не введу туда полицию, иначе как по его письменному требованию; что это он должен иметь в виду и с этим считаться. По-видимому, мои оба требования были ему не по нутру, но были высказаны в столь категоричной с моей стороны форме, что он понял, что не уступлю, а ему необходимо подчиниться. На этом мы расстались, и на следующий день я уже от себя поделился с остальными членами совещания о принятом Алексеенко решении и поставленных ему мной условий. Тут же с Вилькеном был разработан план полицейских мер на тот день, когда учебное начальство закроет все высшие учебные заведения. Сколько дней прошло после этого — не помню, во всяком случае немного, забастовка не прекращалась, и вот однажды поздно вечером Алексеенко телефонировал мне, что решил на следующий день утром закрыть все высшие учебные заведения города Харькова и вывесить объявление о признании всех студентов уволившимися. Я ему с негодованием возразил, что он нарушает мое первое требование, что я не силах ему препятствовать, но в случае недоразумений часть вины падет на него; что же касается о других моих условиях, то так как исполнение их зависит от меня, я требую и настою на соблюдении их. Алексеенко стал объяснять, что приведение в исполнение его решения завтра же вызывается тем обстоятельством, что события приняли слишком серьезный характер; впоследствии, как увидим, выяснилось, что побудительная причина ему торопиться была совсем иная, а именно ожидаемое на завтра днем возвращение Хрущева, после чего Алексеенко должен был ему немедленно сдать должность попечителя и вернуться в подначальное положение ректора университета. Во избежание недоразумений с ним я ему вновь подтвердил, что я от него требую при вывешивании объявления, и предупредил, что если он их не исполнит и закроет ворота двора, я их велю открыть мерами полиции, но во внутрь двора и в само здание полиция войдет лишь по получении от него письменного требования. Он с азартом стал спорить в телефон, что последнее невозможно, ибо может наступить такая серьезная минута, что не будет времени писать официальную бумагу; я ему спокойно посоветовал заготовить эту бумагу заранее, держать ее в кармане и в случае необходимости
522
прислать оную, что не отнимет у него времени более, чем присылка человека со словесной просьбой. Я видел, что все это ему неприятно, но, видя мою неуклонность, он ответил, что раз я такой формалист, то он это исполнит. Тут же по телефону я дал свои распоряжения Вилькену, с которым, как я уже выше сказал, план был заранее разработан; телефонировал я и Давыдову о решении Алексеенко, и условились мы с ним на следующий день с утра быть в своих служебных кабинетах, расположенных стена о стену в здании Присутственных мест рядом с университетом; и Вилькен, и Алексеенко должны были быть осведомлены об этом, чтобы знать, где нас найти, и держать нас в курсе событий. С тяжелым чувством, не спав почти всю ночь, часов в девять я поехал в Губернское правление, где и принял утренний доклад полицмейстера; второе мое требование было исполнено: ворота университетского двора были открыты и объявление учебного начальства было вывешено на закрытой двери одного из внутренних зданий, где были наибольшие аудитории, служившие последние дни главным местом сборища студенчества.
Весть о закрытии попечителем всех трех высших учебных заведений города Харькова за неимением слушателей, так как все студенты как добровольно покинувшие свои alma mater признавались механически уволившимися, быстро распространилась по городу до самых окраин, и забегали студенты по площади, направляясь для поверки этих сведений к университету. Толпы сконцентрированной нигде не было; чуть ли не каждые четверть часа мне телефонировали из разных участков о настроении в городе, но из окон моего кабинета, выходящих на Соборную площадь, наблюдался усиленный va et vient различной учащейся молодежи. Часов в десять с чем-то ко мне пришел инспектор студентов Алякрицкий, будто бы от Алексеенко, с расстроенным лицом, прося немедленно выслать во двор университета отряд городовых для защиты внутренних зданий, куда ломятся студенты. Я его огорошил вопросом: «Дайте мне письменное требование исполняющего должность попечителя и я тотчас распоряжусь о высылке Вам нужных, по Вашему мнению, полицейских. Где же оно?» — «Он не успел написать, но настойчиво просил Ваше превосходительство оградить целость здания», — был его ответ. Понятно, я остался непреклонен и отказался это исполнить без письменного требования начальства учебного, как то требовалось по закону; тогда Алякрицкий для вящего убеждения меня просил лишь подойти к окну, чтобы увидать, что происходит необычайное и, надо полагать, что студенты-университанты снуют и ждут подмогу студентов других институтов — и Технического, и Ветеринарного. Действительно, движение было большое, но, на мой неиспуганный взгляд, столько же шло к университету, сколько от него удалялось куда-то спеша. Я, не видя таких обстоятельств, которые давали бы мне нравственное право нарушить закон, остался тверд и посоветовал Алякрицкому скорее вернуться к Алексеенко за требуемой мною бумагой, если они продолжают настаивать на грозящей будто бы университету опасности. Он недовольный ушел; по-видимому, это был пробный шар — не поддамся ли я по молодости лет и неопытности на эту удочку — и тогда возможно будет все свалить с больной головы на здоровую и обвинять администрацию в непрошенном вмешательстве. По крайней мере, скоро пришел ко мне Алексеенко и на мой вопрос:
523
«Что же бумага?» он удивленно ответил: «Какая бумага?» — «Да ведь Вы прислали мне Алякрицкого со словесным требованием ввести во внутренний двор университета полицию, в чем я ему отказал без подтверждения сего требования Вами письменно, как мы с Вами подробно сговорились». — «Я и не думал посылать Алякрицкого, это он сделал по собственному почину. Да, между прочим, я слышал будто попечитель учебного округа Хрущев вернулся, правда ли это?», — был ехидный ответ Михаила Мартыновича. После сих слов мне стало все ясно: об ожидаемом возвращении Хрущева Алексеенко узнал еще накануне, почему и поторопился провести свой способ и план борьбы с забастовкой, а из опасения, что его меры не увенчаются успехом, подослал ко мне Алякрицкого, надеясь, что я не выдержу характера и тогда будет на кого свалить неуспех. Вообще, плачевную роль по хитрости сыграл в этой истории Алексеенко. Поговорив еще немного и сообщив, что он не ожидает на сегодня каких-нибудь эксцессов, Алексеенко собирался уходить, когда я его остановил вопросом: «Кто же в конце концов теперь управляет здесь округом: Вы или Иван Петрович?» — «Бумаги о вступлении в должность Хрущева я еще не получил, почему продолжаю исполнять его обязанности», — был его ответ и с тем он и ушел. Я нуждался, между тем, быть в тесных ежечасных сношениях с попечителем, почему нашел все-таки, не доверяясь одному Алексеенко, целесообразным запросить самого Хрущева, к кому же мне обращаться в случае нужды; не желая по телефону вдаваться в подробности, написал ему записку (квартира его была в нескольких шагах от Губернского правления); в ней я, между прочим, упомянул, что если он желает знать все подробности, пусть зайдет ко мне в Губернское правление, где я неизменно нахожусь, и я ему изложу всю историю беспорядков с момента их возникновения. В ответ на эту записку Иван Петрович обиженным голосом сообщил мне по телефону, что он вступил в должность, о чем вслед шлет мне официальное уведомление, но в губернское Правление придти не может и удивляется такому с моей стороны приглашению. Увидав, что глупый старик обиделся, хотя и непонятно на что, я не стал настаивать, обещав ему, когда все успокоится, зайти к нему.
День прошел хотя и напряженно, но без каких бы то ни было уличных волнений. Часам к двум ворота университетского двора были закрыты и вывешено на них со стороны улицы новое объявление попечителя округа и ректора, что о времени открытия приема прошений вновь желающих поступить будет объявлено своевременно. Таким образом, и de facto, и de jure все высшие учебные заведения города Харькова были закрыты. По сведениям полицейским и агентурным, такой оборот дела действительно огорошил молодежь, и, боясь еще более осложнить положение, студенты стали мирные; настроение падало, даже в университетском саду, этом излюбленном молодежью месте, не было ни сходок, ни сборищ — все они перенеслись маленькими частями по частным квартирам; главари потеряли свой престиж, и когда через несколько дней было объявлено о принятии прошений для желающих вновь поступить, или иначе сказать, вернуться, прошения посыпались; фильтрации никакой не делали и все были вновь приняты. Беспорядки, таким образом, были ликвидированы до весны, когда началась обструкция экзаменов, но тут уже был Тобизен налицо, я ему помогал, исполняя его поручения; он принял серьезные меры охраны тех зданий и аудиторий,
524
где шли экзамены, почему студенчеству пришлось въяве расколоться на две партии: одну — порядка и учения и другую — беспорядка и шалберничания. Пришлось патрулями, усиленными постами городовых охранять и идущих, и возвращающихся с экзамена от оскорблений товарищей. Мы с Тобизеном постоянно разъезжали по городу и, помню, как неоднократно принуждены были стыдить и усовещивать тех, которые продолжали преследовать экзаменовавшихся. Надо сказать, что протестовавшая молодежь чувствовала поддержку и в профессорах, из коих большинство презрительно относилось к экзаменовавшимся, и лишь твердая рука нового попечителя фон Анрепа (впоследствии члена Государственной Думы) заставляла их исполнять свой долг. И в обществе, если не были на стороне забастовавшей молодежи, то их боялись. Даже губернский предводитель дворянства граф Капнист не позволил своему сыну держать экзамен, выхлопотал ему отпуск и услал его из города; много было у меня по этому поводу с ним споров. Увы, уже и тогда, как потом и в революцию, не было в обществе и у его лучших представителей настоящего гражданского мужества.
Чтобы покончить с историей студенческих волнений во время моего управления Харьковской губернией, надо рассказать, почему и как ушел Хрущев. Студенты, правильно оценивая личности главного учебного начальства — Хрущева и Алексеенко, по окончании первой забастовки почтовой посылкой прислали каждому анонимные приношения: первому — ослиные уши, а второму — лисий хвост. Тщательно получатели скрывали этот скверный для них анекдот, но через прислугу, курьеров l’affaire a transpiré, и весь город об этом заговорил. Хрущев, надо сказать, был всей этой историей доведен до бешенства и как неумный человек всем и вся это высказывал. Первый его гнев вылился на меня за ту записку, в которой я его приглашал к себе в губернское Правление, если он хочет знать все подробности возникновения беспорядков. Увидев, как я сказал выше, что старик чем-то обижен, я вечером к нему зашел и застал его в беседе с тремя начальниками высших учебных заведений; все трое были какие-то смущенные — не то обиженные, не то испуганные. Хрущев повел меня в отдельную комнату и плаксивым мелодраматическим тоном стал высказывать свои grief’ы против меня: «Как Вы могли меня приглашать в Губернское правление, меня, попечителя учебного округа? Вы не знаете, что за высокий пост я занимаю? Ведь попечитель — начальник целого округа, и ему придти в Губернское правление не подобает; Вы хотели меня унизить, обидеть старика, я не ожидал сего от Вас!» Это было так для меня неожиданно, что я чуть не расхохотался ему в лицо, а вместе и досадовал на старика, который в такие серьезные минуты думает о пустяках и ошибочно трактует мои намерения. К тому же [то], что он говорил, доказывало плохое знание с его стороны закона, как мне впоследствии объяснил Давыдов, когда я ему рассказал этот инцидент. По словам Давыдова, я как управляющий губернией, а потому и представитель государя в губернии, имел право вызвать к себе для объяснения по делам службы каждое должностное лицо, кроме архиерея и командира корпуса, стоящих по табели о рангах выше губернатора. Но не до объяснения было с расходившимся стариком; сразу я повернул дело иначе: извинился перед ним, раз он принял мое приглашение как вызов по делам службы, а не как дружескую записку знакомого к знакомому; объяснил ему, что
525
сам тоже придти к нему не мог, не решаясь отходить от телефона, но зато воспользовался первой свободной минутой, чтобы забежать к нему; его же просил вперед смотреть на меня как на молодого сотоварища, и когда бы ему ни понадобилось бы вызывать меня к себе, я его, старика, всегда навещу, хотя бы ночью, и прошу его со мной не стесняться, принимать меня хотя бы в халате, лишь бы дело делать, а не думать о китайских церемониях. Старик размяк, стал мне жаловаться на Алексеенко, что тот его подвел, не дал ему знать о начавшейся забастовке, и кончил тем, что упрекал себя, что не послушался меня — отложить поездку по округу и, главное, не оставил мне своего маршрута, как я ему предлагал. Под конец он стал уже советоваться со мной: не объявить ли ему в приказе по округу выговор Алексеенко. Я ему ответил, что не знаю его прав как попечителя, но так как ректор университета назначается высочайшей властью, думаю, что попечитель не имеет над ним даже полицейской власти. Хрущев вновь раскипятился, что я не понимаю значения попечителя, что он все может, что важней этой должности в провинции нет и быть не может. Как безвольный и глупый человек, Иван Петрович, еще более подзадориваемый моими возражениями, закатил в приказе выговор Алексеенко; тот пожаловался в Петербург, оттуда отменили приказ попечителя и обязали последнего письменно извиниться перед Алексеенко, которого в виде компенсации назначили попечителем Казанского учебного округа, а Хрущева причислили к Министерству. Ни о том, ни о другом никто не пожалел, а когда года через два после <…> Алексеенко вернулся в Харьков уже попечителем, встретили его холодно, и никогда он здесь не был ни любим, ни популярен.
Чтобы покончить с моими служебными воспоминаниями за время моей совместной службы с Тобизеном (вице-губернаторство мое при князе И. М. Оболенском будет предметом особого изложения, ибо тогда моя роль была совсем иная), надо вспомнить мое первое представление как вице-губернатора министру. За все время моей службы, с мая 1898 года по декабрь 1901 года, я ни разу не представлялся министру — ни Горемыкину, ни Сипягину, его заменившему. Все мне говорили, что пост харьковского вице-губернатора есть всегда кратковременный стаж перед губернаторством. Тобизен, который ежегодно ездил в Петербург зимой людей повидать и себя показать, возвращался оттуда с обещанием скорого моего продвижения и каждый наградной день заранее поздравлял меня с придворным званием, которое я так в Харькове и не получил. За все время моего вице-губернаторства получил я лишь орден Анны 2-й степени, и то такой, который я уже имел, почему награда эта сошла на нет, и только перед самым уходом из Харькова заменили этот злополучный, по ошибке мне данный орден, Владимиром 4-й степени. Не знаю, отчего так туго шло мое продвижение по службе, о коем хлопотали многочисленные родственники, игравшие видную роль в петербургских сферах. Мне говорили в Харькове доброжелатели если не открыто, то намеками, что в сущности препятствует сему сам Тобизен, дороживший дельным и покладистым помощником, который с охотой нес всю служебную тяготу, никогда не выдвигаясь на первый план. Я до того ненавидел петербургскую атмосферу, министерские приемы, способные развить в каждом самые дурные чувства, и вообще весь дух петербургской бюрократии, постоянно
526
оскорблявшей самолюбие человека, провинциального деятеля, что сам ни разу не захотел съездить в Петербург зимой, когда семья была со мной; летом же дорожил каждой свободной минутой, чтобы проводить оные в семье, в деревне, по которой не переставал скучать.
Когда министром стал Д. С. Сипягин, beau-frère моей жены Гриша Кристи, бывший с ним в особенно приятельских отношениях, стал ему меня рекомендовать. Сам Кристи был в это время дмитровским уездным предводителем дворянства Московской губернии. Однажды он с женой Маней (сестрой Лизы) проезжал обратно в Москву из Крыма, где пребывал весь Двор благодаря болезни государя, а также и министр внутренних дел. Поезд стоял в Харькове около полутора часов, и так как наша квартира была почти рядом с вокзалом, заехали они к нам, чтобы передать, что Сипягин желает со мной познакомиться, что есть теперь две губернаторские вакансии — в Орле и Риге, и я имею на одну из них шансы, о чем усиленно хлопочет Котя Оболенский, любимый флигель-адъютант государя. Тобизен неотступно приставал ко мне, чтобы я поехал в свиту будто на свидание с дядей и тетушкой жены Самариными (дядя Петя и тетя Лина) и представился бы после министру. Сдался я этим уговорам и поехал; поездка была обставлена наивозможно лучше: ехал я в отдельном вагон-салоне до Севастополя, а оттуда на пароходе. Но, выйдя из Севастопольской бухты, началась такая жестокая качка, что, покинув пароход, не переставал качаться на ногах, да и тошнило меня изрядно. Встретили меня и дядя Петя Самарин, и Котя Оболенский; последний предупредил меня, что Сипягин ждет меня на следующий день днем. Совсем другое впечатление сделал на меня Крым в это второе мое посещение. Во время свадебного путешествия, пятнадцать лет перед тем, все сияло солнцем, и сама Ялта казалась каким-то сказочным городом, а вся обстановка волшебной; теперь же при зимнем освещении (это было начало декабря), буря на море, все казалось тусклым, неприветливым и, во всяком случае, не празднично, хотя сам дом Самариных на горе, с хорошим видом на море, был и уютен, и красив. На следующий день облекся я в мундир и к назначенному часу явился к Сипягину, занимавшему отдельный большой апартамент в гостинице «Россия», где некогда мы с Лизой жили около недели в наше свадебное путешествие. Встретил меня генерал Самойлов, на обязанности коего лежало занимать посетителей министра до приема, и скоро ввел меня к Сипягину. Так как я был один, мне и ждать не пришлось, почему избег тяготу и нудную атмосферу министерской приемной, которая так неприятно на меня всегда действовала в Петербурге. В первый раз видел я министра Сипягина; впечатление было вполне благоприятное с точки зрения приветливости — это не был сановник, а любезный хозяин, принимавший гостя. Но я чувствовал, что мне производят экзамен и что от него зависит моя дальнейшая служебная судьба. Расспрашивал он меня довольно подробно о харьковских делах и, по-видимому, мои точные, определенные ответы его удовлетворили. Затем, желая, вероятно, зондировать мою деловитость и умение разбираться в законах, он меня спросил, как я отношусь к новому продовольственному закону, не нахожу ли я в нем каких-нибудь дефектов и какие именно. Закон этот был его детищем, в нем впервые проводил он свою коренную мысль — сузить по возможности круг деятельности Земства и по мере возможности функции его
527
возложить на административные органы. Закон этот был лишь несколько месяцев как распубликован, я его еще мало знал, даже основательно не прочел, отчасти ввиду благополучия губернии в продовольственном отношении, а главное, ввиду указания, что он будет вводиться постепенно, и срок подчинения ему Харьковской губернии еще не наступил. До сих пор краснею, вспоминая свой наивный ответ провинциала, которому кажется, что все происходящее в маленьком провинциальном кругу, известно всем: «Я этого закона еще не изучал, Ваше высокопревосходительство, собирался на днях до введения его в действие основательно проштудировать с Димитрием Валериановичем». — «А кто такой этот Димитрий Валерианович?», — спросил меня с улыбкой министр, и я покраснел до корня волос, сообразив всю глупость такого ответа. Думаю, что уже с этого момента моя кандидатура в глазах Сипягина провалилась. Дальше пошло еще хуже: вошла его жена Александра Павловна (урожденная княжна Вяземская), впоследствии до того сблизившаяся с Маней Кристи, что стала полуродственницей; но тогда я ее не знал и впервые ее видел. Сделал я вторую непростительную, уже светскую gaffe’у. Воображая себя на официальном приеме у министра, забывая обстановку, напоминавшую скорее прием знакомого, я не встал при ее входе, и Сипягин меня жене не представил, а тут же отпустил меня, пригласив на следующий день придти к нему завтракать запросто, понятно, не в мундире. По-видимому, мне предстоял светский экзамен, но таковой не состоялся; Сипягина с женой на следующий день отозвали к какому-то великому князю, и Димитрий Сергеевич написал мне утром, извиняясь, что не может принять меня за завтраком, а просит еще раз придти днем. Подробности этого приема не помню, но, в общем, результат от моего знакомства с Сипягиным был плачевный: в Ригу назначен был Пашков, мой товарищ по полку, в Орел — Кристи, я же остался ни при чем, и о моей кандидатуре совсем перестали говорить.
Когда Сипягин, возвращаясь в Петербург, проезжал через Харьков, я его с Тобизеном встречал на вокзале, где министр завтракал, пригласив с собой Тобизена и Лауница; со мной же лишь поздоровался и иронически спросил: «Думаю, что теперь продовольственный закон Вами проштудирован?» Все обвиняли Тобизена, что он не умел меня выдвинуть, а все старания приложил к тому, чтобы отрекомендовать Владимира Федоровича фон дер Лауница, который, правда, сейчас же и получил назначение архангельским вице-губернатором. Для Лауница это было существенно необходимо. Еще до моего назначения в Харьков у Лауница была неприятная история по опеке. Он, занимая пост уездного предводителя дворянства, одновременно был опекуном над имуществом и детьми покойного князя Голицына, его предшественника. Голицын и вышеупомянутый Ширков были женаты на двух сестрах, графинях Сиверс, родственницах Маруси Лауниц. Людская молва упорно обвиняла графа Василия Алексеевича Капниста в том, что он, боясь Лауница как конкурента на пост губернского предводителя, посоветовал княгине Голицыной подать жалобу на высочайшее имя, обвиняя Лауница в растрате состояния ее детей. Главноуправляющим по принятию прошений был тогда Д. С. Сипягин, который конфиденциально запросил [у] Тобизена сведения по сему делу. Положение Германа Августовича было очень щекотливо: он безусловно верил Владимиру Федоровичу, а между тем, исполняя такое
528
поручение, от которого, боясь всегда конфликтов с Петербургом, он не мог отказаться, ему предстояло оскорбить Лауница; кроме обиды самого Лауница можно было опасаться благородного возмущения со стороны уездных предводителей, товарищей Лауница. Герман Августович, как глубоко порядочный человек и к тому же сердечный, нашел наилучший исход: он откровенно все рассказал Лауницу и просил его привезти ему подлинное опекунское дело, дабы он мог конфиденциально его просмотреть у себя в кабинете и ответить Сипягину en connaissance de cause. Лауниц с благодарностью исполнил это, после чего губернатор, ознакомившись с опекунскими счетами, отписал Сипягину, вполне обелив Лауница. Как все ни было сделано секретно, дело все же стало известным уже потому, что Лауниц отказался от опеки над племянниками своей жены и резко порвал с семьей княгини Голицыной, не поклонившись ей и не подав ей руки при первой же с ней встрече. Дело это обсуждалось в депутатском Собрании и Собрании предводителей, причем, по рассказам, Капнист вел себя более чем странно, даже как-то недостойно, отнюдь не защищая Владимира Федоровича; зато Ширков, beau-frère княгини Голицыной, участник сего собрания как валковский уездный предводитель, благородно высказал свое порицание этому низкому доносу своей belle-soeur и настоял, чтобы все товарищи написали бы коллективное письмо Лауницу в виде нравственной поддержки и удовлетворения; пришлось и Капнисту, скрепя сердце, подписать это письмо; мне рассказывали, что ясно видно было, как он это делал à contre coeur. Я лично убежден, что если Василий Алексеевич и я поступили в этом случае не вполне по-джентельменски, то, главным образом, виновата была его жена «Varinka», которая им командовала и не была особенно разборчива в средствах при достижении своих честолюбивых замыслов. Как-никак отношения между Капнистами и Лауницем не только не наладились, а наоборот, ухудшались все больше и больше и к моменту приезда Сипягина, о коем я упомянул выше, дошли до того, что Лауниц не рискнул баллотироваться вновь в уездные предводители, так как чувствовал, что и Капнист, и княгиня Голицына сумели восстановить уезд против него, выдвигая ему конкурентом старшего Голицына, к тому времени уже вышедшего из-под опеки и бывшего виновником всей этой грязной истории. Лауниц был вообще из породы аферистов, покупал имения на заемные деньги, всегда оперировал разными векселями, почему, хотя он был вполне чист перед Голицыными, молва все же продолжала на что-то намекать и le qu’en dira-t-on не было на его стороне; почему желательно было ему покинуть Харьков, и притом с компенсацией, то есть со служебным повышением. Это и объясняло старание Тобизена устроить Владимира Федоровича Лауница. В результате я остался в Харькове без надежды на повышение, а тут вскорости и Тобизен ушел, и мое служебное положение совершенно изменилось.
Прежде чем перейти к этому периоду, когда губернатором был князь Иван Михайлович Оболенский, хочу описать, как помню, харьковское общество и общественную в нем жизнь, которая с его приездом для меня тоже изменилась. Он игнорировал общество, презрительно к нему относился, и того единения, где все и вся составляли одно сплоченное целое, больше не было. Я сам, издерганный постоянными неприятностями и Иваном Михайловичем, удрученный целым
529
рядом семейных утрат, свалившихся на нашу семью в последний год пребывания Тобизена, никуда не ездил; мы с Лизой были в трауре. Вот почему яркие воспоминания о харьковской светской жизни относятся ко времени моей совместной службы с Тобизеном, и ими же закончу свои записки об этом периоде.
Общество было очень большое и симпатичное; были и купеческие семьи (Пономаревы, Ремизовы, Ващенко, Монаковы), принимавшие, но открытых домов было не особенно много. Принимали постоянно и имели свои вечерние jours fixes два дома — Оболенские и Гиршманы. Но все же предоминирующее положение doyenne de la société занимала старожилка, старушка лет семидесяти, Александра Гавриловна Харина, принимавшая днем по воскресеньям и устраивавшая в течение зимы по приглашению несколько вечеров на весь город. Жила она в собственном доме entre cour et jardin в Харинском переулке, называвшемся так потому, что вся эта улица была ее собственностью. Сама она занимала нижний этаж дома с террасой в сад; квартира ее была очень уютна, но днем довольно темная; верхний этаж предоставлен был ею своей belle-fille, так что приходилось в этом доме делать два визита: сначала швейцар, старый почтенный крепостной, докладывал о приехавшем Александре Гавриловне, и, уже посидев у нее, взбирались, бывало, по красивой лестнице к молодой m-me Хариной, Юлии Николаевне. Не помню точно, из кого состояла семья; было, кажется, два сына, из коих один, Иван, живший совершенно отдельно от матери в другом доме, женат был на харьковской купчихе, чем он огорчил свою мать, державшуюся старых дворянских традиций, хотя фамилия Харина не принадлежала, во всяком случае, к древним дворянским родам; одна дочь была [замужем] за бывшим кавалергардом Куликовским, много старше меня, и этим зятем старуха гордилась. Сама она брала если не родовитостью, то необычайным умом и умением себя достойно и строго держать. Вдовела она уже давно, говорили, что ее муж был пьяницей и всю жизнь так ее терзал, что только после его смерти она свободно вздохнула; не знаю, правда ли это, но было странно, что день, посвященный памяти ее мужа, избран был Хариной для открытия харьковского сезона. Покойника звали Николаем, и вот на канун зимнего Миколы (как называли этот день в Харькове по-простонародному), то есть 5 декабря, у Александры Гавриловны вечером на дому служилась торжественная всенощная с панихидой по покойнику. В самый день 6 декабря нельзя это было делать, ибо этот день был Царским днем. К этой всенощной съезжалось все харьковское общество в простых платьях, а мужчины в сюртуках, что и соблюдалось и потом во время всего сезона, а фрак приходилось надевать лишь на какие-нибудь официальные парадные приемы у губернатора; для меня с Тобизеном легко было для большей корректности заменить мрачный сюртук иногда мундирным сюртуком с погонами. Еще одной симпатичной особенностью харьковского общества было то, что, главным образом, разговор всегда шел по-русски. Большинство умело говорить и на иностранных языках, но никто этим не кичился, а напротив, естественно пользовался родным языком. После этой всенощной был карточный вечер и ужин, для чего весь дом, включая и верхний этаж, открывался для приема многочисленных гостей, доходивших, я думаю,
530
до двухсот человек. Внизу собирались более пожилые, а наверху молодежь. Я по своему положению принадлежал к первым и всегда играл в карты. Вечер этот и был открытием харьковского зимнего сезона.
Приемы вечером в Харькове отличались всегда необычайным радушием и хлебосольством; весь вечер чем-нибудь угощали, и многочисленные лакеи то и дело разносили подносы, так что каждые полчаса предлагали что-нибудь новое. Начиналось с обычного чая с разнообразными petits fours и тортами, коими славилась кондитерская Дирберга; затем разносили фрукты и quatre mendiants, притом в таком разнообразии, что глаза разбегались; после чего начиналась смена конфект и fruits confits, которыми особенно славился Харьков, где издавна была известная кондитерская M-me Paque; кончалось обыкновенно уже к 6-му роберу (обычная карточная игра была в то время винт с прикупкой) подачей бульона в чашках с diables’ами и сандвичами, что служило знаком, что пора кончать, и все игравшие спешили кончать свои счета, так как вскоре следовало приглашение к ужину, которому предшествовала обильная закуска. Я с женой редко оставался ужинать, но хозяева не допускали никого уехать, не подведя его хотя бы к закусочному столу. Вспоминаю теперь, в голодное революционное время, с удовольствием и завистью все перечисленные delicatesses и какие бывали закуски: не говоря уже о зернистой икре в больших бочонках, об устрицах, разнообразных сырах, всегда были особые варьирующие горячие блюда на закусочном столе; нигде, как там, я не едал таких крошечных пельменей, густо посыпанных пармезаном, перцем и какой-то мелкой травкой и политых по вкусу душистым уксусом; это были какие-то fondants — не захочешь, а проглотишь. Но надо сказать, что кроме изобилия еды и приятной игры в карты большей частью с теми же партнерами, другого интереса эти харьковские вечера не представляли. То же повторялось в доме Гиршманов и Оболенских, где каждую неделю собирались кто хочет; если не ошибаюсь, у Оболенских — по воскресеньям и у Гиршманов — по пятницам. Мы с Лизой считали своей обязанностью хотя бы раза два в зиму побывать у тех и других.
Оболенские жили на Немецкой в собственном доме, большая часть которого была отведена под женскую гимназию, начальницей, уже дипломницей и владелицей коей и была Дарья Диевна, жена профессора и небезынтересного врача по внутренним болезням Ивана Николаевича Оболенского (не князя). Собственно душой и cheville ouvrière этой гимназии была в мое время сестра Дарьи Диевны; последняя же уже почила на лаврах, оставив за собой лишь сторону представительности, и сама, происхождения духовного, стремилась играть одну из первенствующих ролей в харьковском обществе. В этой частной гимназии, имевшей все права казенной, особенно торжественно праздновали выпускной акт, на который приглашались все власти и весь цвет общества. Нам, официальным лицам, поручалось Дарьей Диевной вручать, по очереди и по степени значения каждого из нас в табели о рангах, медали выпускным ученицам, для чего награжденная подходила к первому ряду кресел, и один из нас, восседавших в этом ряду, удостаивался от этой девушки глубокого реверанса и поздравлял ее сам, передавая футляр с медалью ей. После акта был большой прием на квартире Оболенских, имевшей общий ход с гимназией и разделяемой лишь парадной лестницей. Для
531
таких больших приемов local Оболенских очень подходил: была очень большая зала и такие же гостиные.
Гиршманы были тоже из профессорской среды: Леонард Леопольдович, европейски знаменитый окулист, и жена его Юлия Александровна, урожденная княжна Кудашева, были на редкость милые люди. Он был более чем хороший — просто святой человек; на нем оправдывалось определение еврея, что либо он пархатый жид, либо он великий праотец-патриарх. Гиршман был, понятно, последним, и вся его наружность, какая-то особенно длинная — Аароновская — борода, добрые глаза, мелкая походка и речь плавная, тихая, не искательная, но проникнутая добротой. Жена его, неумная женщина, искупала это неслыханной добротой и отзывчивостью. Вся их жизнь была делом добра для ближнего. Ефимович, редактор «Харьковских губернских ведомостей», о котором я уже упоминал, рассказывал мне, как он однажды проезжал на «ваньке» мимо дома Гиршмана и удивился, что возница его снял шапку и стал креститься: «Где же тут церковь или образ, что ты крестишься?», — спросил он его, а тот ему ответил: «Вы, барин, видно не здешние, что не знаете, что живет здесь доктор Гиршман — святой человек, сколько он добра делает; и меня самого вылечил, а то быть бы мне слепым, да не только вылечил, но и помог стать на ноги, семью мою поддержал, и вот теперь, слава Богу, и я здоров, и семья сыта!» Действительно, Леонард Леопольдович постоянно благотворил, но всегда таким тайным, неприметным образом, что облагодетельствованные им часто даже не знали, кто им помогает. Верной помощницей ему в этом была его жена. Последняя имела свои ridicules и очень молодилась, что было как-то несуразно рядом с почтенной наружностью ее мужа, совершенного старика с окладистой седой бородой. Партии в карты составлялись у них по заранее известному шаблону: в ее партии был всегда старший по положению мужчина, то есть либо Тобизен, либо я, а сам Гиршман был всегда партнером старшей дамы по служебному положению мужа. Играть с Юлией Александровной было не особенно весело, она поминутно вскакивала, чтобы сопровождать лакея, разносившего подносы, и лично наблюдала, достаточно ли каждый себе взял. У Оболенских чувствовалось, что хозяева дорожат эффектом своих приемов; у Хариной видна была во всем домовитость и удовольствие показать, что дом полная чаша; у Гиршманов главным стимулом было всем угодить, чтобы всем было приятно: если тарелка у кого-нибудь пуста, хозяйка сама бежит и, изучив вкусы каждого, спешит наложить любимые фрукты или сладости. Эта заботливость, это гостеприимство всех трогало. Любовь общества к этой семье сказалась особенно ярко уже после нашего отбытия из Харькова. По интригам молодых профессоров Харьковского университета, мечтавших вручить кафедру глазных болезней кому-нибудь из молодых, Гиршман не был избран заведующим клиникой; тогда все общество единодушно устроило подписку, в коей мы участвовали, так как нас о ней известили в Сергиевском, где мы проводили зиму после моей первой отставки, и на собранную крупную сумму денег оборудована была глазная больница еще лучше университетской клиники, но меньшего размера; назвали ее Гиршмановской и преподнесли оную с капиталом на ее содержание Леонарду Леопольдовичу, дабы он свою плодотворную деятельность продолжал в самом Харькове.
532
Был в Харькове еще один couple в первые два года нашего там пребывания — это Кукель. Он — Иван Ксавериевич, бравый старый генерал с белой бородой до полгруди — занимал покойный пост начальника местной бригады, потом был переведен в Вильно, где я тоже опять с ним встретился; женат он был вторым браком на старушке, кажется, тоже вдове, Елизавете Ивановне — сибирячке, владелице известных там многомиллионных водочных заводов. Детей у генерала от первого брака было много, но все они были или женаты, или замужем и проживали в других городах; старики же жили одни; состояние Елизаветы Ивановны было очень большое, и потребностью их, легко при их средствах осуществляемой, было хлебосольство, но такое гомерическое, о коем читаешь лишь у Гоголя. Большие любители карт, они бывали на всех вечерах, если же такого в обществе не было, принимали у себя. Рады были всякому — и званому, и незваному; но наибольшее их удовольствие было давать званые тонкие обеды, для чего держали очень хорошего, лучшего в городе повара, и, действительно, эти обеды были исключительны по своей изысканности и тонкой гастрономии. У них я научился таким тонкостям, что кушанья, следуя одно за другим, должны различаться даже цветом для гармоничного разнообразия. Подать в один и тот же обед два одноцветных соуса или же белую рыбу и белый же овощ, legume, вроде цветной капусты, спаржи — гастрономическое преступление, ересь. Но и в этот день, будь это вечер или обед, все же кончалось картами, другого времяпровождения общество не знало, все разнилось лишь в том, как играют в винт, в открытый или закрытый, с прикупкой ли или с прикупкой и присыпкой, и по какой цене. Я думаю, ни один город не давал столько дохода карточной фабрике Ведомства императрицы Марии.
Находившийся в Харькове Институт благородных девиц должен был быть за то благодарен харьковскому обществу. В этом Институте я не помню торжественных актов, но там был традиционный бал в день именин государыни Марии Федоровны, на который все власти и сливки общества приглашались начальницей, а семьи воспитанниц и кавалеры — самими воспитанницами. Застал я там начальницей г-жу Голохвастову, под конец замененную Еленой Михайловной Ершовой, вдовой генерала Владимира Ивановича Ершова, бывшего московского губернского предводителя, умершего на посту оренбургского военного губернатора и наказного атамана Оренбургского Казачьего войска. Владимир Иванович был ближайший сосед Трубецких по Меньшову, семьи давно дружили, так что с его вдовой мы встретились по-родственному. После казавшегося громадного состояния Елена Михайловна после смерти мужа, оставившего большие долги, оказалась почти нищей и должна была искать заработка. Урожденная Леонтьева, она совсем не была подготовлена к трудовой жизни, и было ей очень тяжело. С ней жили две дочери, по прозвищу Маха и Вета, и маленький сын Валериан. Она не принимала, кроме официальных приемов, но мы у ней бывали запросто и время проводили в приятной беседе о былом. У меня лично с ней были общие петербургские воспоминания, где в молодости она была подругой и первым другом Марии Александровны Тимашевой, сестры моего товарища по полку. Жанр ее дома и ее приемов отличался от обычного харьковского шаблона, чувствовались другие привычки, другие вкусы и другие интересы. Впоследствии дочь
533
Елены Михайловны Маха была при дворе великой княгини Ксении Александровны воспитательницей ее детей и вышла там замуж за управляющего Двора великого князя — Шателена, а Вета для заработка стала учительницей.
Кроме вышеперечисленных домов принимали, но значительно реже, и то лишь на званые обеды и вечера, Капнисты; во время Дворянского или Земского собраний Курчанинниковы, когда Сергей Николаевич заменил графа Василия Алексеевича на посту губернского предводителя дворянства; Ильяшенко, Лауницы и очень редко Гончащенко. Последние были из военной среды, кажется, полковник Гончащенко занимал должность при Кукеле, соответствующую начальнику штаба, но играл он роль в обществе по жене своей, урожденной Лезель. Отец ее, Федор Францевич, был старожил не менее самой Хариной; жил одинокий вдовец в прекрасном особняке недалеко от Оболенских, никого не приглашал, но сам везде бывал и играл предоминирующую роль в разных благотворительных учреждениях города, состоя в некоторых казначеем, а где и заведующим делами. Везде его принимали, со всеми он положительно был знаком и представлял он из себя живую хронику если не губернии, то города. Говорили, что состояние свое он составил не совсем красивыми ростовщическими делами. Правда, он в денежных, банковских делах считался знатоком и, кажется, состоял и советчиком Александры Гавриловны Хариной при администрировании ее значительного состояния преимущественно в денежных капиталах. Кажется, благодаря его нюху ни он, ни она не пострадали при крупном банковском крахе, виновником коего был старик Алчевский, тут же и покончивший с собой, бросившись под поезд. Мне Лезель был особенно антипатичен своей циничностью и скабрезностью при разговорах, я всегда опасался его присутствия там, где была Лиза, правда, что она умела импонировать и при ней этот сластолюбивый старикашка был всегда приличен. Семья Ильяшенко состояла из генерала-ремонтера Степана Андреевича, однокашника моего beau-frère’а Жилинского, жены его Марии Оскаровны, по прозванию Мирра Оскаровна, как ее и все звали в Харькове, и троих детей, сверстников и друзей моих детей. Семья эта была очень милая, но на редкость громогласна. Голос генерала раздавался как пушечные выстрелы, вторили ему и дети, особенно старший Андрей (уменьшительное его было Адя, а мои переделали в Адуль), так что при входе к ним, казалось, происходит тяжелая семейная драма, а на поверке выходило самый добродушный разговор. У них было много интереснее. Мирра Оскаровна была отличная музыкантша, к тому же очень образованная женщина, и большей частью у них музицировали, играя либо в четыре руки, либо в восемь рук. Свои музыкальные способности она передала старшему сыну, который стал композитором. У Лауницев приемы были разные. Официальные — раз в месяц, когда Владимир Федорович угощал по окончании сессии всех членов уездного съезда обедом у «Проспера», на которые и Тобизен, и я бывали неизменно приглашены, и также раз в год — официальные блины для всего уезда в Алексеевке, где я и познакомился со всеми дворянами Харьковского уезда. Кроме того были у них приемы общественно-светские, тоже в Алексеевке, по приглашению уже его жены Марьи Александровны. Мы как родственники бывали там и того чаще и иногда с детьми; я даже был крестным отцом последнего сына Орика (Федора), почему
534
и фигурировал на крестильных торжествах, которые Владимир Федорович довольно шумно отпраздновал; кумой моей была почтенная матушка Владимира Федоровича. Ни он, ни его жена не играли в карты, почему и мы проводили у них вечера в беседе, а не за зеленым столом. У Лауница был другой пошиб угощения: служил он когда-то в гродненских гусарах и в отставке носил эту форму, получив увольнение как участник Русско-турецкой кампании с мундиром, и всегда вел себя по-гусарски: вино лилось у него рекой, всех он неотступно угощал, подливая немилосердно в опорожненные стаканы, к непьющим приставал и высмеивал их; на меня он под конец и рукой махнул, но остальные гости уезжали от него с легко затуманенной головой. Приезды наши с детьми имели уж совсем родственный характер. Очень любил я их рождественские елки в деревенской обстановке; хотя Алексеевка была под самым городом, верстах в двух-трех за заставой, была соединена с городом телефоном, можно было к ним ездить на извозчике; но, попадая к ним в дом, это все забывалось, казалось, что совсем далеко отъехал от городской сутолоки. Старинный дом с большой залой дышал деревенским уютом, а окружающий его большой вековой парк еще более заставлял забывать близость города. Во флигеле их дома жила семья князя Горчакова, его двоюродного брата, где были тоже дети, сверстники нашим, почему у них всегда с приездом наших детей царило веселье. Тобизены больших приемов избегали. Приходилось им делать официальные проводы покидающим Харьков или же обеды при приезде каких-нибудь петербургских властей, и тогда это обставлялось очень элегантно. На моей памяти дали они один большой бал и, как помню, очень удачный, хотя по количеству приглашенных (la ville et les faubourgs) помещение было недостаточно. В губернаторском доме, кроме большой бальной залы, одной большой гостиной и порядочной столовой в другом этаже, остальные комнаты были невелики. Но бал этот Герман Августович устроил с присущим ему умением светского человека действительно хорошего круга, и о нем много было разговоров впоследствии как о таком приеме, который для Харькова был необычен. Но редкость больших вечеров не есть доказательство, что они жили замкнуто, напротив, если они были дома, то есть Зинаида Семеновна и ее дочери, то наверное можно было встретить у них кого-нибудь. К завтраку, который подавался у них в 12 часов, Зинаида Семеновна сходила в столовую и поджидала мужа, кончавшего прием у себя в кабинете. За завтраком всегда кто-нибудь у них был не приглашен, а просто зазван случайно из тех, которые в это время очутились в приемной губернатора; по субботам были доклады по губернскому Правлению, почему я раз навсегда был зван в этот день у них завтракать, и неизменно на столе появлялось в мою честь блюдо макарон. После завтрака Зинаида Семеновна и не покидала столовой, оставаясь за столом на своем кресле с какой-нибудь работой, не то вязаньем, не то вышиванием. Тут же в три часа подавали чай, который разливала их немка Анна Ивановна, бывшая бонна дочерей, а теперь друг всей семьи. Чай она разливала ужасный, какая-то светло-желтая водица без всякого аромата, и к нему подавался лимон и какие-то особенно сухие, тонкие как спички баранки, причем Зинаида Семеновна особенно их расхваливала, а они годились в сущности лишь для увеличения дохода дантистов поломкой зубов харьковских обывателей. Но скажу, что делалось это не от
535

Вечер в Сергиевском. Рисунок М. М. Осоргиной. Начало XX века.
Частное собрание, Париж
скупости, а потому, что не имея никаких средств, Тобизенам трудно было joindre les deux bouts, и достигалось это расчетливостью самой Зинаиды Семеновны и домовитостью Анны Ивановны. Бывало, недоеденное блюдо за завтраком появляется переделанное, как-нибудь вновь аранжированное за закусочным столом к обеду в тот же день. Стоило кому-нибудь показаться в столовой во время этого заседания Зинаиды Семеновны за столом с работой, чтобы она радушно пригласила бы выпить чашку чаю, часто прибавляя, как enfant terrible: «Верите ли, третий самовар уже подают, а чаю, по крайней мере, фунта три в неделю расходует Анна Ивановна». Но никто на нее из habitués этого дома за то не сердился, до того она все-таки была добра, любезна и радушна. Лишь по воскресеньям, приемный день губернаторши, Зинаида Семеновна располагалась наверху в маленькой гостиной для приема визитеров, и это было совсем необычно; чай уже не Анна Ивановна разливала, а большей частью одна из дочерей, отчего он ничуть не был лучше, разве к сухим баранкам прибавлялись какие-нибудь английские печенья. Я по праву интимности не посещал этих воскресных дневных приемов и если случайно на них попадал, то только потому, что был где-нибудь по соседству и не хотел проехать мимо, не повидав Зинаиду Семеновну, которую искренно любил и уважал. Винберги принимали только раз в году — 11-го июля, именины жены и дочери, и тогда у них перебывали все оставшиеся в городе на лето; после этого дня они всей семьей переселялись в Чугуев, где войска
536
отбывали лагерь; им предоставлялся дворец и, говорят, что там целый день у них были военные, так что было и весело, и оживленно, и даже очень распущенно; но я оставался в Харькове, почему этих собраний и не видал. Раз в году давала властям обед семья фон Ренкулей; он был начальником Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги, и на этих обедах мы и встречались и сталкивались с железнодорожным миром, который был очень большим (в Харькове сосредоточилось Управление южных железных дорог) и довольно замкнутым. Жена Ренкуля, Фаина Эдуардовна, была очень скромная милая женщина, две ее дочери, Ася и Люся, бывали у наших детей и принимали участие в общих уроках танцев. Когда однажды было покушение на Ренкуля одним уволенным им служащим, она, несмотря на свою молодость и, казалось, слабость, выказала большую выдержку. Покушение было произведено на сквере, отделявшем здание, где был служебный кабинет управляющего дорогой, от его частной квартиры. Насколько помню, никто ранен не был, но Фаина Эдуардовна видела из окна бегущего мужа и гонявшегося за ним злоумышленника с револьвером, в обморок не упала, истерики не изобразила, а поспешила к нему на выручку, но покушавшийся был уже задержан собравшейся публикой. Знакомство с Ренкулем было особенно приятно, потому что можно было через него всегда себе выхлопотать отдельный вагон, чем я пользовался при переезде семьи в деревню; с одной стороны, это было и удобно для самой железнодорожной администрации, ибо семья с прислугой составляла почтительную цифру 20-ти или больше пассажиров с необходимым количеством Hand-gepäck, которым разместиться на пересадках было бы нелегко.
Кроме вышеописанных частных приемов были общественные благотворительные вечера и официальные собрания на Пасху и Новый год в зале Дворянского собрания, взамен поздравительных визитов. В Харькове это, действительно, соблюдалось, и никто частных визитов в эти дни не делал, а в два часа все съезжались в Дворянское собрание, где был раут с открытым буфетом и шампанским, и все могли друг друга поздравить. Мы, мужчины, надевали парадную форму, а не служащие — фраки, дамы, в шляпах и костюмах для визитов, представляли нарядную красивую картину; понятно, это делалось за плату, кто что хотел, но не менее трех рублей с персоны в пользу Благотворительного общества, которое и пропечатывало заранее фамилии всех подписавшихся и потому как бы сделавших поздравительные визиты всем знакомым. Тобизены и я, чтобы поддержать этот обычай, запрещали у себя на дому принимать своих подчиненных, и даже на этот день приказано было убрать книгу для расписывания посетителей. Когда большая часть общества, бывало, соберется на этот дневной раут, первый тост с эстрады провозглашал старший по рангу генерал Винберг за здоровье государя императора и царской семьи, на что оркестр играл гимн; второй тост произносил Тобизен за все общество, после чего граф Капнист, как хозяин помещения, галантно пил за здоровье дам, и затем, чтобы не было обиды в манкировке кому-нибудь, условлено было больше тостов не произносить, но частенько прорывалась здравица за Тобизена, которого в обществе особенно любили. Он конфузливо благодарил, не желая выделять себя в этом случае среди других, где он был на положении члена общества, а не начальника губернии.
537
Помню еще торжественные акты разных учебных заведений. Акт университета на моей памяти праздновался не более двух раз, и то всякий раз с таким страхом, что, наконец, учебное начальство предпочло просто отменить.
Вспоминаю еще два общественных торжества, совершаемых ежегодно, а именно два крестных хода — в конце апреля и в конце сентября. С последним город встречал чудотворную икону Озерянской Божьей Матери, приносимую из Куряжского монастыря на всю зиму в Харьков, где она и пребывала в Покровском монастыре. С весенним же крестным ходом провожали ее до границы города на Холодной горе, где принимали ее монашествующая братия и сельское духовенство. Стекалось на эти торжества такое количество народа, что всегда можно было опасаться Ходынки, ставшей к тому времени нарицательным именем, страшным для полиции и администрации. Крестные ходы эти совершались по особому церемониалу, утвержденному еще с давних пор. Не говоря уже об участии в них всего духовенства с епископами во главе, должны были быть и все власти. Первая пара, несшая образ, были губернатор и командир корпуса; сменяли их губернский предводитель дворянства и вице-губернатор, затем уездный предводитель и городской голова и так далее; последняя пара, сдававшая святыню монахам, были опять старшие, то есть губернатор и корпусный командир. Перед университетской церковью и вдоль зданий университета икону несли попечитель округа и ректор университета. Весь гарнизон участвовал либо в шествии, либо расставленный по всему пути шпалерами с оркестрами музыки, игравшими «Коль славен». Это было необычайно торжественно и величественно, а пение церковных хоров, архиерейских певчих, сливавшееся со звуками оркестра, производило потрясающее впечатление. Церковные же хоры харьковские славились; нигде я потом не слыхал таких чистых дискантов и альтов; недаром говорят, что нежный и звонкий детский голос может развиться лишь на белом хлебе; на юге же черный хлеб мало в употреблении, пшеница преизобилует. На всех перекрестках строились амвоны (возвышения), с коих архиерей осенял иконой народ на все четыре стороны при возгласе протодиакона: «О Пресвятей Владычице нашей Богородице рцем вси», и тут-то и происходила смена несущих икону. Шествие растягивалось версты на две, и я лично, кроме как на похоронах императора Александра II, никогда не видал такого стечения народа (коронаций, как я писал выше, я не видал). Для меня особенно памятны эти крестные ходы в апреле; обычно возвращался я домой с сильной головной болью, получив по пути солнечный удар, от которого впоследствии вся кожа сходила у меня с лица и головы. И по молитвенному усердию и по долгу службы я шел все время непосредственно за архиереем, в самой духоте народной толпы, почему весеннее припекающее солнце давало себя знать. Тобизен лишь присутствовал в самом начале и в самом конце, уезжая в промежуток домой, и на меня возлагал и ответственность за порядок; впрочем, последнее было, скорее, фиктивное почетное поручение, так как le gros ouvrage лежал на Вилькене, который всегда блестяще организо[вы]вал порядок кругом шествия. Только раз, я помню, он сплоховал: это было на освящении Благовещенской церкви. Тобизен отсутствовал, я управлял губернией и, понятно, присутствовал официально на этом торжестве. И меня при возвращении крестного хода с дарами в храм в ту минуту, когда епископ вносил
538
оные в церковь, для чего раскрываются настежь царские врата, при троекратном возгласе епископа: «Кто есть сей царь славы», чуть-чуть не раздавили, и я вкатился в церковь в волне народной, вертясь как волчок; как же была сконфужена полиция! Слава Богу, что случилось это со мной, а не с архиереем.
Часто устраивались в течение зимнего сезона в пользу разных учебных заведений танцевальные вечера или же спектакли; нам привозили почетные билеты, за которые следовало платить побольше и непременно сделать acte de presence. На этих вечерах и спектаклях нас, как официальных лиц, встречали и занимали главные устроители, и это тоже сопровождалось обильными угощениями. Вообще в Харькове на первом плане всегда было хлебосольство, но, повторяю, хлебосольство гомерическое, которое теперь в скудное революционное время вспоминаешь с удовольствием, а тогда оно надоедало до тошноты. Сколько, сколько пришлось участвовать на разных прощальных обедах, даваемых обществом какому-нибудь власть имущему, покидавшему Харьков! На одном таком обеде, даваемом Тобизеном графу Капнисту и Владимиру Федоровичу Лауницу, одновременно покинувших службу по выбору Двора, первый — за назначение его почетным опекуном, а второй — за отказом от баллотировки, как описывал выше, со мной чуть ли не произошла неприятность. Сознаюсь, что поглощенный служебными делами, я хотя и знал en gros все тонкости отношений разных членов общества, но часто упускал из виду какие-нибудь тонкости и, во всяком случае, мало обращал на них внимания. Соединил ли Тобизен чествование обоих этих лиц на одном обеде по экономии или же по другой причине — не знаю; но Василий Алексеевич приехал на обед обиженный и надутый за то, что его ставят на одну доску с Лауницем, в сущности не выбранным своим уездом, потому что просил его баллотироваться лишь один голос, и тот принадлежал врачебному инспектору, попавшему в дворянскую среду по чину действительного статского советника. Обед был очень парадный, многолюдный, в верхней зале губернаторского дома. В пику ли Тобизену или по симпатии ко мне граф Капнист после обмена тостами поднял вдруг бокал за мое здоровье, чем я был очень сконфужен. Сидевшая против меня дочь Тобизена Ольга Германовна Юркевич, стала мне делать знаки, что я должен отвечать. Думая, что передает она мне поручение своего отца, я с большим конфузом встал и выпил за здоровьем обоих чествуемых, Капниста и Лауница, упомянув, что делаю это как сам старый предводитель, вспоминающий свою дворянскую службу как наилучшее время деятельности; закончил же пожеланием обоим, чтобы эти хорошие воспоминания и послужили бы им наградой за их плодотворную деятельность на пользу родного дворянства. Когда я с бокалом подошел к Капнисту, чтобы чокнуться, он нехотя это сделал и после обеда имел со мной бурное объяснение, держа меня припертым к стене и немилосердно теребя пуговицы моего фрака. Он тут выложил мне все свои griefe’ы за объединение его с Лауницем, причем мой тост общий за обоих был последней каплей, переполнившей ту обиду, которую он таил про себя на Тобизена. Когда разъехались, и мы осталась с Тобизеном en petit comité, оказалось, что и Герман Августович был фрондирован тем, что Капнист пил за мое здоровье. Не желая меня обижать, он высказал, что это была бестактность, что тосты мог только он провозглашать, другие же могли только ему отвечать. Я ему возражал,
539
что если, по его мнению, я сделал gaffe’y и неловкость по отношению к нему, то единственная виновница — его дочь, которая требовала от меня выступления. Вообще этот обед оставил у меня неприятное впечатление. Совсем иначе прошел прощальный обед, даваемый Капнисту же от всего харьковского общества в большой парадной зале гостиницы «Проспер». На обеде дам не было — участие дам на таких обедах в Харькове не было принято, почему там после официальной части торжества к пирожному и десерту делалось совсем свободно и подчас были и удачные шуточные спичи. На этом обеде впервые участвовал новый попечитель округа (вместо Хрущева) Василий Константинович фон Анреп; я сидел через одного или двух от Капниста и на таком же от меня расстоянии сидел и Анреп. Главные тосты за Капниста были уже произнесены как от лица администрации, дворянства, так и отдельных учреждений и ведомств, как вдруг поднялся Анреп и попросил слова. «Я недавно приехал в Харьков, — начал он, — и новый член Вашего общества, только и слышу хвалебные слова покидающему нас графу Василию Алексеевичу Капнисту; но ведь и на солнце есть пятна, почему нельзя только хвалить и надо быть справедливым; вот что побуждает меня сказать и свое мнение, быть может, не в тон общему настроению, потому что я собираюсь его и побранить». Василий Алексеевич перегнулся ко мне за спиной соседей и, дергая свой ус, что означало у него необычайное волнение, спросил меня «Qu’est-ce-qu’il va dire?» Я сам, да и все, еще совершенно не знающие Анрепа, были в смущении, но остановить его без скандала нельзя было, и он продолжал с тонким юмором: «Приехав в Харьков, я сделал официальные визиты, но с графом не познакомился; ни я его, ни он меня не застал. Спустя немного времени предстояла мне поездка в Петербург, и я уже собирался ехать на вокзал, как доложили мне о приезде ко мне графа. Времени оставалось до поезда немного, но все же не принять посетителя, приехавшего к тому же по делу, как граф велел о себе доложить, нельзя было, и я надеялся сократить до минимума разговор. Не тут то было, граф приезжал просить меня поддержать его проект об учреждении специально дворянского учебного заведения и так долго просидел, доказывая мне пользу сего, что я на поезд не попал. На следующий день повторилось то же — граф опять приехал, боясь, что я недостаточно проникся его мыслями, просидел еще дольше, и я на поезд опять опоздал. Чтобы быть обеспеченным на третий раз уехать без помехи, винюсь, я приказал никого не принимать и сам выбрался из дома спозаранку, но и по дороге встретил нашего ныне юбиляра, который спешил ко мне с какими-то подробностями, упущенными в предыдущей беседе. Если я не опоздал и на этот раз, то только благодаря тому, что граф сел ко мне в коляску и проводил меня на вокзал, где, следуя за мной до самого вагона, настойчиво убеждал меня исполнить его желание. Вот вы все его хвалите, а как же мне его хвалить, когда я дважды из-за него опоздал на поезд? Я его тогда величал несноснейшим человеком и, чтобы быть правдивым, ныне подымаю бокал именно за того несносного человека, который, весь проникнутый интересами того дела, которому служил, и той идее, которой верил, всего себя отдал им, настойчиво требуя от всякого, чтобы и он помогал ему, и с такой энергией защищает свою мысль, что поневоле убеждает каждого. Ведь и меня он убедил, и я покидал Харьков и, смотря на него, оставшегося на платформе, чувствовал
540
и досаду за промедление поездки, и глубокое уважение к этому необыкновенно горячему, ответственному деятелю. За здравие же несносного, но и достойнейшего графа Василия Алексеевича; пусть на долгие годы сохранится в нем та энергия, которая заставляет каждого помогать ему и вместе с тем заставляет каждого проникаться к нему глубоким и удивлением, и уважением». Можно себе вообразить, какой фурор произвел этот спич, тем более что я передал вкратце то, что было сказано Анрепом с юмором, подъемом и мастерством настоящего оратора. С тех пор он стал наилюбимейшим оратором, и все признали, что им побит рекорд красноречия. Рассказывали, что в былые времена, когда в Харькове служил не бесчувственный впоследствии Кони, пальма первенства в этом отношении принадлежала ему. Тогда, говорили, и времяпрепровождение общества разнообразилось; часто устраивались не карточные вечера, а литературные чтения, иногда же и умные собеседования.
В наше время, увы, все это было забыто, и нам, еще молодым (мне было 37 лет, а Лизе 32 года), не было интересно и весело в харьковском обществе. К тому же мы и не могли достойно отплачивать всем приглашавшим нас как за недостатком средств, так и за малостью нашей квартиры. Заменили мы это приглашениями любителей музыки на музыкальные вечера, которые как-то устроились у нас неожиданно. Я был избран и как вице-губернатор, и как зять князя Николая Петровича Трубецкого, одного из основателей Русского императорского Музыкального общества, директором Харьковского отделения этого Общества, что ввело меня в круг профессоров музыкального училища, и я не только присутствовал, но и принимал живейшее участие в тех заседаниях, где обсуждалась и утверждалась программа всех камерных вечеров и симфонических концертов сезона. Я этим пользовался, чтобы добиваться включения либо моих любимых произведений, либо таких, которых в исполнении еще никогда не слыхал. Исполнение камерной музыки было более чем удовлетворительно: первая скрипка — Горский, вторая — Кучера, виолончель — Глазер и альт — Дочевский. Они все были преподавателями Музыкального училища и далеко незаурядные солисты, в особенности Горский и Глазер. Пианистов было трое, из них я лучше всего помню Бриктора, который обладал недюжинной техникой. Как-то раз одну репетицию камерного вечера по моей просьбе устроили у нас на дому в зале, а потом это стало и обычным явлением. На эти репетиции мы и приглашали своих знакомых любителей музыки. Эти музыкальные вечера проходили с большим подъемом и под конец до того разрослись, что, бывало, исполнялись и секстеты, и септеты, для чего вышепоименованные преподаватели приводили и своих лучших учеников для пополнения коренного квартета. Последний год, когда на оперной сцене появилась драматическое сопрано Терлиони-Корганова, и она раз или два бывала у нас, тогда прибавилась вокальная музыка; но голос ее был слишком силен для нашей маленькой залы и ее участие не послужило к украшению наших музыкальных вечеров. Однажды приехал в Харьков на серию концертов пианист Щуровский, мой бывший учитель музыки, когда я был еще ребенком. Они с Горским дали три вечера скрипичных сонат, и все репетиции происходили у нас на дому; это было большое наслаждение. По моему настоянию исполняли они у нас сверх программы Крейцерову сонату и концерт для
541
скрипки Мендельсона, которые я особенно люблю. Меня лично их игра вполне удовлетворила, но Лиза, воспитанная на более серьезной музыке в смысле исполнения оной лучшими тогда силами, из коих первой величиной был Николай Григорьевич Рубинштейн, хотя и хвалила, но сдержанно. Щуровский был принят у нас как старинный близкий свой человек. Мама́ его особенно обласкала и напоминала ему, как часто, бывало, она его и отчитывала в Сергиевском за кутежи. И в тот период своей жизни Петр Андреевич, по-видимому, был по-прежнему охотник до водки; он рассказывал со смехом, что дал своей жене обещание пить водку лишь в двух случаях: когда есть селедка и когда нет селедки! Воображаю, как она, бедная, была «спокойна» за мужа.
Музыкантов с большими именами не помню в Харькове, кроме Гофмана, давшего в разное время при нас концерта два. Приехал однажды Конский, композитор небезызвестного эффектного номера для садовой музыки «Le reveil du lion»; это был в полном смысле [слова] развалина. Дал он два концерта, на первом я был, и, о ужас, зала была почти пуста; на эстраде обычно отводились даровые места для учеников Музыкального училища, но этот раз почему-то таких мест было заготовлено особенно мало и все они были пусты; правда, что старик играл из рук вон плохо. Кончил он первый концерт обращением к публике: «Qui veut entendre Le réveil du vieux lion, est invité venir domain». По-видимому, или никто не услыхал сего, или очень мало, но второй концерт так и не состоялся.
В те хорошие времена все театры на Великий пост закрывались. Великий пост был сезон симфонических концертов. Мы с женой посещали их аккуратно, но избегали пользоваться для сего губернаторской ложей, так как таковая была над ударными инструментами, а по званию почетные члены Отделения занимали предоставленные нам кресла. Не могу сказать, чтобы симфонические концерты были бы хороши — нет. К сожалению, дирижировал оркестром неумело Слатин (директор Музыкального училища), и дирижировал плохо. Но он так ревниво относился к сему и так верил в свою гениальность, что всегда на заседаниях дирекции ратовал против приглашения дирижера, в чем его поддерживали некоторые в видах экономии, а другие, не желая обидеть сего деятеля, которого заслуга была то, что он был основателем и инициатором Харьковского отделения императорского Музыкального общества и музыкальной школы. Как ни были плохи эти концерты, все же для меня они были и интересны, и образовательны, дав мне возможность прослушать многое, для меня до того неизвестное. В остальное время сезона нашим наслаждением с женой были театры. Два были постоянные на весь сезон: Драматический, содержимый старинной местной антрепренершей Дюковой, и Оперный в помещении Коммерческого клуба, где пела труппа князя Церетели; кроме этих двух в течение зимнего сезона временно открывались то какой-нибудь цирк, то Малороссийский театр в собственном здании цирка братьев Никитиных. Во всех этих театрах была губернаторская ложа, и Герман Августович раз навсегда просил нас ею пользоваться на равных правах с его семьей. Это для нас было большое облегчение, ибо финансы наши были неважны и без даровой ложи посещение театра было бы нам не по средствам. В Драматическом театре труппа была очень хорошая и дружно сыгравшаяся. Силы были ровные, а первые роли в руках талантливых артистов.
542
Главная jeune première была Днепрова; играла она очень просто, естественно, и будучи, как рассказывали ее хорошие знакомые, хорошей женщиной и образцовой матерью, окружена была на сцене каким-то ореолом порядочности. Помню, как в день ее бенефиса на четвертый или третий год нашего пребывания в Харькове какие-то ее недоброжелатели бросили на сцену записку: «Надоели Вы, пора Вам уходить», и она, бедная, расплакалась. Когда публика узнала причину ее слез, ей были сделаны такие овации, столько поднесли ей цветов и подарков, что она была совсем растрогана и плакала уже по другой причине. И в последующие спектакли публика восторженными дружными вызовами старалась изгладить впечатление злой выходки ее недоброжелателей. Для сильных героических ролей была другая актриса, Строева-Сокольская, еврейка с большим темпераментом. Лучший комик был Смирнов, а на молодых комических ролях и ролях haute comedie старик Петини, которого я в ранней молодости видал еще на сцене Александринского театра в Петербурге. Тогда он певал вместе с Кронеберг оперетки, которые были особенно в моде в то время; теперь же его репертуар был более серьезный. В нем видна была серьезная школа, привычка к сцене, но огонька не было. Умел он носить костюм и раз исполнял в русском переводе известную пьесу Rostand «Cyrano de Bergerac». Лучшие его роли были Хлестаков и из [пьесы] «Волки и овцы» Островского. Когда снят был запрет цензуры с «Царя Федора Иоанновича» Толстого, и эту пьесу поспешили поставить на харьковской сцене, для роли самого Федора Иоанновича приглашен был некто Диевский. И потом в театральных журналах разбиралась игра этой роли: в Петербурге — фамилии актера не помню, в Москве — Москвиным и в Харькове — Диевским; каждому отдавалась справедливость, но подчеркивалось, что каждый из них понял роль по-своему. Исполнение Диевского и его концепция этой роли мне не нравились: у него Федор Иоаннович был не столько свято-блаженный, сколько глупо-блаженный и физически расслабленный, так что и походка его была какого-то, скорее, разбитого параличом человека, чем просто слабого здоровья царя, измождавшего свою плоть постом и ночными молитвенными бдениями. У него удавалось лишь его отношение к жене: любовь, уважение к ней он отлично подчеркивал без всякой приторности и без всякого сентиментализма, столь неподходящего для той эпохи. Правда, что царица Ирина в исполнении Днепровой была высокая художественная фигура. От нее веяло и поэтичностью, и умом, и величием духа, а в ее сцене с князем Шуйским при примирении его с Годуновым, когда она упрекает его в непослушании царю лишь потому, что он не Грозный, и кланяется ему большим поклоном, [с] такой царской величественностью, что поневоле она, вопреки замыслу автора, делалась чуть ли не центральной фигурой драмы. Ей достойным партнером был исполнитель роли Годунова — Шувалов. Я считал его лучшим и умнейшим актером всей труппы, он был моим любимцем, и для меня спектакль без его участия не представлял интереса. Раз давали всю трилогию Толстого подряд с Шуваловым в роли Иоанна Грозного в первой драме и Годунова в обеих последних. Это было поистине художественное исполнение, и с тех пор я особенно оценил это драматическое произведение, часто его читал вслух, стараясь подражать ударениям, выражению и интонации Шувалова. До сих пор у меня звучит в ушах
543
его голос в монологе его: «Велика гора был царь Иван» в сцене с сестрой; оба они были неподражаемы. Так же замечательно разнообразился голос Шувалова в связи с внутренними переживаниями в сцене его с царицей Марфой, когда она решается признать самозванца за сына, лишь бы отомстить убийце ее сына; последнюю с большим подъемом играла Строева-Сокольская. Но талант Шувалова был разнообразен, и он с таким же успехом играл главную роль в «Игроках» Гоголя, совершенно другого рода и, скорее, комическую. Он также исполнял и мелодраматические роли из старинного репертуара известных французских пьес и производил в них такое потрясающее впечатление, что моя жена не раз уходила из ложи в состоянии <…>.
Главным любимцем молодежи был Самойлов, младший сын известного трагика Малого московского театра времен моих отца и матери. Он действительно был необыкновенно талантлив и иногда играл первоклассно, но школы и, главное, выдержки в нем не было, а потому играл он неровно и к тому же сильно запивал, как все русские самородки, не получившие воспитания. Когда он был в ударе, то иногда доводил зрителей до полного самозабвения; в Харькове по примеру столичных психопаток завелись тоже девицы-самойлистки, неиствовавшие на его представлениях. В день его бенефиса обычно молодежь порывалась либо донести, либо довезти на своих плечах этого любимого артиста, и полиции стоило большого труда добиться сохранения порядка при театральном разъезде. Я лично ценил Самойлова, но считал его ниже Шувалова. Так как их амплуа были разные, часто они играли вместе в той же пьесе, и тогда это было действительно сильное художественное впечатление; они друг друга как бы подхлестывали и совершенствовали. Наиболее сильное впечатление Самойлов сделал на меня в «Гибели Содома» Зудермана и в «Гамлете». Последнее его исполнение мне особенно памятно. Приезжала в Харьков на гастроли французская труппа Мунэ-Сюлли (известный в то время не только в Париже, но и в Европе трагик); дала эта труппа три спектакля классического репертуара и в последний сыграла «Гамлета» с Мунэ-Сюлли в роли Гамлета. Мы с Лизой были на этом спектакле, я вообще, сознаюсь, не люблю «Гамлета»; и как произведение оно меня не захватывает, и как театральная пьеса она не сценична, а потому не производит художественного впечатления. Я никогда не понимал преклонение человечества перед этим шекспировским произведением, именуемым гениальным; одно то, что литература изобилует комментариями этой пьесы, притом часто разнящимися друг от друга, есть доказательство, что автор (боюсь даже назвать его Шекспиром, до того это авторство проблематично) не сумел выпукло, ясно изложить и изобразить как характер своих героев, так и склад их мышлений. Француз-трагик, ученик старой трагической школы в духе Рашели, Ристори, провел роль Гамлета крайне ходульно, с большим пафосом и местами производил сильное впечатление, но чисто внешнее. Он все время был не столько красив, сколько пластичен, но переживаний, мучений человеческих в нем не чувствовалось, как будто терзания души Гамлета нам не под стать. Через день или два после этого спектакля Самойлов исполнял того же Гамлета, и надо отдать ему справедливость, был значительно лучше европейской знаменитости: насколько француз был ходулен, настолько наш русский был совершенно естествен[ен]. Знаменитый монолог «To
544
be or not to be» был сказан им так просто, но зато так задумчиво, что оторванность его от мира в эту минуту чувствовалась не в эпохе времени, а в глубине внутренних переживаний, доступных и нам, если только мы способны сильно чувствовать. Исполнение Самойловым этой роли наиболее меня удовлетворило из всего прежде мною виденного, но костюм он носить не умел, и насколько Мунэ-Сюлли казался рожденным в этой обстановке, настолько Самойлов, чувствовалось, костюмированным. Все же, как видно из всего, Самойлов был крупная величина и его товарищи были ему под стать, так что харьковский Драматический театр мог давать серьезное художественное наслаждение.
Несмотря на все качества харьковского Драматического театра, для меня все-таки особой притягательной силой пользовался не он, а Оперный театр. Я всегда был страстный любитель музыки, в юности и молодости воспитанный, главное, на оперной музыке, больше ее понимал в этой отрасли. Для меня соединение дивных звуков с драматическим искусством, казалось, представляло именно полное соединение красоты и глубины переживаний людской души, и в этой форме музыка была мне более доступна. Жена же моя более тяготела к драме, но, ставя себе задачей, главное, меня развлечь и дать мне отдохнуть после служебных занятий, уступала мне и с охотой ездила в Оперу, хотя часто критиковала провинциальное исполнение и вообще нежизненность представления, где иногда умирающий поет чуть ли не полчаса перед смертью или же бегущий и скрывающийся от врагов вместо того, чтобы искать свое спасение, распевает перед публикой и изливает ей в своей арии свои ощущения. Понятно, оперное искусство имеет много условностей, но совершенства в мире нет; я же, понимая это, закрывал глаза на многие несообразности и вполне удовлетворялся красотой звуков, гармонировавших с настроением и действием самой драмы. Оперная труппа в Харькове была хотя не первоклассная, но все же вполне удовлетворительная, особенно в первые два года, когда антрепренер Церетели не гонялся за гастролерами и потому подбирал более ровный состав. Многие из того состава перешли потом на Императорские сцены в Петербург и Москву; так, тенор Давыдов перешел в Петербург на вагнеровский репертуар, а дирижер Сук — в Москву, где и доныне благополучно пребывает (1924 год), пережив и все революции, и перемены, дирижируя в том же Большом театре. Сук и по месту, им занимаемому, то есть по своему амплуа дирижера, и по своим дарованиям был душой харьковской Оперы, и ему, главным образом, и обязана она своим успехом. Как человек с большим вкусом, он и репертуар составлял очень хорошо; помню его новые постановки «Садко», «Царской невесты», «Сельской чести», впервые появившиеся при нем на харьковской сцене. Присутствовал я и на репетициях этих новых опер и восторгался, как он умело и толково объяснял и оркестру, и хору, и исполнителям тонкости исполнения. Лишь раз он поддался чувству самолюбия и погрешил как артист: в свой бенефис он поставил оперу своего сочинения, которая оказалась довольно слабой; в ней я помню только красиво разработанную тему немецкого вальса: тема оригинальная и очень простая, но настолько музыкальная, что она долго меня преследовала. Опера же исполнялась лишь раз или два и потом снята была с репертуара. Это должно было бы быть правилом — дирижерам опер не писать своих опер. Их память музыкальная слишком набита мотивами чужих
545
композиторов, и притом диссекированных именно так, как должен это делать хороший дирижер, дабы из мельчайших подробностей составить одно прекрасное целое, чтобы эти темы не всплывали бы часто незаметно и не затемняли бы личное творчество. Жена Сука пела в опере под именем Карповой и была единственной контральто труппы; голос ее был хорош, глубок, но актриса она была неважная и фигура ее была смешна в travesti. Украшением всей труппы была лирическое сопрано Инсарова. Ее единственный недостаток был глухой звук в некоторых средних нотах (средний регистр). Внешность ее была очаровательная, вся манера ее игры была проникнута какой-то в глаза бросающейся порядочностью. Она была замужем за офицером, кажется, гвардейцем Миклашевским, служившим в Петербурге; по мужу она была родственницей П. Н. Юркевича, зятя Тобизена; пошла она на сцену по призванию и вся предалась любимому искусству. Однажды, когда я управлял губернией, харьковская оперная труппа задумала поставить в пользу собрата по искусству, впавшему в нищету, оперетку «Гейша» с участием всей труппы, как особая attraction для харьковской публики; и вдруг дня за два до спектакля будят меня ночью с телеграммой от мужа Инсаровой, в которой он просит меня запретить его жене петь в оперетке, так как он дал ей свое согласие поступить на сцену только оперную. Я решил, что власть губернаторская не распространяется на супружеские отношения и потому ограничился лишь тем, что через полицию переслал Инсаровой телеграмму ее мужа, а ему ответил, как я исполнил его поручение. Не помню, чем разрешился этот конфликт, сам я, во всяком случае, на «Гейшу» не поехал. Коронные роли Инсаровой были Татьяна из «Евгения Онегина», царевна Волхова из «Садко» и сама царская невеста. Разнообразие этих ролей доказывает и глубину таланта Инсаровой. Никогда, ни до, ни после не видал я такой поэтичной Татьяны, а конец сцены ее с письмом, когда окончив свою арию, она еще долго остается на сцене при открытом занавесе, пока оркестр доигрывает уже самостоятельный аккомпанемент, как бы в звуках вновь напоминает слушателю пережитое, на что Чайковский очень падок, она продолжала так естественно играть, следя из окна за будто удаляющейся няней с письмом, что и игрой захватывала зрителя. В «Садко» она была сказочно-русалочно поэтична; костюм ее был рискованный — зеленое трико, покрытое легким газом и длинными свободно развевающимися полосами, изображавшими морские подводные травы. На утренних рождественских и масленичных спектаклях она не выступала, ее дублировала в эти дни совершенная посредственность, но, узнав от Юркевича, что мы везем на один из таких спектаклей «Садко» своих детей, она по исключительной любезности сама выступила, даже заменила свой костюм менее рискованным, чтобы не сказать откровенным. В «Царской невесте» в последней сцене сумасшествия она была до того трогательна, что покаяние Грязнова, видя ее заговаривающейся, было вполне понятно. Грязнова пел баритон Камионский, очень хороший голос и вполне приличный актер, но увы, как еврей, с очень ясно выраженным акцентом. Рассказывали, что однажды он пел Онегина; актриса, исполнявшая роль Татьяны, по недосмотру режиссера в сцене последнего действия надела не малиновый, а зеленый берет, почему Камионский в своем обращении к Гремину находчиво изменил текст и вместо слов «Кто там в малиновом берете» запел «в зеленом», но по-жидовски: «в желеновом берете», и вся зала
546
прыснула со смеху. Но несмотря на дефекты произношения Камионский был очень хорош, с ним ривализировал баритон Светлов, тоже еврей; последнего коронная роль была князь Игорь, где арию его «Дайте, дайте мне свободу» его всегда заставляли повторять, но пел он, увы: «Дайте, дайте мне швободу». Басами были Антоновский и Фюрер, последний один из могикан петербургской Императорской сцены, где я в своей молодости помнил его в роли Фарлафа [из] «Руслана и Людмилы». У Фюрера уже голоса не было и брал он только школой, хотя и она мало помогала в ансамблях, где его окончательно заглушали. В противовес Фюреру голос Антоновского был громадный, только с несколько резким тембром. И фигура его, и манера его петь были вполне сценичны, так что он был признанным любимцем харьковской публики, которая, к сожалению, его и избаловала; он слишком о себе возомнил, перестал не только совершенствоваться, но и вообще трудиться и развиваться и уже к концу нашего пребывания не спал голосом, но стал резко детонировать. Тенорами были Давыдов, выдающийся актер, но уже со спавшим голосом, почему трудно было понять, почему он перешел впоследствии в Петербург на Императорскую сцену. Его коронная роль была в «Пиковой даме», где в сцене сумасшествия он производил потрясающее впечатление. Также он был очень хорош в роли шута, кажется, в опере «Рогнеда» или же в «Аскольдовой могиле». Тенор di forza был Розанов, с сильным голосом, бравшим самые высокие ноты грудью и не допускавшим фальцета. К сожалению, он часто фальшивил и актер был из рук вон плох. Был еще один тенорок-жидок (фамилии не помню), который делал даже трели, что у мужского голоса бывает редко. Он очень хорошо исполнял [партию] Индийского гостя в «Садко», где вся ария испещрена фиоритурами. Под конец нашего пребывания приглашена была Терлиони-Корганова, драматическое сопрано; ничего выдающегося, как например, Инсарова, она из себя не представляла, но была вполне прилична и дала возможность ставить оперы и итальянские репертуары. К этому времени антрепренер Церетели, дабы поднять сборы, стал приглашать гастролеров; таких я помню три: баритон Девойо, создавший в моей молодости в Петербурге роль Мефистофеля в опере Бойто того же названия; другой баритон, европейская знаменитость Баттистини и сопрано Беллинчиони. Девойо приехал, как видно, уже совсем стариком, для него возобновлены были «Африканки», и я присутствовал на репетиции, где Девойо, француз, не понимая [ни] слова по-русски, бранился с хором, требуя от него более живой игры при пении им баллады о царе морей. Он до того сердился, был так требователен, что чуть не вышла потасовка с самим Суком, которого он тоже стал обучать. Баттистини пел «Риголетто» и произвел фурор, в особенности в финальном дуэте третьего акта «Vendetta», который заставили повторить несколько раз. Беллинчиони я слышал в опере «Миньон», и она нам обоим очень понравилась. Последние два гастролера были в Харькове, когда губернатор был уже князь Оболенский, и я, находившийся с ним в натянутых отношениях, не пользовался более губернаторской ложей, почему по финансовым соображениям посещал театр редко. На спектакле Баттистини происшествие с Мама́ помешало мне слушать оперу. Сидели мы всей семьей, были даже старшие дети, Миша и Сережа, в ложе бенуар, к которой вели несколько ступенек. Во время действия у моей матери сделался приступ кашля и, чтобы не мешать публике,
547
она поспешила вон из ложи, не рассмотрела ступенек и со всего размаха упала; падение ее было такое страшное и шумное, что вся зала обернулась на нашу ложу, а какой-то доктор поспешил перелезть через рампу на помощь Мама́. К счастью, все кончилось благополучно, но я лично так был энервирован, что конец действия провел шагая по фойе и только вернулся в ложу к дуэту «Vendetta», который заставил все позабыть.
Описание театров харьковских будет далеко не полно, если не упомянуть о малороссийской труппе; она ежегодно приезжала в Харьков и, несмотря на бедность репертуара, посещалась охотно. Притягательной силой была премьерша Заньковецкая и премьер Кроповницкий. В малороссийских труппах нет строго распределенного амплуа, ибо в каждой пьесе, как принадлежащей к народному репертуару, есть и пение и танцы. Все же более или менее сильные таланты специализируются, и Заньковецкая преимущественно была не столь драматической актрисой, сколь даже трагической, напоминавшей, по словам моего отца, Рашель, но притом совершенно естественная. Реальность ее требований доходила до того, что в одной пьесе, «Наймычки», где она топится за сценой, ее вносят в избу, вытащив из воды всю мокрую — вода ручьями стекала с нее и ее платья на пол; рассказывали, что для этого ее за сценой обливали из ведра водой. Ни Лиза, ни я не знали и не понимали малороссийского наречия, но Заньковецкую, благодаря ее игре, ее мимике и ее интонациям, понимали вполне свободно, так как наречие это все-таки лишь искаженный польским влиянием русский язык. Кроповницкого тоже легко было понять. Он был актер на все руки. В первой главной пьесе, бывало, он вызывает непритворные слезы у публики своей драматической игрой с женской партнершей, как Заньковецкая, а в последнем водевиле, бывало, смешит до упаду всю залу, изображая плутоватого пьяненького волостного старшину или крючковатого подленького пана Писсуя, излюбленные типы малороссийского водевиля.
Кроме этих специально харьковских или областных трупп, Харьков как большой университетский город всегда посещался вне сезона разными актерами, предпринимавшими турне по России со своей составленной на этот случай труппой. Певала раз целую неделю венская оперетка и показала нам, что называется, в этом роде искусства венский шик и брио. Были со своими труппами и Варламов, и Давыдов, и Правдин, и Яворская (по мужу Барятинская), и, наконец, Савина — все светила московской и петербургской сцены. Спектакли же были большим наслаждением и, понятно, нашим доморощенным премьерам было далеко до этих корифеев, но зато привозимая ими труппа была всегда так плоха, так плохо сыгравшаяся, что поневоле вспоминалась срепетированная ровная игра нашей собственной драматической труппы. Все же, несмотря на эти дефекты, обычные при всяком артистическом турне, никогда не забуду игры этих светил. В особенности ярко вспоминаю Давыдова в роли Ростислава в «Свадьбе Кречинского», Варламова в репертуаре Островского, Правдина в «Дяде Фрице» и Савину в «Родине». Последняя в прощальном спектакле играла в двух пьесах: первая — тяжелая драма с самоубийством и вторая — легкий водевиль, сюжетом которого служит посещение Петербурга провинциалкой. Для couleur locale изображала Савина жену змиевского городского головы — простую, наивную хохлушку,
548
совершенно не постигающую условия столичной жизни и поэтому, попавшись на прием к какой-то медицинской знаменитости, делает gaffe’у на gaffe’e и под конец как назойливая с позором изгоняется. В той и другой роли Савина была неподражаема. На этом я и закончу свои воспоминания об общественной жизни в Харькове и перейду к изложению семейных наших событий за это время.
Приехали мы в Харьков, как я уже писал в начале, в составе всей семьи плюс Нюничка и педагогии в лице Marguerite Poirot, уже невесты С. А. Вознесенского, и потому проводящей у нас последнюю зиму, Розали, лишь живущей у нас, но зарабатывающей частными уроками на стороне, и фишеристки О. А. Алферевой. На попечении Diditte (Marguerite) были и мальчики, и Соня, и Льяна, и даже сначала Георгий, одна лишь Мария была в непосредственном ведении няни. Тесно было неимоверно, и после Сергиевского простора казалось невозможным нам утрястисъ. Мои родители заняли самую большую комнату с тремя окнами в сад, дети ютились в проходных комнатах, разместившись по двое в каждой, и среди них, тоже в проходной, жила Лиза, я большей частью жил у себя в уборной — полутемной комнате рядом с кабинетом и телефоном. Нюничка, Розали и Ольга Александровна поместились в полуподвальном этаже в таких клетушках, что стыдно вспомнить. Одной Маргарит досталась рядом с детской каморка в одно окно. Но все были довольны не расставаться с нами, не осложняли мне жизнь жалобами; одна Алферева, действительно, страдала от своего помещения, постоянно болея головой, но и та до того увлекалась театрами, в особенности Самойловым, что и она была рада жить в Харькове. Особенно довольны были новыми условиями городской жизни мои родители. Мама́ посещала аккуратно церкви, завела в них свои знакомства, любила, что там уже знали ее привычки и как матери вице-губернатора старались оказывать внимание. Мама́ особенно подружилась со старушкой Хариной, возобновила близкие отношения с Зинаидой Семеновной Тобизен и завела еще новые дружеские знакомства; часто это бывало в воскресенье; выехав утром к обедне, она возвращалась лишь в сумерки к обеду. Выезды ее были комичны. Хотя мы держали наемных лошадей, но она их боялась и ими не пользовалась, а посылался вестовой Косороз (смышленый хохол) за добропорядочным «ванько»; ему давалось наставление найти такого, чтобы лошадь была покойна, сам он был постарше годами и чтобы лошадь была не пуглива, не вздрагивала даже бы от кнута и, главное, не махала бы хвостом. Когда Мама́ выходила садиться, наконец, на сего избранного «ванько», она сама расспросами удостоверялась в благонадежности возницы, но для большего успокоения она отбирала кнут и на него садилась, чтобы не было даже возможности подгонять лошадь. Папа́ боялся всегда этих мелких ridicules и избегал выездов с Мама́, зато он любил пофланировать по улицам, походить по магазинам, разыскивая всегда что-нибудь подешевле, и удивлял всех найденными им occasions, которые, увы, большей частью оказывались недоброкачественными. Папа́ очень любил ходить и ездить со мной; его честолюбие за нас, детей, утешалось тем почетом, вниманием, коим я пользовался, особенно от полиции, по своему служебному положению. Часто оба они, Папа́ и Мама́, ездили в театр, преимущественно в Драматический, и рады были всякому приглашению поиграть в карты. Лиза моя сделала все официальные визиты, участвовала во всем том, что было
549
для нее обязанностью как моей жены, остальное же время так же предавалась детям, неуклонно за ними следя, и только вечером считала себя свободной, чем я и пользовался, чтобы ездить с ней в театр.
Детские уроки были налажены с таким расчетом, чтобы старшие мальчики держали бы каждую весну переходные экзамены при гимназии. Долго обсуждалось, какую для сего избрать гимназию, и, наконец, остановились мы на второй, находившейся на Благовещенской площади, в которой особенно хвалили директора. К сожалению, этот директор, Тихий, скоро погиб трагической смертью; заменен он был профессором Степановым, милейшим старичком с длинными седыми волосами в типе немецких профессоров; от этой замены если не гимназия, то мои сыновья ничего не потеряли, до того Степанов был добр, ласков. К стыду нашему надо сказать, что эти экзамены мальчиков в качестве экстернов были не только не блестящи, но прямо позорны: всегда они проходили плохо, и их собственно с натяжкой переводили в следующий класс. Кто был в этом виноват — не знаю, думаю, что, главным образом, избалованность их домашней обстановкой и растерянностью их, как только условия менялись. Правда, и О. А. Алферева своим требовательным характером, вспыльчивостью не способствовала внушению им любви к учению, главное, Мише; Сережа же был еще слишком молод и, лишь чтобы упростить дело, шел наравне со старшим братом. В последующие зимы были у мальчиков и отдельные учителя из студентов, перебывала чуть ли не вся семья Голубниченко, а она состояла из четырех братьев и сестры при матери-вдове, учительнице, содержавшей частную школу. Но все же учение мальчиков не шло успешно, а на экзаменах бывало и совсем плохо. У девочек была впоследствии и учительница музыки Ванда, и приходящая француженка M-lle Gross, когда Diditte вышла замуж. Мальчикам Лиза устроила тоже уроки скрипки с милейшим профессором Музыкального училища Горским, устроителем и вдохновителем наших музыкальных вечеров. Перед каждым летом поднимался вопрос о приглашении на лето студента к мальчикам, пора им было выходить из постоянного женского влияния; много их перебывало у нас, но первый был и наилучший. Это был старший сын Голубниченко, Николай Алекеевич, последующие были значительно хуже, а некоторые из рук вон плохие.
Как мы все любили эти отъезды из Харькова! Тобизен всегда давал мне возможность провожать семью. Ренкуль любезно предоставлял нам вагон прямого сообщения до Ферзикова; большой пульмановский вагон-микст 2-го и 3-го класса, так как ехали с нами наши люди. С вечера вагон этот нагружался всеми вещами, и к отходу поезда дети с нами приезжали уже в устроенное помещение, где купе были заранее распределены, вещи разложены и устроена была даже маленькая столовая, где нам в обычное время подавались заранее приготовленные поваром кушанья; он же отправлялся вперед уже ждать нас в Сергиевском. Уютны были эти семейные переезды, а главное, перспектива скоро очутиться всем на просторе в милом, тогда не опоганенном дальнейшими революционными событиями Сергиевском. Особенно живо помню один приезд в деревню. Было это в мае — стояла чудная весна. Приехали мы в Сергиевское, как всегда радостно приветствуемые и местными служащими, и своими крестьянами. Стараниями жены управляющего Полины Яковлевны все нам было приготовлено. Как будто
550
мы не выезжали из дому, присутствовала неизменная Варвара-прачка, распоряжавшаяся в буфете, пока приехавшие с нами люди еще не вступили в свои обязанности. Пока вся семья пила кофе, чай и молоко в столовой, вышел я на террасу, ступил на газон спуска с нее и был охвачен благоуханием воздуха, пением птиц и, главное, деревенской тишиной и тем миром и спокойствием, коими дышит родная деревенская природа; никогда так не чувствовалась связь с прошлым, как в этой тиши. Помню, что на меня прямо излилось какое-то чувство особенной благодарности к Богу за все нам дарованное. В эту минуту вырвался из столовой давно уже мечтавший побывать на конюшне Георгий, выкатился и он на простор, и вдруг, увидав меня в каком-то восторженном настроении, остановился и необычно для него повис у меня на шее, сам захлебываясь от счастья, его охватившего. Не знаю, помнит ли он эту сцену, но я ее хорошо помню, до того она врезалась у меня не столько в памяти, сколько в сердце.
Родители мои обыкновенно приезжали позже, до того они ездили к тете Маше Бенкендорф и потому в этих общих переездах не участвовали. Таким же способом возвращались мы в Харьков и к этому переезду относились с удовольствием; деревня с осенней распутицей была уже неуютна, детям улыбался всякий переезд, и я был не прочь вновь окунуться в деловую служебную жизнь, которой в бытность Тобизена, благодаря его отношению ко мне, не тяготился. Папа́ и Мама́ тоже временно от нас отделялись, проводя часть осени у сестры моей Вари в Красном. К счастью, один весенний переезд должен был совершиться совместно с ними, и Мама́ даже с вечера переехала в вагон, избегая раннего вставания. К моменту отъезда у Марии оказался жар, и Лиза с ней и няней остались при мне в Харькове, остальная же семья под шапронством моих родителей уехала в Сергиевское, и было это слава Богу, потому что у Марии обнаружился сильнейший дифтерит. Болезнь ее была тяжелая, и за нее было страшно, и беспокойно за детей, уехавших и, быть может, уже до того заразившихся. Но Бог милостив, все прошло благополучно, и при первой возможности мы, оставшиеся, поспешили в Сергиевское; так как нас было немного, нам дали вагон-салон и путешествовали мы по-царски. Помню еще серьезную болезнь Льяны в Харькове: болела она почками, и в тесной обстановке было очень трудно исполнять все предписания врача, но Лиза умела быть в этом особенно аккуратной и выходила она Льяну. Правда, и наш детский доктор Колпакчи был незаурядный доктор, а сердечность и внимательность его к нам и нашим детям делали его почти другом семьи. Для нас, больших, мы обращались к военному доктору Важеевскому, светилу того времени, но особенно нелюбимого врачами. Его обширная практика не говорила в пользу симпатии к нему его коллег.
Так как Харьков был на пути в Крым, часто мимо нас проезжали разные родственники, с коими мы выезжали видеться. Завязались у нас за это время близкие отношения с родственной семьей Лизы — Бибиковыми. Дочери Варуся и Дарья подолгу у нас живали и вносили много оживления. За этот период нашей семейной жизни вышла замуж Diditte за Сергея Александровича; свадьба была у нас в Сергиевском и прошла невесело. Когда ко дню свадьбы приехала вся его родня — целый поповский clan — да еще из глухой местности, стало жутко, как наша веселая Marguerite, по национальности своей имевшая более чуткую натуру,
551
уживется в этой среде. Она сама впала в какое-то нервное настроение, цеплялась за Лизу и просила ее не отпускать. Но дело было сделано и нельзя было отступать. Прожила она с мужем лет шесть, очень к нему привязалась и была, по-видимому, довольна своей судьбой, но после неудачных родов второго ребенка заболела раком и, несмотря на повторные операции Снегирева, скончалась совсем молодой, когда мы уже были в Гродно. Под конец нашего пребывания в Харькове вышла там замуж и старая горничная жены, не расстававшаяся с нами со времени нашей свадьбы. Вышла она замуж за одного харьковского полицейского, Савченко. Лиза была у нее посаженой матерью и со смехом рассказывала, как ей было там конфузно и как Миша, несший образ, наслаждался вкусным угощением. Так текла мирно наша жизнь; омрачалась она для меня лишь обязательными разлуками с семьей летом, когда я оставался в Харькове за губернатора; благодаря этому я мало знал подробностей семейной летней жизни; это был период, знакомый мне лишь по письмам Лизы и детей. Зимою же, хотя мы жили вместе, но весь день я отсутствовал и опять мало видел и вникал в детскую жизнь.
1900 год был резким переломом: мы впервые испытали настоящее горе, которое в следующем году еще усугубилось. Помню как сейчас, как 20 июня днем, вернувшись со службы и делясь за обедом на балконе с Нюничкой, приехавшей делить мое одиночество, впечатлениями, я был прерван приносом телеграммы от Гриши Трубецкого с известием о скоропостижной кончине его отца — моего тестя. Это была первая совсем близкая кончина в семье. Я, хотя до конца очень конфузился моего beau-père’а, тем не менее горячо его любил и сам был глубоко потрясен этим известием; а тут еще примешивался страх за Лизу, как она отнесется к этой утрате, к первому действительному горю. Я знал, что в Сергиевском у нас дядя и тетя Капнисты: последняя настолько была близка к Лизе, что в такие минуты ее присутствие было особенно кстати. Одновременно было и новое семейное событие: Варя, сестра Лизы, была объявлена невестой Геннадия Лермонтова, товарища Гриши Трубецкого по Константинопольскому посольству, и свадьба их должна была произойти как раз 20 июня или в ближайшие дни, а тут эта скоропостижная кончина ее отца. Одиночество мое было особенно тягостно; немедленно я телеграфировал министру, прося о кратковременном отпуске на похороны и, не получая ответа (петербургские власть имущие не торопились по таким пустячным, им казалось, делам), частно просил Алешу Оболенского посодействовать моему отпуску. Он как родственник внял моей просьбе, и я через несколько часов получил желаемое разрешение. Все же я, как ни торопился, не поспел к отпеванию в Меньшове, а догнал лишь тело и семью в Москве, где хоронили моего тестя в Донском монастыре. Самые острые минуты горя для Лизы, первое ее свидание с матерью-вдовой уже прошли, и я застал ее более покойной. В тот же день поехали мы в Измалково, где лежала недвижимая ее сестра Самарина, которую в этот раз я и видел в последний раз; скончалась она в эту же зиму за границей. Все это пребывание кратковременное с Лизой, длившееся дней пять, было один надрыв: с одной стороны, первое настоящее семейное горе, с другой, жениховство Вари, причем Геннадий по своей молчаливости не умел совсем к кому бы то ни было в семье подойти, был совершенно чужим, что особенно подчеркивалось в те минуты. Я даже уехал обратно
552
в Харьков не с таким острым сожалением, как, бывало, прежде расставался с семьей. Свадьба Вари была мне не по сердцу; я не мог понять, чем могла Варя так увлечься, только потом я по достоинству оценил незлобивую натуру моего будущего beau-frère’a; печально было венчание их на десятый день кончины моего тестя в Измалкове, чтобы и Тоня Самарина присутствовала на нем. Торопились свадьбой за скорым окончанием отпуска Геннадия, который тоже только что похоронил своего отца. Лиза потом рассказывала, что свадебное шествие от дома в маленькую церковь скорее походило на похороны — всем было тяжело. Пожила с ним Варя тоже недолго, лет пять или шесть; скончался он в Риме, куда только что был переведен после усиленных о сем хлопотах Вари. Вспоминались потом ее детские глупые пожелания: иметь детей и быть вдовой, за что моя belle-mère ее сильно бранила, говоря, что и за пустые слова Бог наказывает. Так с Варей и случилось: рано овдовела она, имея уже трех детей, и всю жизнь провела она ища счастья.
Но я отвлекся, вернусь к последовательному рассказу. Зима 1900/1901 года благодаря трауру нашему была грустная, и в марте новые несчастья: кончина сначала Тони, а потом и Мама́ Трубецкой сделали для нас этот год особенно памятным. Лиза была беременна и мы все ее особенно берегли. В самых первых числах марта месяца получили мы из Cannes телеграмму Феди Самарина, что Тоня, его жена, опасно больна; по тону телеграммы я понял, что он готовит Лизу, а в сущности она, вероятно, уже скончалась. Действительно, поздно вечером, когда Лиза уже легла, мне принесли и злосчастную телеграмму о кончине Тони; не решился я тут же объявить Лизе это ужасное известие, и долго буду помнить эту ночь, когда лежа в спальне, я притворялся спящим, чтобы не дать Лизе какого-нибудь подозрения. Лишь утром, когда она стала меня торопить ехать в церковь служить молебен о болящей Антонине, я ей сказал всю правду. Долго она плакала, и это, быть может, ей помогло, но еще большее испытание было впереди. 19-го или 20-го марта получено было за обедом длинное письмо Линочки, описывавшее болезнь Мама́ Трубецкой. Видно было по письму, что болезнь не пустячная, но никак нельзя было ожидать такой скорой развязки — 23-го марта ее уже не стало. Линочка все же писала, что выписали Ольгу из Ялты, где она была при Самариных (дяде Пете и тете Лине), так как дядя Петя медленно умирал, и всем было известно сильное чувство Ольги к нему; одно это доказывало, что дело признается серьезным. Лиза сейчас же стала порываться в Москву, но я, виню себя до сих пор, отговорил ее, боясь ее положения, и запросил подробностей. 22-го была получена телеграмма, что есть улучшение, но все же положение серьезное, а 24-го рано утром меня позвали от имени Тобизена к телефону, и он сообщил мне, что получил для сообщения нам известие о кончине моей belle-mère. He решился я без доктора сообщить это Лизе, а вызвал предварительно Важеевского и в присутствии его сказал ей. До сих пор ужасно вспомнить весь этот день; перед этим были получены телеграммы и о кончине дяди Пети, так что в Покровском арх[иерейском] монастыре служили панихиду по всем трем (Тоне в тот день был 20-й день). Кроме нас были только Тобизены и Давыдовы, последние единственные родственники моей belle-mère. Боялся я оставить сейчас же Лизу и пробыл с ней один день, так что опоздал на похороны.
553
Кончина Мама́ как и кончина Папа́, совпала с жениховством в семье — Гриша стал женихом Маши Бутеневой. Она ему до того отказала, а потом, тронутая его несчастием при кончине матери, сама, при посредстве общего их дяди Сергея Алексеевича Лопухина, вызвала его и дала ему слово. В бытность мою в Москве приехал и Федя с детьми из Cannes, так что я их встретил. Затем уже приехал Федя к нам в Харьков и прожил несколько дней; для него было утешение видеть Лизу, самую близкую из сестер к его покойной жене. Посетили нас и Гриша со своей невестой под шапронством старой горничной мачехи Маши, графини Екатерины Павловны Хрептович-Бутеневой. Очень это было хорошо с их стороны, а то Лиза чувствовала себя оторванной от семьи, не принимая участия непосредственно во всех ее горях и радостях. С особыми предосторожностями повез я в начале мая Лизу в Сергиевское, на этот раз я выговорил себе право там оставаться до рождения ожидаемого нами ребенка. Заранее приехали тоже Анна Михайловна Альянчикова, Иван Иванович Дубенский, и 1-го июня 1901 года около двенадцати часов родилась Тоня. День был солнечный, теплый — старших детей я отправил на площадку дальнюю с моим отцом и когда они вернулись, я их встретил с радостным известием о рождении сестры. Лиза до сих пор не может вспоминать без умиления и волнения, как она видела со своего балкона Сережу, сидящего на большой террасе и издали крестящегося. Почти одновременно у Вари Лермонтовой родился ее первый сын Николай. Жизнь брала свое; несмотря на все перенесенное горе, атмосфера детской жизни не была омрачена и вследствие этого и семейная жизнь имела свои радости.
В это лето было как-то особенно много педагогии. При детях была постоянная Розали, для старших мальчиков был приглашен немец Herr Cölpin (Кёльпин) из Дерпта, студент Юрьевского университета, состоявший в какой-то корпорации, дуэлянт, разгуливавший в какой-то корпоративной шапочке; кроме того на лето была приглашена швейцарка M-lle Gross; Diditte с ребенком и няней гостила у нас и по старой привычке вошла в свои прежние гувернантские обязанности. По желанию Лизы приглашена была скрипачка M-lle Ellie Wats, рекомендованная Грум-Гржимайлами для занятий с мальчиками. Это была милейшая особа, прехорошенькая молодая девушка, талантливая скрипачка. Она была первой любовью моего Миши, тогда 13-летнего мальчика. Приехала она пароходом, думая, что едет в семью, где всего два сына, и была глубоко удивлена, как по мере приближения к дому она встречала все новых детей со своими педагогами. Привязалась она к семье и с горем покидала Сергиевское; лет через десять она концертировала в Москве с сестрой, обе имели уже солидные репутации, и тогда дети ее навестили, и она с радостью с ними встретилась. Вся эта вышеописанная педагогия, то есть Кёльпин и мадемуазель Элли, приехали, когда Лиза лежала еще после рождения Тони. На девятый день убрали дети ее террасу гирляндами, цветами; вывели мы Лизу впервые из своей комнаты и тут же представили ей всех вновь прибывших. К сожалению, недолго я пожил с семьей, надо было торопиться в Харьков; осенью же, когда я вернулся, M-lle Элли уехала и Diditte вернулась в Калугу, a M-lle Gross уехала после обострившегося легочного заболевания, так что я только по рассказам мог судить о веселье детской жизни
554
в течение этого лета среди столь многих педагогов, имевших каждый и свои хорошие, и смешные стороны.
Зимой 1901—1902 годов ушел Тобизен, и началась моя маята с Оболенским. Это и послужит предметом дальнейшего повествования, где и служебные, и семейные воспоминания тесно переплетаются. Уже с начала зимы чувствовалось такое утомление Тобизена и потом отсутствие интереса с его стороны к делам губернии, что я ему неоднократно высказывал в дружеской беседе, что ему пора покинуть губернаторский пост. Он сознавал, что я прав, но вместе с тем финансовое положение семьи заставляло его держаться за хорошо оплачиваемое место. Надеялся он, что по прежнему милостивому к нему отношению государя его сделают членом Государственного Совета с награждением арендой, что восполнило бы ему потерю казенной квартиры и всех преимуществ губернаторства, и начал Герман Августович тонкие хлопоты в этом направлении, для чего [потребовалось] более месяца интриг в Петербурге; но вышло по-иному, его все-таки назначили лишь сенатором. Pour dorer la pilule высочайший указ о сем назначении прислан был ему в Харьков к 1-му января с особым курьером при любезном письме министра юстиции Муравьева. Тобизен, faisant bonne mine à mauvais jeu, высказывал свою радость, а вместе с тем материальное положение семьи его заботило: надо было очистить губернаторский дом, переезжать среди зимы в Петербург, брать там квартиру, а денег не было. Все это побудило его не сдавать должности насколько возможно долее, и хотя он с 1-го января уже не был губернатором, оставался таковым, придираясь к тому, что Губернское правление еще не получило и не опубликовало указа о его назначении сенатором; но, наконец, и указ был опубликован в «Харьковских губернских ведомостях», а Тобизен все медлил сдавать мне губернию; положение мое становилось щекотливым, он ни во что не вмешивался, и все же я не был самостоятельным и стеснялся принимать какие-нибудь решения без его санкции; к тому же нес я всю тяготу и не пользовался тем усиленным содержанием, которым пользовался вице-губернатор за время исполнения de jure обязанностей губернатора. Однажды мы были с Тобизеном в театре, и вдруг туда мне принесли срочную служебную телеграмму от министра внутренних дел, адресованную мне так: «Управляющему губернией вице-губернатору Осоргину». Не помню ее содержания, но оно было таково, что я почел необходимым посоветоваться с Тобизеном и протянул ее ему. Он прочел адрес, поморщился и сказал: «Видно, министр удивляется, что я до сих пор не сдал губернии», хотя в телеграмме о нем ничего не было упомянуто, а касалась она какого-то распоряжения, испрошенного до того за подписью Германа Августовича. Я ничего не возразил — врать не умел! На следующий же день он сдал мне губернию и остался с семьей жить в губернаторском доме под видом укладки уже как частный человек. Весь интерес бюрократического мира в Харькове сосредоточился на том, кем заменят Тобизена и как его достойно отблагодарить и любезно проститься. Созвал я для сего совещание у себя в зале Губернского правления, так как мой local был слишком мал для собрания всех представителей ведомств. Участвовали и корпусной командир, заменивший Винберга генерал Случевский, и архиепископ Флавиан, заменивший Амвросия, и губернский предводитель Курченинников, заменивший Капниста, я один, как старый
555
могикан, оставался от прежнего состава. Ввиду положительного отказа семьи Тобизена от всяких официальных обедов по недомоганию Зинаиды Семеновны, которая плохо поправлялась после серьезной операции, сделанной одним профессором венским, выписанным для сего как специалиста, производившего операции без наркоза (а у Зинаиды Семеновны сердце было слабо), решено было ограничиться поднесением подарков в группе тех благотворительных учреждений, в коих оба супруга столь долго главенствовали. Вся администрация, то есть губернские чины Министерства внутренних дел решили поднести особый подарок обоим супругам вместе — не помню, какой. На меня выпала обязанность подносить им это и говорить прощальное слово. Собрались мы все in corpore в канцелярии губернаторского дома и оттуда, предупредив заранее семью Тобизенов, прошли в верхние залы, где и состоялось подношение. Тобизен очень тепло ответил и потом предложил нам всем у них позавтракать. Когда Герман Августович поднял бокал за мое здоровье, все особенно тепло и сердечно меня приветствовали, и Ефимович (редактор «Губернских ведомостей») добавил, что общее желание и надежда для продолжения этого благополучия и мира, в каком пребывала губерния, чтобы я и заменил окончательно Тобизена на губернаторском посту. Правда, об этом ходили слухи в харьковских кругах, и я даже старался о сем в Петербурге, но за смертью моего тестя трудно было хлопотать. Называли многих и тотчас же сообщались сведения о вновь всплывшем кандидате, оценивалась его личность и делались догадки, как с ним придется служить. Понятно, для меня, ближайшего помощника, вопрос этот был существенно важен. Вдруг в середине января получено было Иозефовичем достоверное известие, что заместителем Тобизена назначен херсонский губернатор князь Иван Михайлович Оболенский, дядя моей жены. Я его никогда не знал, но в семье слышал самые невероятные слухи о его взбалмошности, дерзостях и самодурстве. До своего губернаторства он был симбирским губернским предводителем дворянства. Женат он был на очень богатой, а потому в средствах не стеснялся, всегда старался всех поразить какими-нибудь несуразными взглядами либо суждениями, а также имел репутацию острого язычка и большого кутилы. Почему такой тип посылался в губернию, где умственная жизнь била ключом, где общество было состоятельное, не могло поощрять шутовские выходки ее хозяина, можно было объяснить лишь тем, что перед этим Оболенский скоро и быстро подавил крестьянское движение в Херсонской губернии. Правда, что сопровождалось это нещадными порками и потом гомерическим кутежом самого Ивана Михайловича в Одессе, не подчиненной его губернаторской власти, отчего и он более свободно распахивался там, хотя по характеру своему он мало чем стеснялся: считал, что все, что он делает, хорошо. Быть может, и огромное состояние его жены побудило министра послать его в Харьков, где стесненные средства Тобизена не давали ему возможность с блеском нести представительство. Ивана Михайловича Оболенского очень любил Владимир Васильевич Давыдов, даже хвалил его, хотя и осуждал его резкие выходки, но ко времени назначения Оболенского Давыдов был переведен старшим председателем Судебной палаты в Одессу и заменил его двоюродный брат Лизы Алексей Лопухин, прямо назначенный сюда из прокуроров, сделав, таким образом, головокружительную карьеру, а потому еще
556
не приобретший опыта мудро распознавать людей, нелицеприятно к ним относиться и спокойно оценивать события. Мне до сих пор кажется, что в Петербурге создалось убеждение, что Харьковская губерния распущенна, может во всякую минуту стать очагом серьезных осложнений, и требуется для нее администратор решительный и смелый.
Как сказано выше, все посты власти, с коими я начал свою службу, были заменены новыми, один я оставался, и мне, другу Тобизена, тяжело было чувствовать свое одиночество и осуждение прошлого. Так как князь Иван Михайлович Оболенский — более или менее историческое лицо как по подавлению крестьянских беспорядков в Херсонской губерния в 1902 году, так и как никуда не годный генерал-губернатор Финляндии в 1905 году, прежде чем описывать нашу с ним совместную службу, постараюсь его охарактеризовать как умею, то есть как он мне представился, подавляя в себе чувство неприязни, которое все воспоминания о нем во мне возбуждают. Мать его, румынка, урожденная Стурдза, несомненно передала ему некоторые черты национальные, и внешние и внутренние. Лицом он был благообразен, роста среднего, очень черный, с несколько охрипшим голосом. Минутами лицо его дышало благожелательством и Оболенским добродушием, столь метко схваченным Толстым в «Анне Карениной» в лице Облонского, но тут же менялось выражение на злое, презрительное, чтобы так же быстро замениться каким-нибудь плутовским выражением. Человек он был неглупый, но совсем неглубокий, довольно остроумный, к сожалению, малообразованный, чем даже гордился. Думаю, что он был в душе добрый; вся его семья, начиная от матери, сестры Панютиной, жены и детей не только его любила, но высоко ставила, хотя подтверждала, что его surface не соответствует внутреннему содержанию, и лишь когда он нравственно расстегнется, можно его по достоинству оценить. Главным его двигателем и побудителем было всех удивить, всех огорошить и делать именно то и так, как не ожидают. Его потребность была faire parler de soi, почему и особенно падок он был на лесть. Харьковская губерния, где он начал свою деятельность, не была губернией родовитого дворянства en masse; с отдельными представителями этой аристократии он по родству, по связям и был близок и равен с ними, остальное же поместное дворянство, преимущественно из поселившихся там для наживы, низко поклонялось перед властью, и Иван Михайлович упивался их лестью. Характер его был неровный, и нельзя было никогда быть уверенным, что, начавши за здравье, он не кончит за упокой. Сам он про себя говорил, что у него ни плана, ни системы нет, а действует он, как нутро покажет. С таким человеком столь различного со мной характера и направления мне и пришлось работать; да, работа была трудная, и краткое время, проведенное с ним, надолго осталось у меня в памяти. В нем наиболее ярко сказалась плохая черта нашего русского бюрократа: доверие — ни к кому, а доверчивость — к первому попавшемуся, лишь бы сумел подладиться. Он, бедный, был и наказан впоследствии тем же, чем и грешил к другим. Он всегда обвинял людей с самостоятельным мнением, не преклонившихся перед ним и не кадивших ему, в каких-нибудь злых умыслах; в каждом из таковых он видел либо ничтожество, либо изменника существующему порядку, и умер он, обвиняемый общественным мнением как предатель монархической идеи в бытность свою
557
финляндским генерал-губернатором: я же готов дать голову на отсечение — ни такой подлой мысли, [ни] тем более дела, у него никогда не было. Но как Харьков с развитым обществом, так и Гельсингфорс с шведской аристократией, культурной средой не был благодарной почвой для его административного фиглярства. Обрисовав его личность, как я ее понимаю, с ее светлыми и темными сторонами, перехожу к рассказу, и пусть из фактов читатели судят о нем.

Сергей Николаевич Трубецкой и Михаил Михайлович Осоргин.
Начало XX века. Частное собрание, Париж
Мое первое знакомство с ним и положило начало той скрытой неприязни, которую он мне всегда показывал и которую я ему возвращал сторицею. Получил я от него телеграмму из Херсона, что едет он в Петербург, проездом остановится на день в Харькове до вечернего поезда инкогнито и очень рад со мной познакомиться. Поехал я на вокзал его встречать, но в мундире и в служебном форменном сюртуке, взял с собой полицмейстера Вилькена и никого более. Тобизен просил меня передать Ивану Михайловичу приглашение обедать и извинения, что еще не очистил губернаторский дом. Вокзал харьковский, как известно, очень большой, и поезда Николаевской линии подходят к большой боковой платформе, так что приходится проходить по длинной платформе до главного входа. Подъехал поезд, подошел я к Оболенскому, которого легко было узнать: он имел привычку носить походную шталмейстерскую форму, надеваемую лишь при сопровождении в путешествии государя, но эта форма давала ему вид военного генерала и потому он оную не снимал, несмотря даже на указания о сем
558
министра Императорского Двора. Иван Михайлович встретил меня крайне любезно, наговорил мне кучу комплиментов, сказал, что из родственных кругов столько обо мне слышал, что знает меня как будто бы давно и рад, наконец, послужить с родственником, коему вполне может доверять и отдохнуть. Представил я ему Вилькена, который подал ему установленный рапорт. И с ним он обошелся вполне корректно. Понятно, публика нас обступила, пожирая глазами вновь прибывшего начальника губернии. Такое обилие глаз, на него взиравших, по-видимому, и подбило его выкинуть штуку в своем вкусе, то есть поразить всех; и вдруг он остановился и громогласно спросил полицмейстера: «А что, каковы здесь чины Судебной палаты, хорош ли старший председатель?» Вилькен сконфуженно ответил: «Вполне хорош, Ваше сиятельство», на что Оболенский ему сказал: «Да вы не стесняйтесь, если он будет вмешиваться и нам мешать, я тут же посажу его в пустой товарный вагон и вышлю из губернии; с собой я шутить не позволю». Последствием этой выходки была жалоба судебных властей в Петербург, запрос министра юстиции, министра внутренних дел и как результат — на общем губернаторском приеме, когда Оболенский вступал месяца через два в должность, никто из судебных чинов не присутствовал, и ему не только не пришлось кого-нибудь выслать из губернии, но не удалось и с кем-нибудь познакомиться, кроме как с прокуратурой, которая, возглавляемая его племянником Алешей Лопухиным, его не бойкотировала. Но эффект был произведен, хотя самый неблагоприятный, все же о нем заговорили — что ему и нужно было. Потом последовал завтрак по его приглашению у «Проспера». Кроме меня, позвал он родственников — Давыдова (приехавшего в это время за семьей) и Александра Павловича Евреинова. На редкость тягостен был мне этот завтрак; Давыдов, хорошо меня знавший, понимал мое состояние и сочувствовал мне, старался положить предел бахвальству Ванички (так он его звал), но не тут-то было; закусил наш хозяин удила, и я по неопытности не мог распознать, где правда и где вранье, но, пародируя слова городничего из «Ревизора»: «Не любо — не слушай, врать не мешай», я мог сказать, что если и десятая доля — правда, то и этого довольно, чтобы понять, что никогда нам с Оболенским не сойтись. Осторожно, с намеками, охаял он всю деятельность Тобизена, охарактеризовав губернию как заведомо распущенную, где губернатор привык миндальничать; на мое возражение, что и мое, видимо, в этом участие, ибо почти пять лет моей службы с Тобизеном я был с ним всегда солидарен, я услышал, что будто бы Оболенский посылал по губернии тайных агентов и знает общество досконально лучше меня, да и про меня велел под рукой узнавать; одним словом, наговорил такой чепухи, что у меня сердце упало. Побывал он у нас и сумел очаровать моих, главное, мою мать, которую он смешил до упаду. Обедая с ним у Тобизена и сравнивая корректность последнего с бахвальством моего нового принципала, еще более жутко стало мне на душе. Тут же он высказывал свои соображения, как надо обновить состав служащих и всех стариков прощурить; видимо, у него была толпа своих ставленников херсонских, коих он собирался с собой перетащить. Я все ждал от него деловых вопросов Тобизену и мне о губернии, а вместо того суждено было нам слушать лишь его бахвальства. Довел он меня до того, что когда он уехал и я на минуту задержался в кабинете Германа Августовича, я, к стыду своему,
559
должен признаться, что я лично <…> и оба, Тобизен и его жена, меня успокаивали. Когда я вновь приехал к Оболенскому, его отношение ко мне и мое к нему определились, и ясно стало, что никогда ничего ни общего, ни солидарного между нами не будет. Проводил я его вечером на станцию. Правитель канцелярии, заменивший Пивоварова, В. Ф. Эйлонд почел своим долгом тоже быть на вокзале. И до сих пор у меня перед глазами испуганная фигура последнего без шапки, низко кланяющегося Ивану Михайловичу, который протягивал ему пренебрежительно два пальца. Эйлонд, как и все при Тобизене, были потрясены, но не теряли своего достоинства, а тут Оболенский, как пустая бочка, так нашумел, что все потеряли свой облик. Уехал он, предупредив меня, что переедет лишь тогда, когда семья Тобизенов совершенно очистит губернаторский дом, а до того предоставляет мне cart blanche и ни во что не вмешивается. Итак, я пробыл в этом interrègne губернатором более двух месяцев.
В этот промежуток времени вступил в должность прокурора Палаты Лопухин; на него я возлагал большие надежды, но приехал он совсем другим, чем я его знал раньше. Правда, он был тот же charmeur, и товарищи его, из коих и я, несмотря на то, что годились ему в отцы, все же были ему подчинены, безусловно его оценили и полюбили, но с нами, его родными, он был необычайно сух, никакой близости не установилось, а когда приехал Иван Михайлович, Алеша стал его явным сторонником. В марте, наконец, состоялся отъезд семьи Тобизенов. Отец уезжал в Петербург, куда его сын заранее был переведен в Школу правоведения, а Зинаида Семеновна с Соней ехали к дочери Философовой доживать зиму до возможного переезда в деревню в Калужской губернии. В день отъезда они все у нас обедали и уже от нас поехали на вокзал. Обед был чисто семейный, без шампанского, тостов, а дружеская последняя беседа. Много было сказано обоюдно сердечных слов, дошло даже до того, что Зинаида Семеновна в пылу благодарности порывалась поцеловать мою руку — за то, что я никогда не писал в Петербург доносов на Германа Августовича за его бездеятельность. Я не знал, куда деваться от конфуза, но не мог даже рассердиться на милую, но глупую Зинаиду Семеновну, благодарившую меня лишь за то, что я не подлец, до того это было наивно и простосердечно сказано. При прощании с Тобизеном мы оба были очень взволнованы; для обоих начиналась трудная пора жизни, но у меня могла быть еще будущность и назначение губернатором избавляло бы меня и от совместной службы с Оболенским; для Тобизена же начиналась хотя и трудная деятельность, но зато и большая скудость в жизни, и после просторной жизни в губернаторских домах первым лицом в городе перейти на мелкую, полную самых будничных разговоров жизнь, лишь бы свести концы с концами.
Помню одно обстоятельство служебное, которое потом имело значение. Однажды харьковский городовой, уроженец Полтавской губернии, вернувшись с родины из отпуска, доложил полицмейстеру, что у них в уезде неблагополучно: идет усиленная пропаганда, зовут крестьян грабить и жечь помещиков, и показал даже такую прокламацию, приглашавшую приступить к сему после ярового посева. Помню, как губернатор Александр Карлович Бельгард, женатый на двоюродной сестре Лизы Эмилии Павловне Зиновьевой, был, я знал, в Петербурге, куда его вызвал министр, готовя его на должность директора
560
Департамента общественных дел, почему я написал вице-губернатору конфиденциально письмо, сообщив ему все эти сведения и приложив прокламацию. По-видимому, внимания должного он не обратил, а в апреле разыгрались знаменитые полтавские беспорядки, перебросившиеся потом и в Харьковскую губернию, где они были подавлены Оболенским, что еще более упрочило за ним незаслуженную административную славу. Но до того за месяц, надо рассказать, как приехал, наконец, Иван Михайлович вступить в должность. Приехал он не один, с ним были и его жена с двумя дочерьми, мать (тетя Ольга Оболенская), сестра Аграфена Михайловна Панютина и еще один дядюшка Стурдза, брат его матери. Так странно было видеть заполнение губернаторского дома совершенно новой семьей — со своими привычками, укладом, отличным от прежней семейной обстановки Тобизенов. Никого больше радушно не принимали; со служебным подчиненным персоналом были только служебные отношения, и дальше порога губернаторского кабинета никто, кроме меня, Свербеева и Лопухина, не переступал. Потом появились habitues, как-то семья Гордеенко (председатель губернской Управы), но, главное, всегда можно было встретить какого-нибудь проезжего херсонца, и тогда Оболенский, не переставая, перорировал о том, что он <…> и его гости ему раболепно поддакивали. На одном приеме, на коем, как я выше сказал, отсутствовали чины Министерства юстиции, Оболенский сказал какую то нелепую речь, что он требует ото всех законности и верноподданнических чувств, как будто до того Харьковская губерния отличалась беззаконием и <…> духом. С чинами канцелярии губернатора вышло неблагополучие: правителю Канну он объявил, что у него свой кандидат и потому он [Канн] должен очистить место. То же было сказано Вилькену, на что тот ответил, что он и сам рад уйти, почему просит устроить его вице-губернатором; в этом случае Герман Карлович надеялся на Сипягина, нового министра внутренних дел, у которого он служил в Лидове. Еще страннее вышло с Гулак-Артемовским, и это я отношу именно как выходку против меня, особенно его рекомендовавшего. Когда Борис Иосифович пришел к нему с обычным докладом по еврейским делам, Иван Михайлович оставил доклад у себя и коротко ему сказал, что он с ним служить не может, не доверяет ему, намекая, что он имеет сведения, что у него в личном деле нечисто. Гулак-Артемовский побледнел как полотно и, выйдя в приемную, упал в обморок. Все присутствовавшие его обступили, переполошились, и товарищи, узнав в чем дело, возмутились и решили in corpore подать в отставку, для чего приехали ко мне советоваться. Я их отговорил от такого незаконного поступка, сам не решился вмешаться, зная, что при недружелюбии ко мне Оболенского я только испорчу дело, и посоветовал, чтобы старший, а именно Эйлонд, сказал бы Оболенскому, как он ошибается, как все чины одного духа, и если он Борису Иосифовичу не доверяет, то нет ему основания доверять и другим чинам и они охотно уступят места его ставленникам. Так и сделали. Оболенский выслушал эту отповедь молча, затем, отпустив его, сам прошел в помещение канцелярии, где и Тобизен никогда не показывался, велел курьеру указать комнату, где занимается Гулак, и, войдя, сказал ему: «Я ошибся и оскорбил Вас наедине, а теперь при всех прошу у Вас извинения». Благородно, но необычно!
561
По службе установились с ним такие отношения: отменял он все доклады по губернскому Правлению и просил ежедневно посылать ему на подпись все бумаги, так что у меня не было ни повода, ни причины к нему ездить, разве только на те заседания, в которых он председательствовал и которые потому происходили в губернаторском доме. Тягостны были эти заседания, на которых он, главное, старался сказать что-нибудь оригинальное, удивить всех, и везде искал какую-то крамолу, которую он будто бы призван искоренять. Еще хуже было с его резолюциями на докладах губернского Правления. Большинство бумаг, рассекреченных, самых шаблонных, и почти все журналы возвращались перечеркнутыми и испещренными его резолюциями. Даже такая канцелярская крыса, как секретарь Любщинский, впал в уныние, видя что ему никак не угодить и нет сил уловить руководящую нить его распоряжений, до того он сам себе противоречил. По закону же все указания и резолюции губернатора по административным делам для губернского Правления обязательны, а лишь по судебным делам, если члены Правления не соглашались с мнением губернатора, разногласие представлялось на разрешение Сената; не то de jure, не то de facto при первом разногласии члены Губернского правления, то есть советники и подчины и вице-губернатор карались министром внутренних дел, первые увольнялись, а последний переводился куда-нибудь в худшую губернию. Понятно, что у моих советников, двух старичков, чаявших лишь спокойно дожить на своих местах, не хватало гражданского мужества бороться с самодуром, почему большинство всегда было на его стороне. Все ж-таки по одному делу, по коему он требовал совершенно незаконного распоряжения (к сожалению, сущности не помню), я поехал к нему с объяснениями. Хотя я был совершенно убежден в правоте своего мнения, все же предварительно я посоветовался с Алешей Лопухиным, который, несомненно, был законник, и нашел в нем полную поддержку. Поехал я к Ивану Михайловичу и долго убеждал его отменить свою резолюцию и утвердить первоначальный наш журнал. Старался я быть спокойным, не раздражаться, но трудно было; и все же я никаких результатов не добился, пока, наконец, не сослался на Лопухина, прося Оболенского призвать его арбитром нашего спора. Оболенский согласился, и тогда мое мнение восторжествовало. Но ежедневно по каждому поводу так тратить свои силы не было возможности, да и не хватало энергии, тем более что стоя на законной почве, я был его прямой помощник и должен был быть с ним солидарен, хотя бы dans les grandes lignes. Ввиду сего я все более и более сознавал, что единственный для меня исход — это скорее от него уйти. В этом меня поддерживала Лиза; она его тоже органически не выносила; она потому единственная из семьи понимала мое состояние и страшилась за меня. Тобизен, со своей стороны, хлопотал в Петербурге и, наконец, вызвал меня по требованию Сипягина и варшавского генерал-губернатора Черткова, предполагавших назначить меня губернатором в одну из губерний Варшавского генерал-губернаторства. Поехал я в Петербург, представился Черткову, Сипягину, просил я назначить меня в такую губернию, где была бы хорошая гимназия для воспитания детей и поместительный губернаторский дом, могущий вместить всю мою многочисленную семью, включая и родителей. Моя просьба показалась Черткову неподходящей, и так
562
дело кончилось ничем, и я после первого же свидания выехал обратно. В день моего проезда из Питера в Харьков случилось убийство Сипягина, о коем я узнал очень оригинальным способом уже в Харькове на вокзале. Встречал меня на вокзале Василий Иванович Моранди, помощник полицмейстера, и, рапортируя, назвал меня вместо «Ваше превосходительство» — «Ваше преосвященство», до того он был взволнован, сказав: «Все обстоит благополучно, но министр внутренних дел вчера убит, а в Харьковской губернии беспорядки — в Валковском уезде крестьянское восстание, и губернатор уехал туда». Оригинальный рапорт о благополучии, но такова была полицейская рутина. Узнав подробности дела, понял я, что началось то именно движение, о котором я раньше писал полтавскому вице-губернатору; и действительно, к нам в губернию беспорядки перекинулись из соседнего уезда Полтавской губернии. Оболенский за моим отсутствием сам выехал на беспорядки, а губернию сдал не управляющему Государственных имуществ Светлову, как полагалось по закону и по его старшинству, но управляющему Казенной палаты Веретенникову, так как первого Иван Михайлович тоже подозревал в крамолах. Я телеграфировал губернатору в Валки, что вернулся, вступил в управление губернией и готов выехать его сменить по первому его требованию, на что получил ответную телеграмму от него, что вечером он вернется, даст мне нужные указания и чтобы я был готов в ночь же выехать на место беспорядков. Дома я застал нашу Марию больной, но засиживаться дома нельзя было, успел я только вкратце сообщить неудачный результат моей поездки и поспешил на службу выяснять положение дел. Сведения были противоречивы, [но] все же удалось установить следующее: в Полтавской губернии начались беспорядки, выразившиеся в поджогах помещичьих усадеб и разграблении их. Производилось это все толпой крестьян, все более выраставшей, чем больший район был охвачен. Полтавский губернатор Бельгард, только что вернувшийся из Петербурга, захвачен был врасплох; поступил он по закону: видя бессилие полиции, обратился он к военным властям, прося наряда войск, а те назначили в его распоряжение батальон пехоты, с которым Бельгард и мыкался по губернии, всюду опаздывая и прибывая лишь после разгрома имения. Все бесчинствовавшие, понятно, к приходу властей и войска уходили толпой дальше; оставались лишь либо непричастные к этим делам, либо старики и дети, и над ними Бельгард и производил экзекуции без всякой пользы, и притом в нарушение самой элементарной справедливости. Когда преследуемая полтавским отрядом войск толпа перешла в наш Валковский уезд, Оболенский тоже затребовал войска, но когда ему местный корпусный командир назначил тоже пехоту, Оболенский, вопреки закону, от такого отряда отказался и потребовал хотя бы сотню, но казаков. Надо пояснить, что род оружия и размер войск определялся по действовавшему в то время положению военными властями, почему действия Бельгарда были законными, а Оболенского незаконные, но так уже всегда в жизни бывает — если придерживаться буквы закона, часто результаты бывают плачевными. Оболенский, своей настойчивостью добившись казаков, сам с ними погрузился в экстренный воинский поезд и высадился в ближайшем районе беспорядков, но вместо того, чтобы спешить на место разгрома, двинулся со своим отрядом навстречу бесчинствующей толпе и,
563
не зная по новости границ губернии, вступил в пределы Полтавской губернии. Нельзя не сказать, что это было и умно, и целесообразно. По сведениям, полученным за день, новых грабежей не было, но пострадавших усадеб и свеклосахарных заводов было много, и теперь надо было не только переловить всех, но и вернуть награбленное их владельцам — задача нелегкая, тем более что ни один главарь не был задержан, почему каждую минуту можно было ожидать организации нового ядра и новой вспышки. Страшно было и за самый город Валки, где бесчинствовавшей толпе было чем поживиться, почему Оболенский большую часть отряда расквартировал в городе Валки. Я лично особенно боялся за Валки и хотел это сообщить Ивану Михайловичу au risque, что он, имея в виду, что это исходит от меня, будет действовать обратно. На этот раз он был бы вполне прав, потому что мои опасения были напрасны; дело в том, что председателем Валковской уездной управы был некто Енишерлов, принадлежавший вместе с волчанским председателем Управы Колокольцевым к самому левому крылу губернского Земства, почему оба они, по мнению нашему с Тобизеном, были ненадежны в политическом отношении, то есть были не прочь, в случае возможности, шатать основы. Я всегда считал, что Земство может быть как оплотом порядка, так и первой ячейкой всякого противоправительственного выступления, зависимо от людей, кто это Земство возглавляет и подбирает соответственно своим взглядам служащих. Понятно, что в этом смысле Енишерлов был, с моей точки зрения, ненадежен, почему я и опасался за судьбу Валков. Но на деле вышло иначе. Имение Енишерлова одно из первых либо пострадало, либо было на краю разгрома, не помню точно, и в один миг Енишерлов из либералов перескочил даже не в консерваторы, а в крепостничество, и в последующие дни был ревностным помощником Оболенского по части порки грабителей. Так меняются люди под давлением обстоятельств, и это был не единственный пример из моей дальнейшей административной практики.
Вернусь к изложению последовательных событий. Вечером вернулся Оболенский; таскал он за собой всюду Гулак-Артемовского за правителя канцелярии и в знак особого к нему благоволения. Встретил я Оболенского на вокзале и на мой вопрос: «Как дела?» он озабоченно ответил: «Скверно». Расспросил он меня о количестве войск, расквартированных в Харьковской губернии, и на мой подробный ответ (была, кажется, целая пехотная дивизия и дивизия кавалерии) сказал: «Мало войск, они и до Харькова доберутся, а с таким гарнизоном его не отстоять, надо телеграфировать командиру войск[ового] округа о присылке на помощь еще войска, но Вы готовьтесь выехать ночным поездом, заезжайте ко мне уже вполне готовый, и я Вам объясню, что дальше делать». Это был первый деловой с ним разговор, но этого намерения ненадолго хватило. Когда я часа через полтора приехал к нему за инструкциями, его, оказалось, не было дома, он уехал с Алешей Лопухиным в Opera Bouffe, которая в это время гастролировала в Харькове и за примадонной которой Иван Михайлович приударял. Потом Лопухин мне рассказывал, что появление Оболенского в губернаторской ложе произвело эффект и многих успокоило. Быть может, это был удачный прием для предупреждения паники, не берусь судить, но по моему настроению, сознавая серьезность положения и всего того, что творилось вблизи, я не был бы
564
в состоянии ездить по театрам. Прождал я Оболенского долго, и когда он вернулся веселый и балагуря, уже о деле как-то трудно было говорить, да и он тут же заявил мне, что сам поедет и что я ему более не нужен, а по губернии он мне никаких указаний не считает нужным давать, что я сам достаточно опытен.
О дальнейшей его деятельности я слышал уже от его сопровождавших и, главное, от Гулака. Так как эта эпопея есть в сущности одна из первых проб революции, передам, что слышал, для более подробного освещения этих событий. Гулак-Артемовский рассказывал, что выехали они с экстренным поездом, так как все пассажирские, за поздним сидением в театре, уже ушли. Высадились они на той станции, где губернатора ожидал казачий отряд, и двинулись по направлению к Валкам. Ночь была чудная, малороссийская, с ночным лунным светом; пейзаж с белыми мазанками, цветущими фруктовыми садами, залитыми белым светом луны, дышал таким покоем и тишиной, что не верилось, что только что по этой местности прокатилась волна самых грубых беспорядков и насилия. Въехали они в большое село, где все спало и лишь лай собак свидетельствовал, что все живущее еще здесь не вымерло. Об этом селе были точные сведения, что накануне его жители ограбили усадьбу и рафинадный завод, кажется, Кёнига, и вдруг Оболенский остановил свой отряд и со словами: «Как, эти мерзавцы награбили, а теперь мирно отдыхают; будить их и собрать их ко мне!» В несколько минут село было разбужено, мужчины оцеплены войсками, и началась порка, но, рассказывал Гулак, порка нещадная, до крови включительно. Огорошив так своим наскоком, Оболенский вернулся в свой вагон и, добавляет рассказчик: «Я сам видел, что губернатор скрывался ото всех, потому что все лицо его дергалось и невольно текли слезы» — доказательство, что исполнение того, что он считал необходимым, не давалось ему легко и шло вразрез с его сердцем. Правда, что эти ночные экзекуции произвели ошеломляющее действие: все спешили возвратить награбленное. Потом, кажется, от Енишерлова я слышал, как крестьянин, накануне увезший из одного имения экипаж с запряженной лошадью, на другой день привел их в полной сохранности и уже не сидя в экипаже, а смущенно, без шапки, ведя лошадь под уздцы. Такой эффект порки побудил многих просить Оболенского то же произвести и в других местностях, но, не имея возможности всюду поспеть, да и не чувствуя влечения к такого рода <…>, кончилось тем, что губернатор дал соответственные полномочия и полиции, до становых включительно, и земским начальникам, да, наконец, и самому Енишерлову; и тут началась вакханалия экзекуций, от коих стон стоял; правда, что о беспорядках забыли и думать. Помню, что один земский начальник запросил телеграммой меня, может ли он вместо того, чтобы предать судебной власти уличенного в грабеже усадьбы мальчишку, наказать его розгами, и я на этот случай выразил согласие, хотя нигде в законе точного указания не было; но если отдать всех под суд, набрались бы тысячи подсудимых и дело бы и до сих пор не было бы окончено. Получались и недоразумения. Село, ограбившее завод Кёнига, после экзекуции Оболенского на следующий день повезло награбленное на заводе, и в том числе сахар в большом количестве. Администрация и служащие завода, осмелившись, решили тоже наказывать своих вчерашних грабителей и у себя на заводе вновь секли возвращавших награбленное накануне. Крестьяне, видя, что их
565
секут, когда у них находят награбленное имущество на дворе, но и тоже секут, когда они его возвращают, начали ночью увозить от себя сахар и сбрасывать его в заводский пруд. Сколько тысяч пудов сахара погибло от сих неразумных стараний усмирителей! Да и вода в пруде надолго была испорчена, и рыба вся подохла. Но как-никак беспорядки прекратились, и не только в Харьковской губернии, но и в Полтавской. Приезжал вскорости вновь назначенный министр внутренних дел Плеве; при встрече на вокзале с Оболенским он его приветствовал словами: «Приехал у Вас поучиться, как прекращать крестьянские аграрные беспорядки», на что Иван Михайлович ему ответил: «Да, но с меня довольно двух таких случаев в Херсонской губернии и в Харьковской, а теперь для такого дела поищите кого другого». Результатом поездки Плеве было увольнение Бельгарда и награждение Оболенского через орден Звезды Белого орла, после чего последний еще больше о себе возомнил и совершенно закусил удила.
Одним из последствий приезда Плеве было приглашение Алеши Лопухина на пост директора Департамента полиции. Он произвел столь благоприятное впечатление на министра, так горячо был рекомендован Оболенским, считавшимся persona grata, что Плеве настоятельно просил Лопухина ему помочь в переформировании Департамента, и тот поддался этим уговорам и, главное, блестящим служебным и материальным положением, его ожидавшим, не отказался тут же, а поехал в Петербург, дабы на месте выяснить, как ему поступить. Об этом я узнал уже по его отъезде и ничего не мог сказать ему, да и не послушал бы он меня. Успех Оболенского всем вскружил голову и ему начали верить. Когда Лопухин вернулся и заехал ко мне, я ему сообщил об этих слухах, но он категорично отрицал, тогда я не мог не высказать своей радости, что столь близкий нам человек не идет на столь грязное дело, и начал высказывать ему свои доводы. Он меня остановил со словами: «Если ты так смотришь, то должен тебя предупредить, что мне не только предложение это сделано, но что я его уже принял, и на днях состоится высочайший указ о моем назначении». Оставалось мне только умолкнуть и отвести его к жене с известием, что сие совершилось. Надо сказать, что Алеша Лопухин, понимая отношение семьи, советовался лишь с нами, которые, он знал, его поддержат в этом намерении. Не советовался он с Сережей Трубецким, с которым был наиболее близок и который мог быть нравственным авторитетом, и, главное, слушался Виниева и Алеши Оболенского — оба все-таки ставившие выше всего успех и карьеру. Теряя в Харькове последнего близкого мне человека, и служба с Оболенским становилась все труднее и труднее, так что я с особым удовольствием уехал в полуторамесячный отпуск, который Оболенский охотно мне выхлопотал. Я ему совершенно не был нужен. Как вице-губернатору заменять его мне не приходилось, он не собирался в отпуск и даже устроил свою семью на даче близ Харькова, не желая с ней расставаться, то есть, скорее, его жена боялась его оставлять. К тому времени он стал получать подложные письма, грозившие ему смертью за все нещадные порки, которыми он подавил аграрное движение, но он о них не говорил, и узнал я о них лишь потом.
Отпуск этот я почти не помню, значит, никаких особых событий не произошло. Кажется, в то лето еще при мне были Лауницы, мать со старшими тремя — Бодей, Марусей и Сашей; для отличия я их в шутку назвал «фон дер», «фон ди»
566
и «фон дас». Веселились они у нас очень; устраивал я всякие игры с состязанием на призы в беге, прыганье, лазанье, беге в мешке и тому подобные. Они остались очень довольны своим пребыванием, а меня все преследовала мысль, что скоро, скоро опять придется начать служить с Оболенским, и если не подлаживаться под него, то, во всяком случае, остерегаться его, ибо никогда нельзя было ручаться, что он не выкинет какую-нибудь штуку. Так как я раз навсегда его просил при мне не бранить и не прохаживаться насчет Тобизена, резонно объяснив ему, что я около 4 лет с ним служил и был его помощником, почему, понятно, с ним был и солидарен, а теперь и готов, пока нас судьба не разлучит, быть ему таким же надежным сотрудником не только в глаза, но и за глаза, семья Оболенского сама наблюдала, чтобы Иван Михайлович не дразнил бы меня, и лишь он начинал свои шутки, либо его мать, либо сестра, обе более близкие по прошлому к нашей семье, каким-нибудь условным знаком или ловким вмешательством заставляли его замолчать. Но я это видел и чувствовал, и мало было мне приятно. Все же я вернулся и началось опять мое мыкание с ним.
В это время появился серьезный покупатель на Сергиевское: одна, Кушлаева, предлагавшая 500 тысяч рублей наличными, что была огромная сумма денег. Она сама приезжала меня просить согласиться, приезжал и мой отец уговаривать меня, но я все же, чувствуя свое непрочное положение в Харькове и зная, как дети привязаны к Сергиевскому, не дал решительного ответа, тем более что было начато дело о продаже части земли крестьянам, и просил подождать до осени. Но тут события пошли быстрым темпом; мне пришлось выйти в отставку, и Сергиевское оказалось нам не далее как к зиме необходимым пристанищем. Кто был виновен в моей отставке — я до сих пор не понимаю, общая стоустная молва винила Оболенского, но я думаю, что, настаивая на моем уходе из Харькова, он думал оказать мне тем самым и услугу, предполагая, что после такого долгого вице-губернаторства меня назначат губернатором. Я все-таки до сих пор думаю, что главным двигателем был Алеша Лопухин, сообщивший министру мое отрицательное отношение к смертной казни, и в этом я его вполне оправдываю. После моего откровенного разговора с Лопухиным по сему поводу долг правды повелевал ему поставить о сем в известность министра. Но об этом будет речь впереди. Лопухина я уже не застал в Харькове, он уже вступил в должность директора Департамента полиции и с семьей переехал в Петербург. Прожил я в Харькове с Оболенским в мирных условиях недолго, часто он ездил на дачу к семье и виделись мы с ним редко. Как-то раз вечером у меня сидел Ефимович, редактор «Губернских ведомостей», и пили мы с ним чай на террасе, обсуждая, как изменилась вообще служебная обстановка с уходом Тобизена. Вдруг меня вестовой позвал к телефону, говоря, что меня вызывает по экстренному делу пристав VI-го участка из сада Тиволи. Полицмейстер был уже новый, Вилькен был назначен вице-губернатором в Читу, а на его место переведен елисаветградский полицмейстер Безсонов, специалист как пожарный деятель и особый льстец Оболенского. Правителем канцелярии был тоже новый, Зеленин, очень слабый и несимпатичный тип из прохвостов Ивана Михайловича. Вызов меня, вице-губернатора, приставом означал как нарушение служебной иерархии что-нибудь важное, и действительно, пристав Занфиров телефонировал мне, что
567
только что произведено покушение на губернатора, который не ранен лишь благодаря находчивости сопровождавшей его госпожи Гордеенко, которая ударила по руке стрелявшего, отчего пуля лишь поверхностно задела плечо Оболенского. Злоумышленник арестован и при аресте ранил в ногу полицмейстера. Узнав, что Иван Михайлович уже проследовал к себе домой, я поспешил к нему. Застал я его в кабинете каким-то растерянным. Не скажу, чтобы он был испуган, нет, такого оскорбления ему не нанесу, напротив, после всего пережитого он был сравнительно спокоен. Ему доктор уже сделал перевязку той царапины, которая нанесена была проскользнувшей пулей; одно было страшно: не отравлена ли была пуля, что в те времена практиковали революционеры, тогда даже такая царапина была бы не пустячная. Тут же я телеграфировал в успокоительных выражениях его жене и послал подробную шифрованную телеграмму министру внутренних дел. Ефимович, приехавший со мной, не мог удержаться от легкого интервьюирования пострадавшего, причем выяснились смешные обстоятельства поражения Безсонова. Когда злоумышленник был сбит толпой (это оказался впоследствии Кочура), полицмейстер хотел проявить и свое активное содействие, почему [в отличие от] прежнего, желая, по-видимому, придавить его коляской, но по корпуленции своей не мог нагнуться и остался в таком положении над лежащим Кочурой, пока тот не вытащил револьвер и не выстрелил в него снизу вверх, по счастью, ранив его лишь в колено, где пуля и засела. На следующий день приехала жена Оболенского с детьми и усиленно стала домогаться отъезда мужа в отпуск. Сначала он не соглашался, не желая разыгрывать труса, но потом поддался уговорам жены и написал министру, ссылаясь на необходимость лечить рану. Пока шла переписка об отпуске, приехал Лопухин для личного расследования этого происшествия. Имя злоумышленника, Кочуры, было очень скоро обнаружено, но сообщников своих он не выдавал, быть может, что сам он их не знал. Как мне потом рассказывал Лопухин, все было так законспирировано, что многие революционеры друг друга не знали. Так, Кочура, чтобы получить инструкции от главной организации, в кого стрелять, должен был встретиться на бульваре с незнакомым лицом, которого он должен был опознать благодаря тому, что тот сидел на определенной скамейке, с углом носового платка, торчащим из кармана. Кочура должен был подойти и спросить его, который час, на что ответ должен был получить заведомо определенно неправильный — на два часа и несколько минут (кажется, 23) более настоящего. После такого опознания они должны были обменяться еще дощечками, составлявшими при приложении одно целое, и только после того приступать к деловому объяснению. Как велось дело, ясно было, что Кочура будет предан военному суду и затем повешен, несмотря на то, что и Иван Михайлович, и его мать просили государя даровать ему жизнь. При таком положении для меня во весь рост стал вопрос, как поступить мне, противнику, по своим христианским убеждениям, смертной казни. Поехал я к Лопухину и, видя, что этого не избежать, вручил ему для передачи министру мое прошение об отставке. Долго Алеша убеждал меня этого не делать, подчеркивая, что такое выступление администратора в руку революционерам и вредит тому порядку, коему я до сих пор служил. Наконец он заставил меня разорвать свое прошение, обещав приложить все старания, чтобы это дело меня миновало; и, действительно,
568
он устроил, что это дело слушалось в Киеве, почему харьковская администрация к сему касательства никакого не имела. Все же думаю, что он об этом доложил министру, и я его не осуждаю, считая, что это был его служебный долг, хотя последствием сего был мой выход в отставку. Наконец пришло Оболенскому разрешение на отпуск, и он сейчас же собрался выехать, невзирая на то, что через три дня предстояло открытие международного Археологического съезда, избравшего на этот раз Харьков для своих заседаний. Наступало трудное время для губернатора, не говоря уже о представительной роли открытия самого съезда, на котором губернатору как хозяину губернии надлежало приветствовать делегатов речью, и в порядке управления в смысле надзора, ибо в те времена всякими такими случаями подпольные силы и вообще либералы, шатавшие основы, пользовались для противоправительственных выступлений если не явных, то намеками. Перед его отъездом я просил его директив, но он мне откровенно высказал, что никакого определенного плана у него нет, что по закону я всецело пользуюсь за время его отсутствия полнотою губернаторской власти, неся и всю ответственность, а посему никаких указаний он мне давать не может. Итак, он уехал, это был последний раз, что я его видел; через несколько лет встретился с ним на выходе во дворце, но он отвернулся, и я не попытался возобновить с ним отношения, хотя я все же в душе не винил его в злонамеренном желании мне повредить, хотя несомненно неважно, как это сбылось. Но об этом речь впереди.
Уехал он за два дня перед открытием Археологического съезда, и мне надлежало его заменить. Приветственную речь я поручил Ефимовичу мне составить и затем вызубрил ее наизусть. Присутствовавшие благоприятели рассказывали мне впоследствии, что когда я поднялся, я был бледен до того, что даже страшно было за меня. Сказал я свое приветствие, говорят, хорошо и, начав с дрожанием в горле, под конец справился и кончил вполне благополучно. Но нелегко это мне далось, нервное напряжение в связи со всем пережитым за это лето с И. М. Оболенским окончательно подточило мои силы и по закрытии съезда я слег в постель с жестоким приступом аппендицита, как мне диагностировал мою болезнь Важеевский. В течение занятий съезда городом был устроен интересный раут для членов съезда, на котором демонстрировались кобзари и слепцы, с их музыкальными инструментами, живущие в Малороссии, причем предшествовал сему доклад знатока сего дела с описанием быта этих слепцов, живущих как бы отдельным государством, со своими законами и обычаями, и ведущими будто бы свой род от Гомера. Итак, по закрытии съезда я сам, хотя я продолжал править губернией, своим ничего не сообщал, чтобы их не пугать, но скоро стало невозможным скрывать. Проезжал как-то в эти дни в Крым Алеша Оболенский и вызвал меня на вокзал, но я, прикованный к постели, просил за меня съездить Свербеева, который и привез мне известие от Алеши Оболенского, что я назначаюсь в Витебскую губернию. Пока Свербеев ездил на вокзал, принесли мне пакет от директора Департамента общих дел Штюрмера в собственные руки, где он мне писал по поручению министра, что последний по служебным соображениям желает иметь в своем распоряжении вакансию харьковского вице-губернатора, а потому во внимание моей прежней продолжительной службы предлагает мне самому выбрать ту губернию, куда я желаю быть переведенным. Это было столь
569
неожиданно, что я был совсем ошеломлен, и когда Свербеев приехал с утешительным известием от Оболенского, я сгоряча показал ему эту бумагу, и в тот же день это стало известным всему городу. Много увидал я и услышал теплых приветствий по сему поводу, сам же немедленно написал Штюрмеру, что охотно очищаю нужную Плеве вакансию и подаю в отставку, но настаиваю немедленно уехать, не дожидаясь возвращения Оболенского. Для ликвидации дома пришлось призанять денег; телеграфировал я Папа́ приехать с Лизой и кроме того обратился с просьбой к Феде Самарину, который по телефону перевел мне нужную сумму денег, кажется, 3 тысячи рублей, тогда казалась сумма огромная. Таким образом, я устроил свои дела, [так] что мог порвать связь с Харьковом в любую минуту, как только получу согласие министра внутренних дел на сдачу губернии управляющему Казенной палаты до возвращения губернатора. Винили в моей вынужденной отставке Оболенского и рассказывали, что, не желая оставаться в Харьковской губернии после всего пережитого, он просил министра или дать ему другое назначение, или же уволить его, на что Плеве ответил, что он его не выпустит из харьковского губернаторства, пока он не укажет достойного заместителя. Иван Михайлович и назвал Гербеля, председателя Херсонской губернской Земской управы, одного из своих приверженцев и льстецов. Министр сейчас же дал свое согласие, но потребовал, чтобы Оболенский его сам бы и приготовил к предстоящей деятельности, для чего взял бы его предварительно в вице-губернаторы. Оболенский, как рассказывала его семья, очень одобрил эту мысль, предполагая, что этим самым он, не рекомендуя меня, на что, во всем со мной расходясь, не считал себя вправе, все же способствовал продвижению меня в губернаторы; но, как видно, Плеве мыслил иначе, в чем, я думаю, причина — Лопухин, и рекомендация Оболенским Гербеля повела к моей отставке.
Хотя я был болен, все же мне пришлось еще раз выступить в роли губернатора. Получил я телеграмму, что государь с царской семьей проездом в Крым намеревается остановиться в Борках. Принял я все меры к его встрече и благополучному пребыванию в Борках, но встречу возложил на управляющего Казенной палаты Веретенникова, коему и сдал официально для сего губернию, о чем телеграммой известил Котю Оболенского на царский поезд, в коем он сопровождал государя. Сделав все эти распоряжения, я все же не был спокоен, ибо за благополучный проезд государя всегда было страшно; но к вечеру мои опасения и беспокойства усилились: приехал ко мне Веретенников, совершенно растерянный, откровенно высказал мне, что никогда не видав государя, он прямо боится ехать его встречать в роли заместителя губернатора. Как я его ни успокаивал, я убедился, что с ним дело не выйдет, еще подведет его и испортит ему карьеру, как он сам говорил, почему вызвал я доктора Важеевского и просил его снабдить меня нужными лекарствами, но подвинтить меня настолько, чтобы я мог встретить государя. Он очень возражал, но, видя мое неуклонное решение, согласился, чем-то меня напичкал и потребовал лишь, чтобы я все проделал бы лежа и встал бы лишь к самому подходу царского поезда. Так я и сделал; меня отвезли в лежачем положении в Борки, там снесли на носилках в дом при храме, где я лежал до выхода царского поезда с последней станции, когда я в жару и с порядочными болями вышел на платформу, к которой ведет хотя и пологая, но большая лестница.
570
Когда поезд подошел под звон колоколов, и государь с государыней вышли из вагона, я подал его величеству установленный рапорт, он меня спросил: «Ведь Вы управляющий Казенной палатой?» (сведение, данное ему по моей телеграмме Оболенскому). «Никак нет, Ваше величество, я вице-губернатор». — «Но ведь Вы больны, зачем же Вы приехали?» — «Не хотел лишиться счастья Вас встретить, государь». Это был первый краткий разговор еще на платформе с государем. Затем, спускаясь с лестницы и увидав разросшиеся деревья вокруг храма, государь заметил: «Как все разрослось! Четыре года тому назад я здесь был, все было еще в зачаточном состоянии, а теперь эту местность и узнать нельзя». Я отвечал: «Как же, Ваше величество, и в 1899 году я имел счастье Вас здесь встречать». — «Так чем же Вы были тогда?» — «Тоже вице-губернатором!» — «Отчего же Вы так долго вице-губернатор?» На это я промолчал, ибо можно было только ответить: «По воле Вашего величества», так как назначение губернаторов по смыслу законов делается лично государем. А еще я мог добавить, что у меня уже в кармане письмо Штюрмера, требующего чуть ли не отставки, во всяком случае, не повышения. Пробыла царская семья минут 20 и прослушали лишь краткое молитвословие в храме. На прощание государь меня поблагодарил и сказал: «Ну, возвращайтесь скорее и поправляйтесь основательно!» Это было мое последнее выступление административное в Харькове; вернувшись домой, я немедленно окончательно слег и так же бесповоротно сдал губернию управляющему Казенной палаты, известив о сем Министерство и прося поторопить, ввиду состояния моего здоровья, разрешение окончательно покинуть Харьков еще до опубликования моей отставки, которое могло затянуться. Вскоре приехала Лиза с моим отцом и Мишей, сразу меня окружили уходом, всякими заботами, и мне на душе стало легче. Не ожидал я, что жена моя примет так к сердцу мою отставку; не жалела она ни Харьков, ни моей службы, а глубоко возмущена была неслыханной несправедливостью по отношению ко мне и что такие фигляры, как Иван Михайлович Оболенский, всплывают, а усердные работники не ценятся. Папа́, кроме того, был огорчен и оскорблен в своем тщеславии и честолюбии за меня и не мог примириться с мыслью, что моя карьера разбита. Но мне он это не высказывал, а лишь облегчал мне все материальные заботы; Миша, сын, тоже вносил и уют, и веселье, и радость и значительно скрашивал унылую атмосферу последних дней, проводимых в квартире, где укладка шла вовсю и весь строй четырехлетней жизни рушился навеки.
Очень тепло меня провожали подчиненные, поднеся мне икону Ахтырской Божией Матери. Весь день кто-нибудь приезжал проститься и сидеть у моей постели. Помню разговор с ротмистром Герасимовым, помощником начальника харьковского губернского Жандармского управления, а потом знаменитым верховным генералом сыска Департамента полиции и под конец арестовавший самого Алешу Лопухина. Герасимов рассказывал мне, как был убит Дегаевым начальник Розыскного Петербургского отделения Судейкин; записываю его рассказ, ручаясь за достоверность его с изложением Герасимова, но, быть может, не совсем схожий с действительностью, потому что сам Герасимов в этом деле не принимал участия. По его словам, было так. Один дворник в Одессе неоднократно докучал участковому приставу докладом, что в его доме неблагополучно, и на одной квартире
571

Мария Осоргина. 1902—1905.
Частное собрание, Париж
производится подозрительная работа. Пристав долго не обращал на это внимание, но, наконец, с согласия жандармской полиции сделал обыск и натолкнулся на тайную типографию, готовую к увозу: машина и шрифт были уже упакованы, а все, что было напечатано, уже увезено. Тут же были арестованы хозяева квартиры — Дегаевы, муж и жена. Оба они как важные преступники были препровождены в Петербург в ведение тогда высшего начальника политического сыска Судейкина. Последний, видя в Дегаеве способного человека, начал его склонять перейти к нему в сотрудники, то есть стать внутренним агентом-провокатором. Дегаев, боясь за судьбу своей жены, дал согласие, с тем чтобы жена его была освобождена и ей дана была бы возможность уехать. На этом согласились, и было устроено освобождение Дегаевой за неимением против нее улик. Вскоре был устроен и фиктивный побег самого Дегаева. Его будто бы вызвали для допроса в Департамент, на козлах сидел переодетый кучером жандарм. Дегаев симулировал, что он ему и своей страже бросил в глаза табак и благополучно скрылся. Это было настолько конспиративно сделано, что пристав той части Петербурга, в которой был совершен побег Дегаевым, был уволен по 3-му пункту и до конца жизни не мог себя реабилитировать. Дегаев, очутившись на воле, по плану Судейкина, явился в лагерь, где сумел разбудить к активной деятельности революционный кружок, который, когда дело созрело, был ликвидирован, то есть арестован. Затем он был послан с той же целью на Кавказ и так же успешно проявил
572
свою деятельность. Харьков всегда был неспокойным центром, и Департамент полиции дал поручение Дегаеву найти такого же сотрудника среди харьковских революционеров. Для сего Дегаев наметил одного развитого рабочего, который на это пошел. Свиданье для переговоров было устроено на Холодной горе недалеко от моей квартиры. Но этот рабочий скоро провалился, то есть был уличен своими товарищами и убит как изменник. Между тем были точные сведения, что неуловимая София Филерт — в Харькове, и Дегаеву была дана Судейкиным задача указать ее харьковской полиции. Дегаев встретил ее на Екатеринославской вблизи VI-го участка и дал условленный знак, по коему ее тут же арестовали. Среди революционеров в это время наступило недоверие к Дегаеву. Филерт, поняв, что он ее выдал, плюнула ему в лицо и потом сумела дать знать в партию, что Дегаев изменник. Последний, видя, что он провалился, убеждал Судейкина, что он не может быть полезным, и просил отпустить его, чтобы окончательно не погубить себя. Но Судейкин на это не согласился. Тогда Дегаев притворился, что подчиняется этому требованию, но при первой возможности во всем покаялся своей партии, и те согласились его простить, если он убьет самого Судейкина. Дегаев обещался и при первом свидании со своим принципалом на той квартире, где Судейкин, переодетый, принимал своих тайных агентов, он его убил и затем при помощи своих товарищей-революционеров благополучно скрылся, уехал из России и доживал свой век в Америке на должности учителя сельской школы. Вот что мне рассказал Герасимов, и так как это совпало с директорством Департамента полиции самого Плеве, я понял, какое чрезвычайное значение для благополучия в государстве придавал Плеве, ныне министр, действиям полицейским, а не общим условиям режима, создававшим недовольных.
Но я уклонился. Скоро, наконец, я получил ожидаемое разрешение на оставление Харькова и вместе со своими уехал, окончательно порвав с этим городом, где более четырех с половиной лет потрудился не за страх, а за совесть, благодаря чему губерния стала мне родной. Ренкуль обставил мой отъезд возможными удобствами, предоставив мне вагон-салон; все подчиненные, товарищи по службе и добрые знакомые провожали меня, громко протестуя против Оболенского и выражая мне сердечное сочувствие. Уезжал я совсем больной, так что такой отъезд производил тем большее впечатление. До Дергачей провожала нас Маруся Лауниц, особенно горячо нам сочувствовавшая и искренно жалевшая, что нас теряет нас, родных, коими она особенно дорожила. Когда поезд тронулся и я понял, que tout est fini, и отныне я для Харькова чужой и мои сотрудники отныне беззащитные перед Оболенским, стало очень грустно (и не скрою, что, ослабленный болезнью, я не по-мужски залился слезами). Итак, харьковский период кончен.
В Сергиевском я был встречен такой лаской, таким сочувствием, что я был совершенно растроган и, понятно, почувствовал себя подбодренным. Мама́ сама была так расстроена всей этой историей, что имела больной вид; меня она окружала и лаской и заботой, в чем ей вторила Нюничка. Вообще, как ни грустно и неожиданно было все, что со мной случилось, это дало возможность еще более оценить семейную ласку и вообще дружбу всех. Каждая почта приносила мне письма и от родных, и от знакомых, полные сочувствия; имя Оболенского
573
поносилось на все лады, и даже родственные отношения с его семьей как-то испортились среди родных Лизы. Когда я оправился, попытался я поискать себе другой службы, для чего ездил в Петербург, виделся с Кочубеем (князь Виктор Сергеевич), товарищем моим по полку, управлявшим в то время Департаментом уделов Министерства Императорского Двора, но ничего не вышло — везде соболезновали, но дальше этого не шло. Зато зима, проведенная в Сергиевском, была особенно для меня значительной в области сближения моего с детьми. Служба моя в Харькове до того меня всего заполонила, что я в то время совсем детьми не мог заниматься. Теперь же на свободе я с ними сблизился, особенно со старшими мальчиками. По рекомендации родственницы Лизы Мани Гагариной (урожденной Оболенской, сестры Коти и Алеши), к нам поступил студент Николай Алексеевич Снесский. Он не блистал умом, скорее, был очень ограничен, но был он вполне порядочным юношей, занимался усердно с сыновьями, готовя их обоих в 6-й класс гимназии. Я же следил за всеми занятиями, а в свободное время долго беседовал с Мишей и Сережей. Особенно я любил эти беседы вечером, когда они оба ложились спать; засиживался я у них тогда подолгу, разбирая всякие нравственные и житейские вопросы. Этому способствовало и то, что я преподавал им Закон Божий, а потому темы для разговоров не иссякали. Я думаю, что и они до сих пор помнят эти вечера. Оба лежат они уже в постелях, лампадка теплится в углу; Доколин, ходивший за ними, прибирает их вещи и умывальник, часы тихо тикают; уютно, тепло в комнате с закрытыми ставнями, дверь в уборную жены открыта и оттуда тоже виден свет лампадки перед образами, и я шагаю по комнате из угла в угол и что-нибудь или рассказываю, или же разбираемся мы в каких-нибудь сложных нравственных вопросах; несколько раз нас прерывают с зовом меня в столовую к вечернему чаю, а дети меня не отпускают. С Соней и Льяной я, кажется, тоже занимался, но центр моего внимания обращен был на старших сыновей. Вечер кончался неизменно игрой в винт partie fine с моими родителями и Лизой: старики против молодых. Условились мы играть в пользу Братства и подсчитывать свои проигрыши в конце недели — обычно в воскресенье я опускал по поручению родителей два-три рубля их проигрыша в братскую кружку.
Для девочек и Георгия была приглашена учительница Мария Григорьевна Смирнова вместо О. А. Алферевой, не согласившейся вновь поселиться в деревне. В течение этой зимы приезжал к нам Горский; для свидания с ним я телеграммой выписал Сашу Яковлева (см. мои детские калужские воспоминания), товарища Горского по консерватории; несколько вечеров было посвящено музыке, а днем Горский занимался с мальчиками. Старался я уловить на этих уроках, что надо требовать от Миши и Сережи, чтобы и в отсутствие Горского проверять сыновей. Помню, как раз, уже весной, в феврале или марте, я с Мишей и Сережей были в гостиной, пока они разучивали скрипичный дуэт, как пришла почта, и мне подали заказное письмо незнакомого почерка. Когда я его вскрыл, это оказалось письмо князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, бывшего в то время виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором, предлагавшего мне пост гродненского губернатора, который должен был скоро освободиться за переводом Столыпина в Саратов. Предложение это, столь неожиданное и лестное,
574
меня очень обрадовало, и родители мои уже прямо возликовали. Вслед за этим пришло и письмо Тобизена, который предварял меня о сем предложении. Мирский лично меня почти не знал, встречались мы с ним раз или два у Тобизена, вот и все; но Герман Августович, который с болью переживал мое увольнение из Харькова, так много ему про меня рассказывал, что князь Петр Димитриевич, рыцарь чести, захотел быть орудием судьбы, восстановляющей справедливость, и меня, обиженного, хотел возвеличить и помочь мне исправить свою карьеру. В это время Плеве увидал, что он поступил опрометчиво со мной; он не знал моих связей; и, к сожалению, в жизни всегда так бывает: с человеком со связями считаются, а с другими — наоборот. В первый же проезд Плеве через Москву Петя Трубецкой, старший брат моей жены, тогда губернский предводитель московский, имел с ним объяснение по поводу меня, и министр наивно ответил: «Я не знал, что он Ваш beau-frère, да я готов был его компенсировать, хотя бы переводом в Москву», на что Петя ему возразил, что и это было бы невозможно, ибо Кристи, московский губернатор, и я женаты на единокровных сестрах. Да и в Петербурге моя отставка много нашумела, почему, несомненно, министр был рад какому-нибудь благополучному исходу и приветствовал приглашение Мирского меня на должность губернатора, что компенсировало нанесенную мне требованием Плеве очистить место обиду. Мирскому я тотчас же ответил и благодарственным письмом за доверие, и, понятно, полным согласием, и стал ждать назначения, которое не замедлило.
575
Глава IX
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. ГРОДНО
(1902—1905)
Получил я одновременно телеграмму от Мирского и Тобизена, что высочайший указ подписан, и номер «Правительственного вестника» с напечатанным этим указом опубликован. В нем говорилось, что отставной статский советник Михаил Михайлович Осоргин назначается исправляющим должность гродненского губернатора. Это было редкое назначение прямо из отставных, и на него, понятно, было обращено внимание в бюрократических сферах и чиновнической среде. Для меня начиналась полоса хлопот как по обмундировке, так и по устроению своей новой обстановки в Гродно.
Для губернаторства, для представительства на этой должности требовалось многое такое, чего в Харькове мне совсем не нужно было: первое — экипаж, и мне пришлось об этом позаботиться. Не помню точно, как это устроилось, но посланный мною в Петербург кучер довольно скоро все оборудовал и накупил полный комплект экипажей: четырехместное ландо и двухместное ландо, и пролетки, и двое саней — парных и одиночных. Покупку лошади отложили до Гродно, где, мне писали, большой выбор лошадей. Что касается обстановки, то, во-первых, губернаторский дом был омеблирован, и для внутренних комнат хватало нашей харьковской мебели, которая хранилась еще там на складе и была мною отправлена ныне прямо в Гродно. Выписал я из Гродно план губернаторского дома, который превзошел все мои ожидания. Кроме людских в нашем личном распоряжении оказалось 29 комнат, и притом так удобно расположенных, что апартамент моих родителей в пять комнат был совсем отдельный, служебные приемные комнаты отделялись от внутренних апартаментов двумя большими комнатами (гостиной и колонным залом). Все комнаты были просторные, светлые и выходили либо в сад при доме, либо на общественный сад под названием Швейцарской горки. Сад губернаторского дома был обширный и с фонтаном, цветниками, площадками для тенниса и крокета. Одним словом, лучшего помещения нельзя было себе и представить, до того было просторно, хорошо расположено и удобно. Впоследствии, когда мы поселились в Гродно, я даже предпочитал этот новый губернаторский дом нашему Сергиевскому и думал, что никогда более удобного и соответствующего нашей тогдашней семье дома не найдется. Я был совсем захвачен, ожидая моей деятельности, да
576
и самолюбие мое было удовлетворено, так как карьера моя была вновь восстановлена, и притом с компенсацией.
Все же мне было грустно покидать Сергиевское и нарушать так хорошо наладившуюся семейную жизнь. Дети ко мне в эту зиму очень привязались. Помимо прогулок с ними, окруженные необычным количеством зверей, завелись у мальчиков собаки и борзые, и легавые, и одна гончая (Пулька), как-то особенно всеми любимая за свой ум и послушание; кроме того на прогулки за ними следовал всегда сибирский козлик, подаренный им при прощании в Харькове губернским ветеринаром Нешумовым. Этот козлик был совсем ручным и только одного не мог вынести — это присутствия няни, которую он немедленно принимался бодать. Этим пользовались, чтобы вызывать его из леса, когда, бывало, он где-нибудь застрянет в кустах и не отзывался на зов. Стоило няне только показаться и своим пронзительным визгливым голосом позвать его, как откуда ни возьмись, он вылезал из чащи с опущенными рогами. Часто это было и комично, но иногда приходилось защищать няню от таких нападений. Кроме педагогии в лице Снесского, Смирновой, о коих я уже упоминал, были неизменная Fraulein Rosalie и еще M-lle Gross, которую Лиза приглашала на зиму из Харькова, но последняя пробыла недолго; у нее обострилась грудная болезнь, и по совету врача пришлось отпустить ее обратно. Часто наезжала Diditte и живала тоже подолгу. Детям было весело, но, понятно, перспектива переезда в новый город их очень тешила: решено было мне выехать в Гродно 16 апреля, в день моего рождения, вечером, и взять с собой Мишу и Сережу со Снесским, дабы они весной же выдержали вступительный экзамен в 6-й класс. Лиза должна была нас проводить до Калуги, а оттуда ехать в Москву, тоже для возобновления своего гардероба, и затем приехать к нам в Гродно повидать нас и сообразить, как нам устроиться в губернаторском доме.
Я сговорился с князем Мирским, что летом все же воспользуюсь полуторамесячным отпуском. Для этих переговоров я предварительно съездил в Вильно к генерал-губернатору представиться. Сделал я это в то время, когда был в Петербурге для представления министрам, государю и государыне; между назначенными мне для приема днями я и успел съездить к Мирскому. Я был совершенно очарован его простым и радушным приемом. Директивы он мне дал одни — высоко держать русское знамя, но поляков не раздражать. Вообще его легко было понять — у него преизбыточествовала порядочность совершенно рыцарская, соединенная с действительной сердечной добротой. Недаром его все любили и неизменно уважали. Он был большой педант по части этикета и как придворный придавал ему особенное значение, везде соблюдая старшинство. Я был в его генерал-губернаторстве младшим губернатором, почему и был у него всегда на третьем месте, когда все мои коллеги были налицо; но об этом подробно напишу, когда в своих записках, наконец, достигну Гродно, а пока я был лишь наездом между поездами в Вильно, куда телеграммой вызвал к себе гродненского полицмейстера Дынгу для переговоров. Дынга мне не понравился — это был военный до мозга костей, с военной строевой выправкой, несомненно вполне порядочный, честный человек, но в нем не было ни ума, ни сообразительности, ни чуткости, необходимой для полицианта. Дал он мне еще более обстоятельные
577

Михаил Михайлович Осоргин в служебном кабинете.
Гродно. 1902—1905. Частное собрание, Париж
сведения о Гродно и всякие подробности об обществе и обычаях этого города; с ним же договорился, что приеду в Гродно 18 апреля, что приходилось в том году на субботу Фоминой недели. Я торопился в Гродно, чтобы быть во всеоружии и уже даже точно в курсе дела к 1-му мая — рабочему празднику, который в те времена был всегда кошмаром всякого администратора; но я не знал, что Дынга, не зная моих соображений, не предупредил меня, что в Западном крае рабочая среда приурочивает свои празднества к новому стилю солидарно с иностранцами, почему я попал в Гродно к самому майскому празднеству и попал в довольно глупое положение, совершенно не зная не только губернии, но и улиц города. Пребывание мое в Петербурге было мне очень приятно, встретился я там со Столыпиным Петром Аркадьевичем, моим предшественником по Гродно, а ныне саратовским губернатором. С ним и с Энгельгардтом, бывшим саратовским губернатором, а ныне товарищем министра земледелия, мы всюду встречались и в приемных министров, и у царя и царицы, и в свободное время могли побеседовать и давать друг другу наставления, то есть Энгельгардт Столыпину по Саратовской губернии, а Столыпин мне — по Гродненской. Не предполагал я тогда, что Петр Аркадьевич станет такой крупной государственной личностью. Он и тогда прельщал своей порядочностью, героичностью, отсутствием всякого чиновничества, но я тогда же составил о нем мнение, что он совершенно не умеет распознавать людей, в чем я убедился, сравнивая данные им мне аттестации
578
моих новых подчиненных с действительностью. Его карьера, по словам Алеши Лопухина, была случайная, и он, Лопухин, был главным ее двигателем. Их обоих — Столыпина и Лопухина — связывала еще детская и юношеская дружба со времени их совместной жизни в Орле. Когда же Лопухин очутился на посту директора Департамента полиции и притом влиятельным сотрудником Плеве, он вспомнил про Столыпина, который в то время vege’тировал в Ковно на посту губернского предводителя дворянства по назначению, и горячо его рекомендовал министру. Плеве вызвал Столыпина, по-видимому, был удовлетворен первым впечатлением и, чтобы оценить способности, поручил ему написать проект упрощенного земства для Западного края или же высказать свой критический взгляд на заготовленный уже в Министерстве проект по сему вопросу — не точно помню. Лопухин, как мне рассказывал, помог Столыпину в этой работе, результатом коей было назначение его гродненским губернатором, а через 7 месяцев перемещение его в наитруднейшую в административном отношении губернию — в Саратовскую. Все, что я изложил про начало карьеры Столыпина, я слышал от самого Алеши Лопухина. О назначении же в Саратов мне рассказывал сам Петр Аркадьевич. Надо предварительно заметить, что сам Столыпин, помещик Саратовской губернии, настолько оную не любил, что еще в бытность гродненским губернатором продал свое имение в той губернии и окончательно порвал всякую связь. Вызов его к Плеве и сделанное ему предложение занять пост саратовского губернатора его вполне озадачило, и на вопрос министра: «Что вы на это скажете?», он категорически отказался, указав на удобство для него Гродненской губернии, рядом с его ковенским имением и вблизи Варшавского генерал-губернаторства, где в одной из губерний губернаторствовал зять его Нейдгардт (бывший калужский вице-губернатор), и для семьи его такое соседство было особенно ценно. На это министр холодно возразил: «Меня Ваши личные семейные обстоятельства не интересуют и они не могут быть приняты во внимание; я считаю Вас подходящим для такой трудной губернии и ожидал от Вас каких-нибудь деловых соображений, но не взвешивания частных интересов». На такую отповедь Столыпин молча покорился и добавил, что если на то будет воля его величества, он ей подчинится беспрекословно. Столыпин в бытность свою в Петербурге, видимо, был стеснен в деньгах; я помню, как заехав за ним, чтобы ехать вместе на обед к Плеве, я его застал уже не в прежнем апартаменте гостиницы «Европейской», а в каком-то маленьком номере; и он мне объяснил, что ввиду отъезда его другого beau-frère’a, тоже Нейдгардта (нижегородского губернского предводителя дворянства), он больше не в состоянии платить за большой номер и должен довольствоваться маленькой комнатой. Он очень охотно согласился со мной ездить на совместные представления; я на эти дни брал всегда экипаж, но я был рад иметь сотоварища, до того я всего конфузился. Сам я жил не в гостинице. Товарищ мой по полку Федоров отсутствовал и предоставил мне свою удобную квартиру близ Спаса Преображения.
Представлялся я государю в Царском Селе. Привыкший к царственной обстановке во время моего камер-пажничества при Александре II, меня поразила простота при приеме у государя. На вокзале в Царском Селе ждал меня придворный экипаж с камер-лакеем, который отвез меня в Кавалерственный домик, где
579
ждал меня готовый апартамент для переодевания и кофе и чай. Через какие-нибудь полчаса или три четверти часа тот же экипаж отвез меня во дворец, где скороход, проверив мой билет о назначенной аудиенции, повел меня в приемную государя. Там я застал лишь одного дежурного флигель-адъютанта; в скорости пришли в приемную habitués дворца: дворцовый командир и еще кто-то, которые и вступили со мной в разговор, как бы занимая меня, пока в кабинете государя шел доклад очередного министра. Когда доклад кончился, флигель-адъютант сейчас же ввел меня в кабинет, и я увидал государя, нагнувшегося над письменным столом и рассматривавшего записку представляющихся. Говорят, в этой записке гофмаршальская и церемониальная части вносили вкратце сведения о представляющихся, дабы его величество знал бы, о чем вести разговор. Фигура государя в грязном белом кителе меня неприятно поразила, до того не вязалась с моим представлением о царе времен моей молодости. Но глаза государя, лучистые, добрые сразу располагали к нему. Глаза так светились, такой в них был глубокий свет, что совсем переставало быть страшным; после того, что государь мне подал руку и я отвесил глубокий поклон со словами благодарности за оказанное мне высочайшее доверие назначением на пост губернатора, мне перестало даже быть конфузным. Разговор вертелся на моей прежней службе по Харькову, так как Гродно я еще совсем не знал, но государь меня предупредил, что осенью собирается в Беловеж. Моя аудиенция длилась не более пяти минут, после чего я тем же церемониалом отведен был на половину императрицы. Там о представляющихся докладывал ее величеству Гендриков, мой товарищ, о коем я упоминал в своих записках о харьковском периоде. Со мной одновременно представлялся адмирал Рожественский (Гендриков мне шепнул: «Восходящее светило»), плачевный герой Цусимской катастрофы, и Трепов (Алекс[андр] Федорович), мой товарищ по Пажескому корпусу, а в то время статс-секретарь Государственного Совета. Гендриков, вводя кого-нибудь в гостиную государыни, называл представляющихся либо по-русски, либо по-французски, и, судя по докладу, государыня понимала, обязана ли она говорить неизменно по-русски или же может себе позволить иностранный язык. Со мной ее величество вела разговор по-французски, но настолько несодержательный, что я и не помню, о чем шла речь, и очень был рад, когда она меня отпустила, повторив тоже, что осенью надеется быть в Беловеже. Тем же путем и способом доставили меня опять в Кавалерственный дом, где в общей столовой ждал завтрак для всех представляющихся в этот день, а затем возвращение по железной дороге в Петербург. Все это представление, хотя столь кратковременное, благодаря отдалению Царского Села от Петербурга, заняло целый день, и лишь к позднему обеду я попал к моей сестре, которая ожидала моих рассказов с живейшим интересом. Жили они тогда на Галерной в казенной квартире — Яша занимал должность в Генеральном штабе, очень ответственную. На нем лежало руководство всеми нашими военными агентами, а главное, разработка планов кампаний воображаемых и ожидаемых войн на том или ином фронте. Как сестра моя исстрадалась при моей отставке и где только могла кричала о возмутительной несправедливости, настолько мое назначение губернатором ее тешило и все сопряженное с этим ее интересовало. Каждый вечер я давал ей отчет о проведенном дне, хотя это было утомительно,
580
ибо она жила на противоположном конце города от моей временной квартиры. И она, как и я, с волнением ждали моей первой встречи с Плеве. Предшествовало ему мое посещение Штюрмера — тогда директора Департамента общественных дел. Штюрмер имел нахальство меня встретить со словами: «Я надеюсь, что Вы вполне удовлетворены и цените быстрое, необычайно быстрое продвижение Вас на пост губернатора». Я с обычной своей конфузливостью не нашелся ему возразить, что после сидения в Харькове почти пять лет вице-губернатором нельзя назвать это продвижение необычайно быстрым. У Плеве прием был сухой, и даже мне было подчеркнуто министром, что мое назначение — желание генерал-губернатора, который и несет ответственность за свой выбор. Тут же в приемной состоявший при министре Присёлков, мой товарищ по Пажескому корпусу, женатый на княжне Мосальской, передал мне приглашение министра на обед в тот же день. На обед я поехал со Столыпиным, с которым Плеве был изысканно любезен, со мной же удовольствовался лишь первым приветствием и представлением меня своей жене. Но какой обед нам там подали! Время было великопостное и потому и обед был двойной: ad libitum скоромный и постный. Последний, который я избрал, был чем-то из ряду вон хорош. Помню какие-то крошечные котлеты рыбьи, начиненные раковыми шейками и с гарниром из белых грибов, казалось, только в этот день сорванных. Никаких директив от Плеве я не получил, он на все отвечал, что руководитель всей административной деятельности местный генерал-губернатор, а не он, министр. В то время только что произошел кишиневский еврейский погром, и в обществе усиленно говорили, что этот погром был не только попущен, но и устроен агентами Министерства внутренних дел для устрашения евреев. Под рукой передавалось, что сам Плеве писал губернатору Раабену проучить евреев, хоть в опровержение сего Раабен был уволен за бездействие. Но, вспоминая рассказ Герасимова, как был уволен пристав того участка, где состоялся устроенный Департаментом полиции побег Дегаева, увольнение Раабена меня не убеждало в последовательности стоустной молвы. При моем первом служебном свидании с Алешей Лопухиным я, между прочим, ему сказал, что совершенно незнакомого с еврейским вопросом, меня страшит губернаторство в губернии черты еврейской оседлости, на что Лопухин с какой-то смущенной усмешкой мне возразил: «Ну, после кишиневского погрома будь покоен, жиды будут надолго тише воды, ниже травы, и они тебе беспокойств не причинят». Меня тогда же передернуло это связывание директором Департамента полиции будущего спокойствия с явлением наиболее ярко беззаконным. Из всех министров меня особенно долго держал Витте, министр финансов, но не по деловым вопросам, а расспрашивая меня о конфликте с Оболенским; видно было, что благодаря родственникам, а главное, моей сестре, этот инцидент сильно нашумел в Петербурге, и далеко не в пользу Ивана Михайловича. У военного министра Куропаткина я заскандалил. Привыкши в других министерствах быть как губернатор принятым одним из первых, я удивился, что Куропаткин меня чуть ли не два часа заставил ждать, и обратился за объяснением к его адъютанту, который мне объяснил, что так как я статский советник, то есть по чину соответствую полковнику, меня министр примет на общем приеме, когда окончит прием у себя в кабинете. Тогда я резко возразил, что
581
я, вновь назначенный губернатор, думал, что министру желательно, может быть, со мной побеседовать о делах по его ведомству в высочайше вверенной мне губернии, почему я и потрудился к нему приехать; если же он думает, что я приехал ему представиться, то в этом мне надобности нет. Его величество принимал нас, губернаторов, по отдельности, тем более мог бы о сем позаботиться его министр; если же я ошибся, то мне нечего здесь делать и я уезжаю. Надо было видеть конфуз глупого адъютанта, побежал он к Куропаткину, выкатился оттуда с извинениями и немедленно ввел меня в кабинет своего принципала. Куропаткин рассыпался в любезностях, продержал меня около получаса, и тут же мы с ним наметили один вопрос важный, в котором, по словам Яши, мое вмешательство принесло только вред. Военное министерство было озабочено в это время постройкой постоянного моста через Неман в районе Гродно. По соображениям стратегическим, как мне потом объяснил Яша, желательно было, чтобы этот мост не был в районе города, дабы обстрел его не равнялся бы бомбардировке самого города. Но, хотя этот мост был необходим, особенно ввиду вновь возникшего по инициативе Генерального штаба укрепленного моста под Гродно, денег было мало, и Куропаткин спросил меня, можно ли надеяться на субсидии от Земства для этого моста. Я ему ответил, что почти уверен, что да, при условии, если этот мост будет удовлетворять нуждам населения, то есть будет в районе самого города и соединит обе части города, до того во время половодья льдинами совершенно друг от друга отделенные. Министр военный ухватился за эту мысль и дабы быть обеспеченным в субсидии Земства, и наметил постройку моста в самом Гродно на продолжении Соборной улицы, против чего особенно возражал Генеральный штаб и мой beau-frère. Я же со временем провел ассигновку Земства на постройку моста, кажется, 300 тысяч рублей, и уже после моего перевода в Тулу мост был отстроен и открыт для общего пользования. Когда я кончил все свои представления, я с ужасом вспомнил, что не был у министра путей сообщения князя Хилкова, и ожидать его день приема приходилось чуть ли не неделю еще. Я решился испробовать счастья и поехать к нему не в обычное время, с тем чтобы, если не примет, распишусь. Подкатил я к чудному министерскому дому, лучшему из всех entre cour et jardin, и на мой вопрос швейцару: «Дома ли князь?» получил ответ: «Пожалуйте». Просил я его доложить, почему я приехал не вовремя, торопясь уехать из Петербурга, на что старик-швейцар добродушно ответил: «Да что еще докладывать, он и так ничего не делает, читает какую-то французскую книжку», и тут же ввел меня в кабинет министра, выходящий громадными portes-fenêtres в старинный парк, и увидел я князя, сидевшего в покойном кресле, дремлющего и с французским романом на коленях. У нас были общие знакомые, и потому разговор быстро завязался, но не деловой. Князь — необыкновенно, исключительно интересная личность; проделал он на своем опыте службу по Министерству с низших должностей, начав с должности кочегара на паровозе, почему его нельзя было упрекнуть в незнании; но государственным человеком, говорят, он не был. Таковыми тогда называли, хотя совершенно противоположных по взглядам, двоих: С. Ю. Витте и К. П. Победоносцева. К последнему и надлежало мне ехать на прощание перед окончательным выездом в Гродно. Победоносцев принял меня в своем мрачном кабинете
582
на Литейной, с большими черепаховыми очками на носу; ожидал я хоть от него какого-нибудь делового разговора и знал, как в Западном крае правительство придает значение вероисповедному вопросу. Но Константин Петрович лишь загадочно пробурчал: «Да, там дурно пахнет, нехорошо там, и лучше поговорите с Владимиром Карловичем (Саблером), он Вам все разъяснит». Несомненно Победоносцев намекал на Мирского, на его веротерпимость и на репутацию его как гуманного человека, если не сказать либерала. Так и кончились мои мытарства по министерским приемным, мало услыхав делового и касавшегося моей губернии, куда я ехал, совершенно не зная ни польского, ни еврейского, ни католического и ни пограничного вопроса и не получив ни от кого полезных указаний. Приходилось рассчитывать на свою способность схватывать быстро вопрос и на дельных помощников и докладчиков, в чем меня обнадеживал Столыпин. По дороге в Сергиевское остановился я между поездами в Москве, чтобы представиться великому князю Сергею Александровичу и поблагодарить его за содействие, потому что я знал, что он глубоко возмущен был моим увольнением из Харькова и писал об этом министру, и даже, как говорили в семье, нашел возможным и государю доложить всю эту историю в выгодном для меня свете. Великий князь как всегда был очаровательно любезен и пожелал мне, понятно, успеха. Вернулся я в Сергиевское пароходом в чудный весенний день доживать свои последние свободные недельки в семье.
Последние дни в Сергиевском свободным человеком мало помню, не помню и подробности Пасхальной недели; отъезд мой был назначен на Фоминой неделе с таким расчетом, чтобы в субботу быть уже в Гродно. Ехал я туда со старшими мальчиками в сопровождении Н. А. Снесского для занятий с ними перед экзаменами, которые намеревались мы им произвести весной, с тем чтобы с осени они стали бы уже ходить в гимназию. С нами ехал и Доколин, Евмений был отправлен вперед с Павлом-кучером для приготовления всего. Лиза должна была ехать в Москву, а потом уже приехать в Гродно, так что до Калуги ехали мы вместе. Заботами исправника Мантейфеля мне был предоставлен отдельный вагон до Гродно, и маршрут я свой наметил: Вязьма, Минск, Барановичи, Белосток и Гродно. Это был маленький крюк, но им я избегал Вильно и остановку у генерал-губернатора, и тотчас же за Барановичами въезжал в пределы своей губернии, по коей, таким образом, ехал довольно долго, проезжая и имея кратковременные остановки в уездных городах: Слониме, Волковыске, Белостоке и Сокольске. После экзамена мальчики должны были вернуться в Сергиевское, а чтобы не оставлять меня одного, мой отец обещал приехать делить со мной мое одиночество до моего отпуска летнего, коим я заранее при первом представлении Мирскому, обеспечился. Самый отъезд не помню, но зато помню хорошо наше расставание с Лизой в Калуге. Мальчики радовались новому месту, их тешил весь почет, которым меня по дороге и в Калуге окружали как губернатора, но все же расставание с матерью далось им нелегко, особенно Сереже. Когда мы отъехали от Калуги, я долго разыскивал по вагону Сережу, чувствуя, что он как сензитив особенно остро переживает эту разлуку с матерью, и нашел его в уборной обливавшимся слезами. Все же в путешествии они развлеклись; Николай Алексеевич был особенно с ними заботлив и ласков, они стали отчасти этим злоупотреблять,
583
обратив его в шута; правда, его неблестящие умственные способности, чтобы не сказать полное их отсутствие, давали этому пищу. С этих пор мальчики стали его звать «Микола», и так за ним и осталось это прозвище.
С момента въезда в губернию я облекся уже в служебный сюртук и на каждой остановке принимал должностных лиц, выехавших меня встречать. Только в Слониме, где я проехал так рано, что не успел и встать, я избег этих представлений. Заранее я просил частным письмом вице-губернатора Виктора Димитриевича Лишина никакой официальной встречи не делать на вокзале, предупредить губернского предводителя Петра Владимировича Веревкина, что я сам к нему приеду первый с визитом, почему и прошу его на вокзал не приезжать меня встречать, и что с вокзала я поеду прямо в собор и потом уже к себе в дом. Предупредить Веревкина было необходимо, ибо предводители в Западном крае, как назначаемые, считали себя простыми чиновниками, я же считал необходимым подчеркнуть их значение и поднять их в глазах населения. Один предводитель впоследствии в частном разговоре передавал мне, как они были приятно удивлены моим к ним отношением. До того, по его рассказам, некоторые мои предшественники, объезжая губернию, не делали им даже визитов, а бывали с таковым лишь у исправника, подчеркивая, что он, исправник, — первое должностное лицо в уезде. Я же поставил себе задачей, не умаляя значение начальника уездной полиции, тем не менее выявить своим поведением, что первое место принадлежит представителям первенствующего сословия и что хотя они не избраны, но назначены, тем не менее Правительство назначило наидостойнейших и наилучших; к тому же надо было помнить, что дворянские выборы в Западном крае не были отменены, а лишь приостановлены со времен усмирения края Муравьевым. Но, хотя Веревкин был предупрежден, все же уездные предводители по дороге выезжали мне навстречу, что совершенно было лишнее, ибо я проезжал и не посещал их уезды. Так встречен я был в Волковыске и Белостоке; в Сокольске не было отдельного предводителя. Особенно много встречало меня в Белостоке, где ввиду значительности города был отдельный полицмейстер и полное городское управление.
О составе должностных лиц буду писать подробно дальше, а теперь опишу лишь мой въезд в Гродно. Подъезжать к Гродно со стороны Белостока очень выгодно для первого раза, ибо вид на город с этой стороны Немана со своими четырьмя большими красивыми костелами, особенно Фарным, и большим православным собором (остальные церкви небольшие и не видны) и историческими замками, очень красив. Я с любопытством рассматривал этот город — ныне для меня близкий, свой — с моста через Неман. Понятно, обилие костелов, малое количество православных колоколен, архитектура замков давали ему вид заграничный, впечатление усиливалось звоном angélus, который был слышен, когда поезд остановился у платформы вокзала. Зато вокзал поражал своим малым видом; такое здание было под стать захудалому уездному городу, а не губернскому. Незначительность платформы еще более подчеркивалась обилием представляющихся. Все было занято мундирной публикой, и в числе их одна дама. Не успел я выйти из вагона, принять рапорты полицмейстера и исправника и познакомиться с вице-губернатором, как меня осадила эта дама, оказавшаяся главной
584
надзирательницей женской гимназии Ведомства императрицы Марии — Марией Михайловной Булгак — с приглашением на следующий день, воскресенье Жен-Мироносиц, быть у обедни в гимназии по случаю храмового праздника. Такой натиск объяснился впоследствии тем, что Булгак хотела всегда разыгрывать роль директрисы и стремилась премировать перед директором и затушевывать его. М. М. Булгак была одна из тех моих будущих сослуживцев, которая была мне особенно рекомендована Столыпиным, почему я и был с ней отменно любезен. Только впоследствии я раскусил, какая это была язва, но об этом речь впереди. Лишин представил мне всех меня встречавших, причем городской голова Михальский поднес мне от города хлеб-соль на серебряном блюде. Представление длилось довольно долго, мальчики с любопытством разглядывали эту сцену из окошка вагона, пока их не увезли прямо в губернаторский дом, а я с Лишиным, имея полицмейстера впереди на паре с отлетом, отправился в собор. Там меня ждал кафедральный протоиерей Диковский; отслужил я краткий молебен и приложился к святыням собора, из коих одна меня особенно поразила, как хорошее предзнаменование, а именно — в соборе находилась частица мощей князя Михаила Муромского, моего патрона. С особым благоговением приложился я к этой святыне и с более покойным сердцем уже один, без Лишина, поехал к себе в свой новый дом. В передней меня встретили Миша и Сережа с такими воплями восторга, что не давали Евмению рта открыть и требовали, чтобы я тотчас обошел бы с ними весь дом. Действительно, дом на деле оказался еще лучше, чем он представлялся по плану. Его размеры, уютность и вместе с тем и красота отдельных украшений потолков, дверей превзошли всякие ожидания. При нем было два швейцара и полотер, так что сразу можно было зажить удобно, не дожидаясь приезда остальных людей; повар был временно поставлен полицмейстером Дынгей, который не подобострастно, а любезно заботился обо мне. Чувствовалось не отношение полицианта к губернатору, а забота русского человека о русском, попавшем на чужбину.
Недолго пришлось мне побыть с детьми, облекся я в мундир и поехал с официальными визитами к архиерею православному Иоакиму и к губернскому предводителю Веревкину. И здесь и там меня ждали. Оба они произвели на меня очень хорошее впечатление. Жены Веревкина не было — вся его семья отсутствовала в имении Ковенской губернии. Затем, соблюдая этикет, на котором служащие Западного края помешались и Мирский особенно поддерживал, переоделся в форменный сюртук и поехал к Лишину. Познакомил он меня с своей женой Ольгой Михайловной. Посидел я у них довольно долго; Виктор Димитриевич сразу покорил мое сердце своей благородной порядочностью, бодростью и ласковостью. Он по выпуску из Пажеского корпуса был старше меня на 7 лет; вице-губернаторствовал уже лет пять, будучи старше меня годами (он был действительный статский советник и камергер), и ожидал давно повышение, обещанное ему при приглашении его на должность гродненского вице-губернатора, а я был четвертый губернатор при нем. Рассказывал он это добродушно, без малейшей тени обиды. Жена его, та была другого сорта — сплетница первой руки — держала мужа под башмаком, но по русской природе гостеприимна, ласкова и меня как одинокого, приехавшего без семьи, всячески старалась пригреть, так что мне у них было
585
хорошо, и я довольно долго у них пробыл. Не успел я вернуться домой, как приехали с визитом ответным и архиерей и Веревкин. Приемом их и окончился мой первый день в Гродно. Общий прием всех должностных лиц я назначил на понедельник, а воскресенье, по настоянию М. М. Булгак, должен был посвятить обедне, акту и торжеству в женской гимназии, коей я по должности губернатора был главный попечитель. К тому же я узнал, что майское празднество по новому стилю падало на следующий день, то есть на 19-е апреля, что меня очень озадачило. Все же я официально написал вице-губернатору, что вступаю в управление губернией, но его просил [в] этот день мне особенно помогать своими советами. Итак, моя служба в Гродно началась, и прежде чем ее описывать, упомяну о своих подчиненных и сослуживцах, о коих, за самыми редкими исключениями, сохранил лучшую память. Мой ближайший помощник Виктор Димитриевич Лишин был человек, как я уже говорил, добрейшей, благороднейшей души; несмотря на то, что место гродненского губернатора уже чуть ли не третий раз проходило мимо него, несмотря на то, что он был гораздо меня старше, я никогда не увидал в нем тени ко мне неприязни, зависти; наоборот, кроме самого благожелательного, искренно сердечного отношения ко мне и моей семье я ничего иного не видал, почему он скоро стал другом всей семьи. Правда, что по службе помощи от него я мало видел. Административных способностей у него не было, дела он совершенно не знал и им не интересовался и к тому же был зело ленив. Страдал он болезнью сердца, хуже — страстью к охоте, что было губительно для его здоровья. Почему обычно он или лежал умирающий в постели, или же пропадал на какой-нибудь охоте, с которой возвращался совершенно больной, дабы немедленно слечь. В те редкие времена, когда он был в Гродно и здоров, заседания он посещал усердно, но занимался рисованием карикатур, а не слушанием дела; зато стоило мне наказать, сменить или уволить какого-нибудь негодного подчиненного, как я знал, что немедленно ко мне пожалует Виктор Димитриевич, и я обречен на часовое выслушивание его заступничества за негодного служащего; благодаря этому я и не мог полагаться на его рекомендации, зная, что его единственным двигателем была неограниченная доброта, заслонявшая для него пользу службы. Он был настолько рыцарски благороден, настолько уважаем за это его качество, что сделав вещь, недопустимую в крае по служебной этике, а именно купив польское имение, его никто никогда в этом не упрекнул, никто не заподозрил его в желании нажиться. Имение это изобиловало дичью, почему и прельстило Виктора Димитриевича; оно же и способствовало его скорейшему разорению, к которому он стремился, все время раздавая все, что мог, нуждающимся или же делая какие-нибудь фантастические покупки. Жена его, Ольга Михайловна, была достойная ему помощница по своей доброте, почему и ее сплетни охотно ей прощались, до того они были незлобивы. Детей у них не было — жили они, как Филемон и Бавкида, любуясь и ухаживая друг за другом.
Архиерей Иоаким был первый самостоятельный епископ в Гродно; до того здесь было лишь викариатство. Он положил много труда на создание этой епархии, прекрасно служил, объезжал свою паству; в меру боролся с католичеством и, хотя не был ярким представителем воинствующего в крае духовенства, все же окружил себя и поддерживал так мир. К сожалению, за какую-то злостную
586
сплетню его перевели в дальнюю восточную епархию, и еще при мне уехал он, горько оплакивая созданную им самостоятельную кафедру, и также оплакиваемый и осиротевшей паствой. Его заместитель преосвященный Никанор был bon vivant, нигде долго не уживался, и потому Гродно было для него чуть ли не шестой или седьмой кафедрой. Он был знаток ислама и руководитель миссионерства в Казани, а попал в страну католичества и иудейства, с которыми мало был знаком. Служил он небрежно, всегда торопясь, и даже запретил во время своего служения причащать младенцев, дабы не задерживать литургии. А для простого народа одно из существенных отличий католичества от православия есть именно поздняя конфирмация. Собор был единственной большой, истово православной церковью, где и можно было причащать детей, почему распоряжение Никанора многих привело в негодование. С моей точки зрения, у него было одно качество — он не был воинствующим иерархом, а напротив, считал, что лучше верить искренно, хоть по-инославному, чем совершенно быть хладным в делах веры. Он не избегал встреч и собеседований с евреями и даже принимал таковых и по вечерам, дабы выяснить себе их мировоззрение, большей частью для многих затуманенное предвзятой мыслью, что они враги христианства деятельные и всегда нам строят козни. Так как мужская гимназия не имела своей церкви, церковь архиерейского дома, расположенного против губернаторского через Александровскую площадь, считалась и гимназической, и все гимназисты, в том числе и мои сыновья, несли по очереди какую-нибудь службу при архиерее: кто нес свечу, кто был жезлодержатель, кто подносил ему служебник, а в случае нужды и нес рипиды; это было очень хорошо, и мы, за исключением табельных дней, всей семьей всегда посещали эту церковь и за всенощными, и за обеднями.
Губернский предводитель Веревкин не был человеком моего вкуса. Он был типичный петербуржец, бывший преображенец, льнувший к царской семье не по преданности и любви, а как к grandeurs’ам, делом своим занимался мало, и надо отдать ему справедливость, держался с большим тактом, русское знамя не роняя, но и поляков не раздражая, почему был всеми уважаем и даже, я думаю, любим, но с ним не особенно считались. Жена его, урожденная Эллис, и его belle-mère, часто жившая у них, были обе очаровательны по своей настоящей аристократической простоте. Чувствовалась в них личность другого круга, далеко стоящая от мелкого провинциализма, но и не снобирующая ту среду, куда их забросила судьба. К сожалению, они обе были так преданы семье, вместе с тем так были стеснены в средствах, что роли в обществе не могли играть. Впоследствии мне удалось через Мирского продвинуть Веревкина на пост ковенского губернатора, и его, вопреки моему желанию, заменил один из уездных предводителей — Иван Михайлович Вышеславцев. Последний был ниже всякой критики — в долгу как в шелку, всегда занятый какой-нибудь аферой, всегда ему не удававшейся. Как человек, нуждавшийся в кредите, кадил полякам, совершенно неприлично выставляя их в ущерб русскому дворянству, а к тому же опутанный совершенно евреями. Одним словом, более неудачного назначения для русского дела нельзя было и придумать. Остальные предводители уездные были невысокого уровня, за исключением гродненского — Ознобишина (Алексея Александровича) и волковысского — Александра Ивановича Ушакова. Эти оба были исключительно
587
дельные, особенно Ушаков: та часть предводительского дела, которая заключалась в председательствовании в разных уездных учреждениях, руководстве и исправлении их, была у них блестяща. Ознобишин к тому же как крупный местный помещик, не разорявшийся, а наоборот, умелым ведением дела богатевший, был и уважаем и любим среди польского дворянства, и я думаю, что будь восстановлены выборы, он имел бы даже шансы быть избранным; но ему вредило одно — мать его была крестьянка, и это претило польскому аристократизму. Другие предводители, за исключением фон Штейна слонимского, аккуратного немца, были или совершенно безличные или же воочию доказывали польскому дворянству, как плохо русское чиновничество; в большинстве случаев они не имели никакой связи с губернией, являлись пришлым элементом из неудачников средней полосы России. Один из предводителей, навязанный мне князем Мирским уже в бытность мою губернатором, даже не был дворянином по рождению, а лишь по выслуге отца, что для польского дворянства была прямо обида. К сожалению, как я ни любил князя Мирского, должен сказать, что его ставленники далеко не заслуживали его внимания. В самый трудный уезд — Белостокский — он мне назначил одного из бывших адъютантов командира войсками округа, некоего Неверовича, и как мне сей субъект надоел! Он мнил себя обновителем края, сыпал проектами, докладными записками, в своем уездном городе разыгрывая роль французского супрефекта, желая вмешиваться и в дело полиции. На меня, его постоянно осаживавшего, он смотрел особенно недоброжелательно — как на губернатора, недостаточно русифицировавшего край. Губернское Правление в крае имеет очень серьезное значение, и советники его должны быть настоящими работниками, до того много дел. С благодарностью вспоминаю старшего советника Владимира Васильевича Ярошенко и Александра Адольфовича Наумова, женатого на племяннице Лишина. Третий советник менялся; одно время был Ахшарумов, а членом — Мерный. Врачебного инспектора Рейпольского мне пришлось в самом начале просить подать в отставку, очень уж нечестно велись у него дела об открытии новых аптек, и сам он явно попался в лапы одного из первых просителей, дабы предоставить открытие аптеки своему протеже. Негодовал на меня сей субъект, занимавший должность врачебного инспектора чуть ли не 30 лет, и, оставшись жить в Гродно, где у него был и свой дом, демонстративно мне не кланялся при встрече. Рассказывали, что каждый губернатор старался уволить Рейпольского, но это как-то никогда не удавалось, и лишь я, взявшись за дело тотчас же по вступлении в должность, довел его благополучно до конца. Заменил его Василий Васильевич Кошелев, сын которого был впоследствии товарищем моих детей. С ним можно было быть вполне спокойным, а также с ветеринарным инспектором Иваном Дмитриевичем Юдиным.
Но отдельные инженеры при Распорядительном комитете, ведавшем в губернии всем земским делом, никогда не внушали мне полного доверия, и я, подписывая какие-нибудь ассигновки по их исполнительным сметам, никогда не был уверен, что это совершенная правда. По губернскому Присутствию старшим по службе был Владимир Владимирович Столяров, человек весьма способный, но совершенно запутавшийся: женат он был на бывшей кафешантанной певице-француженке — она была глупа, стара, и нельзя было понять, какую он в ней
588
нашел привлекательность. Второй непременный член, Дмитрий Васильевич Ромейков, не обладал талантами Столярова, работал гораздо медленнее, но зато был совершенно порядочный, надежный сотрудник, и на него можно было положиться как на каменную гору. Третий член, Щербацкий, заведовавший продовольственным делом, знал его до тонкости и имел даже дурной вкус любить это дело с каким-то юношеским пылом. Секретарь Присутствия Трисветов играл в заседаниях Присутствия немаловажную роль, ибо заведовал страховым делом, то есть назначением и вычислением всех пожарных вознаграждений по земскому страхованию. Были заседания, во время которых выдавалось таких вознаграждений на несколько сот тысяч рублей, и, не имея возможности тут же проверить все вычисления, приходилось подписывать журнал на веру; но Трисветов имел репутацию человека честного, и это меня успокаивало. Присутствие возглавлялось Михаилом Петровичем Жилеевым, выслужившимся из простых писцов. Он был неоценим для Гродненской губернии, где каждый призыв мог дать благодаря преобладанию евреев обильную жатву для <…>. Его отличительная черта была не только честность в обыденном значении этого слова, но какая-то щепетильная чистоплотность в этих делах, почему он никогда не принимал никаких просителей наедине, а к себе на квартиру никого не принимал, на что жаловались даже его знакомые, ибо часто выходили с визитерами, принятыми прислугой, и просителями недоразумения. Губернский землемер Алексей Сергеевич Цветков был старожил гродненский и завоевал себе совершенно особое положение. Он в городе играл везде видную роль; так как на нем был чин действительного статского советника, все перед ним вытягивались и величали «Ваше превосходительство», что его очень тешило; пользовался он этим, чтобы везде наводить порядки — его и мальчишки боялись, и городовые ему козыряли и нередко выслушивали от него замечания, да и бабы на базаре его остерегались и не раз получали от него окрик или пинок за беспорядок. Был он членом-дирек[тором] полиции, который как орудие для распространения русского влияния был в ведении администрации, и, понятно, автократическим директором; остальные, если не ошибаюсь, городской голова Михальский и доктор Николай Дмитриевич Беклемишев, ни во что не вмешивались, только изредка пользовались директорской ложей. Вообще, вспоминая Цветкова, как-то не вяжется [в уме] существование такой фигуры, до того ни с чем не было сообразно значение Алексея Сергеевича в Гродно. Им, его именем, несомненно пугали матери своих раскапризничавшихся детей, жены — своих пьяных мужей и т. д. Хорошо, что он был безусловно честный, порядочный человек, почему от него ничего плохого не исходило, а напротив, он хоть и вольно порол, все же поддерживал и порядок, и доброе имя русского чиновничества. Чиновниками особых поручений я застал Алябьева Бориса Ивановича и Петрова; с последним мне привелось очень скоро расстаться из-за какой-то запутанной истории по несдаче им отчета по устройству какого-то общественного обеда. Алябьев был тоже по уши запутавшийся человек в долгах, но все же был вполне порядочен, не скрывал своего положения; часто я ему помогал и всячески старался его поддержать. Женат он был на Акинфьевой, внучке Екатерины Абрамовны, сестры Елены Абрамовны Деларовой; жена его бросила и, поддержанная своими beaux-frères’ами — принцами
589
Лейхтенбергскими, отстаивала свою свободу от мужа, который жил вместе с сыном своим Федей — сорвиголова, красавец, честный малый, товарищ моих старших сыновей, всеми любим, кроме гимназического начальства, для которого он был bête noire. Я понимал, что лежачего не бьют, а потому щадил Бориса Ивановича, хотя сознавал его полную бесполезность; хорош он был только для приемов, так как был вполне светский, чувствовалась в нем порода не провинциала, а настоящая родовитость, и потому в обществе в светском отношении [он] был незаменим. Обратился я к Тобизену, прося мне рекомендовать молодых, и скоро я набрал их довольно много, и все порядочная, милая молодежь. Первый — Геннадий Александрович Кологривов, сын моего калужского уездного члена. У нас в доме он был своим; в поездках был со мной неразлучен. Он был и мил, и делен, и, несомненно, искренно ко мне привязан. Кроме того был Владимир Оттонович фон Бадер с очень представительной, элегантной внешностью, человек вполне толковый, так что ему поручались серьезные дела, но, увы!, Бадер был картежник, что я узнал уже позднее, по отъезде своем из Гродно, и играл в азартные игры, часто серьезно запутываясь. Третий был Бетехтин и, наконец, некто Евреинов, никуда не годный чиновник — по неразвитости и по болезни глаз, благодаря которой он совсем не мог заниматься. Взял я его по желанию моего отца как сына председателя Симбирского Окружного суда, который оказал какую-то услугу отцу. Вот это был непотизм, но так как место было сверхштатное и без содержания, я этим назначением никому вреда не делал. Правитель канцелярии Столыпина князь Оболенский получил назначение, и его должность правил его старший помощник Милюков; не знаю, был ли он родня будущему лидеру партии кадетов, тогда это имя было мало известно, но на первых же порах я объявил, что у меня будет правитель канцелярии харьковский Георгий Николаевич Тарановский, с которым я заранее списался и который скоро и приехал. О Тарановском я уже писал раньше, а теперь еще повторю, что это был образцовый правитель канцелярии. На его порядочность можно было положиться как на самого себя, при этом замечательно трудоспособен и обладавший выдающимся пером. Как товарищ — милый человек, хотя и не запанибрата с подчиненными. Жена его, Зинаида Михайловна, вся была занята покоем мужа, и весело было глядеть на эту милую парочку. Забыл еще упомянуть об одном архаическом учреждении — Обществе призрения; им заведовал некто Смородский; его я, главным образом, отличал по сыну, товарищу моих сыновей; сын этот был незаурядный шахматист, и с ним я с удовольствием играл в шахматы; правда, похоже было на пословицу: «Черт с младенцем связался» — губернатор, играющий в шахматы с нарочито для сего приглашаемым гимназистом. Из представителей других ведомств упомяну тех, с коими приходилось чаще сталкиваться. Корпусной командир Иван Максимович Поволоцкий — его штаб-квартира была в самом Гродно, почему и часто мы с ним сталкивались; другие корпусные командиры были рассеяны по губернии: один жил в Белостоке, другой в Бресте, и с ними я встречался лишь при объезде губернии. Поволоцкий был, как тогда говорили, «Бурбон в душе», был ли он хороший военный — не знаю, не мне о сем судить; со мной он ладил и, когда прощался со мной при отъезде моем из Гродно, в прощальном спиче высказался так: «Между нами не только кошки, но и котенка
590
никогда не пробежало». Нашим отношениям способствовало то, что жена его, Евгения Ипполитовна, как-то особенно любила мою жену, млела и преклонялась перед ней. Вообще Лиза мне много помогала тем, что ее всегда везде любили, уважали и все были под ее обаянием, особенно в Гродно, где Лиза немного вышла из семейной скорлупы, занялась и общественными делами, заведуя Благотворительным обществом, которое при ней расцвело. Следующий видный военный был начальник дивизии Дмитрий Сергеевич Бутурлин; этот для всех был ясно никуда не годный военный, но зато совершенно светский человек. И Поволоцкий, и Бутурлин были частые партнеры моего отца; к ним присоединялся воинский начальник Дитвинский (Антон Антонович, милейший человек), женат он был на вдове Римской-Корсаковой, жили дружно, при них был сын Римской-Корсаковой от первого брака адъютантом Поволоцкого.
В Белостоке я застал, кажется, начальника Кавалерийской дивизии генерала Сахарова, впоследствии начальника штаба Куропаткина во время Японской войны; среди военных он не пользовался особенно хорошей репутацией, почему его ответственный пост во время злосчастной войны многих удивил. Из гродненских военных того времени приобрел потом известность генерал Вебель как начальник штаба Московского округа во время последней общеевропейской войны. Приходилось мне иметь постоянные сношения с военным миром в Гродно и Белостоке, где корпусной командир был генерал Скугаревский, так как и здесь и там неоднократно прибегал к их помощи для усмирения и предупреждения беспорядков; остальные же военные мало имели ко мне касательства, лишь при объезде губернии и обмена с ними официальными визитами. Военные, до начальников корпусов включительно, по табели о рангах были старше губернатора, да и между начальником дивизии и губернатором соблюдалось этикетное старшинство. Первый визит делал последний въехавший в город, почему при обозрении губернии мне всегда предстояло много новых визитов, ведь почти в каждом уездном городе было по штабу дивизии, а в Бресте, и Белостоке, и Гродно — и корпусные командиры, и начальник крепости, равный по рангу первому. Военные всегда были очень любезны; помню, как однажды в Кобрине меня провожали с военной музыкой и всяким парадом. С двумя было трудно ладить: со Скугаревским, который был и педант и, главное, очень уж трудного характера, и с начальником Кавалерийской дивизии в Белостоке генералом фон Бадером (дядя моего чиновника особых поручений). Последний был какой-то странный субъект, по характеру типичный старый холостяк, влюбленный в свои привычки и, главное, ненавидевший все, что нарушало его правильно распределенный образ жизни. Однажды, когда он оставался старшим в Белостоке за начальника гарнизона, разыгралась там довольно крупная забастовка, и поехал я туда, и во избежание эксцессов пришлось вызвать войска и охранять фабрики, а их был полон город. На совещании, созванном мною для сего, я никак не мог сосредоточить Бадера на обсуждаемом вопросе; он все время приставал ко мне, что ему мешает спать колокол православной церкви, и требовал от меня распоряжение, чтобы я запретил ранний звон, его будящий.
В судейском мире главную роль играл прокурор Иван Аполлонович Кузьмин, человек очень приятный в деловых отношениях, очень дельный и несомненно
591
недюжинного ума. До того он был судебным следователем по важнейшим делам в Петербурге, и этот стаж дал ему более широкие взгляды, почему и выделялся он из обычной чиновничьей провинциальной среды. Для большей еще привлекательности он был серьезный музыкант, что делало его и приятным членом общества. Часто он играл с моей женой в четыре руки или на двух фортепьянах и был неизменный поклонник интерпретаций моей жены. Жена его, к сожалению, была глуха и потому не могла способствовать устроению интересного intérieur’а. Одна из дочерей их, Тисса, была подругой впоследствии моих старших дочерей. Кузьмин пробыл не до конца моего пребывания в Гродно и был заменен Чаплинским, прокурором другого типа — веселый малый, анекдотчик, был душой общества, главное, холостой компании, где он всех смешил рассказами из еврейского и малороссийского быта, талантливо изображая в лицах юркого жида и невозмутимого хохла. Впоследствии Чаплинский сыграл крупную роль в процессе Бейлиса, нашумевшем по всей России. Но по делам говорить с Чаплинским было довольно бесполезно; насколько Кузьмин был всегда юридической опорой, настолько присутствие Чаплинского совершенно не ощущалось. В мое время одним из товарищей прокурора был Замысловский, известный впоследствии член Государственной Думы, но он был откомандирован в помощь прокуратуре Судебной палаты и потому я мало его помню. Вторым представителем суд[ебного] мира был председатель Окружного суда Федор Михайлович Вышеславцев, женат был на сестре нашего харьковского знакомого генерала Кукеля. Вышеславцев имел значение, главное, как старожил гродненский, служа в Гродно лет двадцать, если не больше, но в деловых отношениях это был совершенный нуль и к общему удовлетворению заменял он себя в разных Присутствиях членом Окружного суда Аничковым, человеком толковым и интересующимся делом.
Представители других ведомств, управляющий Государственных имуществ Волкович, председатель Казенной палаты Алексей Васильевич Ласточкин и управляющий Контрольной палаты Стояновский, были со мной вполне корректны, а Ласточкин — и того более, но с ними мало приходилось сталкиваться. Волкович, как старший в чине, должен был вступать в исправление моей должности при моих отпусках, если вице-губернатор отсутствовал или был болен, что в бытность вице-губернатором Лишина было обычным явлением; но, по соглашению с ним, я должность передавал всегда Ласточкину, потому что Акинфий Иванович Волкович был старого закала, бывший мировой посредник еще времен Муравьева, никому не доверял, а поляков ненавидел органически. Он не соглашался подписывать ни одного заграничного паспорта, ни одного открытого листа на перевозку мертвого тела, говоря, что он их не знает и каждому незнакомому доверять не может. Можно себе представить, как трудно было правителю канцелярии, через руки которого таких паспортов ввиду близости границы в день проходило несколько десятков; приходилось с каждым паспортом бегать к Волковичу, убеждать его, и иногда напрасно, особенно если отъезжающий был поляк, почему по добровольному соглашению я стал сдавать, в случае необходимости, должность Ласточкину, минуя старшего в чине Волковича. Ласточкин был человек, начинающий карьеру, происхождения он был духовного, кажется, если не ошибаюсь, был во времена своего студенчества репетитором в семье какого-то
592
сановника, который и помог ему en lui mettant le pied а l étrier, затем уж, благодаря своим дарованиям, трудоспособности, быстро пошел в гору. В Гродно он приехал незадолго до меня, был еще очень молод и в чинах низок, но в работе, в стойкости характера, в твердости обоснованных мнений настолько превосходил остальной чиновничий мир, что сразу приобрел общее уважение; впоследствии он был переведен на тот же пост в Петербург, а во время войны занимал ответственную должность по полевому казначейству. В обществе он был любим как приятный партнер в винт, но, главное, как талантливый чтец чеховских произведений. Дети его были очень дружны с моими детьми. Стояновский Михаил Константинович был калужанин и с ним мы были еще знакомы по Земским губернским собраниям (он был тарусский [управляющий] Контрольного ведомства), но это знакомство не способствовало нашему сближению. Стояновского я застал в Гродно уже полуслепым и благодаря этому недостаточно самостоятельным в своей деятельности. Одним из ревизоров его Палаты был поляк (если не ошибаюсь, по фамилии Обремский), жена этого поляка была секретаршей известной писательницы Элизы Ожешко, тогда уже пожилой старушки, но с годами ставшей еще более непримиримой к русским. Понятно, что при такой обстановке ревизор Обремский не отличался симпатией к русским и, пользуясь слепотой своего принципала, подсовывал ему иногда бумаги совершенно некорректные. Я уже раньше слышал, что во время губернаторства Столыпина на одном официальном обеде, быть может, даже на прощальном обеде Петру Аркадьевичу, Обремский сказал совершенно неподходящую речь о значении Контрольного ведомства, задача коего преследовать чиновничье взяточничество. Тогда чуть ли не вышел скандал, и Стояновскому стоило немало труда замять эту историю и выгородить своего протеже, который все же был по деловитости и знанию дела наилучший его помощник. И при мне Обремский не переставал науськивать Михаила Константиновича и подсовывать ему к подписи бумаги совершенно неприличного тона. Один такой запрос и был обращен ко мне как к губернатору по одному из многочисленных губернских учреждений, президируемых мною и отчетность коих подлежала ревизии Контрольной палаты. Прочтя эту бумагу, я вызвал к себе в кабинет по делам службы старика Стояновского, дал ему должную отповедь, вернул ему его бумагу, с тем чтобы он оную заменил другой, но вполне корректной, иначе пригрозил в подлиннике отослать его запрос его начальнику, главному контролеру, прося последнего избавить меня от такого сослуживца, который не способствует поддержанию престижа русского имени в крае, а наоборот, бестактными выступлениями лишь умаляет его. Старик, по-видимому, испугался и в минуту откровенности сознался, что его намеренно подводил Обремский, что он ничего не может с ним сделать. Я посоветовал ему просить о переводе его неспособного сотрудника в другую палату, на что получил ответ, что никогда ему, Стояновскому, это не удастся; тогда я сказал, что если дело стоит так, то я сам возьмусь за это и думаю, что мне удастся провести до благополучного окончания. Немедля я написал генерал-губернатору князю Мирскому (инцидент этот произошел уже в конце первого года моего пребывания в Гродно), изложив подробно весь вред, который приносит Обремский при таком безвольном начальнике, но указывал, что по служебным качествам такой
593
ревизор — находка, только в другом крае, где нет национального вопроса. Результатом моей переписки был перевод Обремского в Саратов с большим повышением. Помню, как в приемные часы дежурный чиновник особых поручений пришел мне доложить, что явился Обремский и что он, по-видимому, очень возбужден и взволнован, почему чиновник особых поручений, кажется, Алябьев, просил меня не принимать его наедине, а либо выйти к нему в Гербовый зал, либо допустить на прием в кабинет под каким-нибудь предлогом его, Алябьева. Я отклонил и то и другое предложение, хотя сознаюсь, на душе было неспокойно, когда вошел Обремский; последний был в мундире и при входе заявил, что пришел откланяться ввиду получения им нового назначения. После обычного приветствия и приглашения его сесть он почти тотчас задал мне вопрос: «Чему я обязан такому повышению и, главное, переводу из Гродно, который мой родной город?». Я ответил: «Просил об этом я». — «Почему?» — «Потому что, вполне отдавая справедливость Вашим служебным качествам, я вместе с тем, ввиду Вашей национальной нетерпимости, считаю Ваше участие в ревизующих учреждениях совершенно недопустимым. Вы сами в нескольких случаях Вашей служебной деятельности можете вспомнить, что не умеете скрыть Вашу неприязнь к русскому имени; перейдя же в коренную русскую губернию, где польского вопроса не существует, Вы, несомненно, принесете пользу больше, чем здесь; Ваши же молодые годы дадут Вам возможность и впредь плодотворно работать на еще высших ступенях». — «А знаете ли Вы, сколько мне лет?», — озадачил он меня. — «Я думаю, лет около сорока». — «Нет, ошибаетесь, почти 60, и в такие годы ломать свою жизнь трудно, почему я и подал уже в отставку, не желая и не имея возможности порывать с Гродно». Я был удивлен такому обороту, но все же повторил ему, что как мне ни жалко, что я причина такого горя в его жизни, все же как начальник губернии, коему высочайше вверен надзор за законностью и спокойствием, я бы, даже зная эти подробности, все же не переменил бы моего решения, ибо его службу с его ненавистническими взглядами ко всему русскому считаю в этом крае прямо вредной. Нелегко было это ему передавать, и слушал он меня с трудно скрываемой злобой; все же вознагражден я был на прощание следующей фразой: «Вы понимаете, что, расставаясь с Вами как виновником моего несчастья, я не могу Вас любить, но добавлю, что не могу и не уважать Вас». Этот случай я передал так подробно, чтобы обрисовать личность Стояновского, всецело действовавшего по указке Обремского.
Другие главные начальники ведомств, как-то начальник Почтового округа Ревуцкий-Реутов и начальник Акцизного управления Бузылов, никакой собственно роли не играли. Стоит еще упомянуть про директора классической гимназии Александра Фавстовича Пигулевского; с ним мне приходилось иметь частые сношения, но больше как отцу двух гимназистов, чем как губернатору. Пигулевский был хороший директор, которого все, начиная от учеников и кончая не только учителями, но и родителями учеников, боялись. Сумел он привести всех гимназистов в приличный, благовоспитанный вид; несмотря на разношерстность этой среды, все были одинаково изысканно вежливы, предупредительны и внешнее впечатление делали наилучшее. В гимназии столпом порядка был старый надзиратель Селивоник, который служил на этой должности несколько десятков
594
лет и был носителем традиций. Мы с семьей всегда посещали церковь при Архиерейском доме, которая считалась и гимназической церковью, и любо было глядеть на стройные ряды гимназистов и почтенную фигуру Селивоника, стоявшего среди всех. Каждый гимназист, проходя мимо меня, считал своей обязанностью вежливости шаркнуть и поклониться. За неимением в Гродно семинарии и духовного училища — первая была на три губернии в Вильно, а вторая в Слонимском уезде, в Жировицком монастыре — гимназисты заменяли семинаристов при архиерейском богослужении, как-то служа за рипидоносцев, жезлодержателя и подавателя служебника, надевая для сего и стихари, в кои их посвящал владыка. Но архиерей в воскресные и праздничные дни служил в соборе, так что церковь при его доме была, действительно, как бы гимназическая, и, если не ошибаюсь, и служил в ней гимназический законоучитель. Даже церковным ящиком заведовал один из учителей гимназии, имея при себе в качестве помощников одного или двух старших гимназистов.
Пост директора женской гимназии Ведомства императрицы Марии к моему приезду был вакантным, властно царила и в это междуцарствие упрочивала свою власть главная надзирательница Мария Михайловна Булгак, но месяца через три был прислан некто Феоктистов, человек, про которого можно было сказать «мягко стелет, жестко спать», и царство Булгак окончилось переводом ее в Саратов к тому же Столыпину, который мне ее особенно рекомендовал, что я совершенно не мог постичь, узнав поближе Булгак в первые месяцы совместной со мной службы. Я по должности губернатора имел по отношению женской гимназии права и обязанности почетного опекуна. Увольнению Булгак предшествовала личная ревизия главноуправляющего Ведомством графа Протасова-Бахметьева, причем этот изысканно вежливый человек, выведенный из себя нахальством Булгак, почти что кричал на нее. Помню такую его фразу при объяснении с ней в моем присутствии, на чем он особенно настаивал: «Помните, что Вы не директриса и не начальница, а лишь надзирательница в полном подчинении не только его превосходительства (и он указал на меня), но и директора, и если Вам последний прикажет полы мыть, Вы обязаны это исполнить». И в Саратове она недолго прожила, окончила она свою жизнь проживая в Оптиной пустыни и внесла и в эту мирную обитель раздоры между старцами, последствием коих был перевод всеми уважаемого старца Варсонофия в другой монастырь, где он скоро скончался. На место Булгак была прислана некая графиня Андрианова, довольно безобидная, но и бесцветная личность.
Во главе Жандармского управления я застал Бекрова, страстного садовника, председателя гродненского Общества садоводства, получившего еще со времен Столыпина в свое пользование обширные плодовые сады, ягодники и оранжереи губернаторского дома при условии всегда содержать в порядке цветники при губернаторском доме, а также украшать дом и летом и зимой цветами и декоративными растениями, и к столу губернатора доставлять даром primeurs’ы, фрукты и ягоды. Это и давало мне точку соприкосновения с Бекровым; так как по части его служебной деятельности он был, кажется, совершенно индифферентен, мало чем интересовался и вся работа лежала на его помощниках, из коих один имел местожительство в Белостоке, другой — в Бресте. Бекров скоро был
595

Елизавета Николаевна Осоргина с дочерьми Марией и Льяной.
Гродно. 1902—1905. Частное собрание, Париж
заменен генералом Пацевичем, с которым я очень скоро близко сошелся. Пацевич был и умен, и делен, и очень порядочный человек, сначала как-то не был со мной достаточно откровенен, но после одного случая при проезде государя, который в своем месте я расскажу, переменил со мной обращение и стал нелицемерным мне сотрудником. Много мы с ним так бок о бок исколесили губернию по случаю разных беспорядков и всегда с ним были солидарны. Жена его была милейшая особа, но до того нервная, что невольно служила доморощенным медиумом, впадала в транс при малейшем на нее гипнотическом влиянии, и в ее присутствии, рассказывали, происходили явления самые неожиданные — до материализации духов включительно. Я с самого Пажеского корпуса боялся этих явлений и потому избегал такие вечера, почему лично ничего не видал. Список не будет полон, если не упомянуть про главного доктора больницы Николая Димитриевича Беклемишева. Судя по месту, он не занимал видной роли, а между тем это был самый популярный человек в Гродно: вечный гласный городской Думы, один из директоров театра, член Благотворительного общества — вот его официальная кличка, а настоящее его звание было — наиболее добрый, отзывчивый и ласковый человек из всех, кого я только знал. Не думаю, чтобы он был хороший доктор, по крайней мере, у нас, где он был годовым врачом, лечил он неудачно, к тому же настолько безалаберный, забывчивый, что иногда своего тяжелого больного по два дня забывал навестить, пока, наконец, его кто-нибудь
596
насильно не привезет. Но стоило Николаю Димитриевичу войти в комнату больного, усесться около его постели и, щупая пульс, мягким баском пошутить: «Что, очень меня браните?», как становилось легче, успокоительнее, и только думалось, как бы этого человека подольше подержать у себя, настолько одно его присутствие, его ласковость [были] целительны. Надо было моему старшему сыну вырезать кровавый мозоль на руке, для чего Беклемишев посоветовал дождаться трех свободных дней, дабы Мише избежать писать в гимназии после этой пустяшной операции. Сговорились, и когда наконец настали такие дни, в назначенный час жена моя с сыном поехали в операционную к Николаю Димитриевичу, но последний, забыв все, за час перед этим уехал к себе в деревню верст за сорок. Я лично серьезно рассердился и при первой встрече с ним резко стал ему выговаривать, но наткнулся на такое добродушие, что сразу размяк. Нельзя было на этого человека сердиться, его все любили: и русский, и поляк, и еврей, и сановник, и мелкая сошка — для всех он был друг. Скончался он выселенным из Гродно как беженец при наступлении немцев и, поселившись в Калужской губернии, где в одном имении был устроен госпиталь; и там он приобрел репутацию святого друга человечества. Мир его праху! Дети его были сверстники и друзья моих детей.
Самостоятельного общества в Гродно не было, это все были либо семьи служащих в данную минуту, либо семьи бывших чиновников и военных Гродненской губернии, живших пансионом мужей или на пенсию после их смерти. Польского общества в самом городе не было; были лишь две дамы: одна — писательница Ожешко, о коей я уже упоминал; она была представительницей демократического направления, почему ее настоящие поляки не любили, другая, Залесская, жила как раз напротив ее на Муравьевской, которую они обе упорно звали Садовой (в этом я их понимаю и никогда не симпатизировал русификации края названием улиц и площадей фамилиями, ненавистными побежденному народу); ее всегда в шутку звали «графиней», потому что государь Александр II как-то раз ошибкой ее так назвал. Обе они друг друга ненавидели; наши с ними отношения ограничивались лишь тем, что Лиза им сделала визиты, на которые они тотчас ответили, но больше у нас, несмотря на приглашения, не бывали.
Был еще один поляк, Коцелл, главноуправляющий князя Друцкого-Модзерского, старавшийся дружить с русским чиновничеством; я его недолюбливал за его назойливость и приглашал лишь на официальные приемы русским и польским помещикам. Часто бывал в Гродно и живал по несколько дней князь Святополк-Четвертинский, demi-frère княгини Надежды Борисовны Трубецкой, но от другой матери — католички, почему и сам был католик. Его не только я, но и моя жена и родители мои очень любили, и он часто у нас бывал. Он был по своему положению среди польского общества как бы признанный ими их предводитель дворянства, и посему его значение среди них было громадное. Помню, как однажды я давал вечер всем помещикам, съехавшимся на общий съезд Сельскохозяйственного общества. Такое Общество и такие съезды, повторявшиеся периодически, как бы заменяли выборное Земство. По закону председателем этого Общества, именуемым президентом, был губернский предводитель дворянства по должности, то есть Веревкин, товарищ же его и остальные члены президиума были
597
избираемы. Товарищем президента был Скирмунт, впоследствии член Государственного Совета от дворянства, по происхождению литовец, но с негодованием это отрицавший и считавший себя поляком; члены Совета были по преимуществу поляки, но из тактич[еских] целей сами поляки, составлявшие огромное большинство, проводили в Совет и русских, например, обоих братьев Ознобишиных. Князь Святополк-Четвертинский никакой официальной роли в этом Обществе не играл, состоя наравне с другими землевладельцами лишь заурядным членом Собрания. Но когда он, немного запоздавши, вошел к нам в столовую, где уже человек 50 сидело, все поляки, как один человек, встали и продолжали стоять, пока князь, как старый маркиз времен Людовиков, обходил сначала всех дам, а потом уже своих коллег. Я считаю, что это был наичестнейший человек, верный России не по любви к ней, а по чувству самосохранения и здравого смысла, понимая, что Польша без России существовать не может. Бывая у нас, он демонстративно говорил со мной не иначе как по-русски, беседуя вместе с тем с моей матерью и женой на чистейшем французском языке. Я его часто дразнил, что он по происхождению Рюрикович, а потому отнюдь не поляк; скорее моя жена как Гедиминовна может считать себя ближе к здешнему краю, так что их положение обоих превратно настоящему. В минуту откровения он однажды мне высказал, что вся тягость их, поляков, в крае не в суровости законов, не в бесправии их, а главное, в изменчивости административной политики в крае, всецело зависящей от лица генерал-губернатора. «Дайте нам, Ваше превосходительство, драконовские законы, но лишь одни, неизменяемые, и мы сумеем подчиняться, и легче все же будет жить, чем теперь при настоящей неустойчивости», — воскликнул он, как cri du coeur. Когда Веревкин ушел из Гродно за назначением его ковенским губернатором, я настойчиво представлял, дабы князь Святополк-Четвертинский был бы назначен губернским предводителем дворянства, ручаясь головой за его лояльность. Такое назначение очень бы польстило полякам, как соответствующее их чаяниям, и тем самым доказывало бы, что и назначения правительственные вполне соответствуют выборному началу, когда лицо, избираемое сословием, действительно достойно сего по своим качествам. Князь Мирский меня не послушался, скорее всего, побоялся представить государю кандидата-поляка, зная, что и так петербургские бюрократы и, главное, Победоносцев обвиняют его в заигрывании с поляками, и назначен был Вышеславцев, который не способствовал поднятию доброй славы русского чиновника. Кончив беглое описание тех лиц, с которыми мне приходилось работать, перейду к описанию самой работы, вспоминая отдельные факты и случаи, по своей значительности врезавшиеся особенно ярко в моей памяти.
Первый день моего губернаторства совпал как раз с 1 мая по новому стилю и был для меня особенно труден по полной моей к нему неподготовленности. Пишу эти записки 18 апреля / 1 мая 1922 года, то есть ровно через девятнадцать лет, и ясно переживаю и ныне тот первый шаг моего губернаторства. После обычного доклада полицмейстера, не носившего еще важного характера, главным образом, потому, что так как день был воскресенье, то есть нерабочий, не могло быть и речи о забастовках рабочих по случаю пролетарского праздника, я отправился по данному мной обещанию к обедне в женскую гимназию. Служил архиерей,
598
и я после Калуги, Харькова, поражен был мизерностью обстановки архиерейского богослужения; протодиакон, обычно краса таких служб, здесь, в Гродно, был совсем плох и мог бы конкурировать, и то без успеха для себя, с обычным диаконом сельского прихода. Состав сослужащего духовенства был очень мал и вся служба не торжественная. Еще во время обедни я был вызван в коридор полицмейстером Дынгей, приехавшим с докладом, что рабочие собираются на митинг на Собачьей горке, откуда, по всем вероятиям, двинутся шествием в город. Для меня это была тарабарщина, ибо я не знал, что и где Собачья горка; вызвал я Лишина из церкви, и при совместном обсуждении выяснилось, что упоминаемая местность — за полотном железной дороги в пределах уезда, почему пришлось привлечь и местного исправника. Таковым был Бюффонов, занимавший этот пост уже давно; насколько Дынга брал своим extérieur’ом, настолько Бюффонов был невзрачен: маленького роста, тщедушный, ходил всегда как-то боком, как бы протискиваясь в щель, но глаза живые, речь плавная и всегда невозмутимо покойный. Так как с ним еще не раз придется встречаться в моих записках, опишу один случай, который характеризует отношение к нему местного населения и влияние его на них. Во время одной из забастовок кустарей Гродненского уезда (забастовка была столь обычным явлением в губернии, что редко бывало время без забастовок либо в какой-нибудь отрасли труда, либо в какой-нибудь местности) в одном местечке, вырабатывавшем специальные замочки [для] портмоне (другое местечко кроило и шило кожаные мешочки к ним, другое — ободочки и, наконец, третье — все отдельные части соединяло и выпускало готовый портмоне), один из кустарей, работавший один, без рабочих, не подчинился требованиям забастовщиков прекратить всякую работу и тайно, ночью, при закрытых ставнях, продолжал работать замочки. Подглядели это его товарищи, донесли на него воротилам забастовки, и на следующий день этот еврей-кустарь бесследно пропал. Несмотря на все розыски полиции его никогда не могли найти; прошло довольно много времени, и Бюффонов стал даже склоняться к мысли, что по трусости сей субъект просто эмигрировал в Америку (совершенно обычное явление в этом крае), хотя семья пропавшего продолжала настаивать, что он убит. Как вдруг исправник получил письмо из Америки, где один из донесших когда-то на продолжавшего работать кустаря каялся, что после его доноса, действительно, пропавший был убит, причем в письме указывались не только убийцы, но излагались точно все подробности убийства; одно лишь не было указано: куда бросили труп? Бюффонову, проверив все написанное, удалось восстановить все дело, уличить и арестовать убийц, и полное, прекрасно обставленное дознание передать судебному следователю; он этим очень гордился, потому что имел репутацию талантливо раскрывать преступления; какое же было его удивление и негодование, когда дознание это было ему возвращено по заключению прокуратуры, а арестованные убийцы выпущены, причем указано было, что за отсутствием объекта преступления, то есть трупа убитого, нет оснований кого бы то ни было обвинять в убийстве, раз сам факт убийства не доказан. Рассказывали (это было значительно до меня), что Бюффонов рвал и метал, изрыскал всю местность, не один пруд спустил, надеясь найти труп на его дне, и все напрасно; тогда он обратился к духовному раввину злополучного местечка, прося его содействия
599
в этих поисках. Чтобы оценить оригинальность такого обращения, надо разъяснить, что духовные раввины были правительством непризнаваемы, их не только игнорировали, но и преследовали; правительство признавало как раввинов лишь утверждаемых губернским Правлением, тех, которые зато никакого влияния в еврейском обществе не имели и только служили как бы нотариусами, регистрировавшими акты рождения, смерти, брака и развода для статистики населения. Духовные же раввины были действительными руководителями своей общины и имели над членами его огромное влияние. Вот к такому духовному раввину и обратился кто же? — начальник уездной полиции и с просьбой о содействии. Бюффонов был настолько любим и уважаем в своем уезде, что старец духовный раввин пошел навстречу его желанию и своей властью наложил херим на все местечко впредь до розыскания или хотя бы подлинного указания местонахождения трупа. Херим — это нечто таинственное и для малокультурной еврейской среды очень страшное. Во время сего херима все живущее в местности, на которую наложен херим, считается по закону Моисееву нечистым, почему не только каждый человек почитается как нечистый, недостойный Богомоления и тем паче посещения синагоги, но и все и вся, от животных до текучей воды включительно, считается нечистым и не может быть употреблено. Через три дня после наложения херима проголодавшиеся и измученные свидетели этого таинственного убийства указали Бюффонову местонахождение трупа; последний был отрыт, судебная власть начала следствие, и исправник торжествовал. Вот этот опытный, толковый полициант, призванный на совещание, дал совет не тревожить рабочих на Собачьей горке, которая по своей отдаленности не представляет опасности спокойствию в городе; полицмейстер просил лишь несколько патрулей казачьих, дабы ими преградить доступ в город, если рабочие затеют шествие манифестации; Лишин то и другое одобрил, почему я дал согласие на эти меры, совершенно машинально и à l’aveuglette. Все же и конец обедни и затем завтрак в гимназии я провел тревожно, ожидая ежеминутно донесения о каких-нибудь осложнениях; но все прошло благополучно — в середине дня, наговорившись вдоволь и не видя противодействия со стороны администрации, рабочие сами маленькими группами разошлись без всяких инцидентов.
На следующий день назначен был мной прием должностных лиц, для чего я поручил Губернскому правлению разослать повестки, что в такой-то день состоится общий прием у меня всех должностных лиц до VI-го класса включительно. Собралось очень много, и когда все прибыли и расположились в Гербовом зале, Лишин, вице-губернатор, и Веревкин, губернский предводитель дворянства, пришли за мной, который ожидал той минуты в гостиной. Я до того обдумывал свое первое вступительное слово и не без страха вступил в Гербовый зал. Зал этот носил это название, потому что в нем по стенам нарисованы были гербы всех уездов губернии и в середине — особенно большой губернский герб с традиционным зубром. Зал этот кончался эстрадой для музыкантов, а в противоположной стороне, выходящей в сад, посередине стоял на пьедестале большой мраморный бюст императора Александра I. Меблировкой зала служили лишь скамейки и стулья по стенам. Должностных лиц, представляющихся, оказалось столь много, что пришлось обходить всю комнату. Лишин представлял мне начальника
600
ведомства, занимавшего место в первом ряду во главе своих подчиненных, а тот уже называл мне своих сотрудников. В своей речи я указал, что готов положить все свои силы на пользу высочайше вверенной мне губернии; но, мало знакомый с здешним краем и его особенностями, могу принести пользу только при содействии своих сотрудников, а потому все свои надежды возлагаю именно на Вас — и я поклонился собранию. Тут же вышел маленький инцидент: представлялись среди должностных лиц и католическое, и протестантское духовенство города Гродно, а также и местный раввин. Православное духовенство приезжало in corpore ко мне на следующий день. Представители инославного духовенства стояли у самой двери, но я пошел обходить представляющихся в обратную сторону, почему ими только кончил, и ксендз Эллерт, занимавший должность, соответствующую нашему благочинному, хотя сам не поляк, а швейцарец, сейчас же стал распространять в польских кругах, что новый губернатор демонстративно выказал пренебрежение Католической Церкви. Впервые попав в польский, католический край, и к тому же в генерал-губернаторство, я не имел опыта распознавать все интриги, завязывавшиеся кругом меня. Губернское чиновничество присматривалось к отношению генерал-губернатора к губернатору. Мирский, очень ревниво относившийся к своим правам, сделал бестактность — через несколько дней по моем приезде прислал мне сказать через подчиненного мне старшего советника Ярошенко, что он удивляется, что я до сих пор не представил ему о своем вступлении в управление губернией. Такое полузамечание сейчас же возбудило толки среди чиновничества. Правда, что в обычае было новому губернатору немедленно скакать в Вильно и заводить связи среди генерал-губернаторского управления; я же, побывав у Мирского после своего назначения, как писал выше, не считал нужным вновь являться ему, почему очень холодно осадил Ярошенко, заявив ему, что не допускаю мысли, чтобы генерал-губернатор мог дать ему такое поручение, так как в утвердительном случае он, Ярошенко, как старый, опытный старший советник Губернского правления должен был возразить ему, что по закону требуется представление министру, а в этом крае и генерал-губернатору подробного журнала Общего присутствия Губернского правления о состоянии и движении всех дел Губернского правления к моменту вступления в должность и что подготовка такого журнала лежит именно на обязанности старшего советника и вице-губернатора, почему я и жду этот журнал для отсылки генерал-губернатору и министру вместе с представлением о вступлении в должность. Оказалось, что журнал этот Ярошенко еще и не начинал составлять, почему сам был сконфужен. Все же я тут же написал Мирскому, изложив ему подробно мой разговор с Ярошенко, причем просил его такого рода сообщения мне делать либо официальным письменным путем, либо в частном письме, но отнюдь не через моих подчиненных. Через несколько дней журнал был готов, представление отослано, инцидент исчерпан, и к нему мы более и не возвращались при дальнейших наших встречах с генерал-губернатором. Поехал я к нему лишь только тогда, когда он меня вызвал с другими губернаторами на какое-то совещание; встреча была самая дружественная и сердечная. Задумал он посетить Супрасльский монастырь недалеко от Белостока, предполагая по пути остановиться в Гродно, как бы отдавая мне визит, но я всячески старался отклонить его от этой мысли,
601
избегая всяких торжественных приемов, когда был один, не имея времени организовать все подробности приема, а когда жил с семьей, не желая обременять свою жену. Так мне и удалось за все время своего пребывания в Гродно избегнуть приема генерал-губернатора. При поездке в монастырь я сопровождал Мирского, и я как сейчас помню, как чиновничество канцелярии и Губернского правления не поленилось высыпать на платформу вокзала, чтобы воочию убедиться, какой прием мне будет оказан после вышеописанного инцидента; особенно мне врезалось в память лицо исправляющего должность правителя канцелярии Милюкова, который был мною уже предуведомлен, что на его место едет из Харькова Тарановский, а потому особенно ко мне недоброжелательно настроенный. То, что Мирский не останавливается в Гродно, истолковывалось чиновничеством, не знавшим, что я отклонил эту остановку, как явный знак шероховатости отношений на первых же порах; почему все были крайне удивлены встречей, оказанной мне Мирским: мой вагон, по его настоянию, был отцеплен, и он потребовал, чтобы я поместился у него в вагоне.
Посещение этого монастыря было для меня особенно интересно ввиду личности его настоятеля, архимандрита о. Николая. Белостокский уезд почти сплошь католический, и монастырь этот является как бы оазисом среди пустыни. Отец Николай не принадлежал к числу воинствующего духовенства, почему не пользовался благоговением не только Синода, но и епархиальной власти, зато пользовался общей любовью и уважением всей округи. Его гостями в монастыре часто бывали соседние ксендзы, и подчас даже и евреи, с которыми он не гнушался беседовать. Монастырь его, хотя и скудный, все же благотворил как мог в округе, без различия вероисповедания. Мирский, как и я, не симпатизировавший воинствующему духовенству, хотел своим посещением подчеркнуть уважение к старцу-настоятелю. К сожалению, Мирский простудился, скомкал свое пребывание в монастыре и спешно должен был уехать на следующий день, уже больной, в закрытом экипаже. Эта поездка на короткое время нарушила мой порядок обозрения и ознакомления с губернией. Немного еще раньше этого приехала ко мне на короткий срок Лиза; к сожалению, я не мог ее встретить, так как именно в это время был отозван в Вильно на совещание губернаторов. Мальчики с Николаем Алексеевичем поехали ее встречать в Брест, а я просил полицмейстеров брестского и белостокского оказать содействие при пересадках. Понятно, мне особенно обидно было не видеть первого впечатления Лизы, но что же было делать! Вернулся я, когда она уже ознакомилась и с домом, и с городом, и с подробностями нашей новой жизни из рассказов мальчиков. Мальчики в это время держали переходные экзамены в качестве экстернов в 6-й класс, с тем чтобы осенью поступить в гимназию.
Жена предполагала остаться с ними до окончания этих экзаменов, но, пробыв лишь несколько дней, получила от моей матери из Сергиевского телеграмму о том, что Тоня заболела; сейчас же она собралась обратно и в тот же день с первым поездом выехала. Мне так было грустно с ней расставаться, что, боясь не сдержаться на вокзале при людях, я даже не поехал ее провожать. Надо было видеть заботливость Миши, раздираемого тоской от разлуки с матерью и желанием меня развеселить. Я до сих пор с умилением вспоминаю, как он, уезжая
602
на вокзал, тихонько шептался с Николаем Алексеевичем, поручая ему меня не покидать и веселить рассказами анекдотов, что тот, несмотря на мою досаду, добросовестно исполнил.
Этот спешный отъезд жены нарушил мои планы: я отменил обзор губернии, чтобы не оставить сыновей одних во время экзаменационного времени, и просил Мирского разрешить мне отлучку на неделю, чтобы самому отвезти мальчиков домой после экзаменов. Экзамены их прошли ни шатко, ни валко, думаю, даже с некоторой натяжкой, но все же директор гимназии Пигулевский конфиденциально сообщил мне, что оба они будут приняты и посоветовал только летом еще подкрепить их по некоторым предметам. Опять с прежним детским, столько раз испытанным при отъезде на каникулы чувством тронулись мы в обратный путь; ехали мы уже не так парадно: отдельного вагона я себе не выхлопотал, пришлось нам три раза пересаживаться (в Вильно, Минске и Вязьме); пришлось много воевать с Сережей, который упорно отказывался вставать в нужное время.
Пребывание в Сергиевском я вовсе не помню. Слава Богу, все были здоровы, и время пролетело, как один миг. Опять очутился я в Гродно, но на этот раз с моим отцом, приехавшим делить мое одиночество. Папа́ радовался всякому пустяку: его тешило мое служебное положение, тот почет, которым не только я, но и он, как мой отец, был окружен. Еще более был он удовлетворен, когда через несколько дней приехал мой beau-frère Яша Жилинский. Последний был командирован Генеральным штабом для осмотра крепостей Осовец, Брест-Литовск и выяснения укрепленной позиции под Гродно. Яша был окружен особым вниманием военных властей, являлся среди них, несмотря на свой еще невысокий чин, важной персоной, как облеченный особым доверием военного министра. Тогда такое честолюбивое удовлетворение моего отца мне не было понятно и я его осуждал. Впоследствии, когда [я] сам стал отцом взрослых детей, вполне его понял, сочувствовал ему и проникся правильностью французского изречения: «il faut tout savoir pour tout pardonner».
Вскоре по возвращении моем в Гродно приехал и Тарановский, принял в управление мою канцелярию, и с этой стороны я вполне успокоился, почему не боялся покидать надолго Гродно и предпринял подробное обозрение губернии по следующему маршруту: Сокольск, Белосток, Бельск, Пружаны, Беловежская пуща, Волковыск и Слоним. Брестский и Кобринский уезды я отложил до другой поездки. Ехал я в отдельном салон-вагоне, в котором все время и жил; днем обозревал все учреждения, принимал должностных лиц, в каждом городе посещал прежде всего православный храм, затем костел и синагогу. Предводители дворянства заранее составляли список, совместно с исправниками, тех общественных учреждений, которые желательно было, чтобы я обозрел. Сокольский уезд не имел особого предводителя, да и смотреть там нечего было: это была, скорее, отвратительная большая деревня, чем уездный город; а между тем в этом городе и пришлось мне впервые проявить всю полноту своей власти. Не помню фамилии исправника; он был полковник в отставке, окончивший Военно-юридическую академию; меня тогда же, когда я просматривал списки своих подчиненных, поразило, что человек с таким образованием мог удовлетвориться скромной долей уездного исправника. Просмотрев дела Губернского
603
управления по Сокольскому уезду, я был поражен обилием жалоб на него. Расспрашивая о нем, я ни от кого не слышал доброго слова о нем, кроме как от архиерея, но к тому были свои причины: в Сокольском уезде расположен женский Красностоцкий монастырь, ведущий с католичеством открытую борьбу. Для учреждения этого монастыря был отобран старинный громадный костел, и это было особенно больно католикам. Гродненская губерния может быть разделена на две части: в одной, северной части, сельское население — почти сплошь католики, а по официальным документам — бывшие униаты; помещики же почти все православные; в южной же части наоборот: сельское население, белорусское — православное, а помещики — католики. Объясняется это тем, что в тех местностях, где сельское население православное, помещики-поляки не рискнули принять активного участия в польском мятеже, и по усмирении такового имения у них не были отобраны; в северных же уездах наоборот: помещики руководили восстанием, снаряжали банды и ими командовали, почему, за малым исключением, у всех были конфискованы имения, а затем проданы или пожалованы русским деятелям края. Сокольский уезд, таким образом, не имел почти поляков-помещиков, и вся борьба монастыря за православие носила не миссионерский характер убеждения, а главным образом, характер доноса и преследования официально числившихся бывших униатов в приверженности их к католической обрядности, от которой они в сущности никогда и не отступали. В этом преследовании духовным властям особенно помогал и исправник, почему и был любим архиереем. Ввиду всех этих сведений я ехал в Сокольск уже предубежденный против этого исправника. Встретил он меня с необычайной помпой: перед моим экипажем скакал целый отряд урядников, которые так немилосердно пылили, что я настоял на том, чтобы их отпустили; угодлив был исправник до приторности; но все же при поверхностном обзоре подведомственных ему учреждений никаких особых дефектов я не мог найти, только было неприятно поражен теснотой помещений Полицейского управления; и собирался уже ехать в больницу и садился для этого в экипаж, как ко мне подошел еврей и, отрекомендовавшись хозяином того дома, где помещалось Полицейское управление, заявил, что исправник не платит ему за квартиру; объяснял он что-то очень путано; можно было только понять, что весь дом занят исправником, причем лучшую часть он взял себе под квартиру, а под Управление отвел несколько маленьких комнат. Я тут же поручил чиновнику особых поручений сделать дознание и подробно доложить мне обо всем на вокзал, а сам продолжал обозрение. Исправник на время отлучился, чтобы дать свои объяснения, и затем, когда вновь ко мне присоединился, казался очень сконфуженным. К отъезду поезда дознание было окончено, причем выяснилось, что контрактом, утвержденным Губернским правлением, нанята была для Полицейского управления именно та хорошая квартира, которую занимал исправник, и деньги за нее исправник задерживал, требуя, чтобы хозяин дома устроил ему особую ванную комнату; Губернскому правлению исправник доносил, что хозяин дома отказывается сделать обусловленный контрактом ремонт печей в помещении, занимаемом Полицейским управлением. Все вместе взятое являлось таким рядом злоупотреблений, ложных донесений начальству и вымогательства, что я тут же на вокзале предложил исправнику
604
подать в отставку, дал ему на это трехдневный срок, предупреждая, что в противном случае он будет уволен без прошения. Впоследствии мне пришлось изменить свое решение по усиленной просьбе архиерея: я дал исправнику полуторамесячный отпуск для приискания себе места, так что он был уволен. Такая расправа сейчас же разнеслась по губернии, и впереди меня летела слава строгого, беспощадного губернатора.
Из дальнейшего обозрения помню пребывание мое в Белостоке, где, ввиду значительности этого города, я пробыл два дня. Город этот, хотя и уездный, значительно больше Гродно, чисто фабричного характера, и представляет из себя одну прядильную фабрику. Там был целый ряд собственников крупных двигателей паровых, электрических и нефтяных, которые за определенную арендную плату предоставляли мелким нанимателям эту силу для прядильных станков. Сила от двигателя передавалась и в другие соседние здания, принадлежавшие постороннему миру, причем и в этих зданиях часть станков принадлежала одному предпринимателю, другая — другому и т. д.; иногда целый квартал питался одним двигателем, и забастуй рабочие при двигателе — лишались заработка лица, совершенно к ним непричастные. Этот род фабричной промышленности носил название «лонкетников» и вызывал всегда напряженное настроение, так как отношения между предпринимателями и съемщиками силы были крайне неустойчивы. К тому же в Белостоке, как нигде в другом городе губернии, чувствовалось враждебное отношение между католическим и еврейским населением — до того, что католики не соглашались работать вместе с евреями. Как раз перед моим назначением, в бытность еще Столыпина, в театре «Фантазия» была устроена враждебная правительству демонстрация; полицмейстер Метленко хотя и арестовал зачинщиков, но Столыпин по каким-то соображениям велел их выпустить; они немедленно эмигрировали в Америку. Такая безнаказанность способствовала тому, что еврейство обнаглело и держалось крайне вызывающе. В Белостоке были Суражская улица и Суражская площадь; дома, окаймляющие их, и весь квартал изобиловали проходными дворами и представляли из себя такой лабиринт, в котором и днем легко было скрыться; именно там и происходили разные покушения на должностных лиц и убийства. Впоследствии и в меня неоднократно стреляли при проезде через эту местность; может быть, это и не были определенные покушения, а безнаказанная проба огнестрельного оружия еврейской молодежи, скрывавшейся тут же в проходных дворах. На первый раз пребывание мое в городе прошло вполне мирно и благополучно. Совершенно исключительное впечатление произвел на меня белостокский Институт: это дивный оазис тишины и спокойствия среди шумного города; помещался он в громадном доме, бывшем дворце польского магната; дом этот отделялся от улицы большим двором, а сзади него был не только громадный парк, но и большой луг, и даже поле, причем все это было не на окраине города, а в самом центре. В парадных комнатах сохранились и убранство и отделка прежних времен; к ним примыкала большая домовая церковь и католическая домашняя капелла. Институт был немногочисленный. Хозяйственной частью его ведал некто Сатин, заменивший почетного опекуна по Положению провинциальных институтов; про него рассказывали, что он был причиной увольнения неугодного ему смотрителя Кривошеина,
605
имевшего репутацию безупречной честности. Рассказывали, что он, воспользовавшись недостаточным знанием законов начальницы Института, уговорил ее журнальным постановлением Хозяйственного управления уволить Кривошеина от должности, тогда как увольнение это могло последовать лишь распоряжением главноуправляющего ведомством. Старик Кривошеин с горя заболел и переехал с женой и дочерью в Гродно на попечение Николая Димитриевича Беклемишева. Сын его Александр Васильевич, известный государственный деятель последних времен царствования Николая II, в то время был мелким чиновником Министерства внутренних дел. Возмущенный несправедливостью, оказанной его отцу, он явился к главноуправляющему графу Протасову-Бахметьеву, изложил ему все дело и просил защиты. Граф вызвал к себе Кривошеина из Гродно и сказал ему, что журнальное постановление об его увольнении будет немедленно отменено как незаконное, но что он ему советует все-таки покинуть службу, так как совместная служба с его врагами будет крайне неприятна, а в виде реабилитации граф ему при отставке выхлопочет пенсию не меньше получаемого оклада. Старик с радостью принял это предложение и вскоре умер (мы уже застали его вдову и дочь).
Кончилось мое пребывание в Белостоке традиционной поездкой по городу в разукрашенном трамвайном вагоне и посещением летнего клуба с театром «Фантазия», где вечером собиралось все мужское общество города. В этом театре была даже особая большая губернаторская ложа, куда я пригласил всех начальствующих лиц, а их, особенно военных, было очень много. После предложенного от клуба нам чая ночью же я выехал дальше. Впечатление от Белостока было очень смутное; видел я, что ни предводитель дворянства Давыдов, ни исправник (Соколов?) не соответствовали своему назначению, почему и решил со временем особенно внимательно заняться этим городом. Один полицмейстер Метленко был на месте, умело справлялся с разношерстным населением, но на него было вскоре произведено покушение, он был тяжело ранен и покинул службу.
В эту поездку приятно мне было посещение Беловежской Пущи. Ехал я туда с определенной целью: подробно ознакомиться как с администрацией Пущи, так и с местностью, но, главное, с характером населения, так как в этом году ожидался приезд государя на охоту. В Пущу я приехал на лошадях из города Пружаны, так что проехал всю южную часть Пущи. За несколько дней до моего приезда здесь прошел циклон шириной приблизительно в четверть версты и захватил край Пущи, так что видна была в этом девственном лесу полоса развороченного леса; это был какой-то хаос; местами деревья лежали корнями кверху. Понятно, ни прохода, ни проезда не было и только на одном шоссе было расчищено, распилено и сложено то, что на него свалилось. Шоссе это только что было окончено, его направление было от Пружан к дворцу и от дворца под прямым углом на город Бельск, если не ошибаюсь, протяжением около 30 верст; на шоссе было несколько десятков мостов с художественными литыми перилами, с царскими гербами; официальное открытие его должно было состояться по приезде государя, осенью, но так как это была единственная сносная дорога, ею уже начали пользоваться. Меня предупреждали о красоте Пущи, но все же действительность превзошла мои ожидания: не столько необъятность леса (по пространству Пуща
606
занимала 230 000 десятин в трех уездах: Пружанском, Волковысском и Бельском), сколько разнообразие фауны и флоры меня поразило; то едешь вековым хвойным лесом, то дубовым, то лиственным лесом средней полосы России, причем все время мелькают и перебегают шоссе звери, которых мы привыкли видеть в зоологических садах; разнообразные породы диких коз, олени, кабаны, не говоря уже о зубрах, постоянно встречаются, даже не особенно пугаясь экипажей.
Управление Пущи совершенно особенное, какое-то экстерриториальное; там было два главных начальника: один — заведующий Пущей Колокольцов, женатый на Жандр, родственнице Тобизена; другой — генерал Попов, начальник Дворцового управления, ведающий одним лишь дворцом и зданиями. Между этими лицами всегда была маленькая вражда, но к моему приезду они объединились и встретили меня так радушно и любезно, что день, проведенный там, остался у меня в памяти как одно из лучших воспоминаний. Приготовлено мне было помещение в Кавалерском доме. Кроме моих чиновников меня сопровождали предводитель дворянства Вышеславцев и исправник Пеленкин. Едва я успел приехать, как Колокольцов и Попов явились ко мне с визитом и объяснили мне, что в этот день генерал Попов именинник и потому они меня делят между собой: завтракать я должен был у Колокольцова, а обедать и вечер проводить — у Попова, которому местное общество в виде сюрприза приготовило любительский спектакль. Общество было очень большое и крайне симпатичное. Управление Пущи по количеству служащих могло конкурировать с Управлением губернаторским. Пуща была разделена на пять имений и в каждом был свой управляющий с целым штатом служащих, подчиненных Колокольцову; кроме того, особое Управление охотой с ловчим Нервли во главе и большое Дворцовое управление, подчиненное Попову. Не только все имения были соединены телефоном с управляющим Пущей, но и охотничьи дома зубровых смотрителей; это была особая должность: на их обязанности было следить за благополучием зубров, устраивать им кормежные сараи, в случае заболевания одного из них загонять их в особые, назначенные для этого пространства десятин в 50, где целый штат ветеринаров их лечил; в случае же ухода зубра из пределов Пущи смотритель обязан был следить за ним хотя бы в пределах другой губернии и принять все меры к загону животного назад в Пущу. Я помню, как меня поразило, когда я отдавал визит Колокольцову, что вдруг ему позвонил в телефон один из смотрителей зубров, чтобы доложить, что один зубр себе обломал хвост.
Возглавляла все общество семья Колокольцова, состоявшая из мужа с женой, очень милых детей и родственницы Богданович, племянницы известного генерала, издателя «Народных листков». Сам Колокольцов был страстный музыкант и серьезный знаток церковной музыки. И жена его, и родственница Богданович обе пели, особенно последняя, обладавшая чудным контральто. Колокольцов придумал оригинальный способ устроения церковного хора: он никого не принимал на службу канцелярии Управления без голоса; а так как он выхлопотал у главного начальника Уделов учреждения особой штатной должности учителя пения в школе и регента церковного хора, сам же выбрал такового из окончивших певческую капеллу, то у него и был замечательный хор. Сейчас же после завтрака он меня угостил хором, созвав его экстренно, будто на спевку;
607
никогда — ни до, ни после — я не слыхал такого исполнения «Верую» Гречанинова; солировала Богданович, и, слушая это чудное исполнение, я все забыл, и мне казалось, что я нахожусь в катакомбах в древнехристанские времена. Сколько [бы] раз я потом ни был в Беловеже, всякий раз Колокольцов услаждал потом пением «Верую» Гречанинова.
Время между завтраком и обедом посвящено было обсуждению ожидаемого приезда государя. На моей обязанности лежала только охрана государя в пути и в самой Пуще во время прогулок и охот. Сам же дворец во время пребывания государя поступал в ведение дворцовой полиции. Охрана самой Пущи была вещь нешуточная — как по величине пространства, так, главное, потому, что сталкивались два интереса: усиленная охрана могла повредить успеху охоты, запугав зверей; вот почему и требовалось подробное совещание с Колокольцовым и с исправником. Назначен был следующий план: состав полиции был увеличен чуть ли не в десять раз, для чего притягивалось все, что было возможно, из полицейских чинов губернии без ущерба для другой местности. Решено было еще просить министра командировать опытных полицейских чинов из Петербурга, Москвы и Вильно, а также филеров и сыщиков из Департамента полиции и эскадрон кавалерии. На последний возлагалась обязанность держать разъезды по границе Пущи, чтобы не допускать въезжать и входить в нее иначе, как по дорогам. В каждом же населенном пункте должны были находиться ответственный полицейский чин, жандармский унтер-офицер и сыщик, которые должны были не только переписать, но знать в лицо всех живущих во вверенной им местности. Таким образом, появление нового лица не могло пройти для них незаметным. Так как все населенные местности Пущи были соединены телефоном, мне было бы тотчас же доложено о всякой подозрительней личности. Помимо трудности сочетания охраны с интересами охоты, была еще большая трудность, а именно характер самого государя, который не любил всякие меры предосторожности, а во время своего пребывания в Беловеже мечтал о полном отдыхе частного человека. Я думаю, что он сам не знал, какой ценой забот, трудов и трат давалась его охота в Беловеже. План охоты разрабатывался Колокольцовым с Нервли; составлялось расписание, в каком месте и в какие дни будет произведена облава; эти предположения посылались на утверждение в Петербург в Управление императорской охоты и если получали одобрение, приводились в исполнение. Вся Пуща была разделена на кварталы в одну квадратную версту каждый; по просекам, окаймлявшим кварталы, сеялись травы, не допускалась никакая езда, и они-то и служили дорогами для проезда государя на охоту. Я видел эти дороги перед приездом государя: это был мягкий сплошной газон, по которому экипажи бесшумно катились; для каждой охоты, а их было две в день — до завтрака и после завтрака — назначались два соседних квартала; на просеках между ними устраивались штанды, то есть места для охотников, по числу номеров, обыкновенно от 11-ти до 12-ти. Штанд — это место, заранее обсаженное кустами, чтобы охотник был скрыт от зверя. Если лес был особенно густ, просекались против каждого штанда три визирки, узкие, но довольно длинные, чтобы увидать зверя еще в чаще. С вечера в назначенные для следующего дня кварталы, по возможности, загонялись звери, и на ночь этот квартал обтягивался сетями. Когда начиналась охота,
608
батальон пехоты, присланный для облавы, нагонял зверя на просеки, где стояли охотники; когда доходили до просеки, где были штанды, останавливались, охотники делали volte-face и по новому сигналу другие облавщики выгоняли зверя из соседнего квартала. Таким образом, длительность охоты равнялась времени, необходимому пешеходу, чтобы пройти две версты — протяжение двух кварталов. Но на это тратился целый день; государь выезжал часов в 8—8 с половиной утра и возвращался около 5-ти. Правда, что большее время тратилось на переезды и завтрак. На обязанности губернатора было на время пребывания государя в Беловеже удовлетворять требования Министерства Двора о поставке лошадей для всех этих переездов, потому что лишь царские экипажи обслуживались придворной конюшней. Под одну кухню и гофмаршальскую часть, выезжавшую ежедневно для царского завтрака в лесу, требовалось, если не ошибаюсь, более 30 лошадей. А сколько нужно было подвод для перевозки убитого зверя, число голов которых достигало в один день до 100 и более, я теперь уже не помню.
Хотя в Беловеже были свое почтовое отделение и телеграф, на время пребывания государя отделение разворачивалось чуть ли не втрое, и кроме того в самом дворце устраивалась временная телеграфная станция с прямыми проводами в Петербург и Варшаву. Последнее лежало на обязанности почтово-телеграфного округа и его начальника Ревуцкого, но все же и мне, как губернатору, надо было быть в курсе дела, а в случае необходимости и понуждать, и оказывать содействие. То немногое, что я упомянул, дает понятие о хлопотливости устроения этих охот. Колокольцову была другая забота — чтобы зверя было достаточно и охота была бы удачна. Тут же он мне рассказал два случая из царской охоты, бывшей до меня. Он о них упомянул как доказательство исполнительности его Управления, а я в душе подумал: «Бедный государь не знает, как иногда исполнение его желания вызывает усиленную, непроизводительную работу и трату». Дело было так: во время одной из охот государыня, вернувшись во дворец, за обедом выражала свой восторг от просек, ведших к месту охоты; особенно она восторгалась тишиной и бесшумным движением экипажа по газону, причем вскользь заметила, что впечатление нарушается топотом копыт и грохотом экипажей на мостках, перекинутых через канавы, а так как экипажей, следовавших один за другим — десятка полтора, грохот этот с промежутками продолжался довольно долго. Присутствовавший на обеде князь Вяземский, управлявший тогда Уделами, намотал себе это на ус, и как только кончился обед, вызвал Колокольцова и поручил ему в ночь озаботиться покрытием всех мостков, по которым следовал проезд государя, свежим дерном, и настолько искусно, чтобы это казалось продолжением газона. Можно себе представить, какой громадный труд был ночью на протяжении нескольких десятков верст это устроить. Вероятно, государыня не заметила это, а думала, что на ее пути не было мостков.
Другой случай был однороден. Так как все просеки однообразны и пересекаются под прямым углом, впереди всех ехал всегда Колокольцов с царским ловчим, имея у себя на коленях план Пущи, и указывал, где надо поворачивать. Однажды государь высказал, что ему неприятно иметь впереди себя экипаж и завтра он требует изменить порядок движения; так как царский кучер, понятно, топографию Пущи не знал, ночью расставлено было по одному человеку на каждом
609
перекрестке, чтобы движением руки указывать кучеру направление. И все эти хлопоты были напрасны, потому что, проехав несколько, государю показалось, что они заблудились, и он потребовал, чтобы Колокольцов вновь ехал впереди. Правда, что все эти экстренные труды вознаграждались щедро, и это приучило население к таким подачкам, которые были лучше всякого другого заработка. Ему выплачивались все убытки, причиненные потравами животных; во избежание этих потрав крестьянам отпускался даровой лес для изгородей кругом полей, но они предпочитали изгородей не ставить, а затем предъявлять Управлению Пущи непомерные убытки; таким образом, à la longue, в деревнях, расположенных среди Пущи, неурожаев не было: родился, не родился ли хлеб, они сумеют получить нужный доход из Управления Пущи, не говоря уже о заработке во время царских и великокняжеских охот. Такое положение побудило Управление уделами возбудить вопрос о переселении всех деревень, расположенных в Пуще (а их было, если не ошибаюсь, всего 27), и привести это в исполнение было поручено Колокольцову. Решено было купить для этого такую площадь земли, которая превышала бы их надел раза в два, и выдать им на переселение и обзаведение крупную сумму на каждый двор; но государь требовал, чтобы не было оказано не только принуждение, но даже давление, почему дело тормозилось, несмотря на то, что имение, одобренное ходоками, было уже приторговано. Колокольцов воспользовался моим приездом, чтобы ввести меня в курс этого дела, просить моего содействия, главное, в том, чтобы при введении Положений о земских начальниках, которое ожидалось в этом году, земским начальником Пущи, то есть большей ее части, расположенной в Пружанском уезде, был бы назначен мировой посредник этого уезда Валерьян Николаевич Ушаков, пользовавшийся особенной популярностью среди окрестного населения. Познакомился я с Ушаковым вечером на спектакле у генерала Попова, где он играл главную роль; его фигура бросалась в глаза: носил он полудлинные волосы, как изображение на портрете Петра Великого, и всей фигурой и лицом напоминал этот портрет, так что в обществе его так и звали «Петром Великим». Впоследствии я видел еще такое сходство — члена Государственной Думы Маркова, и думаю, что если бы Марков встретился с Ушаковым, их приняли бы за близнецов. Это поверхностное знакомство с Ушаковым обратилось затем в такую его преданность мне, что он захотел следовать за мной по уезде моем из Гродно и до моего выхода в отставку не расставался со мной. В Туле он был полицмейстером, и не только дельным и безупречно порядочным, но и прямо картинным, когда он в пролетке или санях, запряженных парой с отлетом, летел на какое-нибудь происшествие.
Спектакль у Попова прошел очень оживленно, а я лично был тронут тем радушием, с которым меня, случайного гостя, приняли в этот сплоченный кружок. Попов с особой любовью показывал мне дворец и скорбел, что ему запрещено с этого года показывать интимные комнаты царской семьи. История дворца и всей Пущи была живым примером разраставшейся роскоши при царском дворе. Александр II довольствовался скромным охотничьим домиком из 10 комнат, и охота происходила лишь на 200 десятинах, огороженных под названием «Зверинца». Теперь это служило загоном для больных животных. В царствование
610
Александра III был сооружен для его приездов ныне существующий громадный дворец; в нем размещалась царская семья со всей своей свитой. В начале царствования Николая II построен был Кавалерский дом с 20 номерами для свиты, а когда я был в Пуще, только что были окончены большие каменные флигеля для прислуги. При постройке дворца была дана архитектору задача всю отделку соорудить из разных пород деревьев, растущих в Пуще, и каждая комната была различно отделана. Особенно красива была столовая: украшением в ней служили рога убитых на охоте животных; под каждым была надпись, кем и когда животное убито. На этом я и окончу воспоминание о Беловежской Пуще в первое мое посещение; вернусь к ней более подробно, когда буду описывать пребывание в ней государя осенью этого же года.
Вторая моя ревизионная поездка была скорее приятной прогулкой. Поехал я в Друскеники, известный лечебный курорт Западного края. Администрация этого курорта просила меня непременно посетить его, и так как можно туда ехать пароходом, я охотно на это согласился. Начальник Гродненской водяной коммуникации, узнав о моем намерении, просил меня воспользоваться его казенным пароходом, благодаря чему эта поездка обратилась в приятный пикник. Я уговорил своего отца, который был тогда со мной в Гродно, ехать со мной, взял я с собой и повара, и человека, так что ехали мы со всеми удобствами. До Друскеник приходилось спускаться по течению Немана верст 30 или 40, и так как течение очень быстрое, доплыли мы до Друскеник очень скоро; зато на обратном пути пароход с трудом выгребал, и добрались мы в Гродно лишь поздно вечером, уже в темноту. Неман в этой части своего течения некрасив, и стоит выбраться из города и ближайших его окрестностей, как начинаются плоские берега, и притом даже не поросшие лесом, а все более песчаные; последнее красивое место около Гродно — это старинная церковь времен Ярослава Мудрого, по старому названию городища — «Колоча»; отваливающийся крутой берег Немана в этом месте разрушил одну стену этой церкви, и вместо нее была устроена деревянная стена на подпорках. Древняя же церковь была вся каменная, из грубо обтесанных камней, со вставленными местами полыми глиняными не то кувшинами, не то трубами, как объяснил археолог — для резонанса. Восстановление и поддержание этого древнего памятника православия в крае, свидетельствовавшего, что последовавшие потом окатоличение и ополячение края были лишь наносным явлением, взяло на себя императорское Археологическое общество, и мне как губернатору пришлось во время моего пребывания в Гродно принять деятельное участие в этих работах. Но средств было мало, реставрация шла черепашьим шагом, и уехал я из Гродно, оставив этот храм весь в подпорках и все с той же деревянной стеной.
Само пребывание в Друскениках я мало помню; помню впечатление убожества этого русского курорта, известного на всю Россию. Пока я объезжал весь курорт, отец мой остался на пароходе для послеобеденного отдыха. Когда я вернулся на пароход, простился со всеми, и тронулись мы в обратный путь, отец мне рассказал, что к нему на пароход приходил мой троюродный брат Коля Норов, брат того Пети Норова, который почти умер у меня на руках и о котором я писал в моих юных воспоминаниях. Коля Норов, оказывается, как раз лечился в Друскениках
611
и, узнав о присутствии Папа́ на пароходе, долго у него просидел; служил он в то время мелким акцизным чиновником в соседней губернии и почему-то стеснялся подойти ко мне. Очень мне было обидно узнать о его присутствии уже post factum, и я упрекал моего отца, что он это поздно мне сказал. Я более всего боялся репутации зазнавшегося человека, как особенно ридикюльного недостатка, а такое игнорирование бедного родственника подавало этому повод.
Последняя моя поездка до отпуска была предпринята в Брест и его уезд, где предстояло мне осмотреть в местечке Высоко-Литовск тоже древний памятник, еще языческих времен, реставрируемый Археологическим обществом; так как я предполагал из Бреста прямо уехать в отпуск, не возвращаясь в Гродно, отец мой накануне выезда моего на эту ревизию уехал в Сергиевское. В Бресте предводителем дворянства был генерал Пашков; он всегда ходил в генеральском сюртуке с погонами генерал-майора, имел бравый военный вид, но как администратор не был особенно опытен; вид он имел нахмуренный, казался всегда чем-то обиженный и до того неразговорчив, что общение с ним было не особенно легкое, а между тем мне приходилось с ним всюду ездить вдвоем в экипаже, и это было довольно тягостно. Брест — очень большой город, в нем много военных властей, как-то командир корпуса, комендант крепости, их начальники штаба, несколько начальников дивизий — старше губернатора по рангу, так что мне пришлось посвятить много времени на официальные визиты. Осмотр города и учреждений был отложен на следующий день после приезда, и я, окончив визиты, выехал в Высоко-Литовск вместе с Пашковым. Надо было ехать по Московско-Брестской дороге одну или две станции, а оттуда по шоссе верст 15. Вагон мой должен был быть прицеплен к скорому заграничному поезду, шедшему на Москву, и вот тут-то у меня произошла на вокзале незаурядная встреча. Вагон уже был прицеплен, я шел садиться, как вдруг на перроне вокзала меня окликнула Ольга Трубецкая; она с Линочкой возвращалась из-за границы с этим поездом. Попросил я свою свиту занять мой вагон, а сам сел в их sleeping. За этот краткий пробег, длившийся меньше часа, они мне много порассказали, но, главное, я был им послан действительно провидением: они по неопытности не рассчитали своих средств, ехали без гроша денег, позволили себе в Бресте на последний рубль выпить кофе вместо обеда и предполагали до Москвы — сутки — ехать на «пище святого Антония». Может быть, это и было причиной их безумной радости меня встретить. Я их снабдил деньгами, и так как в поезде был вагон-ресторан, они решили, расставшись со мной, подкормить свои силы. Линочка не упустила случая пошкольничать: когда я вышел из их вагона на месте остановки, и она увидала на перроне толпу евреев, глазевших на приезд губернатора, она обратилась к толпе с речью, уговаривая население любить меня, как отца родного, что я исключительно добрый человек, спас своих своячениц от голодной смерти. К счастью, должностные лица, встречавшие меня, ждали меня у служебного вагона, стоявшего в хвосте поезда, и этого не слыхали, а толпа евреев, вероятно, ничего не поняла.
Поезд стоял одну минуту и укатил. На этот раз мне не было трудно расставаться с belles-soeurs’ами: я знал, что завтра с таким же поездом я уеду в Сергиевское, и эта надежда скрашивала мне весь день. Очень приятно было ехать
612
в чудный майский вечер по шоссе. Ехал я, понятно, с моим молчаливым, угрюмым спутником — Пашковым; тут он разомкнул свои уста, чтобы предупредить меня быть осторожным с местным протоиереем. Этот священник, по словам Пашкова, был выдающийся кляузник; как председатель местного Строительного комитета по реставрации башни он не внушал доверия и потому, не желая отчитываться, жалобами и доносами старался чернить лиц, требовавших от него отчета. Потом мне пришлось беседовать о нем с местным архиереем, прося его обуздать этого пастыря, на что преосвященный Иоаким со скорбью мне ответил, что и сам он ничего с ним сделать не может, что у этого протоиерея есть рука в Святейшем Синоде и что не раз ему, архиерею, приходилось отписываться по поводу жалоб этого священника. Так как Пашков имел репутацию честнейшего человека, я доверился ему, и сношения мои со священником Высоко-Литовска были чисто официальные; от предположенного им обеда я категорически отказался, чем нажил себе врага. Правда, что, проходя через столовую его дома (жил он очень богато), я видел такую роскошную сервировку стола, такой обильный закусочный стол, что понял, что мой отказ не мог не быть обидным после стольких трудов, ожиданий и приготовлений. Возвращаясь уже довольно поздно по шоссе на станцию и видя, что крестьяне, взбиравшиеся на шоссе, чтобы меня приветствовать, были все полураздетые (или без штанов, или со штанами, засученными много выше колен), я просил объяснение у Пашкова. Тот мне сказал, что шоссе это проложено большей частью по болоту, и крестьяне косят траву по пояс в воде и затем выносят траву для сушки на обочины шоссе — яркое доказательство, как трудолюбив и неизбалован белорус.
На следующий день, осмотрев весь город, с радостью, что мое одиночество кончается, я вернулся на вокзал, переоделся в штатское платье и сразу почувствовал себя свободным человеком. До отхода поезда пришлось еще принять завтрак от предводителя и местных должностных лиц, предложенный ими мне на вокзале в парадных комнатах. У меня было такое правило при объезде губернии: всех, меня сопровождавших и встречавших, я приглашал перед отходом поезда завтракать или ужинать на вокзал. Устраивал это сопровождавший меня чиновник особых поручений, который за все и расплачивался. Вспоминаю попутно не то анекдот, не то остроумный рассказ про одного губернатора, не брезговавшего посторонними доходами. Он будто бы передавал своему чиновнику особых поручений пустой бумажник с наставлением: «Тратьте, что нужно, а что останется, вернете мне»; и, действительно, усердные уездные власти старались, чтобы бумажник вернулся к их сатрапу не пустым. Я давал такое же поручение своему чиновнику, только в бумажник клал от 500 до 1000 рублей, смотря по продолжительности поездки. Правда, что этот расход почти целиком восполнялся получением поверстных и суточных денег, но наказ мною был дан всегда один: не быть меркантильным и угощать на славу; только вина я не допускал, кроме водки во время закуски. Мои личные вкусы все знали, и не было завтрака без макарон и сыра рокфора.
В Бресте пришлось отступить от этого правила и не самому угощать, а принять угощение, но Пашков жил так скромно, что не мог принять большое общество у себя и взамен сего устроил на вокзале dejeuner dinatoire, от которого
613
я не мог отказаться. Чувствовал я себя уже не губернатором, а простым путешественником, и так легко и свободно было, что не только этот завтрак, но и сам вокзал оставил во мне приятное воспоминание.
Первый этот объезд губернии оставил во мне мало впечатлений; я более знакомился географически с губернией, чем по существу; впоследствии, ревизуя все уезды, не только города, но и волости, местечки, и знакомый уже с делами губернии, каждая [моя] поездка имела уже определенную цель, а потому и запечатлелась в моей памяти. Забыл упомянуть, что до Бреста я еще побывал на пограничной станции с Седлецкой губернией. Близ этой станции предполагались осенью маневры в присутствии государя. Губернатором там был родственник моей жены — Волжин. Маневры должны были происходить в пределах Царства Польского, стоянкой же царского поезда, где государь имел ежедневный ночлег, должна была быть станция в пределах Гродненской губернии. Поехал я именно для того, чтобы установить соглашение с полицейскими властями Седлецкой губернии о мерах охраны. В Царстве Польском исправников не было, а в уездах власть сосредоточивалась в руках уездного начальника вроде супрефекта французского; таковым там оказался очень милый человек, племянник одного из моих товарищей по [Пажескому] корпусу. Так как Волжин не приехал, то пришлось сговариваться с этим уездным начальником. Установили мы с ним пределы участка каждой полицейской власти, наметили необходимое содействие, и просил я его, уезжая, подробно донести своему губернатору о нашем разговоре, с тем, что если Волжин имеет что-нибудь возразить или добавить, он мне об этом написал бы, причем я предупредил, что на время пребывания государя во время маневров я командирую сюда своего вице-губернатора, сам же останусь в Гродно. Вскоре я получил письмо от Волжина, в котором он рассыпался в благодарностях и сообщал, что не имеет ничего ни убавить, ни добавить к предложенным мною мерам. Но я отвлекся в сторону, вернусь к моему отъезду из Бреста.
Подкатил, наконец, к перрону вокзала тот самый скорый заграничный поезд, с которым накануне я ехал с Ольгой и Линочкой; распростился я со всеми провожавшими и сопровождавшими меня из Гродно и с одним своим Доколиным уселся в спальный вагон; несмотря на то, что я до того разъезжал в удобнейшем, роскошнейшем вагон-салоне, с гостиной, спальней, кабинетом, уборной и даже кухней, мое маленькое купе sleeping показалось мне верхом уютства. Так лишь в душе жаль было всех оставшихся, которые должны были вернуться в унылые Брест и Гродно. Помню, как отъезжая, я увидал из окна вагона маневрирующий воздушный корабль типа «Илья Муромец» и удивился, что он, имевший возможность лететь куда хочет, не летит в мое родное Сергиевское. По дороге ко мне в купе зашел железнодорожный чин, один из начальников Брестской дороги, чтобы представиться и предложить мне свои услуги во время дороги; я ни в чем не нуждался, только мечтал об одиночестве, чтобы отдохнуть от своей служебной суеты последних дней, но все же был очень тронут такой любезностью; вообще все больше и больше я чувствовал все преимущества моего нового служебного положения. В Вязьме я уже пересел простым пассажиром на свой сызрано-вяземский поезд, но это была уже родная дорога, где я был известен всем как le loup blanc. По дороге подсаживались все знакомые лица по калужской
614
службе, все меня приветствовали, а уже в Калуге, где я пил кофе во время стоянки поезда, я уже чувствовал себя совсем дома. Телеграммой я выписал Вознесенского, смотрителя Сиротского дома, так как не переставал интересоваться судьбой моих питомцев. Не помню самый приезд в Сергиевское; понятно, он был по-прежнему исключительно радостен, а у меня на душе преобладало каникулярное чувство юного гимназиста, приехавшего на вакацию. Вся наша жизнь состоит из перемежающихся света и тени, и надо ощутить тень, чтобы по достоинству оценить свет. Трудно мне давалась всегда разлука с семьей; но зато какое счастье было соединение с ними!
Не помню хорошо подробности этого лета, одно осталось в моей памяти — это пребывание семьи Трубецких, Жени и Верочки с детьми. Они только что купили свое Бегичево, расположенное в полутора верстах от станции Пятовской, устраивали там дом и временно поселились у нас, пока все не будет готово в имении; Женя часто туда ездил, а семья все безвыездно пребывала у нас. Это лето положило начало дружбы между нашими детьми; так как в обеих семьях было по Сергею, Женя, чтобы не путать мальчиков, придумал звать своих сыновей, перевернув имя: «Ажерес» и «Акшас». Первый был дружен со старшими моими сыновьями, а второй — с Георгием; Соня Трубецкая же была совсем крошка, и ее компанией была такая же крошка — наша Тоня. Верочка с присущей ей аккуратностью точно установила распределение дня своих сыновей, так что все были в меру заняты, а свободное время посвящалось катанию, прогулкам и, главное, игре в теннис и крокет. Помню одну поездку в линейке со старшими детьми на так называемую «Каменную гору». Увлекшись красивым видом с бывших мраморных каменоломен, мы не заметили надвигавшуюся грозовую тучу, но такую черную, что предвещала она что-то необычное. И действительно, на обратном пути нас настиг такой ливень, какого я не запомню; последний подъем к церкви лошади с трудом взяли, ибо по нему лилась целая река воды, и тут-то мы были все поражены атмосферическим явлением, ни до, ни после не виданным: везде появлялись радуги — и большие и маленькие, но в таком необъятном количестве, что и на линейке между нами, и над лошадьми, и над кучером поминутно являлись и исчезали светящиеся радужные дуги. Мы все прямо ахали от красоты этого явления, а дети старались ловить эти радуги. Правда, что зато мы так намокли, что все, что на нас было, обратилось в губку. Слава Богу, что никто не простудился. Кажется, в этот же вечер была дальняя ночная гроза, и я впервые наблюдал лунную радугу; она далеко не так ярка, как солнечная, но как-то еще более мистична и таинственна; держалась она совершенно правильно и симметрично над дорожкой, идущей от террасы, и потому казалась каким-то светлым портиком, как бы входом в неведомый дальнейший мрак.
Когда Трубецкие переехали к себе в Бегичево, мы с Лизой их посетили. Тотчас же между детьми установилось ревнивое отношение к обоим имениям: наши денигрировали Бегичево, а Трубецкие превозносили его. Чтобы быть справедливым, надо сказать, что Бегичево имеет свои прелести; там безусловно несимпатичны усадьба и дом. Сад имеет историческое прошлое: это имение некогда принадлежало Смирновой, столь близкой к Гоголю и воспетой Пушкиным. В саду имеются и Пушкинская аллея, и Пушкинский пруд с маленьким островом,
615
на котором, по рассказам, Пушкин неоднократно вдохновлялся. Недостаток этого сада — невозможная сырость. До того там мокро и болотисто, что деревья в последнее время стали валиться без видимой причины, и последние года перед революцией сад представлял какой-то вид разрушения. Одно еще из неудобств усадьбы — это слишком большая близость к станции железной дороги, особенно шумной благодаря тому, что это конечный железнодорожный пункт, откуда богомольцы двигаются к преподобному Тихону. Эта близость делала то, что появлялись часто типы проходимцев, а так как дом был совсем на отлете от построек экономии, то и было это небезопасно. Но все искупалось красотой окрестностей; стоило выехать какие-нибудь полверсты из усадьбы, как открывались широчайшие горизонты, оживленные извилистым течением реки Суходрева. Каждый день можно было разнообразить прогулки, и в этом Бегичево, несомненно, имело преимущество перед Сергиевским, хотя даже и этого наши дети не хотели признавать. Уклад деревенской жизни Трубецких совершенно был различен нашему: аккуратность и точность распределения времени были доведены до того, что являлись уже каким-то стеснением; если, например, не хватало бы молока за столом, надо было писать ярлык, посылать чуть ли не за три четверти версты в экономию, и вся эта процедура занимала столько времени, что всякая охота и аппетит пропадали. Понятно, это мелочь, но это клало какой-то отпечаток на жизнь, и сами дети Трубецкие приучались к таким рамкам, что все необычное, непредвиденное казалось им невозможным и неправильным. Помню, как несколько лет спустя я с Соней, Льяной и Георгием поехали в Тихонову пустынь из Калуги. И так как от монастыря до Бегичева было верст двенадцать, решил к ним заехать и телеграфировал, чтобы они выслали за нами в монастырь коляску. Мне это казалось самой простой вещью. Приезды и отъезды в Сергиевском совершались без всяких предупреждений. Но у Трубецких не тут-то было: когда мы подъехали к подъезду, Сережа так озабоченно расспрашивал кучера, как лошади вынесли такой пробег, что я понял, что надо было списаться заранее. Все же эта мелочность была только придаток, искупалась она радушием и радостью нас принять. Они не были избалованы, как мы, частыми приездами родственников и, кроме удовольствия нас видеть, тешились возможностью демонстрировать Бегичево, к которому они все больше и больше привязывались. Правда, что и это демонстрирование совершалось по определенному плану: сначала надо было осмотреть хозяйство, потом обозреть ближайшие поля, где Женя хвалился какими-то новыми опытами по сельскому хозяйству; все это совершалось утром, часто при палящем солнце, и только после трехчасового чая устраивалось дальнее катание. Вечером же обыкновенно бывало или сидение в семейном кренделе, или же какое-нибудь общее чтение. Сам Женя был так всегда захвачен какой-нибудь своей научной работой, что чувствовалось, что ему трудно выходить из колеи, и как он ни рад был нас видеть, все же его тянуло к прерванным по случаю приезда кабинетным занятиям. С течением времени эти приезды в Бегичево и общение с Женей делались все более и более интересны. У нас у обоих как уездных и губернских гласных было больше точек соприкосновения, и, кроме того, Женя придал своему хозяйству характер опыта введения разных улучшений и достигал действительно больших результатов если не для своего кармана,
616
то, по крайней мере, для науки. Он, по натуре увлекающийся человек, совершенно захвачен был этими вопросами, и во время Земских собраний, забывая сущность обсуждаемого доклада, погружался в какой-нибудь спор с агрономами, которые все до единого высоко его ценили и часто посещали Бегичево.
Но я совершенно отвлекся от лета, проведенного в Сергиевском. Лето это было необычно короткое, так как мы решили с Лизой переехать все вместе в Гродно к началу гимназических занятий. Мои родители с Нюничкой должны были ехать на осень к моей сестре в Рязанскую губернию и оттуда уже прямо приехать к нам. Для переезда семьи нам дали вагон и мы уютно, со всеми удобствами, двинулись в путь. В виде педагогии с нами ехала Fraulein Rosalie и новая учительница Мария Григорьевна Смирнова, рекомендованная Федей Самариным. Это была милейшая особа, прожившая у нас года три, после чего переехавшая к моей двоюродной сестре Бенкендорф для обучения ее племянницы княжны Абхази (Лили Абхази давно уже замужем за Сережей Борделиусом, имела детей, которых потеряла, а Мария Григорьевна и теперь, в 1922 году, продолжает жить у Лизочки Бенкендорф, сделавшись ее настоящим другом). В Гродно должна была приехать к нам рекомендованная Варей Лермонтовой для старших дочерей гувернантка англичанка Miss Culling. Со Снесским мы расстались большими друзьями, он обещался приехать к нам на праздники в гости.
Все путешествие до Гродно было сплошное удовольствие, только в Смоленске, куда мы приехали часов в десять утра, чуть не произошел инцидент. Вагон наш, как специальный, шел в хвосте поезда; проводник ввиду узловой станции предупредительно закрыл дверь, но какие-то нахалы своими ключами ее открыли и с натиском полезли, несмотря на протест наших людей; пришлось обратиться к станционным властям, чтобы удалить непрошенных пассажиров. Маршрут наш был: Вязьма, Минск, Вильно, Гродно, куда мы и приехали на второй день часам к двенадцати дня. Отъезд наш из Сергиевского состоялся под проливным дождем, но таким дождем, что я помню, как выехавшие нас провожать в Калугу кучера Кологривовых, несмотря на дождевые зонты, совершенно измокли, так что нам было очень совестно. Дождик при отъезде считается хорошим предзнаменованием; в Гродно же мы приехали в яркий солнечный день и потому первое впечатление для младших детей было особенно хорошее. Старшие мальчики, как уже старожилы, заранее распределили между собой роли, кто с кем поедет из младших, братом и сестрой, чтобы faire les honneurs нашего нового места жительства. Я сам радовался перспективе все показать детям и предвкушал удовольствие видеть их восторг и новое впечатление. На вокзале встретила нас масса народу, и много прошло времени, пока всех я не представил жене и постепенно перезнакомил со всеми детьми. Эта первая встреча установила и на будущее время отношения моих подчиненных с семьей. Почти все, за малым исключением, стали близкими к семье, приходили запросто; помню, как часто во время завтрака, вспомнив, что какое-нибудь кушанье было особенно по вкусу какому-нибудь моему чиновнику, я посылал Георгия за ним — либо в Губернское правление, либо в канцелярию, которые все соединялись внутренним ходом с губернаторским домом. Ни до, ни после не было такой короткой близости с подчиненными. Правда, что состав их был особенно симпатичный,
617
да кроме того русское чиновничество в Западном крае, на чужбине, естественно, более сплачивалось.

Антонина Михайловна Осоргина.
Рис. Марии Осоргиной 1921 г.
Дня через два или три после нашего водворения в Гродно приехали к нам Федя Самарин с детьми, но я с ними пробыл лишь несколько часов; я спешно должен был ехать в Беловеж встречать государя, намеревавшегося поохотиться там недели три. Со мной туда ехал правитель канцелярии Тарановский, чиновник особых поручений Алябьев и жандармский полковник Бекнев. Для меня и моей канцелярии железнодорожное управление любезно уступило домик, специально выстроенный для начальника дороги; таковым в то время был Немешаев, которого я знал еще по Калуге, и именно ему я обязан тем комфортом, которым я пользовался в Беловеже во время царской охоты. Дом был небольшой, разделялся на две половины; в одной жил я с Доколиным. У меня были столовая, кабинет и спальня. В другой устроилась канцелярия с Тарановским и Алябьевым. Последний вел всю хозяйственную часть, кормил нас, для чего вошел в соглашение с царской кухней; сам он был большой гастроном и потому умел все это устроить. При домике был маленький садик, где к обеду собирались, кроме моих сожителей, и Бекнев со своим помощником, и исправник Пеленкин, и начальник почтового округа Ревуцкий. В те дни, когда я обедал или завтракал во дворце, Тарановский президировал за столом. До приезда царской семьи прожил я так дня три, организуя окончательно дело охраны. Каждый день приезжали все
618
новые и новые лица, которым надлежало быть в Беловеже во время охоты. Первый приехал генерал-губернатор Мирский, а накануне приезда государя — великие князья Владимир Александрович и Николай Николаевич Младший. С ними же вместе приехало Управление придворноконюшенной части с генералом Грюнвальдом во главе. Так как он когда-то командовал Кавалергардским полком, я почел своим долгом и его встретить и представиться, чем он был очень тронут. В день приезда государя с первым свитским поездом приехал главный начальник Уделов, мой товарищ по полку князь Виктор Сергеевич Кочубей, с которым мы очень дружески встретились. Наши товарищеские отношения помогли мне впоследствии избегнуть шероховатости при расчетах Министерства Двора, которое всегда многое требовало, а платило довольно скупо. Накануне приезда государя я спохватился, что у меня нет букета для государыни. Дворец и все сады перешли уже в ведение дворцовой полиции и получить оттуда цветы было невозможно. Телеграфировал я Лизе в Гродно, чтобы она прислала мне с Веревкиным, которому как губернскому предводителю надлежало быть при встрече государя, подходящий букет. Но привезенный мне букет от Лизы оказался столь мизерным по сравнению с приготовленным для подношения Мирским и Веревкиным, что я, вспоминая куплет жреца из «Belle Hélène»: «Trop de fleurs», решил букета не подносить государыне, а отослал его жене Колокольцова.
Настал, наконец, самый день и час приезда государя. Царская платформа превращена была в чудный сад. Собрались заблаговременно все встречающие с великими князьями во главе. Представителями военного элемента были командир батальона, присланного для облав из Варшавы, и командир того эскадрона, который назначен был в мое распоряжение для охраны. Дам было тоже много. Все жены служащих в Беловежской Пуще с madame Колокольцовой во главе. Сколько раз мне ни приходилось встречать царский поезд, я всегда испытывал особый трепет, когда он медленно и плавно подкатывает к платформе; лейб-казаки на ходу соскакивают и становятся почетной стражей у двери вагона, остановившегося как раз математически точно против того ковра, где ожидают все представляющиеся. Двери открываются и выходит всегда впереди государыня, а затем уже государь; тут же успевает подбежать вся царская свита, сопровождающая государя в поезде, и все это делается так быстро, но вместе с тем без всякой суетливости, что кажется самым обыденным явлением, тогда как для нас это событие давно ожидаемое и огромного значения. После Мирского подошел я с рапортом к государю и с поклоном к государыне. Я был рад, что у меня не было в руках букета, потому что я не знал бы, куда его девать, прикладываясь правой рукой к треуголке, а левой подавая государю рапорт. Тут же на перроне поздоровался я со знакомыми и перезнакомился с теми лицами свиты, которых я не знал. Государь приехал со всей своей семьей. Сопровождали их министр Двора барон Фредерикс, помощник гофмаршала князь Путятин, адъютант граф Гейден, лейб-медик Гирш и фрейлины — княжна Оболенская и, кажется, Вырубова. У последней болели ноги и ее или носили или возили в колясочке. Тут же на перроне вокзала гоффурьер Фредерикс передал мне высочайшее приглашение на завтрак во дворце. Завтрак состоялся сейчас же, так что мы прямо все и проследовали во дворец. Первый завтрак был очень многолюдный по
619
количеству встречавших лиц, но и очень короткий, так как через час было назначено открытие вновь сооруженного шоссе, а до того генерал-губернатор должен был иметь краткий служебный доклад у государя. Помню, как на первом же этом завтраке я сделал неловкость, благодаря которой нажил себе недоброжелателя в лице министра Двора. Сидел я с ним рядом за столом и в разговоре о полковой жизни вспомнил тот прощальный обед, который давала вся первая бригада своему бывшему командиру графу Орлову-Давыдову; принимал же бригаду Фредерикс. Говоря про это, я вдруг вспомнил, какую плачевную роль сыграл сам Фредерикс, напившись до того, что должен был на следующий день извиняться перед нами. Я начал краснеть, хотел свести разговор на другой предмет, но государыня вмешалась, заметив нахмуренный вид министра и мой конфуз; Фредерикс принужден был рассказать государыне этот инцидент. Я убежден, что именно по его настоянию я приглашался во дворец очень редко, только к завтракам, после обедни воскресной или праздничной и раз к обеду в день моего бывшего полкового праздника.
Сейчас же по окончании завтрака все сняли свои мундиры, чтобы облечься в них вновь лишь в день отъезда государя. Требование его величества было, чтобы его трактовали в Беловежской Пуще отдыхающим от царских забот и как бы простым помещиком, почему мы все ходили в кителях, с тросточками. На докладе Мирский поднял вопрос о необходимости снабдить его как генерал-губернатора тоже полномочиями издавать обязательные постановления не только в порядке Положения об охране, но и в общем порядке. Этот вопрос неоднократно им возбуждался на губернаторских совещаниях в Вильно, и я лично был всегда его противником. Я понимал смысл немецкого законодательства, где такие обязательные постановления издаются как суррогат закона и применяются не властью, их издавшей, а следующей инстанцией ниже. Если такой временный местный закон жизнен[ен], он затем санкционируется и вводится в кодекс законодательств; в противном случае его не применяют, и он сам собой отпадает. У нас же применение обязательных постановлений той же властью, которая его издала, лишало возможности естественной критики, что и вредило делу. Кроме того самый смысл и дух обязательных постановлений был извращен слишком широким использованием их в порядке охраны как карательная и усмирительная мера. Но я был одинок в своем мнении, и Мирский, поддержанный другими губернаторами — графом Паленом и Ватаци, решил просить государя дать ему это право, до того принадлежавшее одному министру внутренних дел. Государь сейчас же согласился. Как сейчас вижу, с каким торжествующим видом подкатил Мирский к тому пункту шоссе, где мы все ожидали их величеств для открытия этого сооружения. Чуть ли не на ходу еще экипажа он мне крикнул: «Государь дал свое согласие на издание по моему усмотрению обязательных постановлений для края», но, увидав мое спокойное, даже, скорее, разочарованное лицо, тут же с горечью добавил: «Да, это не по Вашему вкусу, я и забыл, что Вы строгий, педантичный законник, везде и всегда боитесь административного произвола, почему и противник этакой меры и таких прав». Я не возражал. Бедному князю Петру Дмитриевичу пришлось испытать много горечи из-за этого доклада у государя. Его величество повелел ему
620
телеграфировать министру внутренних дел о даровании ему этих новых полномочий, с тем чтобы эта высочайшая воля была бы немедленно распубликована уже как высочайшее повеление в Собрании узаконений и распоряжений правительства. Генерал-губернатор так и сделал, но спустя недели полторы, когда государь уехал на маневры, получил ответ министра (тогда министром был Плеве), что сообщать к исполнению высочайшую волю по существующему закону имеют право лишь министры, генерал-адъютанты и статс-секретари, а так как он, Мирский, — ни то, ни другое, ни третье, его сообщение не имеет силы, и он, министр, таковое не исполнит. Вновь утруждать государя Мирский счел невозможным, и только спустя много времени, после поездки Мирского в Петербург, Плеве, наконец, передоложил государю это дело, и высочайшее повеление, составленное за несколько месяцев до того в Беловеже, было распубликовано и вошло в силу.
На следующий день жизнь потекла по правильному расписанию. Между восемью и девятью утра все старшие должностные лица, живущие в Беловеже, а также и свита собрались у перрона дворца, ожидая выхода их величеств; время ожидания проходило у нас в разговорах, делились впечатлениями вчерашней охоты или разными придворными слухами. Первые появлялись великие князья, которые совершенно запросто смешивались с ожидающими и только оживляли разговор более достоверными сведениями; наконец появлялся сам государь с государыней и старшими великими княжнами. Государь, как и все мужчины, участвовавшие в охоте, одет был в охотничьем костюме; те же, которые, как я, не участвовали в охоте, либо в кителе, либо даже в тужурке. Выход этот не сопровождался никакой торжественностью: их величества запросто со всеми разговаривали, и, пока все не расселись в экипажах, разговор продолжался самый непринужденный, часто с подтруниванием над каким-нибудь неудачным опростоволосившимся охотником вчерашней охоты. Помню, как однажды особенно досталось министру Двора Фредериксу. Накануне он убил молодого зубра, что считается по охотничьим правилам преступлением, за которое полагается штраф в несколько тысяч рублей. По закону об охоте можно стрелять лишь в одиноких старых зубров, но надо быть особенно опытным, чтобы успеть в минуту появления зверя в визирке успеть определить не только пол зверя, но и приблизительно его возраст. Фредерикс этой опытностью не обладал, но стрелок был меткий, почему и убил молодого зубра. Штраф ему государь простил, но насмешками его долго донимал. В начале пребывания государя не хватало одного номера по числу заготовленных штандов, и Фредерикс на первом же завтраке спросил меня, не охотник ли я, предполагая, вероятно, пригласить меня с соизволения государя участвовать в охоте; я благоразумно заявил, что не охотник, и благо мне было, так как иначе я не раз бы попал впросак, как было с Фредериксом. Правда, что благодаря этому я лишился наслаждения чудных поездок по Пуще и еще более интимного общения с царской семьей во время ежедневных завтраков на месте охоты. Но у меня было и своего губернаторского дела много, почему, как только царский поезд отбывал на охоту, я возвращался к себе, занимался делами, а в свободное время гулял по Пуще или посещал семью Колокольцовых, с которой особенно сдружился. Часов в шесть царь возвращался с охоты, я его уже
621
не встречал, только начальник дворцовой полиции по телефону сообщал о возвращении царской семьи.
Во время обеда царского на площадке против дворца раскладывался le butin de la journée по сортам дичи, начиная иногда от птицы: глухаря, тетерева, затем зайца, лисицы, коз, кабанов, оленей и кончая огромной тушей зубра: бывали дни, что убитого зверя и птиц насчитывалось двести-триста штук. Площадка эта окаймлялась царскими охотниками в красивых костюмах, с большими стеклянными факелами на длинных пиках; факелов было столько, что площадка была вполне освещена; как раз против дворца задний фас этой площадки занимал охотничий оркестр, довольно примитивный, с одними охотничьими рогами и рожками. Посреди площадки в фантастическом средневековом костюме ожидал государя с кинжалом в руке старик Нервли, начальник Беловежской охоты. Публики посторонней собиралось много. Но публика была все своя — жители Беловежа, имевшие билеты для входа в дворцовый сад; благодаря этому, хотя толпа была большая, но она была вполне дисциплинированна и ни труда, ни забот не доставляла дворцовой полиции. Я тоже раза два или три приходил смотреть на это зрелище. По окончании царского обеда государь со всей семьей и приглашенными, одетыми по домашнему в кителях, с чашкой кофе в руках и с сигарой в зубах, выходили на перрон. Выход их приветствовался тушем охотничьего оркестра, после чего водворялась минутная тишина, и Нервли театральным жестом кинжала указывал на самую мелкую породу убитой дичи, оркестр же играл сигнал или туш этой породы, для каждой — особый. Мне врезался в память мотив для лисиц, очень образно передающий их стремительный зигзагами бег. Последний туш игрался зубру и имел какой-то люгюберный, тяжеловесный характер, после чего Нервли вкладывал кинжал в ножны, сходил со своего места, и церемония была окончена. С перрона все сходили на площадку, еще раз осматривали дичь, вспоминали или хвалились тем или иным удачным выстрелом; тут же появлялся главный повар, который выбирал наиболее редкие и подходящие экземпляры дичи и получал указания способа приготовления того или иного кушанья. Понятно, на царскую кухню попадало немного, другое рассылалось должностным лицам Беловежа, что очень ценилось их женами, а наиболее крупные туши и, между прочим, зубр, отдавались в кошт батальона, присланного для облав, и эскадрона, присланного для охраны. Одно то, что царская семья, и в особенности великий князь Владимир Александрович, большой любитель покушать и знаток этого дела, советовались с поваром, заказывая свое любимое кушанье, доказывает всю простоту жизни Беловежа. Я думаю, действительно трудно было пожить с царской семьей в более простой обстановке и интимном общении. Только ежедневный приезд фельдъегеря из Петербурга напоминал о царственных заботах хозяина Беловежской Пущи; а время было не мирное, начавшееся недоразумением на Востоке и окончившееся Японской войной, и были дни, что государь имел очень озабоченный вид. Особенно это мне бросилось в глаза за обедом 5-го сентября, в день моего полкового праздника. Нас, кавалергардов, в Беловеже было четверо: великий князь Владимир Александрович, начальник придворной конюшенной части Грюнвальд, начальник Уделов князь Кочубей и я. Мы все сидели
622
рядышком по старшинству, я — последний, как младший в чине и по службе. Президировал стол, как всегда в семейном кругу, государь, имея по правую руку государыню, а по левую — старшую великую княжну. Весь обед прошел в глубоком молчании, и только изредка государь обменивался короткими аглицкими фразами с государыней. Как всегда, прислуга совершенно отсутствовала и только по звонку государя бесшумно входила менять тарелки и подавать новое блюдо, после чего так же бесшумно, как тень, удалялась. Когда подали шампанское, государь выпил за здоровье полка, на что мы все четверо встали и глубоко поклонились, а затем великий князь Владимир Александрович встал и провозгласил тост за здоровье государя, на что все присутствующие встали и поклонились государю. Вспоминая прежние шумные празднования полковых праздников с оркестром, криками «ура», настоящий обед мне показался просто похоронным. После обеда государь немедленно удалился, потом я уже узнал, что в этот день были получены особенно тревожные известия назревавшего дальневосточного конфликта; государыня села в карты с великими князьями, а мы были предоставлены самим себе, и я был особенно рад, когда мог возвратиться в свой уютный домик.
Обычное времяпрепровождение Беловежа разнообразилось в праздники и воскресные дни; в эти дни охота отменялась, вся царская семья присутствовала у обедни, после которой был завтрак во дворце с оркестром музыки; к завтраку приглашались все должностные лица, имевшие приезд ко Двору. Государь держался хлебосольным хозяином, угощая присутствующих у закусочного стола, подливая водки, рекомендуя тот или другой сорт ее.
В церкви царская семья держалась еще проще; около правого клироса расстилался ковер, на котором и располагалась царская семья, окруженная толпой крестьян; часто какой-нибудь крестьянин в белой свитке продирался через них, чтобы поставить свечу к местному образу, и не раз государь и великая княжна помогали этому крестьянину или же подымали и вновь ставили упавшую свечу. Один только раз обедне была придана особенная торжественность. Гродненский епископ Иоаким просил разрешения служить в присутствии их величеств и, получив на это разрешение, приехал со всей своей свитой для совершения литургии 8-го сентября (Рождество Пресвятой Богородицы). Как и в будни, мы все собирались в воскресенье и в праздники у перрона дворца и затем с царской семьей шествовали по аллеям парка до приходской церкви, отстоящей от дворца в полуверсте расстояния. На этот раз преосвященный Иоаким встретил их величеств на паперти с крестом и святой водой и сказал им приветственное слово. Я уже писал выше, что за неимением семинарии гимназисты при архиерейском служении прислуживали. И на этот раз архиерей привез с собой гимназиста Федорова. Зная этого мальчика с самой лучшей стороны, я просил министра Двора доложить государю о желательности пожаловать ему подарок из кабинета его величества. Моя просьба была уважена, и Федорову пожалованы часы с вензелем его величества. Впоследствии директор гимназии Пигулевский, коему я передал часы для вручения Федорову, придал этому событию особое значение и торжественность: передача подарка состоялась после благодарственного молебна в присутствии всей гимназии, причем в своей речи директор подчеркнул,
623
как вся гимназия гордится такой царской милостью, и в довершение всего освободил гимназистов от занятий, кажется, на три дня.
Но возвращаюсь к Беловежу. Во время завтраков, как я сказал, играл оркестр музыки — этой чести домогались все полки Варшавского округа, в районе коего расположена Беловежская Пуща. Желая сделать любезность тому эскадрону, который был командирован в мое распоряжение для охраны, я просил, чтобы оркестр этого полка был бы включен в список командируемых на время пребывания государя в Беловеже. Так как государь после завтрака выходил на террасу к музыкантам поздороваться и сказать царское «спасибо», солдаты особенно ждали этой минуты. В день, когда играл протежированный мною полковой оркестр, государь забыл выйти на балкон, и, казалось, все мои хлопоты привели ни к чему. Естественно мне было обратиться к великому князю Николаю Николаевичу как генерал-инспектору всей кавалерии, но он так относился все время пренебрежительно к моему эскадрону, не пожелав ни разу его осмотреть, что я решился не утруждать его высочество и обратился к своему товарищу Кочубею — персона грата при Дворе; я ему красочно изложил отчаяние оркестра армейского полка, прибывшего из Варшавы с надеждой увидеть своего царя и не удостоившегося этого счастья, что Кочубей вполне проникся этой мыслью. К сожалению, исправить это тотчас же было невозможно; пока мы переговаривались с Кочубеем, государь уже удалился во внутренние покои. Но зато он добился еще лучшего — оркестр был оставлен в Беловеже до следующего царского праздничного завтрака, на котором играл, после чего государь дважды к нему выходил и даже разговаривал с заслуженными трубачами. Полк был вполне удовлетворен, и это событие привело даже к моему обмену телеграммами с полковым командиром, желавшим выразить мне свою особую признательность.
За все время пребывания государя не было никаких недоразумений по охране. Благодаря принятой мною системе появление нового лица на протяжении всей Пущи делалось мне тотчас же известно. Таким образом, удалось обнаружить немедленно по прибытии одну даму, страдавшую умопомешательством и поставившую себе целью подать прошение государю. В другой раз пришлось арестовать и выслать в Бельск личность, довольно подозрительную по неясности ответов и упорным умолчанием цели прибытия. Однажды во время охоты в стороне раздались выстрелы, о чем мне тотчас же было донесено. Администрация Беловежской Пущи гораздо более боялась браконьерства, чем злоумышленников, им везде грезилось посягательство на заповеданную дичь; по-видимому, в этом духе и старались настроить государя. Вечером я не был на штреке (церемониал, который я только что описал, и происходивший вечером после обеда), а потому государя не видал, думая, что его величество никакого значения не придал этим выстрелам; все же поручил исправнику разъяснить это дело. Ночью же исправник донес мне, что, по имевшимся у него сведениям это были взрывы на полях вне Пущи для уничтожения валунов перед осенней пашней; направление он установил, но для уяснения самого места взрыва командировал полкового станового пристава. На следующий день, когда я провожал царскую семью на охоту, государь меня подозвал и, рассказав про эти выстрелы, поручил мне особенно обратить внимание на браконьерство. Я почтительно возразил государю, что
624
по моим сведениям это был не браконьер, а взрывы камней, и то вне Пущи; при этом я добавил, что, не отрицая браконьерства в обычное время, я не допускаю мысли, чтобы нашелся такой смельчак, который во время царской охоты, в не дальнем расстоянии самого государя, дерзнул бы стрелять запрещенную дичь. Тут же я доложил государю, что меры уже приняты к выяснению места, где были произведены эти выстрелы, и что я немедленно отправлюсь туда на автомобиле и надеюсь к возвращению государя с охоты подробно уже доложить все обстоятельства дела. Я уже было откланялся, как государь меня вновь подозвал и с незабываемым добрым взглядом и голосом добавил: «Прошу Вас, только никому чтобы не было от этого неприятности. Помните, что я не хочу, чтобы время моего отдохновения и удовольствия омрачилось карой человека, может быть, и виновного, но не понимающего, что делает». Я тотчас же, проводив царскую семью, вместе с исправником на автомобиле поехал по шоссе к выезду из Пущи, где меня ждал уже становой и привел меня на то поле, где лежали осколки большого камня, по виду только недавно взорванного. Хозяин поля со страху скрылся, но соседние владельцы подтвердили, что только вчера этот камень был взорван. По осмотру места найдена была и воронка, где заложен был заряд, и один из полицейских чинов, служивший некогда в артиллерии, определил, что употреблен был, по-видимому, бездымный порох. Так как в то время бездымного пороха в продаже не было, а можно было его достать нелегальным путем в крепостях, этим и объяснялся страх владельца поля. Хотя это поле отстояло от дворца верстах в двадцати, вся поездка туда и назад с расследованием на месте заняла время от полутора до двух часов, не более. Мне и надо было торопиться, так как в этот день государь и государыня назначили принятие местной сельской школы по возвращении с охоты, и мне надлежало заранее организовать этот прием. Мальчики должны были поднести местное произведение — большой жбан собственного изделия из бересты, наполненный медом, и сказать соответствующее стихотворение; девочки же — рукоделие и тоже стихи. Не только сельские учительницы этой школы, но и сама попечительница госпожа Колокольцова, очень волновались предстоящей аудиенцией и настоятельно просили меня их не оставлять. Собрались все эти лица со всеми учениками заранее у перрона дворца, ожидая возвращения царской семьи с охоты; ожидание было томительное, тем более что момент возвращения был совершенно не определен. К тому же вышло так, что государь в этот раз возвращался не в одном экипаже с государыней и почему-то запоздал, и государыня с великими княжнами принуждена была, со своей стороны, довольно продолжительное время ожидать государя. Насколько мне была совершенно легка и проста всякая беседа с государем, настолько я безумно конфузился государыни, и эти четверть часа, проведенные с нею en tête-a-tête, нелегко мне дались. Сама государыня была очень конфузлива и не умела поддерживать разговор. Вообще на меня всегда делало грустное впечатление полное незнание русского языка при царском Дворе: между собой государь с государыней говорили всегда по-аглицки, а с окружающими, до берейтора включительно — по-немецки; и действительно, засилие немецкого элемента при Дворе было поражающее: министр Двора Фредерикс, заведующий конюшенной частью Грюнвальд, лейб-медик Гирш были люди немецкой культуры
625
и подбирали низших служащих преимущественно из немцев. Эта постоянная немецкая речь резала ухо и была причиной, почему я себя чувствовал так стесненным с государыней. Когда, наконец, государь приехал, и прием школы благополучно окончился, дети, осчастливленные ласковым царским словом и обильным количеством сладостей, разошлись с криками «ура», я подробно доложил государю сделанное мною расследование, упомянув о предположении, что взрывы были сделаны бездымным порохом. Государь тотчас же заметил, что необходимо дознать, откуда порох достали. Тогда я возразил, что, не говоря о трудности получения выяснения этого, придется натолкнуться на злоупотребление в Военном ведомстве, и что укрывательство хозяина поля свидетельствует о нелегальном пути приобретения им этого пороха; государь спешно добавил: «Да, Вы правы. Прекратите и забудьте это дело. Я очень рад, что, во всяком случае, это не браконьерство». И тут же с доброй улыбкой промолвил: «Мне моих зверей Беловежской Пущи жалко».
Время отъезда государя близилось, и мне поручено было составить список лиц, которые понесли особые труды во время пребывания государя в Беловеже. По обычаю, всех их награждали подарками из кабинета его величества, и во главе этих лиц фигурировал всегда сам губернатор. Все домогались поэтому командировки в Беловеж, и список мой, включая и чинов Почтового ведомства, вышел почтенных размеров. Мне самому претило получить такой подарок как бы начальнику, и я имел по этому поводу продолжительный разговор с Мирским, прося его в этом смысле переговорить с министром Двора, выяснив, что я по долгу службы обязан заботиться об охране его величества, и потому исполнение мною моих обязанностей не может быть оценено каким-нибудь подарком, а единственная для меня награда было бы царское спасибо.
Накануне последнего воскресенья, проведенного царской семьей в Беловеже, должен был прибыть туда генерал-адъютант Михаил Иванович Драгомиров. Ехал он обиженный и оскорбленный, так как согласно своей просьбе был уволен с поста киевского генерал-губернатора, командующего войсками округа; подкладка же была та, что он надоел государю своим вечным брюзжанием и недовольством. Но ввиду его заслуг с ним считались, а зная его острый язык и дерзкую самостоятельность, боялись его выходок. Его поезд должен был придти во время охоты, почему мне было поручено государем встретить его, проводить его во дворец в приготовленное ему помещение (это была любезность, так как во дворце никто даже из свиты не помещался, кроме министра Двора, который на этот случай и уступил Драгомирову свой апартамент, сам перебравшись для сего в Кавалерский домик) и передать ему приглашение к царскому обеденному столу. Когда поезд прибыл, я вошел в вагон Драгомирова, которого я знал еще по моей службе в Харькове, представился ему вновь, передал ему царское приветствие и приглашение. Надо было видеть угрюмое, брюзжащее выражение лица Драгомирова; слушая мои слова, он едва привстал, усиленно подчеркивая свое болезненное состояние, заявил, что никуда из вагона не выйдет, в нем и будет ночевать; от обеда отказался, ссылаясь на то, что уже давно пообедал, и просил только на следующий день прислать ему экипаж для проезда в церковь, где он и намеревался после обедни откланяться его величеству. Когда я доложил
626
государю по возвращении его с охоты о словах и поведении Михаила Ивановича, государь нахмурился и, видимо, был очень недоволен. На следующий день в церкви государь обошелся с ним крайне холодно; все же старик приглашен был к царскому завтраку, но государь не дал ему особой аудиенции, и Драгомиров уехал тотчас после завтрака, еще более взбешенный, чем приехал.
Наконец настал день отъезда государя; отъезд был назначен в 9 часов вечера после обеда. Вновь мы все облеклись в мундиры, и те, которые в этот день не были званы к царскому столу, в том числе и я, собрались на царской платформе в ожидании царской семьи. Перед самым выходом моим из дома ко мне явились содержатели почтовых лошадей с заявлением, что министр Двора отказывает платить за лошадей, согнанных в Беловеж на время пребывания царя, и разъяснил им будто, что следуемые им деньги они должны получить из Министерства внутренних дел. Я знал по старым делам, что такое толкование неправильно, и потому решил еще до отъезда государя выяснить этот вопрос и поручить Тарановскому иметь при себе нужные справки; на мое счастье Кочубей приехал спозаранку и я ему изложил все дело; он был крайне возмущен и, как только приехал барон Фредерикс, накинулся на него. Я слышал его резкий голос и такую фразу: «Вот такой недостойной мелочностью роняют в глазах народа престиж царской власти». Министр Двора сейчас же сдался, спросил у меня справку о требуемой сумме и приказал одному из своих чиновников немедленно ее выплатить. Когда подбежал князь Мирский, он меня радостно приветствовал словами, что мой список подарков утвержден, а меня государь за отличие производит в действительные статские советники с утверждением в должности гродненского губернатора. По кратковременности моей службы это была действительно исключительная награда, и мне она была очень приятна. Мирский при этом добавил, что, нарвавшись уже раз на отказ Плеве исполнить высочайшее повеление, переданное ему Мирским, он будет просить Фредерикса послать телеграмму о сем министру внутренних дел, что Фредерикс согласился исполнить, как только услышит, что государь меня поздравил с производством и утверждением. Мы еще об этом разговаривали, как раздались крики «ура» и подкатил царский экипаж. Государь тотчас же обратился ко мне, поблагодарил за отличный во время охоты порядок, поздравил с производством и утверждением и сам обратился к Фредериксу с приказанием послать соответствующую телеграмму министру внутренних дел. Не прошло десяти минут, как царский поезд под громкое «ура» провожавших плавно отошел от платформы. И от пребывания царской семьи, частого интимного с ними общения, осталось лишь одно воспоминание как от незабываемой сказки.
Меня все обступили, поздравляли, Алябьев даже послал телеграмму Лизе в Гродно и моим родителям в Рязанскую губернию. Но самое трогательное поздравление для меня было внимание моего камердинера Доколина. Когда я вернулся в свой домик и стал снимать мундир, Доколин, хитро улыбаясь, подал мне тужурку, на которой уже были пристегнуты погоны действительного статского советника. На мой вопрос, откуда он их достал, он лукаво ответил: «А уезжая из Гродно, я на всякий случай купил пару, авось царь вам пожалует — вот и пригодились». Я горячо обнял этого преданного мне человека. На следующий день рано
627
утром я с первым поездом уехал обратно в Гродно. С грустью покидал я Беловеж, и эта грусть увеличивалась от вида царской платформы, с которой за ночь сняты были все декоративные украшения, декоративные растения были убраны, упакованы, клумбы и цветники, устроенные наспех из горшков цветов, ежедневно возобновляемых, уничтожены были, и вся местность представляла картину разрушения. Воображаю, как трудно было жителям Беловежской Пущи вернуться в той же обстановке к будничной жизни. Мне это было легче: я возвращался к семье, по которой стосковался, и вновь мог окунуться в интересную губернаторскую работу. Вернувшись домой, я застал жизнь, уже налаженную моей женой: водворилась новая гувернантка англичанка Miss Culling, приглашен был законоучитель мужской гимназии, и весь день был распределен по часам. И я в соответствии с этим тоже распределил расписание: в половине 10-го ко мне приезжал полицмейстер, и с этого часа начинался мой служебный день. После полицмейстера шли доклады либо прием посетителей и представляющихся. Продолжалось это до 1 часа дня, когда меня звали завтракать; всегда у нас завтракал дежурный чиновник и еще 2—3 человека, или званых заранее, или оставленных после приема. За столом я занимал место против жены, на противоположном конце стола; около Лизы сидели мои родители и званые, а около меня — дети, и этим временем я пользовался, чтобы с ними беседовать и сохранить ту близость, которая установилась между нами во время зимы, проведенной в Сергиевском. В 2 часа у меня начиналось какое-нибудь заседание, кроме понедельника — день, в который доклады длились у меня до обеда; последними докладчиками в этот день были директор женской гимназии и фабричный инспектор, и дежурный чиновник мне со смехом рассказывал, как оба эти должностные лица стремились первыми попасть в мой кабинет, чтобы не опоздать к своему обеду. В те дни, когда бывало заседание и оно кончалось рано, я успевал делать все ответные визиты. После обеда в хорошую погоду иногда устраивались семейные катания; излюбленным местом катания было шоссе за линией железной дороги. В течение первой весны, проведенной в Гродно, мы наблюдали при этих катаниях, как аист вил себе гнездо на крыше одного дома, взявши за основу колесо. Вечерний чай и обед собирали всю семью, и хотя и бывали иногда посторонние, но уже более интимные. Старшие мальчики в это время увлекались гимназическим оркестром, в котором принимали участие, и потому часто по вечерам бывали на репетициях. Часов в 10 вечера я вновь запирался в свой кабинет для подписывания бумаг; к этому времени накапливалась груда портфелей всех подведомственных мне учреждений с шаблонными исходящими бумагами, но требующими особого доклада. Часа два иногда просиживал я за этой работой.
Это обыденное распределение дня нарушалось несколько раз в году для званых вечеров. Мы с женой разослали приглашения всем знакомым на весь зимний сезон, назначив через неделю во вторник вечерний прием. Памятен мне первый такой прием: съехалось много народу, человек 200, и для нас в те времена почти совсем незнакомые. Я еще кое-как мог разобраться в мужском персонале, а что касается дам — то их я уже совсем путал; к тому же и мое плохое зрение вредило мне. Я помню, как к одной даме, не играющей в карты, я подходил раза три с предложением составить ей партию, на что она каждый раз все с большим
628
неудовольствием заявляла, что она не играет, пока наконец милейший полковник Вебель, командир одного из пехотных полков, расквартированных в Гродно, а затем начальник штаба Московского округа, добродушно не сказал мне: «Не беспокойтесь, не волнуйтесь, мы утрясемся». И, действительно, все как-то находили себе применение и приятную компанию и до того не нуждались, чтобы их занимали, что Лиза улучала минуту пройти в детскую, где в тиши отдыхала и уютно попивала чай. Вечера эти кончались большими ужинами, на которых я установил такой порядок: кушанья ставились на открытый буфет, и кавалеры обязаны были servir leurs dames. Помню, как на одном из таких ужинов вышел досадный инцидент. Повар у нас был настоящий артист — Иван Волков. В этот злополучный день повар хотел отличиться каким-то особым пирожным-мороженым, запеченным в горячее тесто, но все, испробовав этого кушанья, оставляли его недоеденным на тарелке; это меня заинтриговало, но, когда я сам попробовал, я понял в чем дело: мороженое было соленое!
Упомянув о полковнике Вебеле, ярко вспоминаю первое мое с ним знакомство; это было в самом начале моего пребывания в Гродно, когда я еще никого не знал. Праздновался столетний юбилей Петрозаводского полка, которым Вебель командовал. Празднование происходило в лагерной обстановке, и я, понятно, был приглашен на этот праздник. После всего юбилейного церемониала полком был предложен обед всем гостям; когда подано было шампанское, полились тосты, появились депутации с приветствиями и подношениями, и, действительно, сказано было много прочувственного и симпатичного; сознавалось значение этого дня для полка, носителя уже столетних традиций, неразрывно связанного с прошлым, налагавшим на него определенные обязанности. Эту мысль и передал Вебель в ответном тосте на все приветствия зараз; сказал он это так прочувственно и так тепло, что всех растрогало, но и сам [он] не выдержал, должен был на минуту остановиться, потому что его душили слезы. Этот юбилей, а затем еще два полковых праздника, тут же пришедшихся, познакомили меня с военной средой, из которой многие впоследствии стали нам совсем близкими.
Если бы все текло мирно в административной жизни губернии, то такой род службы ничуть не отрывал бы меня от семьи, наполняя лишь мой день интересной работой. Мне рассказывали, что при губернаторе Батюшкове (я был 4-й после него) Гродненская губерния представляла такое эльдорадо: во всей губернии был всего один политический арестант. Увы, при мне было уже не то: революционная пропаганда велась усиленно. Организовалась в Гродно и губернии революционно-еврейская партия Бунд, говорили даже, что убийство Плеве было задумано и организовано на партийном собрании эсеров, собравшихся для сего в одном из местечек близ Белостока, и главными устроителями были гродненские уроженцы; ко всему этому борьба рабочих с фабрикантами все росла и проходила планомернее; главным центром этой борьбы были Белосток и местечко Крынки. О первом я уже писал, а второе по моему уезду было следующее в России после местечка Сморгони по выделке кож. Белосток особенно много мне задал хлопот. Так часто приходилось мне туда ездить и так необходимы мне были частые оттуда сведения, что я соединил кабинет белостокского полицмейстера телефоном с моим кабинетом. Провода этого телефона на протяжении 80
629
верст шли по столбам железнодорожного телеграфа и, к сожалению, стук телеграфных аппаратов очень мешал слушать разговор, так что я для этого всегда вызывал Тарановского. Аппарат белостокского телефона висел рядом с моим кабинетом, снабжен он был не звонком, а сиреной, и я без особого ужаса никогда не мог слышать этой сирены, предвещавшей опять новые беспорядки в Белостоке. Однажды разыгралась там грандиозная забастовка всех лонкетников; началась она недоразумениями с одним из владельцев двигательной силы, который что-то не хотел уступить; остальные ткачи поддержали обиженных, и вся жизнь замерла в городе.
Прожил я тогда в Белостоке дня три. Настроение было довольно мирное, так что бояться эксцессов не было основания. Мне приходилось, главным образом, вести переговоры медиаторские. Странное дело, как во время этой забастовки сказалась ненависть к евреям; как я уже говорил выше, фабричное население было наполовину польско-католическое, наполовину еврейское. При переговорах с рабочими последние потребовали, причем особенно настаивали поляки, чтобы национальности были выделены по отдельным собраниям, и только при таком условии соглашались вести переговоры. Оригинально то, что поляки-католики соглашались служить и работать у лонкетников-евреев, но среди себя, ткачей, евреев не допускали. После нудных переговоров и уступок с двух сторон забастовку удалось прекратить, и хотя она отняла у меня много времени, все же в сравнении со следующими моими посещениями Белостока, вызванными всегда либо убийством должностного лица, либо крупными беспорядками, это посещение Белостока было еще одно из приятных.
Приходилось мне ездить в Белосток не менее раза в месяц, а иногда и чаще; я уже перечислил выше, сколько должностных лиц пострадало в этом городе за время моей службы. Опишу наиболее яркие случаи. Однажды вечером мне телефонируют из Белостока, что только что брошена бомба в канцелярию одного из наиболее деятельных городских полицейских приставов, но так как, на счастье, его в эту минуту не было в помещении, он остался жив. Убит был сам злоумышленник, легко ранен письмоводитель и тяжело ранены два просителя из публики: старик еврей со своей женой. На другой день я поехал в Белосток, не столько для каких-нибудь действий, ибо все дело касалось уже следственных властей, сколько для ободрения духа местной полиции, которая ввиду постоянных покушений и даже убийств начинала терять спокойствие. Проехал я прежде всего на место происшествия и убедился, что сравнительно благополучный исход взрыва был совершенно чудесным явлением. Злоумышленник, молодой еврейский мальчик лет 16, приотворив дверь с лестницы на канцелярию, бросил снаряд по направлению к письменному столу пристава; снаряд пролетел между столом письмоводителя и группой просителей, впереди которых стояли старик с женой. Пристав в эту минуту только что вышел из канцелярии, а вся сила взрыва снаряда вместо того, чтобы распространиться по всей комнате, избрала путь, обратный направлению своего полета, и вышибла только ту дверь, за которой спрятался злоумышленник, убитый тут же наповал; письмоводитель же и два просителя были ранены попутно сотрясением воздуха и мелкими осколками. Странно было и загадочно, что по внешнему виду злоумышленника нельзя было понять,
630
куда он ранен и чем вызвана его смерть, почему я даже присутствовал при вскрытии. Оказалось, насколько помню, что смерть произошла от разрыва сердца, вызванного сильным сотрясением. Пристав, на которого делалось это покушение, держал себя молодцом и ободренный моим посещением ревностно и бесстрашно продолжал служить.
Не так благополучно кончились беспорядки, вызванные тоже забастовкой в Белостоке, уже на второй год моего пребывания в Гродно. Японская война была в полном разгаре, время было неспокойное, революционеры обнаглели, Белосток особенно кипел. Полицмейстером был уже Пеленкин, переведенный мною туда из Пружанского уезда. Исправником был Ельчин, который когда-то мальчиком живал у нас в Сергиевском, так как дядя его был местный становой пристав и квартирован на усадьбе. Ельчина этого я, понятно, в детстве не знал, он был старше меня, да [и] моя мать была очень разборчива для знакомых своих детей. Он же меня помнил и выказал мне много преданности. Я был особенно рад возможности отличить своего старого знакомого по справедливости, так как он был несомненно лучший исправник в губернии, безотносительно же говоря — благороднейший и честнейший человек. По моей просьбе, и только для меня, он согласился принять пост белостокского исправника (до того он лет 12, если не больше, был исправником в Бресте). Он и оказался жертвой беспорядков. Как я сказал уже, время было трудное; не один Белосток издергал мне нервы, и потому я был счастлив, когда мог на минутку оторваться от действительности и забыться. Для этого я обыкновенно входил в комнату Нюнички, ложился к ней на диван, и она своим монотонным спокойным голосом, с очками на кончике носа, штопая какое-нибудь белье моих родителей, рассказывала мне что-нибудь про былое, про мое детство или юность, которые протекали без волнений.
Во время одного такого farniente, когда я уже подремывал, вошла ко мне Лиза со словами, что Белосток телефонирует. Такой вход Лизы, всегда оберегавшей мой отдых, был так необычен, что я сразу спросил: «Что случилось? Кто убит?», и Лиза мне ответила: «Говорят, исправник». Телефон принял дежурный чиновник и искал меня, чтобы сообщить мне эту печальную весть. Ехать было поздно, и я решил отправиться на следующий день с первым поездом. В этот же вечер должно было быть, не помню какое, официальное увеселение. Убийство Ельчина меня так потрясло, что мне как-то неприятно было в минуту, когда он лежит на столе, вся его семья в безутешном горе, быть на каком-то вечере. Но жандармский генерал Пацевич настаивал дружески, чтобы я не подчеркивал слишком этот случай, и я со стесненным сердцем отправился с Лизой на этот вечер. Дома же поручил Тарановскому по телефону собрать самые подробные сведения о том, как все случилось. Сведения, собранные Тарановским, а также последующее расследование, сделанное как мной, так и прокурорским надзором и жандармской полицией, дали следующую картину; запишу, ее как помню, может быть, упущу некоторые подробности, забыв их.
Ввиду частичной забастовки в Белостоке было неспокойно, и даже ежедневно назначался наряд кавалерии и части в помощь полиции. В этот злополучный день ничего особенного не ожидалось. Ельчин по обыкновению утром зашел к Пеленкину поговорить о текущих событиях и тут же, как мне потом рассказал
631
Пеленкин, сообщил ему о сне, который он в эту ночь видел и который его очень поразил: видел он себя в прежней обычной обстановке, в любимом, родном ему Бресте, в соборе, где он обыкновенно певал на клиросе; подходит к нему будто бы покойный предводитель Дядиков и подводит его к Царским дверям причащаться; в то время, когда он стоял у Царских дверей, он увидал, что с потолка на его голову спускается венок из роз; на этом он проснулся. Едва успел Ельчин досказать свой сон, как по телефону сообщили полицмейстеру, что собирается манифестация; Пеленкин вызвал дежурный эскадрон кавалерии, но тут прискакал становой пристав доложить, что манифестация двинулась за город, к лесочку, излюбленному месту рабочих митингов. Тогда Ельчин, взявши с собой эскадрон кавалерии, отправился на место сборища; он был всегда враг крайних мер, почему и тут, подъехав к митингу, он один со становым приставом подошел к толпе рабочих, оставив эскадрон позади, надеясь своими уговорами и влиянием добиться того, чтобы манифестация разошлась. В Белостоке Ельчин был человек новый, народ его не знал и уговоры его не действовали. Тогда он дал собравшимся рабочим пять минут на размышление, предупредив, что «после этого срока будет дан троекратный сигнал, после чего кавалерия разгонит их силою оружия»; так и было сделано, но после сигнала толпа двинулась по направлению к городу, и Ельчин, надеясь, что она разойдется еще до города, приказал эскадрону следовать в отдалении, а сам с приставом в пролетке врезался в самую гущу толпы, настойчиво уговаривая рабочих разойтись; он стоял во весь рост в пролетке. Впоследствии следствие выяснило, что один из вожаков движения (фамилию его не помню), видя, что уговоры Ельчина действуют и толпа сдается, подошел к нему вплотную и выстрелил в упор. Становой, сидевший рядом с Ельчиным, выстрела не слыхал, но только увидал грузно опустившееся на сиденье уже бездыханное тело исправника; тогда он с перепуга выхватил револьвер и стал стрелять направо и налево; кучеру же приказал гнать лошадей вскачь в город.
Эскадронный командир на свой риск и страх по собственному почину, без требования гражданской власти и без предупреждения, как то требовалось законом, велел обнажить шашки и разогнать толпу. Говорят, в один миг шоссе было очищено, толпа разбежалась в разные стороны, только там и сям лежали раненные шашечными ударами и выстрелами станового. Этот последний с телом исправника, конвоируемый эскадроном, прискакал в городское Полицейское управление к Пеленкину. Непростительна была его ошибка, он до того растерялся, что ускакал с места происшествия, не подобрав раненых. Не говоря уже о человеколюбии и обязанности власти принять меры к облегчению участи пострадавших, благодаря такой его растерянности утрачены были следы и возможная нить к отысканию злоумышленника. Когда Пеленкин тут же вернулся на место побоища, никого он не нашел, и только лужи крови там и сям и истоптанная трава свидетельствовали о происшедшем. Несомненно, раненых было много. Из опросов нижних чинов-кавалеристов выяснилось, что многих из них порубили если не насмерть, то, во всяком случае, довольно чувствительно, многих из толпы.
Когда я приехал в Белосток, я приказал собрать сведения по всем ближайшим больницам о поступивших за последние сутки больных с ранами от
632
огнестрельного и холодного оружия. Но революционеры были умнее меня: они своих раненых лечили на дому, скрывали, и по моей анкете выяснилось, что только один молодой еврей явился в амбулаторный прием с порезанным ухом и после перевязки был тут же отпущен; фамилию и адрес свой он дал, понятно, вымышленные. Потом уже удалось агентурным путем установить имя убийцы Ельчина, но он уже успел эмигрировать и как политический преступник был недосягаем для русской власти. В этот мой приезд я посетил семью убитого, отслужил панихиду у его гроба и, главным образом, опять старался подбодрить упавший дух белостокской полиции. Каждый из них думал, что скоро его черед настанет, да и отношение ко мне менялось: до того в каждый мой приезд фабрикант Мокс присылал мне свой экипаж для разъездов — теперь уж он под разными предлогами отказывал в этом полицмейстеру, боясь за целость своего выезда, если в меня бросят бомбу. Сам я уже не брал к себе в экипаж никого, не желая подвергать своего спутника опасности. Помню, как в этот раз отъезжая от вокзала в извозчичьей коляске (сзади меня следовали в других экипажах Пацевич и Кологривов), я был удивлен, увидав на панели незнакомую мне даму, которая вдруг остановилась и осенила меня широким крестом. На похороны Ельчина я приехать не мог, но командировал старшего советника Ярошенко с венком и с соответствующей надписью на нем. Невыразимо жаль мне было потерять такого сотрудника! Вспоминая про него, попутно расскажу, как он еще раз раньше оказал мне существенную услугу.
Случилось это в начале Японской войны во время мобилизации. В Гродненской губернии мобилизация была объявлена только в одном уезде — Слонимском. Попутно не могу не сказать, что мы, гражданские администраторы, были поражены этими частичными мобилизациями, которые явно были несправедливы, а потому и вызывали недовольство населения, почему мобилизованные шли недовольные, с ропотом; нам на местах уже ясно видно было, что эта война не будет популярна, и не дождаться военачальникам энтузиазма в войсках. Я сам лично наблюдал такой случай. Накануне дня объявления мобилизации вернулись на родину выпущенные из запаса нижние чины варшавских улан, и двое из них, как уроженцы Слонимского уезда, явились в первый день мобилизации, пробыв дома лишь одни сутки. Я слышал их ропот и негодование по поводу того, что они призываются, а товарищи их, даже одного с ними прихода, вернувшиеся с ними вместе домой накануне, оставались дома лишь благодаря тому счастливому обстоятельству, что их селение было другого уезда — Волковысского. Но я уклонился в сторону, вернусь к Ельчину.
Слонимский исправник князь Гагарин телеграммой сообщал мне еще до объявления мобилизации, что он добровольно идет на войну как бывший офицер, и подал уже рапорт об этом военному начальству. Помощник его не был, по моему мнению, достаточно опытен, чтобы провести мобилизацию, и потому я обратился опять к тому же Ельчину, бывшему в то время еще брестским исправником, с просьбой исправлять должность слонимского исправника на время мобилизации. Слоним ему был известен, так как он когда-то был в нем полицейским надзирателем; я не мог нарадоваться на мой удачный выбор: население встретило Ельчина с радостью и уважением, и мобилизация прошла блестяще.
633
Мне же самому Ельчин дал маленький урок житейской мудрости, который я долго не мог забыть. В моих воспоминаниях о службе земским начальником я упоминал о своем письмоводителе Дехтереве, которого я подготовил к экзамену на вольноопределяющегося и который потом был офицером. Этот Дехтерев во время моей службы в Харькове писал мне, прося устроить на службу его брата. Я тогда ничего не видел подходящего для него и в этом смысле ему ответил. Однажды в Гродно на прием явился ко мне вполне приличный молодой человек и заявил мне, что он брат Григория Дехтерева, моего бывшего письмоводителя, который умер и, умирая, завещал брату обратиться ко мне, высказывая уверенность, что я устрою его брата.
Оказалось, что молодой Дехтерев совершенно одинок, родители его тоже умерли, и он на последние гроши добрался из Черниговской губернии ко мне в Гродно. Мне ничего не оставалось другого, как заняться его судьбой. Назначил я его в штат белостокской полиции и просил Пеленкина обратить на него внимание, ограждая его от всяких тлетворных влияний. Выбрал я Пеленкина как руководителя не только по его личным качествам, но и потому, что Пеленкин был, так же как и Дехтерев, черниговский дворянин, и потому я был убежден, что он сердечно отнесется к молодому человеку. После некоторого стажа и отличной рекомендации Пеленкина я назначил Дехтерева на самостоятельную должность полицейского надзирателя города Слонима, и вот мобилизация и застала Дехтерева на этом посту, временно в непосредственном подчинении Ельчину. Ехавши на мобилизацию в Слоним, куда я прибыл на второй день мобилизации, я во время остановки и перецепки вагона в Белостоке поручил моему вечному спутнику, чиновнику особых поручений Кологривову купить местную газету. Пробегая ее по дороге, я натолкнулся на слонимскую корреспонденцию, где выражался восторг по случаю назначения Ельчина, попутно высказывалась надежда, что он, хотя и «калиф на час», все же наведет, наконец, порядок в городе и, главное, восстановит постовую службу городовых, так как, по словам корреспондента, весь штат городовых распределен вестовыми у разных должностных лиц и, между прочим, у полицейского надзирателя двое в качестве письмоводителей, так что для постовой службы оставалось так мало, что охрана как будто бы отсутствовала. Передал я эту заметку Кологривову, поручив ему по приезде на место проверить действительность этих фактов. Приехав в Слоним и встреченный Ельчиным, я просил последнего оказать содействие Кологривову для исполнения своего поручения, а сам занялся мобилизацией. Очень скоро Кологривов вернулся с докладом, что все указанное в заметке — совершенная правда, почему я тут же приказал Ельчину оставить лишь одному князю Гагарину одного вестового, впредь до отъезда его на войну, остальных же городовых вернуть к своим прямым обязанностям, то есть к постовой службе. В течение дня я получаю тревожную телеграмму о возникших беспорядках в Брестском уезде, почему, изменив свое решение остаться до конца мобилизации в Слониме, я решил в тот же вечер выехать обратно в Гродно, а оттуда в Брест. Когда я уже был в вагоне и давал последние наставления Ельчину, мне доложили, что полицейский надзиратель просит аудиенции. Это было столь необычно, что я удивился, взглянув на Ельчина, а он с загадочной улыбкой сказал мне: «Примите его, Ваше
634
превосходительство, ему необходимо Вас видеть», почему я и позвал Дехтерева. Необычность такой просьбы заключалась в том, что полицейский надзиратель как мелкая полицейская сошка обычно все свои просьбы и доклады губернатору направлял через исправника. Ельчин еще был здесь налицо, а Дехтерев все же просил отдельной аудиенции. Позванный ко мне в вагон, он вошел почтительно, но смело, и, смотря прямо и упорно мне в глаза, начал докладывать: «По Вашему распоряжению, Ваше превосходительство, у меня сегодня отобрали двух городовых, занимавшихся в канцелярии и заменявших письмоводителей. Прошу указать мне, как мне поступать в дальнейшем: я получаю жалованье (назвал он какую-то маленькую сумму), на которое я должен содержать себя, прилично одеваться и содержать канцелярию. Вы понимаете сами, что это совершенно невозможно». Своим честным взглядом он меня пронизывал и как бы вопрошал: «Что еще, мне брать взятки?» Я, вспомнив, что Ельчин был когда-то полицейским надзирателем, обратился к нему с вопросом, как он поступал. Но, не говоря уже о том, что жизнь вздорожала, а жалованье осталось то же, переписка во времена Ельчина достигала 200—300 номеров в год, теперь же она возросла до нескольких тысяч исходящих; не найдя поддержки в Ельчине и понимая, что от моего ответа зависит натолкнуть честного юношу на путь взяточничества, я только замахал руками и отпустил Дехтерева со словами: «Пусть все остается по-старому». При первой же ваканции я его перевел на тюремную службу помощником начальника тюрьмы, где жалованье было больше.
Хотя, рассказывая этот случай, я забегаю вперед, все же я опишу попутно брестские беспорядки, на которые я спешно выехал из Слонима. В Брестском уезде, в очень глухой его части, в настоящем Полесье, расположено было большое имение Черняны Руды с большим стеклянным заводом. Имение это, как конфискованное у поляка, могло быть продано только лицу русского происхождения. Куплено же оно было двумя евреями, и дабы узаконить эту сделку, купили они имение на имя Гололобова, который был в то время (случилось это лет за 7 до моего назначения) управляющим канцелярией генерал-губернатора. За то, что Гололобов согласился быть фиктивным владельцем, евреи эти выплачивали ему ежегодную сумму в виде аренды. Хищническое хозяйство этих евреев совершенно разорило имение, изобиловавшее и лесами, и рыбными заводями; последние были сданы чуть ли не на десять лет вперед и деньги были уже получены; дальнейшая сводка лесов, как нарушающая все, даже льготные нормы закона, была прекращена распоряжением Лесоохранительного комитета; за отсутствием оборотных средств стеклянный завод влачил жалкое существование, и единственным спасением его владельцев было продать часть земли крестьянам, о чем они и стали хлопотать, действуя в качестве доверенных Гололобова. В первый год моего пребывания в Гродно почти каждое фабричное Присутствие, то владелец завода, то его управляющие, штрафовались за нарушение фабричного устава. Сам я не удосужился посетить этот завод за его дальностью, в чем потом всегда себя винил, потому что, быть может, я мог бы предотвратить дальнейшие события. Штрафы не уплачивались за недостатком средств, и недоимка казенного взыскания доросла до таких размеров, что я, желая обеспечить ее уплату, когда продастся земля через
635
посредство Крестьянского банка, принял, может быть, не совсем законную меру, которая, во всяком случае, верно обеспечила намечаемую мною цель: я предложил Губернскому правлению взять и имение, и завод в опеку, наложив запрещение на все доходы и ожидаемые получки. В октябре второй зимы, проведенной мною в Гродно, на обычном докладе старший фабрикант-инспектор доложил мне, что завод перестал действовать и что рабочие в отчаянном положении, так как им остались должны крупные суммы; евреи же эти скрылись. При более подробном исследовании оказалось, что рабочих на заводе около 500 человек, из них много бельгийцев, специалистов по стеклянному делу; живут все рабочие на заводе в казармах и в семейных домиках, завод им задолжал около 50 тысяч рублей, причем некоторым пустячные суммы, а иным — более 1000 рублей на семью. Заводская лавка, где они получали продукты вместо жалованья, пуста и закрыта; медицинская помощь упразднена: фельдшер и доктор рассчитаны. Топлива для отопления помещений рабочих нет, рабочие бедствуют, не имеют на что выехать и к тому же по своей специальности не могут пристроиться, так как во всем Привисленском крае было всего два стеклянных завода, считая Черняны Руды; настроение среди рабочих подавленное и легко может перейти в повышенное, угрожающее. Сообразив все это, я поставил себе целью докормить за счет заводовладельцев рабочих впредь до продажи земли, о которой писал выше. Евреи-владельцы были разысканы, их заставили открыть кредит рабочим в соседней продовольственной лавке; я же немало денег переслал в Черняны Руды как из своих личных средств, так и из разных экстраординарных сумм. Министерство внутренних дел я бомбардировал телеграммами, требуя разыскать мифического владельца Гололобова и заставить его хотя бы имущественно поплатиться за его незаконные проделки. Моя помощь была все же ничтожна и оказалась совершенно эфемерной, когда я получил сведения, что сделки на продажу земли Петербургом не утверждены. Вызвал я к себе управляющего отделением Крестьянского банка, но он как-то отмалчивался, и только одного я мог от него добиться, что, по-видимому, в Петербург был послан анонимный донос о том, что оценка земли была намеренно преувеличена. На мое требование, чтобы он разъяснил дело в Петербурге и выяснил бы, что эта продажа необходима не для выгоды владельца, а для сохранения общественного спокойствия, он категорически отказался, и тогда закралась во мне мысль, что он потворствует этим евреям, которые, узнав о наложенном мною запрещении, старались расстроить продажу земли. Видя, что и эта надежда распутать дело путем продажи земли становится очень слабой, я подробно писал об этом конфиденциальным письмом князю Мирскому, который был уже назначен министром внутренних дел, выясняя всю остроту и серьезность положения, подчеркивая, что участие Гололобова и неблаговидность его поступков совершенно роняют престиж русской государственной власти. В ответ я получил из Департамента полиции 3000 рублей для выдачи рабочим с добавлением, что к разысканию Гололобова приняты меры. Для раздачи этих денег я поручил фабричному инспектору составить комиссию под своим председательством в составе: члена Опеки, состоявшего опекуном имения,
636
и исправника. Комиссии этой я поручил полностью удовлетворить тех рабочих, которым заводоуправление должно было небольшие суммы — не свыше 50 рублей, снабдить этих рабочих даровыми литерами для проезда на родину и потребовать немедленного их выезда. Этим достигались две цели: во-первых, удалялись наиболее молодые рабочие, которым по их недолгой службе завод меньше был должен, а элемент этот был наиболее буйный; во-вторых, с уменьшением числа остающихся легче было их прокормить. Комиссия натолкнулась на сильное противодействие рабочих, которые требовали раздачи присланных денег поровну между всеми. Несмотря на все уговоры, рабочие не унимались, и кончилось тем, что толпа ворвалась в заводскую контору, где заседала комиссия, отобрала все деньги, причем сорвали погоны у исправника и часы у члена Опеки. Комиссия постыдно бежала, исправник вызвал войска, и с ротой вернувшись на завод, арестовал зачинщиков. Телеграмму об этом происшествии с запросом, как дальше поступать, я получил в Слониме во время мобилизации, почему оттуда и выехал раньше предположенного срока. Заехал я сначала в Гродно, так как у меня зародилась мысль о возможности продажи сверх всяких норм лесного участка в Черняных Рудах, а также подумал я сдать рыбную ловлю еще лет на 10 вперед, лишь бы удовлетворить рабочих; для этого надо было посоветоваться с управляющими Государственных имуществ и Казенной палаты. Пробыв в Гродно лишь несколько часов, поехал я в Черняны Руды в сопровождении неизменного Кологривова, генерала Малевича и советника Губернского правления Мерного. Рано утром прибыл я в Черняны Руды; ехали мы через Кобрин, чтобы не утруждать брестскую полицию заботами о благополучном проезде губернатора. На границе Брестского уезда встретил меня жандармский офицер, заведовавший Брестским уездом, и доложил, что настроение очень тревожно. Действительно, застал я весь завод на военном положении, везде были расставлены часовые, и особенно тщательно охранялся дом, предназначенный для меня. Кучки рабочих, собиравшихся то там, то здесь, имели вид понурый, но не кланялись. Я велел тотчас же снять всех часовых, оставив караул лишь при том помещении, где содержались арестованные; остальных же солдат держать вместе, в кулаке, на случай могущих произойти эксцессов. Сам же я со своими спутниками в сопровождении исправника пошел осматривать завод в надежде найти какой-нибудь инвентарь, годный еще для продажи. Завод отделялся от поселка рабочих большим забором, окаймлявшим все заводские здания; внутри двора к выходным воротам шел узкий коридор; сделан он был для того, чтобы легче обыскивать рабочих, выходящих с работы. На заводе, увы!, я не нашел ничего годного для продажи, кроме очень ценных болванок для форм, для которых невозможно было найти покупателей в данной местности. Пока я осматривал завод, на дворе собралась большая толпа рабочих, и когда пришлось нам всем, мне первому, гуськом идти среди враждебно настроенной толпы по упомянутому коридору, на душе было не совсем спокойно. Велел я представителям от рабочих прийти объясняться со мной в контору, которая была крошечная, едва могли втиснуться в нее человек 12 рабочих, а толпа сзади них напирала; те, которые были ближе ко мне, просили только освободить арестованных за происшедшие беспорядки. Я видел, что
637
объяснявшиеся co мной были совершенно случайные, и нельзя было быть уверенным, что данные ими обещания будут исполнены их товарищами, почему я прекратил всякие объяснения и заявил, что прежде всего обойду все их помещения, чтобы иметь понятие о степени их нужды.

Антонина Осоргина.
Гродно. 1902—1905. Частное собрание, Париж
Взял я с собой для этого обхода только Кологривова и Мерного для записи анкеты о материальном состоянии рабочих. Чинам полиции я запретил нас сопровождать, дабы внушить большее доверие рабочим. Сознаюсь, что натолкнулся я местами на такую нужду и на такую бедность в обстановке, что вспомнилось мне талантливое описание Zola в романе «Germinal». В одном домике я натолкнулся на труп ребенка, которого уже 4 дня не хоронили за неимением средств, чтобы купить гробик. Толпа, меня сопровождавшая, все увеличивалась, но, видя мою простоту отношения и участливости Мерного и Кологривова, в две руки записывавших подробно сведения о каждой семье, настроение все смягчалось. Обход продолжался до глубокой темноты, и под конец рабочие были так дружелюбно настроены, что я услыхал напоследок такое замечание, один говорил: «Надо показать его превосходительству еще эту семью», а другой возражал: «Нет, ножки его превосходительства уже устали».
Вернулся я в приготовленное мне помещение, где стараниями полиции приготовлен был мне роскошный ужин, к которому я не мог притронуться, так тяжело мне было от вида всей той ужасной нужды, в которую впали рабочие благодаря
638
недосмотру нас, администрации, допустившей такие незаконные действия, какие позволил себе Гололобов. Совершенно потрясенный нуждою рабочих, я мысленно искал исхода и вдруг вспомнил, что через неделю ожидается проезд государя через Вильно на юг для высочайшего смотра частей, отправлявшихся на Японскую войну. Тут же я составил телеграмму новому генерал-губернатору Фрезе с просьбой разрешить мне приехать к нему с докладом по важному, спешному делу. Я намеревался просить его доложить государю подробности дела Черняных Руд в надежде, что государь велит из своих средств удовлетворить оставшихся рабочих, долг которых за всеми мелкими выдачами за эти 3 месяца убавился и не превышал 30 000 рублей.
Когда настало мне время уезжать, я боялся, что рабочие постараются этому воспрепятствовать, почему толпе, окружавшей мои сани, я подробно объяснил, что еду в Гродно, чтобы наладить дальнейшую сводку леса, сдачу рыбной ловли, одним словом, чтобы раздобыть деньги для расплаты с ними, но что для этого нужно время, почему они должны терпеливо ждать; советнику же Губернского правления Мерному я поручаю составить подробный список всех тех, которым завод должен был меньше 50-ти рублей, так как таковые будут разочтены в первую голову; при расчете каждому будет вручен даровой билет на родину, и получивший расчет обязан выехать на следующий день на родину.
Тут же я приказал исправнику за счет заводовладельца доставить провианта рабочим на неделю, прислав счета в Губернское правление. Рабочие не возражали, и даже слышны были возгласы одобрения, но когда захотел садиться, они обступили меня, прося освободить арестованных товарищей; я остановил их резким окриком, заявив, что с насильниками и бунтовщиками будет поступлено по закону, и тут же приказал исправнику перевести арестованных в брестскую тюрьму. Узнав от исправника, что дознание еще не передано судебной власти, я при рабочих, для большей острастки, сделал ему выговор, после чего благополучно двинулся в путь. В Гродно на вокзале меня встретил Тарановский с ответной телеграммой Фрезе, ожидавшего меня в тот же день вечером. Недолго пришлось мне побыть в Гродно, я даже не вступил в управление губернией и выехал в том же своем салон-вагоне, который не покидал уже более недели, в Вильно.
Встреча и знакомство с Фрезе были очень приятны, но добиться от него того, чего я желал, мне не удалось: он, видимо, боялся утруждать государя такой просьбой и, главное, на первых порах своей службы в крае сознаться его величеству в такой оплошности администрации. Зато, видя мою горячность в убеждении, он стал просить меня ехать в Петербург и добиться через князя Мирского и личным влиянием скорейшего осуществления продажи земли крестьянам через посредство Крестьянского банка. Я на это ответил, что готов это исполнить, но для корректности он должен телеграфировать министру, что командирует меня в Петербург. Он на это согласился и спросил только, когда я могу ехать. Я ответил: «С первым отходящим поездом, если только Вы будете столь любезны поручить снестись с Управлением дороги, чтобы приказать прицепить мой вагон». Фрезе вскочил и стал жать мне руку, говоря: «Вот видите, с такой энергией и быстротой, да Вы чего угодно добьетесь в Петербурге! Ну, дай Вам Бог успеха!» И тут же своему адъютанту, моему приятелю полковнику Слезкину, он велел снестись
639
с Управлением дороги и заготовить телеграмму министру. А я, ввиду того, что поезд уходил через час времени, отправился в свой вагон на отдых.
Приехав в Петербург, я сейчас же отправился к директору Департамента полиции Алексею Лопухину, который встретил меня радостно и заявил, что дело улажено, так как департаменту удалось разыскать Гололобова и отобрать от него подписку в том, что он обязуется рассчитать рабочих. Такое незнание существа дела и формальное к нему отношение меня взорвали, и я, не стесняясь, очень грубо выразился, на что годится эта подписка Гололобова, у которого, я знал, не было ни гроша за душой. Лопухин был озадачен и спросил меня, как же можно помочь этому делу? А у меня за ночь путешествия созрел план в голове, а именно: ликвидировать все долги рабочих, расплатившись с ними из сумм губернского продовольственного или губернского страхового капитала; взятые же суммы пополнить впоследствии из денег, вырученных от продажи земли через посредство Крестьянского банка. Но так как эта мера не предусмотрена законом, надо было получить санкцию Министерства внутренних дел, а от Министерства финансов — соответствующее давление на Крестьянский банк. Лопухин вполне одобрил мои предположения и тут же по телефону спросил Мирского, когда он может меня принять. Последний сейчас же пригласил меня к себе. Сколько раз я бывал в этом доме и в служебном кабинете министра внутренних дел, но никогда я не чувствовал такого спокойствия и отсутствия стеснения; во-первых, я знал, чего я домогался, понимал, что это необходимо et j’etais ferre sur mon terrain, а во-вторых, и самое главное, Мирского я хорошо знал и знал, что он и любит и ценит меня. Все же он меня встретил не особенно дружелюбно следующими словами, правда, скрашенными доброй улыбкой: «Как Вы мне надоели с делом Черняных Руд! Подумаешь, слушая Вас и читая Ваши письма, что от него зависит спокойствие всей России. Я сделал все, что мог, дал Вам из секретных сумм 3000 рублей, и ничего больше от меня не ждите. Предоставьте это дело собственному течению; Гололобов со временем расплатится с рабочими — он дал в этом подписку». «Нет, князь, я на этом не успокоюсь, — возразил я, — потому что, если сейчас не удовлетворить рабочих, вспыхнут серьезные беспорядки, и мне, как губернатору, придется их подавить оружием; всякая капля пролитой крови падет не только на меня, но и на Вас как бывшего генерал-губернатора этого края, просмотревшего все незаконные действия Гололобова, совершенные им в бытность управляющим канцелярией генерал-губернатора. Гололобов гол, как сокол, и успокоиться на его подписке — значит, отнестись к этому делу формально, а не так, как требует сего долг присяги».
Мирский задумался, сразу переменил тон и спросил меня, что же я думаю делать. Я ему повторил то, что я только что изложил Лопухину; он тотчас со мной согласился и стал даже писать телеграмму в Гродно, по моей просьбе, управляющему губернией о разрешении позаимствовать нужную сумму из продовольственного капитала.
Но мнительный характер Мирского взял верх, он вдруг перестал писать телеграмму и спросил мнение присутствовавшего при нашем разговоре товарища министра Рыдзевского; последний высказал мнение, что для такого позаимствования надобно согласие министра финансов. Мирский заколебался, моих доводов
640
не хотел больше слушать и потребовал, чтобы я побывал у Коковцова — министра финансов. На мою просьбу ускорить мне прием у Коковцова Мирский протелефонировал ему и получил от него ответ, что ввиду спешности дела Коковцев меня примет завтра в 8 часов утра (совершенно необычайный час для приема министра). На следующий день облекся я опять в мундир и по совершенно еще темным улицам (не надо забывать, что это было в декабре), а потом по освещенным лестницам и приемным добрался я до кабинета министра финансов, куда тотчас же был введен.
Подробно изложил я дело Коковцову, подчеркнув, что и подчиненные ему чины Фабричной инспекции во многом виновны, так как они проглядели незакономерности в этом деле; а Крестьянский банк по неизвестным мне причинам met des bâtons dans les roues. Последнее, по-видимому, рассердило Коковцова, и когда я дошел до того места, что позаимствование будет возвращено из ссуды Крестьянского банка, почему нет никакого риска на такое разрешение, он меня резко остановил со словами: «Почему? Деньги получит Гололобов, а Вам ничего не заплатят». Я ему возразил, что этого не может быть, потому что я наложил запрещение на имение. Коковцев повышенным голосом сказал: «Это незаконно и за превышение власти Вы можете быть отданы под суд». Я тогда тоже раскипятился и дрожащим голосом ему ответил: «Может быть, Ваше высокопревосходительство; не спорю, что мера, принятая мной, не предусмотрена законом, но может быть отменена только постановлением Правительственного Сената, а до того она обязательна для всех, и для Вас тоже. И если Вы дадите распоряжение Банку выдать ссуду фиктивному владельцу невзирая на мое запрещение, то Вы будете подлежать суду». Не знаю, что повлияло на Коковцова: логичность ли моих рассуждений или мой тон, но только он сейчас же сдался, совершенно переменил свое обращение со мной и не только дал свое согласие на проектируемое мною позаимствование, но даже обещал указать Крестьянскому банку решить скорее это дело в соответствии с моими пожеланиями. Прощаясь с ним, я его спросил, могу ли я передать министру внутренних дел безусловное его согласие. Он, пожимая мне руку, уже совсем дружески сказал: «Передайте князю Мирскому, что я не только согласен, но и вполне одобряю Ваше предложение».
Едучи к Мирскому в назначенный им час, я заранее, боясь опять его нерешительности, заготовил сам соответствующую телеграмму, которую ему оставалось только подписать; приготовил я и свою собственную телеграмму к управляющему губернией, в которой, ссылаясь на разрешение министра, просил Ласточкина образовать комиссию (указав состав ее), которой поручить немедленно выехать на место, чтобы окончить это дело до Рождества. Мирский на этот раз никаких возражений не сделал, подписал телеграмму, и мы с ним, сделав такое хорошее дело, с облегченным сердцем пошли завтракать к нему.
В тот же день я выехал обратно в Гродно, надеясь, что там уже все дело устроено. Но человек предполагает, а Бог располагает, и я застрял в пути благодаря сильной метели, а комиссия, выехавшая из Гродно в Черняны Руды, не доезжая Бреста, попала в такие заносы, что добралась до места лишь в самый Сочельник. Все же в первый день Рождества комиссия ликвидировала все дело, рассчитала рабочих, дала им бесплатные билеты для проезда на родину, и рабочие,
641
по собственному почину, на второй день отслужили благодарственный молебен и молебен о моем здравии.
Через несколько времени приехала в Гродно Комиссия по ревизии гродненского Крестьянского банка. Управляющий отделением, как результат ревизии, был переведен из Гродно, а вновь назначенный, когда приехал и представлялся мне, сказал, что ему поручено поскорее окончить дело продажи земель из Черняных Руд и в этом деле согласовать свои действия с моими указаниями. Я убедился, что Коковцов сдержал свое обещание. Впоследствии я увидал, какая большая осведомленность [об этом была] в революционных кругах. Подробности о деле Черняных Руд знали только те должностные лица, которые так или иначе были причастны к нему. Между тем Николай Димитриевич Беклемишев, посетив однажды мою жену, рассказал ей в подробности все мои действия по ликвидации этого дела; узнал же он о них от ссыльного, высылаемого из Пермской губернии за границу; ссыльный этот, революционер, знал все это дело до мельчайших подробностей, узнав про него еще в Перми. Если бы мы, администраторы, были бы столь же осведомлены, как те, с которыми боролись, мы избежали бы многих ошибок.
Рассказывая про беспорядки, бывшие при мне в Гродненской губернии, я нарушил хронологический порядок, потому что коснулся того времени, когда Мирский уже ушел из генерал-губернаторов, а прослужил я с ним мирно и приятно почти полтора года. Раз только вышла у меня с ним непродолжительная размолвка.
В одном из местечек Кобринского уезда, где расквартирован был батальон пехоты, один из местных офицеров в нетрезвом виде угрожал или пустил в ход оружие, не помню точно, почему толпой евреев был обезоружен и представлен к своему начальству. Я, получив об этом донесение исправника и узнав от прокурора, что следствие производится, не обратил на этот случай особого внимания. Я даже и позабыл совершенно об этом событии, как вдруг однажды вечером приехал ко мне один из офицеров, состоявших при Мирском, ротмистр Загряжский, с бумагой от Мирского о том, что он командирован расследовать обстоятельства «оскорбления военного мундира в Кобринском уезде». Загряжский передал мне и частное письмо Мирского, в котором последний мне выговаривал за то, что я ему не сообщил о таком выдающемся случае, что моя обязанность всемерно охранять честь русского военного мундира. Я передал Загряжскому все дело, посоветовал ему не делать из мухи слона, а Мирскому частным письмом ответил, что именно охраняя русский мундир, я считаю полезным предать это дело забвению, так как иначе всплывет позорное дело для русского офицера: употребление в нетрезвом виде оружия против беззащитной толпы; добавил я, что по тем же соображениям прокурорский надзор прекратил дело. В каком виде Загряжский доложил свое расследование генерал-губернатору — не знаю, но результатом было распоряжение Мирского двух евреев, обезоруживших офицера, посадить под арест впредь до высылки их за границу, о чем он, генерал-губернатор, представил министру. Плеве вообще не любил Мирского и в этом деле особенно явно высказал свое недружелюбие; спустя месяца полтора было получено телеграфное распоряжение министра внутренних дел немедленно выпустить этих
642
лиц из-под ареста, так как не усматривается достаточного повода к высылке означенных лиц за границу. Можно себе представить, какое создалось благодаря этому конфузное положение. Распоряжение тотчас было исполнено, и Мирский был поставлен в крайне неловкое положение; со мной он никогда по этому поводу не говорил, но некоторое время таил против меня недовольство.
Прослужил я с Мирским около полутора лет; в октябре 1904 года он был назначен министром внутренних дел. Помню, как, уезжая летом 1904 года в отпуск, я был у него в Вильно, и между нами зашел разговор о возможности предложения ему поста министра, каковую возможность он горячо отрицал. Я ему высказал, что, действительно, ему трудно быть министром как по слабости его характера, присущему ему мягкосердечью, так и по состоянию его здоровья. Он постоянно страдал астмой, так что должен был ежедневно отдыхать, сидя в кресле в полной тишине часа два; кроме того у него бывали приступы подагры, приковывавшей его надолго к постели. Когда я вернулся из отпуска, назначение его уже состоялось, и при первом свидании он мне подробно рассказал все обстоятельства, сопровождавшие это назначение; они были столь своеобразны, что тогда же его жена записала с его слов разговор его с императрицей-матерью и с государем. Передам их, как я их помню.
По случаю рождения наследника князь Петр Дмитриевич Мирский был сделан генерал-адъютантом и как таковой поехал в Петербург на крестины наследника, чтобы вместе с этим благодарить государя за такую великую милость. После крестин он представлялся государыне Марии Федоровне. Пост министра внутренних дел был вакантным за убийством Плеве, и стоустная молва упорно называла Мирского его преемником. На вышесказанном представлении государыня его вдруг озадачила вопросом: «Говорил ли с Вами мой сын?», и на его ответ, что нет, ее величество добавила: «Вы должны исполнить его желание, и если Вы его исполните, то я Вас поцелую». На что Мирский сконфуженно сказал: «Всякое желание государя императора равносильно для меня его повелению, которого я ослушаться не могу».
На следующий день он откланялся государю, и видя, что государь ему ничего не говорит, Мирский, чтобы выяснить положение, просил его разрешения уехать в кратковременный отпуск для отдохновения в свое харьковское имение Гиевку, не сдавая должности генерал-губернатора. Государь дал на это свое согласие и отпустил его. Мирский, довольный, что эта чаша его миновала, в тот же вечер покатил со своей женой в Гиевку. Не успел он въехать в Гиевку (поезд приходил около 10 часов утра) и сесть на своей террасе за утренний кофе, предвкушая отдохновение в любимом имении, как ему подали телеграмму государя, назначавшего ему день и час для аудиенции для важного дела. Срок был такой краткий, что необходимо было выехать следующим поездом, что Мирский и исполнил; с ним поехала и княгиня, понимая, что дело о назначении мужа министром опять всплывает. Мирский ехал с твердым намерением изложить его величеству все свое политическое credo, совершенно противоположное тому, которым руководствовались Плеве и Сипягин. Государь его принял особенно любезно, извинялся, что потревожил его отдых, сам выбрал ему лучшие папиросы, одним словом, выказал ему особое внимание. После такого вступления государь
643
ему сказал: «Вы должны исполнить просьбу, с которой я к Вам обращусь». «Ваше величество, — отвечал Мирский, — я Ваш генерал-адъютант, и если был бы здоров, я просил бы Ваше величество послать меня на войну; теперь же мне остается, за невозможностью быть Вам полезным на поле битвы, принять то назначение, которое Вам угодно на меня возложить». — «Я прошу Вас принять пост министра внутренних дел», — сказал государь. «Ваше величество, Вы не можете просить, а Вы можете приказать, — возразил Мирский, — но ведь Вы меня совсем не знаете! По моим убеждениям, я не могу продолжать политику Плеве, и такое назначение явно знаменовало бы перемену курса внутренней политики». — «Я именно этого и хочу», — горячо вставил государь.
«Я настолько расходился, — продолжал Мирский, — еще с Сипягиным, что когда он начал всячески ограничивать Земство, я написал ему письмо о том, что я более не могу оставаться товарищем министра при нем; письмо это не было послано лишь потому, что в этот день Сипягин был убит. Когда последовало назначение Плеве, я, расходясь с ним диаметрально во взглядах, откровенно ему высказал, что не могу с ним служить, и показал ему письмо, написанное мною Сипягину, которого Плеве считал слишком гуманным и недостаточно твердым. Вячеслав Константинович просил меня повременить с уходом, боясь, что мой уход растолкован будет не в его пользу, но обещался в самый короткий срок устроить мне новое назначение, которое не подчеркивало бы мой разлад с ним; и Вашему величеству благоугодно было назначить меня через месяц на пост виленского генерал-губернатора; все же в широких кругах стало известно, почему я покинул пост товарища министра внутренних дел, и мое назначение было бы как бы осуждением политики последних двух министров».
«Вы мне необходимы», — вновь вставил государь. Мирский продолжал подробно выяснять свою точку зрения; он откровенно высказал государю, что недовольство растет во всем обществе, что образовались как бы две враждебные группы: правительство и общество; что необходимо единение с обществом, что в такую трудную минуту, как настоящая война, столь непопулярная, необходимо опереться на здравые общественные силы и выказать обществу доверие. Государь неоднократно поддакивал ему, говоря, что это именно его мнение и его желание. Кончил Мирский свою profession de foi такими следующими словами: «Одним словом, Ваше величество, я был и есть земский человек». Государь неожиданно с живостью сказал: «Вот видите, значит, Вы сторонник земских начальников? Как это меня радует! Я придаю особое значение этой реформе моего покойного отца». Мирский сконфуженно возразил: «Я, Ваше величество, не противник земских начальников, но между ними и Земством, о котором я говорил, ничего общего нет». Все же государь не хотел более слушать возражения Мирского и сказал, что все, что тот ему изложил, еще более убедило его, что Мирский именно тот, который и нужен ему теперь как министр внутренних дел. Князю Петру Дмитриевичу оставалось только послушаться повеления его величества, преклониться пред его волей, но все же он обратился к государю с последней просьбой, которая особенно рисует его благородный, рыцарский характер. «Я могу, государь, Вам быть полезным, лишь пока Вы мне доверяете; готов все свои силы, способности положить на это трудное дело, но обещайте мне, Ваше
644
величество, что как только закрадется в Вас сомнение, как только пошатнется Ваше доверие ко мне, Вы мне это тотчас сами скажете, и я, уже как непригодный Вам, немедленно удалюсь». Государь ему это обещал, отпустил его, милостиво его обняв, и только поручил ему лично открыть в Вильно памятник Екатерине Великой, заметив, что сам он на открытии не будет, а пришлет вместо себя великого князя Михаила Александровича и надеется, что Мирский сумеет показать при этом событии, что польское общество Литовского края примирилось с русским правительством и может вновь удостоиться восстановления дворянских выборов в крае, что государь велел уже обнародовать. Между прочим, это высочайшее повеление никогда не было приведено в исполнение. Итак, когда я приехал в Вильно на открытие памятника, я встретил Мирского уже министром внутренних дел и услышал лично от него всю эту историю, причем он шутливо мне напоминал, что я ему высказал, что он на этот пост непригоден.
К открытию памятника съехалось очень много народа; к торжеству были привлечены и Витебская, и Минская губернии, и, кажется, даже Могилевская. Перед этим шли обсуждения губернаторов с Мирским о таких экстраординарных наградах, которые бы подчеркивали объединение польского и русского обществ. По своей губернии я заметил, и это было одобрено, пожалованье придворными званиями: князя Святополк-Четвертинского — гофмейстером, Скирмунта и Ознобишина — камер-юнкерами. О Четвертинском и Ознобишине я уже писал и выяснил значение их: первого — как признаваемого всем польским обществом своим губернским маршалом; второго — как местного предводителя дворянства из поместного дворянства, популярного среди поляков и русских. Скирмунт же был избранный сельскохозяйственным обществом товарищ председателя, и хотя мнил себя истым поляком, в сущности был коренной литовец. Из этих наград особенный произвела эффект награда Четвертинского: старику она была приятна, и он, как лояльный человек, говорящий правду-матку как властям, так и своим полякам, никак не допускал мнения, что эта награда русской власти будет истолкована не в его пользу. Он только пытался от меня узнать, кто его вспомнил; я, понятно, скрыл от него участие мое в этом деле, а старался убедить его в мысли, что не только власти, но и царь знает его лояльность, сумевшую благородно сочетать любовь и преданность к своей национальности с верноподданническими чувствами к хозяину земли Русской. Скирмунт как-то обиделся и, по-видимому, побоялся, что поляки признают его предавшимся русскому правительству; дальнейшая его деятельность после 1905 года как члена Государственного Совета по выборам от дворянства Гродненской губернии более ярко обрисовала его личность.
Мирский напоследок дал простор своей широкой русской хлебосольной натуре. Как великий князь Михаил Александрович со всей своей свитой, так и все приехавшие из Петербурга должностные лица и мы все, настоящие и бывшие губернаторы, нашли приют в роскошном генерал-губернаторском дворце. Моим соседом по комнате был Петр Владимирович Веревкин, тогда уже не губернский предводитель моей губернии, а ковенский губернатор. У меня был свой экипаж и мы с ним вместе ездили на все торжества. Устройство торжества было дело нешуточное, и только, может быть, обаятельность личности Мирского предотвратила
645
скандал. Открытие памятника Екатерины, покорительницы края, уничтожившей польскую самостоятельность, для поляков было — нож острый; они, несомненно, не могли высказывать радости и сочувствия такому торжеству. Личности, как Святополк-Четвертинский, сознававшие при существующей политической конъюнктуре необходимость тяготения поляков к России, были единицами. Большинство же не могло забыть муравьевских репрессий, и припев «Польша не сгинела» был политическим верованием. Я помню одного знатного поляка моей губернии (фамилию не назову), который с пеной у рта говорил о русских, а в разговоре со мной, хотя был корректен, давал чувствовать такую злобу, что было даже жутко; история его такова: его родная мать по распоряжению Муравьева была высечена исправником в своем имении перед народом. Можно ли было ожидать, при наличии даже такого единичного случая, искреннего примирения польского общества с русским правительством до того, чтобы они радовались памятнику императрице, уничтожившей их самостоятельность. И вот, незадолго перед торжеством, Мирскому стало известно, что поляки решили бойкотировать этот праздник; лозунгом было — отсутствовать всем полякам на открытии памятника. Это был бы неслыханный скандал, очень в руку Европе.
Виленским губернским предводителем был бессменно уже долгое время граф Плятер, единственный поляк-предводитель во всем крае, и молва называла его если не организатором этого бойкота, то сочувствующим ему, хотя положение его как должностного лица было крайне щекотливое. Мирский, как всегда рыцарски благородный, понимал и психологию поляков, и трудное положение русской власти; сердце его ему подсказало, что устрашающие меры только унизят престиж власти, хотя, быть может, и достигнут желаемого результата, а потому он решил переговорить начистоту. Вызвал он к себе Плятера и видных представителей поляков и ясно им объяснил, что если в тот день, когда их край посещает брат государя, они сделают такую демонстрацию, это будет оскорбление всей России, которая как-никак им более родна, чем Германия и Австрия; в глазах Европы эта демонстрация докажет такую язву, которая вызовет в Европе только злорадство. От них Россия и власти не ждут ликования, но вправе требовать порядочного и корректного поведения хозяев, принимающих высокого гостя. Петр Дмитриевич не был оратором, но во всем, что он говорил, чувствовалась всегда такая правдивость, искренность, что и тут он победил этим поляков, и они заявили, что бойкота не будет; даже решено было устроить прием дворянством края, в котором преобладали поляки, великого князя. Вероятно, ввиду этого Мирский и просил нас, приезжих губернаторов, сделать визит графу Плятеру и виленскому епископу — барону Роопу. Торжества прошли совершенно благополучно. Памятник был освящен архиепископом Ювеналием (в мире Половцовым, братом члена Государственного Совета), но и католическое духовенство с бароном Роопом во главе присутствовало. Затем был дневной раут от дворянства края с корректными, вполне приличными тостами. День завершился обедом у генерал-губернатора на несколько сот человек, после чего великий князь отбыл в Петербург. Обед был для меня очень тяжелый, так как перед самым началом я получил телеграмму от Лизы о кончине тети Эмилии Капнист; зная, какое это горе для Лизы, да и для меня это была чувствительная утрата,
646
у меня на душе было невесело. Искал я сочувствия своему настроению и поспешил поделиться этим известием с единственным родственником, Виктором Лопухиным, служившим тогда непременным членом Вильно; но он был весь поглощен мечтами о карьере, которая, казалось, была для него близка, и отнесся к моему сообщению совершенно холодно. Зато его брат Боря Лопухин, неожиданно очутившийся здесь по званию уездного предводителя Минской губернии, совершенно иначе отнесся к известию о кончине тети Эмилии и со мной вместе поскорбел об этой утрате, понимая несоответствие окружающей обстановки с нашим переживанием; а мне предстояло пробыть в Вильно еще целый день, так как на следующий день должен был состояться окончательный отъезд Мирского, и мы все, должностные лица края, должны были его проводить. С моим спутником по торжествам Веревкиным мы вкусами не сходились; он, как истый петербуржец, все стремился быть поближе к солнцу, великому князю, и все боялся опоздать и остаться назади; я же исполнял лишь должное, не имея никакого желания выдвигаться и напоминать о себе. Помню, как при отъезде великого князя мы немного опоздали на вокзал, и Веревкин, забыв свое губернаторское звание, бежал по платформе, стремясь встать близ великокняжеского окна, а я лишь отдал честь отходящему поезду. Сознаюсь, что я на великого князя был сердит, потому что незадолго перед тем у меня произошел неприятный конфликт по случаю его проезда через Гродно. При великом князе состоял мой товарищ по полку и большой приятель, Дмитрий Яковлевич Дашков, по прозванию «Митушок», о котором я уже не раз писал. Однажды начальник жандармского железнодорожного отделения телефонограммой доложил мне, что с дневным поездом в этот день проезжает великий князь Михаил Александрович в Петербург. Как ни скучны были мне такие встречи, я все же почел себя обязанным ехать на вокзал. Подходит поезд, из великокняжеского вагона выходит Митушок Дашков и чуть ли не с криком набрасывается на меня: «Зачем ты приехал? Ведь великий князь выразил желание, чтобы его нигде не встречали!» Я на это возразил ему, что такого распоряжения я не получал, и его телеграмма, по-видимому, где-то застряла. Он еще больше стал кипятиться: «Не могу же я телеграфировать каждому губернатору по пути! Я телеграфировал вашему министру, и ты должен был подчиниться его указаниям и не беспокоить великого князя». Тут уже и я рассердился: «Если ты так оберегаешь покой великого князя, то обязан был телеграфировать губернатору, с которым не грех и тебе сноситься. Ты избавил бы меня от неприятной встречи с тобой и от лишнего утомления ездить на вокзал мне, человеку занятому. Прощай».
Нарочно я говорил все это очень громко, чтобы публика, слышавшая первый окрик Дашкова, поняла бы, что это товарищеская перебранка. Тут уж Дашков меня не пустил, сказав, что великий князь меня видел в окошко и хочет меня видеть. Я поспешил к его высочеству и объяснил ему, что я ничуть не виновен в происшедшем недоразумении, что виноват Дашков, который считает ниже своего достоинства сноситься с нами, губернаторами, и повеления его высочества переданы были непосредственно министру, от которого до сих пор мною ничего не получено. Великий князь сконфуженно благодарил меня за то, что я приехал, и скоро отпустил. На перроне я все же дружески обнялся с Дашковым,
647
пожелал ему поменьше мнить о себе, помня, что он лишь состоит при великом князе, а губернатор есть представитель его величества в губернии. Мое торжество было полное, когда в тот же день вечером в Вильно выехали встречать великого князя на вокзал все власти с генерал-губернатором и командующим войсками округа во главе. Тут уж Дашкову досталось и от великого князя, и от генерал-губернатора, и от командующего войсками. Телеграмма же министра внутренних дел о том, что великий князь отклоняет всякие встречи, была получена на следующий день.
Вернусь к пребыванию в Вильно. После отъезда великого князя Мирский окончательно сдал генерал-губернаторское управление, то есть каждый из нас, губернаторов края, получил ту же полноту власти, как и в центральной губернии. На следующий день Мирский был уже только министр внутренних дел, назначил аудиенции тем, с которыми хотел говорить. Чувствовалось, что крутом него уже закопошились люди, желавшие воспользоваться близостью к нему, чтобы устроить себе карьеру. Один Слезкин, вечный адъютант чуть ли не пятого генерал-губернатора, довольствовался остротой, что он отныне товарищ министра, и говорил он правду, потому что он с Мирским был одноклассник по Пажескому корпусу. Первая интрига началась со стороны Вити Лопухина, и должен сказать, что Пален, виленский губернатор, сыграл здесь некрасивую роль. Я знал, что хлопоты Вите не удадутся, но был связан словом и не мог его предупредить; а между тем для него приносил себя в жертву его брат Борис. Дело было так: открывалась ваканция губернского предводителя дворянства в Минске, и на это место не только мог претендовать, но даже окончательно был намечен еще в бытность Плеве Боря Лопухин, бывший до того уездным предводителем в Борисовском уезде. С назначением Мирского Пален стал интриговать, чтобы губернским предводителем минским был назначен виленский вице-губернатор, от которого он хотел отделаться; зная, что это место уже обещано Боре Лопухину, Пален намекнул Вите, родному брату Бори, что пусть он, Витя, просится у Мирского в вице-губернаторы в Вильно. Витя ухватился за эту мысль, переговорил с братом, и последний благородно отказался от обещанного повышения по службе. Я же знал от самого Палена, что он не допустит назначения Вити Лопухина к нему вице-губернатором: хочет лишь отделаться от настоящего своего помощника. В результате выиграл только один Пален, отделавшийся от своего вице-губернатора; оба же брата Лопухины остались ни при чем. Боря вышел в отставку, а Витя лишь года через два, при министре Булыгине, был назначен тульским вице-губернатором. Тут же в Вильно, еще до отъезда Мирского, намечено было новое назначение, а именно харьковского губернатора Ватаци на пост директора Департамента общих дел, то есть правой рукой министра по делу личного состава. Ватаци губернаторствовал в Харькове лишь несколько месяцев, до того был ковенским губернатором, почему и был приглашен на торжество открытия памятника. Мы с ним были в приятельских отношениях, и от него я лично слышал, как он в начале службы Мирского генерал-губернатором с ним препирался. Положение о генерал-губернаторской власти в Вильно в законе было очень неопределенное. Не было точных распределений функций губернаторской и генерал-губернаторской власти, как, например, в Царстве Польском
648
и Кавказском наместничестве. Генерал-губернатор был лишь высший представитель власти в крае, и от его усмотрения зависело, в пределах ему желательных, ограничивать губернаторскую власть. Мирский был назначен после того, как генерал-губернаторский пост был долгое время вакантным, и застал двух молодых губернаторов, Столыпина и Палена, и одного старого, опытного — Ватаци. Первые два на первых же порах открытия генерал-губернаторства, по-видимому, засыпали Вильно своими представлениями. Ватаци же, не получая никаких директив, продолжал по-старому управлять губернией. Такое обилие бумаг из Гродно и Вильно, при почти полном их отсутствии из Ковно, создало Ватаци репутацию губернатора, фрондирующего против генерал-губернаторской власти, и Мирский, подзуживаемый своим управляющим канцелярией Харузиным, выехал в Ковно на грозную ревизию. Мирский был слишком порядочный человек, чтобы объяснение было бы бурное, но и недостаточно он знал закон, чтобы дать категорическое указание Ватаци, почему у него вырвалась неосторожная фраза: «С назначением генерал-губернатора все сношения губернаторов с Министерством внутренних дел прекращаются, и отныне все эти сношения должны проходить через меня».
Ватаци, видимо, рассерженный, главное, не на Мирского, а на Харузина, отстаивавшего только престиж власти, а не существо дела, ничего на это не ответил, но, подцепив последние слова Мирского, стал направлять в Вильно все бумаги, подлежащие ведению даже департаментов Министерства, и еще до отъезда Мирского из Ковно прислал целую кипу таких представлений, несколько сот номеров. Тогда канцелярия генерал-губернатора заохала от обилия работы, и кончилось тем, что Ватаци был вызван в Вильно; Мирский с ним же обсудил, какие дела края изъять из ведения губернаторов; к таковым были отнесены: покупка земли католиками, дела ксендзов, вероисповедные и политические. Мирский, по-видимому, оценил и деловитость, и самостоятельность Ватаци, почему когда стал министром, просил Ватаци быть его ближайшим сотрудником. Это была большая тайна и узнал я о ней совершенно случайно. Для меня отъезд Мирского был нож острый; я понимал, что таких отношений с генерал-губернатором у меня никогда не будет. Мне все мерещилось повторение харьковской истории — смена Тобизена Оболенским; пуганая ворона куста боится, почему у меня была одна мечта: убраться из Гродно при помощи Мирского. Просил я у него аудиенцию в последний день, явился на нее уже в мундире, как к министру, что, видимо, понравилось Мирскому. В откровенной беседе я высказал ему все то, что чувствую, и как боюсь оставаться без него. Он и поблагодарил меня, и посмеялся надо мной, но тут же добавил: «Рано, рано, Михаил Михайлович. Вы еще поработайте в крае, край тем и страдает, что власти слишком скоро меняются: ничего нет устойчивого. Вы столько сделали уже в Гродно, что на Вас я более, чем на всех остальных, надеюсь. Что Вы хотите от меня? Чтобы я как министр действовал бы явно во вред Гродненской губернии, переводя Вас из нее? Только из-за нее, из-за самого дела я не могу этого сделать». Пока я слушал его тираду, мое лицо делалось все более и более сумрачным, и тут его сердце опять возобладало, почему он вдруг остановился и сказал: «А хотите Вы место харьковского губернатора? Согласны Вы вернуться на старое пепелище?». Мне сразу представилась, в каком ужасе будет
649
Лиза от такого назначения, вспомнилась вся сложность положения с высшими учебными заведениями, дороговизна жизни и все то дурное, нанесенное Оболенским, которое, по словам Ватаци, он еще никак не мог искоренить, и я, подумав, наотрез отказался. Тогда он мне сказал, что, значит, сама судьба указывает мне оставаться в Гродно. На этом и покончилась аудиенция.
Вечером состоялся его отъезд. Никогда не видел я и, вероятно, не увижу таких проводов; видно было, что ничего не было подготовлено, а это был лишь естественный порыв населения, желавшего показать любимому начальнику края, покидавшему его, свое уважение и сочувствие. Улицы, по которым он проезжал, были полны народом, кричавшим ему прощальные приветствия; с балконов домов публика махала ему платками, а когда мы прибыли на вокзал, оказалась на площади, на перроне вокзала и на железнодорожных путях многочисленная толпа: мундирные люди, должностные лица совершенно исчезали в этой толпе. А полковнику Мейеру, полицмейстеру Вильно, пришлось много потрудиться, чтобы предотвратить какое-нибудь несчастье в такой толпе. Мирский неоднократно должен был подходить к окнам той и другой стороны вагона и кланяться на обе стороны; всякое его появление вызывало крики: «Ура! Прощайте! Не забывайте! Спасибо!» Он, видимо, был глубоко тронут. Напряжение, хотя и благожелательное, все же было так сильно, что я рад был, когда поезд тронулся под громкое «ура». Как сейчас вижу взволнованное лицо князя, стоявшего на площадке вагона и посылавшего нам, своим ближайшим сотрудникам, свой последний поклон. Казалось, что при такой популярности этого человека его работа на министерском посту не может не вызвать доверия общества, и лед между правительством и обществом будет сломан. Но завистники скоро сумели и этого человека очернить. Какие он сделал ошибки в области политики — не берусь судить. Что они были — это несомненно, но все же Мирский был рыцарь чести и благородства; именно эти его свойства государь не сумел оценить и на них опереться. С грустью вспоминаю как контраст описываемой сцены его проводов последнее мое свидание с ним в Петербурге в бытность его еще министром. После окончания делового разговора остались мы с ним одни в кабинете, ожидая обычного зова княгини к завтраку; тут он, вспоминая наши былые близкие отношения, как-то нравственно расстегнулся, и он, никогда не осуждавший своего государя, высказал мне, что его положение становится невыносимым. Государь даже под разными предлогами отменил его доклады и требовал присылки письменных докладов. Мирский чувствовал, что потерял его доверие, что объяснение личное необходимо, а между тем государь даже не отвечает на просьбу его об этом. «Я государя совершенно перестал понимать, — добавил Мирский, — вот Вам пример, Михаил Михайлович: после громкой истории с адресом черниговского дворянства, признанного его величеством крамольным, и лишения, несмотря на все мои доводы, за этот адрес губернского предводителя Муханова придворного звания я с особой осмотрительностью отсылал государю адресы других дворянств, а их за этот месяц, благодаря войне, поступило почти изо всех губерний. Получаю я адрес Вашего калужского дворянства и, о ужас! вижу, что он еще более крайний, чем черниговский. Ну, думаю, бедный Ваш предводитель, старик Яновский; снять с него придворного звания нельзя, потому что
650
у него его нет, какое же возмездие его ожидает! Желая спасти его, я просто представил государю записку, что поступили верноподданнейшие адреса из разных губерний и, между прочим, из Калужской; самый адрес не послал. И вот в ответ я получаю записку от государя (он мне показал подлинник): “Пришлите мне калужский адрес, говорят, он особенно тепло написанный”. Пришлось подчиниться и я со страхом ждал ответа. Вот он». Говоря это, он мне протянул собственноручную резолюцию государя: «Адрес мне очень понравился; выразить мою особенную признательность калужскому дворянству».
Действительно, мне, знавшему всю историю этого адреса, такая высочайшая резолюция, в связи с увольнением Муханова, была яркой непоследовательностью. В калужском дворянстве было два течения: левым крылом верховодил Обнинский, будущий член Государственной Думы; Яновский же, понятно, примыкал к правому крылу; обе партии составили свои проекты адреса; эти два проекта были настолько диаметрально противоположны, что на частном совещании было признано, что ни тот, ни другой не могут иметь успеха. Мой beau-frère Женя Трубецкой, желая примирить обе партии, взялся составить компромиссный адрес, но на следующий день Обнинскому удалось подогреть своих единомышленников, и на собрании адрес Трубецкого был отвергнут. Тогда даже умеренные баллотировали за адрес Обнинского, боясь слишком правого выступления в то время, когда с высоты престола через Мирского было высказано доверие к обществу, что было растолковано тогда как призыв к активному участию в государственном управлении. Левый адрес прошел значительным большинством, и Яновский, хотя явно ему не сочувствовавший, должен был его подписать, но зато принял твердое решение покинуть свой пост как не сочувствующий большинству дворянства (это он и исполнил через месяц).
Бедный Мирский действительно не мог более разбираться в настроениях и желаниях государя, не имея даже возможности лично с ним общаться; вскоре после этого он получил от государя письмо, в котором государь ввиду его болезненного состояния освобождал его от дел. Следом его управления Министерством было несколько назначений виленских его сотрудников в Министерство, как-то Ватаци, о котором я уже говорил, управляющий канцелярией генерал-губернатора Харузин, назначенный директором какого-то департамента, и делопроизводитель канцелярии Белецкий, переведенный в Департамент полиции. С уходом Мирского и его ставленники скоро улетучились; один Белецкий удержался и достиг впоследствии даже поста директора Департамента полиции, что не говорит в его пользу, так как течение в Министерстве менялось с каждым министром, и способность удержаться при такой быстрой смене доказывает приспособляемость совести человека к самым противоположным принципам. В Вильно он занимал такой мелкий пост в канцелярии генерал-губернатора, что я, имевший дело лишь с генерал-губернатором и в редких случаях с управляющим его канцелярией, даже не помню этого Белецкого.
Вернусь теперь к моей деятельности в самом Гродно. В феврале 1903 года, то есть в первый год моей там службы, должно было быть введено Положение о земских начальниках в губернии взамен мировых посредников. Ноябрь и декабрь месяцы 1902 года были посвящены приготовительным работам и выбору
651
достойных кандидатов. Земских начальников полагалось, по Положению, чуть ли не вдвое больше, чем было до того мировых посредников. Поместного дворянства было мало, и приходилось искать кандидатов на стороне. В желающих не было недостатка, но необходимо было принимать с разбором, так как преимущественно стремились в край лица, не имевшие возможность по тем или иным причинам устроиться у себя, что, понятно, не всегда говорило в их пользу. Кроме того, как доказательство доверия к полякам решено было, в изъятие существующего закона, назначить известное количество земских начальников из поляков. На Гродненскую губернию было определено три места для поляков. Выбор этих лиц представлял особое затруднение; надо было быть вполне убежденным в полной их лояльности, трудоспособности, деловитости, правильном отношении к крестьянству и вместе с тем надо было заручиться такими людьми, представителями лучших польских фамилий, чтобы поступление их на государственную службу в крае доказывало бы примирение польского общества с правительством. При помощи Веревкина и уездных предводителей на частном секретном заседании у меня в кабинете были намечены трое: по Кобринскому уезду, Брестскому и Гродненскому. Наиболее из них удачным был земский начальник Брестского уезда, не помню его фамилии (кажется, граф Грабовский), но помню, что это был представитель одной из самых знатных польских фамилий, и притом очень богатый, так что его поступление не могло быть истолковано нуждой. По Кобринскому уезду намечен был Шемиот, тоже человек самостоятельный, но все-таки нуждавшийся в средствах. Фамилию третьего не помню, кажется, Войчинский. Выбор этого лица имел последствием крупное объяснение мое с уездным предводителем дворянства Ознобишиным, к которому долгое время потом относился недружелюбно. Имя каждого кандидата на этом секретном совещании обсуждалось всесторонне, и кандидатуры многих были бесповоротно отвергнуты. Когда дело дошло до Войчинского (если только фамилии не путаю), некоторые высказали возражение, ссылаясь на его большую задолженность по имению. На мой вопрос к Ознобишину, как его предводителю, я получил от него ответ если не категоричный по тону, то, во всяком случае, вполне поддерживавший кандидатуру дворянина его уезда. Каково же было мое удивление получить на следующий день подробное конфиденциальное письмо от Ознобишина, в котором он предостерегал от назначения Войчинского, выражая серьезное опасение, что благодаря его задолженности нельзя быть уверенным в его нелицеприятии. Письмо кончалось указанием, что высказать это на совещании он не мог, боясь нажить себе врага; что и настоящее его сообщение он просит держать в глубокой тайне, отнюдь никогда не называя его. Я, как старый предводитель, был глубоко возмущен таким отсутствием гражданского мужества и немедленно вызвал к себе в кабинет по делам службы Ознобишина. Дал ему наедине я горячую отповедь, высказав ему, что, понятно, наши мнения и суждения о лицах не должны быть достоянием широкой публики, почему и совещание было секретное, и я вправе был ожидать от каждого предводителя откровенного, правдивого мнения, не вступая с каждым из них еще в отдельную секретную беседу. Если он дает мне право открыто в среде его товарищей опираться на его отзыв, приложенный в конфиденциальном письме, я готов исключить сего кандидата
652
из списков. В противном случае я считал бы оскорбительным для самого совещания, если бы я без объяснения причины поступил бы вопреки ему. Ознобишин был очень сконфужен, но и тут не нашелся и продолжал настаивать, что его он просит не называть. Возмущенный такой трусостью, я категорично заявил, что кандидата этого не вычеркну из списка, а если выбор окажется неудачный, нравственная ответственность ляжет на Ознобишина. К сожалению, выбор оказался действительно неудачным, но совершенно с другой точки зрения. Назначенное лицо оказалось крайне ограниченным, совершенно нетрудоспособным, по общественному положению среди поляков совершенный нуль, но за все время моей бытности в Гродно ни в чем предосудительном замечен не был.
Итак, эти три кандидата-поляка прошли в Министерство. Сложным вопросом было открытие нового поста предводителя дворянства в Сокольском уезде. Я наметил мирового посредника Нарышкина, окончившего Пажеский корпус годом раньше меня и служившего до того в Лейб-казачьем полку. Сознаюсь, что мне хотелось продвинуть старого товарища, которого по Пажескому корпусу я помнил с лучшей стороны. Воспитание, полученное им в Пажеском корпусе, служба затем в гвардейском полку, вместе с хорошей рекомендацией его предводителя казались мне достаточными гарантиями его добропорядочности, почему я недостаточно вник в его имущественное положение, которое было настолько запутано, что со временем он, уже после моего отъезда, растратил какие-то суммы и едва избег суда. Но у меня были тоже особые причины настаивать на его кандидатуре, так как один из местных дворян Сокольского уезда, Анненков, заявил претензию на этот пост; эту кандидатуру поддерживал его beau-frère Зиновьев, бывший в то время товарищем министра внутренних дел, и не будь у меня своего кандидата, Министерство навязало бы мне эту личность. Сознаюсь, что и Нарышкин не соответствовал тому идеалу предводителя, который надо было проводить в жизнь, но, во всяком случае, он имел плюсов больше Анненкова. Последний когда-то служил вице-губернатором в одной из губерний Варшавского генерал-губернаторства; и он, и губернатор были одновременно уволены за какую-то неблаговидную покупку ценного художественного инвентаря из конфискованного польского имения. Зиновьев, ходатайствуя за Анненкова, частным письмом сообщал мне, что Анненков не был виноват, и назначение его на пост предводителя может послужить ему реабилитацией. Я же резонно ответил Зиновьеву, также частным письмом, что если цель его реабилитировать Анненкова, все средства у него для этого имеются как товарища министра внутренних дел, а именно — назначить его вновь куда-нибудь вице-губернатором; для сокольского же предводителя у меня уже имеется кандидат. С тем же Зиновьевым у меня была переписка по поводу другого земского начальника — Белостокского уезда, который через его посредство хотел добиться моего разрешения иметь камеру в городе; на этот раз я ему ответил на точном основании закона, указав ему, что губернское Присутствие утверждает лишь местонахождение камеры, выбранное земским начальником, но при непременном условии, чтобы камера была в пределах участка; а так как Белосток был выделен в отдельную городскую единицу с городскими судьями, то домогательство этого земского начальника незаконно. При этом не преминул я заметить Зиновьеву, что если он хочет изъятия из
653
закона для своего protégé, ему, как товарищу министра, надлежало обратиться не ко мне, губернатору, блюстителю закона в губернии, а к самому министру, который имеет право в установленном порядке вносить изменение в Положения о земских начальниках, как он и сделал для Московского уезда, где все камеры земских начальников сосредоточены в самой столице. Таким образом, видно, что я всячески отстаивал свою самостоятельность, и как старый земский начальник, понимавший, [что] эта реформа возможна лишь при хорошем составе людей, все свои старания и внимание обратил именно на подбор первого состава земских начальников. Впрочем, сознаюсь, что сделал одну крупную ошибку. В Волковысском уезде выставил свою кандидатуру местный крупный помещик Зуров, племянник бывшего командира моего полка графа Алексея Павловича Игнатьева. Сам Зуров никогда не жил в имении и по своему прошлому принадлежал к кутящей золотой молодежи Петербурга. Понятно, такое прошлое не говорило в пользу его назначения, но личное письмо ко мне графа Алексея Павловича решило судьбу Зурова, и он был внесен мною в список. К счастью, при начале Японской войны он был призван, и хотя сдал участок с довольно запутанными делами, но все же не сделал никакого неблаговидного поступка. Сдавшись на просьбу Игнатьева, я имел достаточно гражданского мужества противопоставить, несмотря на давление сильных петербургского мира, кандидатуру некоего графа Кутайсова, принужденного по каким-то служебным соображениям покинуть пост уездного предводителя по назначению. Перебирая в памяти всех земских начальников, не могу не упомянуть об оригинальной личности земского начальника Белостокского уезда — Стоянова. Он был по происхождению болгарин и даже занимал когда-то министерский пост в своей стране. Но, как сторонник России, во время стамбуловского режима подвергся преследованиям и, чтобы избежать тюрьмы, а быть может, и смертной казни, бежал в Россию. При вступлении мною в управление губернией, я его застал мировым посредником. Это был почтенный старец, уважаемый и любимый населением. Был у него, если не ошибаюсь, маленький клочок земли в уезде, а потому он удовлетворял всем требованиям закона, к тому же он принял русское подданство. Он очень импонировал в мундире, с белой бородой и с грудью, украшенной орденами, которых было вдвое или втрое больше, чем у меня; были у него и какие-то иностранные звезды, так что посторонний наблюдатель, видя нас вдвоем с ним, понятно, признал бы в нем губернатора, а во мне его подчиненного. Одно в нем было чуждо — это очень заметное нерусское произношение.
Ко дню открытия действия земских начальников я пригласил их всех вместе с губернскими и уездными предводителями в гродненский собор, попросив архиерея отслужить обедню и после оной привести всех новых должностных лиц к присяге. После церковной службы я пригласил всех к себе на завтрак. Стол был накрыт в Гербовом зале, покоем; во главе его сидел я, окруженный членами Губернского присутствия, то есть председателем Окружного суда, управляющим Казенной палатой, управляющим Контрольной палатой, управляющим Государственными имуществами, прокурором и непременными членами Губернского присутствия. Как раз против меня занимал место губернский предводитель Веревкин со всеми уездными предводителями дворянства; по бокам сидели земские начальники.
654
Первый тост провозглашен был мною за здравие государя, непосредственно после чего я обратился с речью к земским начальникам. В своем слове, которое, без излишней скромности скажу, было всеми одобрено, я, как старый земский начальник, обратился к ним как товарищ и по старому опыту своей прежней службы дал им следующий совет: «Помните, что для того, чтобы Ваша деятельность была плодотворна, Вам надо развить в себе то качество, которое, как бы ни усиливать, никогда не вредит делу. Доброта есть качество, но слишком большая доброта влечет за собой слабость; русская мудрая пословица говорит: “Палка о двух концах: одного гладит, другого бьет”, не забывайте этого; строгость как противовес доброте — есть хорошее свойство, но если ее усилить, можно дойти до жестокости. Одно есть только качество, которое, как бы ни усиливать, никогда не согрешишь; это качество есть справедливость, ибо ею только и разыскивается правда, которую Вы и призваны осуществлять Вашей деятельностью; для достижения же справедливости есть только одно средство — это суметь себя поставить на положение каждой из сторон, суметь понять их психологию, их переживания, и в соответствии с ними вынести то решение, которое не только сухо-формально справедливо, но и справедливо для каждого из них». «Да, господа, — кончил я свою речь, — Ваше дело трудное, оно требует постоянного нравственного, проникновенного напряжения, оно требует от Вас отдачи всех своих сил этому служению, а потому, как Ваш старший служебный товарищ, подымая бокал за Ваше здоровье, с особым чувством говорю Вам: “В добрый час, помогай Вам Бог!”». Сказано это было мною с большим подъемом; прокурор Кузьмин шепнул мне: «Михаил Михайлович, да Вы настоящий оратор, я этого не знал!»
Так как речь моя не кончалась обычным словом «ура», то и обычного грохота и энтузиазма не было, а напротив, какое-то было тихое продуманное настроение. Следующий мой тост был за уездные съезды; в этом тосте я старался выяснить значение фигуры предводителя дворянства; потом я предполагал поднять бокал за членов Губернского присутствия, выделив в этой коллегии губернского предводителя как представителя первенствующего сословия, пополняющего ряды земских начальников; но земский начальник Гродненского уезда Ознобишин, брат предводителя, крайне бестактно после моего тоста за уездные съезды, когда все еще ходили и чокались с предводителями, с середины залы провозгласил здравицу «за нашего губернского предводителя, уважаемого Петра Владимировича Веревкина». Меня это очень рассердило, потому что казалось намеком, что я забыл провозгласить этот тост; поэтому я и не касался личности губернского предводителя в своем последнем тосте.
За столом сидел и Тарановский, в качестве гостя, специально для составления отчета и отсылки корреспонденции в газеты. Этим обедом и кончился день открытия действия Положения о земских начальниках в губернии. Прощаясь со своими гостями, я их предупредил, что даю им срока месяца два, после чего начну объезд губернии для ознакомления с их деятельностью и прошу каждого из них, если ему представятся трудности, сомнения, поделиться ими со мной, чтобы я своим опытом мог им помочь. «Впрочем, — добавил я, — знайте, что мои двери для Вас всегда открыты, и когда бы вам ни потребовалось мое указание или совет, приезжайте ко мне, не считаясь с приемными часами».
655
Отношения мои с Ознобишиным, предводителем, благодаря его некорректности при выборах земских начальников, о чем я уже писал, и благодаря бестактности его брата на обеде были немного натянуты. Между тем он был настолько рекомендован мне Столыпиным как лучший предводитель, что я усиленно присматривался к его деятельности. Скоро мне представился случай оценить его деловитость, и вот по какому случаю. Числа 10-го или 9-го января первой зимы моего пребывания в Гродно поздно вечером, в совершенно необычное время, ко мне явился гродненский исправник Бюффонов с тревожным докладом о серьезных беспорядках в местечке Крынки. В Северо-Западном крае все кожаное производство сосредоточено было в двух местах: в Сморгони Виленской губернии и Крынках Гродненской губернии. Последнее занимало второе место по количеству оборотов, но и там дубились и обрабатывались начерно кожи на несколько десятков миллионов в год; товар этот отправлялся за границу для тонкой отделки, откуда уже возвращался на переплетные, сапожные, седельные и тому подобные фабрики. Все производство было в руках евреев, и, благодаря их недобросовестным расчетам с рабочими, часто возникали осложнения и забастовки.
Рабочий состав был смешанный: были и католики, и евреи. Не помню точно, как нарастало революционное движение в той местности, но, по докладу Бюффонова, дело представлялось так: были получены сведения около Нового года агентурным путем, что евреи собирались 1-го января, во время крестного хода на Иордань, напасть на церковную процессию. Католики, тоже злобно настроенные к православным, хотя и не предполагали участвовать во враждебных действиях, не намеревались и препятствовать. Так как такие слухи повторялись часто, Бюффонов корня их не расследовал, чтобы убедиться в их достоверности, а удовольствовался усилением на время праздников полицейской стражи в этой местности; в обычное время там были только становой и один урядник. 6-е января прошло благополучно, и 7-го, распустив полицейский наряд, Бюффонов вернулся в Гродно. Надо сказать, что в Крынках была своя почтово-телеграфная контора. Не помню уже, как и кто, но числа 8-го соседние полицейские чины обнаружили, что телеграфное сообщение с Крынками прекращено; хотя такие порчи в сельских местностях довольно обыденные явления, но на этот раз, ввиду предыдущего тревожного настроения, полиция всполошилась. Был послан урядник на разведки, и он обнаружил, что телеграфная линия кругом Крынок обрезана, часть проводки увезена и несколько столбов уничтожено, чтобы затруднить ремонт линии. Одновременно кто-то из жителей Крынок, бежавший оттуда, сообщил невероятное сведение, что Крынки объявили себя автономной республикой, избрали президента и вице-президента — двух евреев; духовенству, как православному, так и католическому, запрещено выходить из дома; должностные же лица местечка арестованы, предполагается их судить, казенное имущество разграблено. Представителями власти в местечке были, кроме станового и урядника, еще начальник почтово-телеграфной конторы со своими служащими и сиделец казенной винной лавки. Об этом-то и доложил мне Бюффонов. Надо было принимать экстренные меры; между тем, не помню почему, я не мог тотчас выехать из Гродно, на следующий день мне предстояло какое-то неотложное дело; милейший мой вице-губернатор Лишин был, как всегда, болен. Снесся я ночью
656
же с военными властями о посылке войск в Крынки, вызвал к себе Ознобишина и просил его, не в службу, а в дружбу, так как такое дело не входило в круг его обязанностей, поехать с Бюффоновым в Крынки и заменить меня там до моего приезда, обещая, что это продлится не больше суток. Когда я приехал в Крынки через день, дело было почти ликвидировано; и президент, и вице-президент самозванной республики, и большинство молодежи бежали; старики встретили меня с хлебом-солью, которые я от них, понятно, не принял; должностные лица все были освобождены и вернулись к своим обязанностям. Казаки были посланы загонять обратно разбежавшееся население, которое арестовывалось и передавалось в руки судебных властей. Все это было достигнуто без одного выстрела; войска, приведенные на рассвете Бюффоновым, окружив местечко, ударили в барабаны и с этим вошли в Крынки. Появление войск подействовало так ошеломляюще, что население встретило Ознобишина уже с повинной. К сожалению, главари, как-то президент и вице-президент, бежали в Америку и никогда не могли быть переданы в руки правосудию; ответили лишь самые низы этого движения, почему и дело, начавшееся так громко, кончилось пустяками. Из должностных лиц лучше всех действовала самая мелкая пешка, а именно сиделец казенной винной лавки; у него после праздников была на руках крупная сумма казенных денег, и он, как только узнал о начале беспорядков и бесчинств толпы, бросившейся на денежную почту почтового отделения, схватил казенные деньги, бросил свою семью и имущество на произвол судьбы, а сам с этой суммой денег запрятался в какой-то сарай с сеном, где и дождался прибытия войск, когда вылез из своей засады, голодный и измученный, но сохранивший казенные деньги, которые и представил начальству. Начальство его, недостаточно вникнув в дело, предполагало переместить его на худшее место за то, что он не защищал самой лавки от толпы. Возмущенный таким отношением, я вмешался, доказал им, что он один никак бы не мог отстоять казенную винную лавку, а спасши лишь денежную выручку, доказал свою сметливость; предоставив же ее со всеми документами ревизору, доказал и свою честность, так как он мог вполне сослаться на общий грабеж. Мое вмешательство подействовало, и он не только не был смещен, но еще получил денежную награду. Очень я благодарил Ознобишина, действовавшего с большим хладнокровием и тактом. С тех пор у нас с ним установились отношения вполне дружеские.
В течение этой зимы я был вызван в Петербург еще министром Плеве для участия в совещании. Тогда правительственные круги заняты были вопросом об усилении губернаторской власти для борьбы с крамолой. Каждый из нас был запрошен письменно о том, какие надобно принять меры, а затем все губернаторы были вызваны в Петербург, в три очереди, для совместного обсуждения с министром намеченных мер. Мой письменный ответ, посланный еще из Гродно, был крайне краток: я писал, что полнота губернаторской власти настолько велика, что нужно только по отношению к ней придерживаться существующего закона; закон же гласит, что губернатор подчинен только государю и Сенату, практика же низвела его на степень агента министра внутренних дел, чем и умалила его значение представителя особы государя на месте; поэтому я полагал совершенно уничтожить порядок назначения, увольнения и награждения губернаторов
657
через министра. В практическом смысле для облегчения губернатора от мелкой работы я полагал желательным ему иметь двух помощников: одного по гражданской части, другого — по полицейской, с подчинением последнему и жандармской полиции, которая не имела бы прямого сношения помимо губернатора с Департаментом полиции. Такой мой отзыв не мог быть в духе Министерства. Принят я был довольно сухо и мало помню наше совещание, большей частью под председательством товарища министра Стишинского. Лишь один раз Плеве созвал нас на вечернее заседание к себе и лично председательствовал. Результатов от этих совещаний не было никаких; правда, что мы были только первой группой приглашенных губернаторов. В числе вызванных был мой приятель по полку Адлерберг, тогда псковский губернатор. Мы с ним очень дружески встретились и вспоминали нашу веселую юность; смеялись мы с ним над нашим коллегой, олонецким губернатором Протасьевым: это был единственный губернатор всей России, который уезжал к себе в губернию из гостиницы «Франция», где он всегда останавливался, совершенно необычным способом, а именно в кибитке, на почтовых.
Из этого пребывания в Петербурге у меня осталась в памяти неожиданная для меня награда; как-то раз вечером, сидя у сестры, я был позван к телефону, и мой бывший полковой товарищ Федоров телефонировал мне, что я пожалован камергером. Как дошла эта весть так скоро в Гродно, не знаю, но на следующий день я уже получил телеграмму от родителей, требовавших, чтобы я на их счет заказал себе придворный мундир, много поздравительных телеграмм от подчиненных и сослуживцев, из которых одна, от прокурора Кузьмина, в особенно теплых выражениях, с упоминанием и о плодотворной деятельности и, как кульминационный пункт, [о] блестящем введении института земских начальников. Представление государю по поводу получения придворного звания я отложил до другого раза, разослал свои карточки через придворного лакея всем придворным чинам, жившим в Петербурге, и поспешил домой, где мне предстоял продолжительный объезд земских начальников, о котором я уже говорил выше. Это обозрение длилось очень долго. Посетил я все уездные съезды, за исключением гродненского, и в каждом уезде камеру одного земского начальника и по одной волости у других земских начальников. Особенно памятно мне посещение волости Волковысского или Слонимского уезда (не помню точно, какого). По делам Губернского присутствия я знал, что в этой волости постоянная жалоба на волостного писаря и что этот писарь занял в волости неподобающее ему место вершителя всех дел. Во время ревизии он все время вмешивался, не давал волостному старшине говорить, и видно было, что старшина при нем как бы должностное лицо с печатью для исполнения его распоряжений. Несколько раз я останавливал писаря, требуя объяснения дел от самого старшины, как вдруг он нахально мне объявил: «Да он, Ваше превосходительство, все равно ничего не понимает и дел не знает». Это меня взорвало и я тут же потребовал от земского начальника увольнения этого писаря. Воспользовался я этим случаем, чтобы объяснить всем присутствовавшим земским начальникам всю неправильность такой постановки дел. Крестьянское управление должно быть в руках выборного крестьянами же должностного лица — волостного старосты, а отнюдь не вольнонаемного
658
лица. Понятно, неопытный, иногда и малограмотный старшина нуждается в руководителе, но таковым является только земский начальник. Просмотрев книгу постановлений волостного Правления, я тут же указал и причину такого ненормального явления: оказалось, что старшина получал в год 200 рублей, а писарь — 1500 рублей, почему на такое нищенское жалованье, какое получал старшина, нельзя было подыскать развитого и самостоятельного кандидата. Тут же я просил предводителя дворянства обсудить этот вопрос на съезде и провести в жизнь более высокие оклады для старшин; присутствовавшим же крестьянам я объяснил всю необходимость такой меры. Может быть, увольнение этого писаря было несправедливостью по отношению лично к нему, но я считал необходимым, хотя бы в ущерб отдельным личностям, проводить свои взгляды в губернии.
При объезде губернии я все время поражался приниженностью и забитостью крестьян и считал своей обязанностью вывести их из этого бесправного положения, главное, теперь, когда в лице земских начальников они получили и руководителей, и твердых начальников. Я помню по этому поводу один мой разговор с поляком-помещиком; я ему объяснял, что не считаю возможным восстановление выборного начала для должности уездного предводителя. «Вы, поляки, как преобладающие, — говорил я, — понятно, выберете своих же поляков, а уездный предводитель — не столько представитель сословия, сколько руководитель всего управления в уезде, то есть вершитель всех крестьянских дел. Вы не можете отрешиться от устарелого взгляда, что крестьянин Ваш — быдло; а национальная, и часто вероисповедная рознь с ним не располагает Вас к добрым чувствам к нему».
На это поляк мне возразил: «Да, мы, поляки — аристократы, а Вы, русские, всегда были демократами. Вам крестьянин не только руки не целует, но, быть может, говорит “ты”». Я со смехом ответил, что последнее обращение на «ты» есть обычная форма простой русской речи. Этот разговор — достаточная иллюстрация того, что я хотел уничтожить, почему, быть может, так жестоко и поступил с этим писарем. Перед моим отъездом из этой местности ко мне являлся его сын с объяснением, что увольнение отца — семейная катастрофа; их несколько сыновей, все еще учатся, а он — проситель — студент Духовной академии; если отца уволят, он принужден будет покинуть Академию. Я все же был неумолим; может быть, грешу, но мне показалось, что давать такое образование детям без посторонних, незаконных доходов, даже при окладе в 1500 рублей — невозможно. Случай этот, так же как и увольнение сокольского исправника, сейчас же стал известен по всей губернии и, я думаю, принес пользу.
В Брестском уезде я посетил камеру земского начальника Михаила Михайловича Ерогина, того самого Ерогина, который впоследствии попал в члены 1-й Государственной Думы и которого все левые органы прессы упорно обвиняли в устройстве общежитной квартиры в Петербурге для всех крестьянских депутатов; причем он, будто бы по поручению Министерства внутренних дел, вербовал среди них сторонников правительства, за что получал крупные деньги; не знаю, правда ли это, но как земский начальник Ерогин был один из тех, который сразу схватил дело, понял смысл и значение должности земского начальника. Он жил в своем имении в такой глуши, что добраться до него по гатям через
659
непроходимые болота было очень трудно. Тут же я обревизовал, кроме его камеры, и соседнюю волость. По рассказам полицейских чинов, никто никогда не помнил, чтобы губернатор посещал эту местность, почему я тем более был удивлен, встретившись с народом, не забитым, не запуганным и относящимся к Ерогину, своему давнишнему помещику, по-русски: не подобострастно, а почтительно-любовно. И в съезде брестском я нашел действительный интерес к делу его членов; предводительствовал вместо умершего Пашкова Чичерин, бывший судейский деятель; земскими начальниками, кроме Ерогина, я помню поляка, кажется, графа Грабовского и графа Комаровского, женатого на племяннице моей жены Шамшиной; последние по своему пылу напоминали мне начало моей деятельности в Калуге. Нигде так не затянулось заседание съезда до поздней ночи, в разговорах и разборе Положения о земских начальниках. И мне приходилось многому учиться, так как <…> и сервитутное право было особенностью Западного края; последнее имело главной целью в правительственных взглядах сеять вражду между помещиками и крестьянами и этим добиться невозможности повторения восстания.

Вечерняя служба. Сергиевское.
Рисунок М. М. Осоргиной. Начало XX века.
Частное собрание, Париж
После позднего окончания съезда я ночью же выехал дальше, провожаемый всеми земскими начальниками. Целью моей было поспеть рано утром к одному помещику соседнего уезда, некоему Минкову, сербскому подданному; его деятельность была очень своеобразна: он устроил в своем имении училище для
660
сербских детей, чтобы воспитать юных сербов в русском духе; получал он для этого крупную субсидию из Министерства иностранных дел, да и со своих воспитанников, преимущественно детей видных государственных и общественных деятелей Сербии, он получал большие деньги, так что с материальной точки зрения афера для него была выгодная. Насколько этим путем достигалась цель нашего правительства приобрести себе сторонников среди подрастающего поколения, не знаю. Сам руководитель и организатор Минков представлялся мне гораздо более аферистом, чем идейным человеком. Моя задача была проверить, чему учатся и как содержатся его воспитанники, почему и торопился я к нему пораньше, чтобы провести весь день и видеть воочию всю постановку дела. Не помню, сколько было воспитанников, но их было немного. Я ожидал встретить семейную обстановку, в которой дети, попавшие на чужбину, встретили бы уют и ласку, но в русской обстановке, среди русской природы и крестьянства. К моему удивлению, я нашел совсем другое. Это была маленькая общежитная школа, правда, в том же доме, но совершенно отдельная от семейной жизни самого Минкина. Содержание детей было вполне приличное, вид они имели бодрый, здоровый, некоторые из них бойко говорили по-русски, но все же я не пришел к убеждению, чтобы они приобрели любовь к России, живя в полной глуши, вдали не только от умственных, но и культурных центров, видя одну из самых неприглядных местностей России — Полесье, в сухой школьной обстановке. Придя к такому убеждению, я не счел возможным, как просил Минков, написать хвалебный отзыв об этой школе Министерству иностранных дел. По-видимому, целью Минкина было добиться увеличения субсидии. Все же и плохого ничего я не мог написать, почему просто воздержался от оценки. Этот объезд я кончил посещением съезда в Кобрине. На это заседание местный предводитель дворянства И. М. Вышеславцев не потрудился приехать. В начале описания моего приезда в Гродно я уже касался личности Вышеславцева, посему, не вдаваясь в подробности, только добавлю, что этот факт еще ярче показывал, как несерьезно он относился к своим обязанностям. Отговорился он болезнью горла и прислал мне любезную записку, прося после заседания его навестить. Так как его имение было всего в нескольких верстах от города, я после съезда, который прошел довольно вяло, отправился к нему. Каково же было мое удивление застать его почти совершенно здоровым и, главное, констатировать, что кроме меня и моего чиновника особых поручений приглашен лишь один земский начальник Шемиот — поляк; остальных, русских, он и не почел нужным пригласить. Это было до того бестактно, что как только встал из- за стола (звал он меня обедать), я немедленно уехал, унося из этого посещения тяжелое впечатление от неумения русских людей держаться с достоинством. И этого-то Вышеславцева впоследствии Мирский навязал мне в губернские предводители. Я уже коснулся одного события, связанного с Японской войной, а именно — мобилизации в Слонимском уезде. Теперь же постараюсь последовательно изложить, как реагировала провинция и какое в ней царило настроение в связи со всеми нашими злоключениями во время этой злополучной войны.
Объявление войны застало меня в Петербурге; я был вызван министром на совещание губернаторов и ждал представления у государя по случаю получения
661
придворного звания. Участвовал я, как придворный, в высочайшем выходе на молебен; помню восторженные крики «ура» на царские слова, но положительно могу удостоверить, что не было того энтузиазма, которого мы привыкли ожидать в такие моменты. Петербургское общество было настроено слишком оптимистически. Я сам слышал среди дам такую фразу: «Отчего отменять придворные балы, когда это даже не война, а просто маленькая экспедиция, чтобы наказать зазнавшихся япошек!?»
Другой же причиной отсутствия энтузиазма было, по-моему, оскорбленное самолюбие дерзким поступком японцев; то, что они вопреки всякому международному праву цивилизованных народов, до объявления войны ворвались в наш порт и вывели из строя лучшие наши корабли, пугало как доказательство характера противника, не стеснявшегося ничем, и халатности наших властей. Жил я в это время у моей сестры, муж которой занимал уже большую должность в Генеральном штабе; от него я и слышал самую здравую оценку положения: он считал, что затеянная война — серьезная война, не столько по характеру противника, сколько по отдаленности театра военных действий и нашей большой к тому неподготовленности; говорил он осторожно, часто не досказывая свою мысль, но все же посеял во мне тревогу. Уличные патриотические манифестации были вялы, и я, ввиду задержки моего представления государю, решил на несколько дней уехать в Москву, чтобы в сердце России набраться бодрости и с окрепшим духом вернуться на свою окраину. К сожалению, поездка эта не оправдала моих надежд. В кругу родных я застал большую тревогу чисто семейного характера: старший сын Пети Трубецкого был при смерти болен, почему нигде, ни в одном родственном доме я не мог войти в соприкосновение с теми общественными деятелями, с той общественной мыслью, которая показала бы мне, что думает и чем живет ныне Россия. К тому же я в первую ночь после моего приезда был разбужен телеграммой сестры: «Яша назначен начальником штаба главнокомандующего, возвращайся немедленно»; и я в тот же день уехал обратно. Яшу я застал, как всегда, сдержанным, сравнительно бодрым, но очень задумчивым. Из разговоров с ним, хотя он далеко не все высказывал, я все-таки понимал трудность его положения: общественное мнение, как некогда в 1812-м году по отношению к Кутузову, повелительно требовало поручить командование Куропаткину как сподвижнику Скобелева; государь же, не желая обижать наместника Алексеева, поручил командование армии Куропаткину, назначив Алексеева главнокомандующим. Роль последнего сводилась к комбинированию действий сухопутных войск с операциями флота, который был заперт в Порт-Артуре и, после дерзкого нападения японцев, значительно ослаблен. При таких обстоятельствах, несомненно, можно было ожидать между Алексеевым и Куропаткиным всяких трений. Для улажения и смягчения этих трений государь избрал моего beau-frère’а, ясно выразив ему, что это одна из его задач. Сестру свою я нашел и довольной, с точки зрения честолюбия, и очень напуганной отъездом мужа: куда же? — на войну! Как я ни силился ей доказать, что такая поездка в смысле опасности, во всяком случае, значительно безопаснее его предыдущей командировки на остров Кубу во время Испанской войны, она не давала себя успокоить, повторяла: «Все же он едет на войну!»
662
Пробыл я с ними неделю, так как дня через три мне был назначен прием у государя, после которого я немедленно уехал в Гродно. На этот раз государь меня принял в Зимнем дворце. Когда я вошел к нему в кабинет, он стоял как раз у окна и глядел на проходившую манифестацию. После того, что я поблагодарил его за награду, он меня спросил, давно ли я в Петербурге и где застало меня объявление войны. Я доложил ему, что в это время был в Петербурге и теперь поспешу к себе в Гродно. Государь мне сказал: «Да, да, все губернаторы должны быть теперь на месте; надеюсь, что настроение населения в Вашей губернии будет вполне спокойно и с верой и надеждой оно будет ожидать окончания этой войны и успеха нашего оружия». «Все же, — добавил он как-то задумчиво, — у Вас есть разнородные элементы в губернии, нерусские, и надо ухо держать востро». С этими словами государь мне подал руку и отпустил. Увидав его впервые после Беловежа, я был особенно поражен неряшливостью его одежды. Он был так же, как и в Беловеже, в кителе, несмотря на зимний сезон, но там кителя блистали белоснежностью, а здесь он был какой-то запачканный, да и сам государь имел вид серый, измученный. В коридорах дворца меня встретил гофкурьер с объявлением, что прием у государыни назначен мне через три дня, почему, помня наставление государя, я просил вычеркнуть себя из списка представляющихся, так как по высочайшему повелению немедленно уезжаю в Гродно. Написал я и князю Шервашидзе, состоявшему при императрице Марии Федоровне, что по той же причине я принужден отказаться от представления вдовствующей императрице. Министру я уже раньше откланялся, не получив от него никаких ни указаний, ни инструкций.
Вообще отношения наши с Плеве не налаживались: он, видимо, меня игнорировал и подчеркивал, что я ставленник не его, а Мирского. В этот вечер, если не ошибаюсь, была всенощная под какой-то праздник или воскресенье, и мы в последний раз вместе с Варей, Яшей и Мусей помолились в церкви. Не скажу, чтобы легко было от них уезжать, сознавая ту неблагодарную роль, которая выпала на долю Яши, сопряженную с большой ответственностью для успеха дела.
Положение вещей в Гродно меня тем более озабочивало, что недавно перед этим состоялось назначение нового полицмейстера, а всякому новому лицу при таких обстоятельствах трудно справляться и разбираться. Прежний полицмейстер Дынга ушел от меня, перейдя в корпус жандармов, и я взял на его место рекомендованного мне Мирским Генисаретского, который до того занимал пост помощника виленского полицмейстера. Виленский полицмейстер полковник Мейер, которого последняя война застала варшавским обер-полицмейстером уже в генеральском чине, горячо аттестовал мне своего помощника, и на мой вопрос, почему же он с ним расстается, откровенно мне высказал, что у последнего есть гражданская жена, родственники которой принадлежат к виленскому обществу, почему положение Генисаретского в Вильно трудное. Это обстоятельство заставило меня призадуматься, но, познакомившись с Генисаретским, я вынес такое прекрасное впечатление, что решился на его назначение, поставив ему только непременным условием, чтобы эта особа нигде не показывалась бы, и он не дерзал бы кого бы то ни было с ней знакомить. Судьба разрешила этот вопрос иначе. В день переезда в Гродно лошади, на которых ехал Генисаретский с этой
663
особой, понесли, она выпала из коляски и разбилась насмерть, так что с большим опозданием Генисаретский приехал в Гродно один. Первое время он был какой-то подавленный, удрученный, почему естественно, что я не был уверен, сумеет ли он справиться в эти дни. По приезде в Гродно я узнал, что первые дни объявления войны прошли совершенно обыденно, почему русские элементы начали обвинять инородное население — поляков и евреев — в индифферентности к наступившим событиям. Среди молодежи, то есть гимназической среды, горячая голова Федя Алябьев особенно возмущался этим хладнокровием и накануне моего приезда подбил толпу товарищей патриотически манифестировать по улицам. Манифестировали они довольно долго, расхаживая по главным улицам с пением гимна; толпа все росла, к ним примыкали глазевшие жиденята, и к вечеру в составе уже нескольких сот человек очутились под окнами начальника дивизии Бутурлина, который вместо того, чтобы дать им совет успокоиться, сказал им довольно зажигательную речь и вынес им царский портрет. Получив портрет, толпа, уже не помня себя от радости, продолжала свое шествие, срывая шапки у тех прохожих, которые в темноте не рассмотрели царского портрета. Не зная, что предпринять дальше, они кончили тем, что шумной ватагой ворвались в театр, заставили прекратить представление и, внеся портрет на сцену, требовали беспрерывного исполнения оркестром гимна; сначала публика отнеслась добродушно, затем, видя, что молодежь не унимается, стала расходиться, так как полиция не принимала никаких мер к прекращению этой патриотической манифестации. Все кончилось faute de combattants; молодежь, уставшая от избытка чувств, разошлась, портрет был благополучно возвращен Генисаретским Бутурлину. Докладывая мне о происшедшем, Генисаретский выражал тревогу, что если это повторится, могут быть и осложнения, так как прохожие, с которых срывали шапки, заявили ему претензии. К тому же учебное начальство в лице Пигулевского совершенно не знает, что делать, и ввиду этих жалоб собирается наложить дисциплинарное взыскание на своих воспитанников, участвовавших в манифестации; это, понятно, вызывает возмущение среди молодежи. Вызвал я к себе директора гимназии, просил его никаких взысканий не налагать, но объяснить ученикам, что в такие тяжелые времена любовь к родине должна выражаться не в шумливых манифестациях, а в более строгом, вдумчивом исполнении долга каждого; он мне возражал, что все же он не может оставить без внимания поступок Алябьева: как-никак под видом манифестации скандал в театре был устроен им. Я сказал на это Пигулевскому, что с Федей Алябьевым я сам справлюсь, и тут же поехал к его отцу, подробно переговорил с мальчиком, который всегда был мне особенно симпатичен; запретил ему выходить на улицу, посещать гимназию, объяснив ему со смехом, что он должен считать себя как бы под домашним арестом. По настроению этого юноши я видел, что он не в состоянии вернуться к будничной жизни, почему не удивлен был, когда он в скором времени покинул гимназию и пошел на войну вольноопределяющимся. Манифестации больше не повторялись, все вошло в нормальную колею, только частые были проводы отъезжающих на войну одиночных офицеров; но потом эти отъезды так участились, что стали обычным явлением, и я, проводив уже раза три, перестал выезжать на вокзал. Для широкого осведомления публики я за самую
664
ничтожную плату открыл абонемент на агентские телеграммы, которые печатались ежедневно двумя, а иногда и тремя выпусками в губернской типографии. В столовой у нас висели все эти телеграммы, а рядом с ними большая карта военных действий, где флажочками отмечалось расположение воюющих сторон.
Как образец того, как мы в провинции не могли учитывать отношения высших сфер к событиям, не могу не упомянуть следующий разговор наш с Веревкиным. Оба мы, военные по воспитанию, хотя и военные мирного времени, пропитаны были старыми традициями боевой славы наших отцов и дедов. «Война и мир» Толстого всегда нам казалась описанием верным настоящей войны со всеми ее переживаниями, и потому понятно, чту мы признавали за истинный, героический подвиг, достойный удивления. Веревкин сидел у меня в кабинете как раз в ту минуту, когда мне принесли агентскую телеграмму с описанием попытки «Варяга» пробиться через линию японских кораблей. Оба мы в один голос воскликнули: «Бедный Руднев! (капитан корабля). Несомненно, он будет отдан под суд за то, что вместо того, чтобы погибнуть с кораблем в честном бою, нанеся возможный вред противнику, он предпочел вернуться в порт, потопить свой корабль и самому укрыться на иностранном корабле». Каково же было наше удивление впоследствии узнать, как Руднев был возвеличен, и его поступок был оценен как героический подвиг. Правда, впоследствии, когда известная певица Долина делала свое турне по России и везде пела романс «Варяг», написанный по этому случаю, в Гродно, как и в других городах, публика при этом пении вставала и выслушивала его avec componction, признавая этим самым величие этого акта, то есть вслед за государем общество не только оправдало Руднева, но и возвеличило его. Все же в сознании оставалась какая-то неудовлетворенность и на первых же порах чувствовалась какая-то раздвоенность; нам, в провинции, отныне казалось, что во время этой войны применяются другие мерки оценки геройства, почему не было того спокойствия и той уверенности в правильности суждения. Избитый лозунг Куропаткина «терпение» с болью в сердце уже толковался как подсказанное заранее спокойствие и удовлетворение при ожидаемых неудачах. Вспоминая сцену из «Войны и мира», когда Кутузов благословляет Багратиона на верную смерть, лишь бы прикрыть отступление главных сил, мы чувствовали, что этого теперь не требуют на войне, а главная задача ставится — сохранить силы и избежать потерь. Сравнивая одновременно действия японцев, идущих на верную смерть под Порт-Артуром, но зато, как капля, точащая скалу и проточившая эту скалу, с неимоверными жертвами людей, — с обидой для русских сознавалось, что героизма гораздо более на стороне противников, чем на нашей. Когда же начались наши последовательные и упорные неудачи, настроение все более и более омрачалось. Как только я получал агентские телеграммы (а они приходили раза три-четыре в день), я тотчас же телефонировал корпусному командиру Поволоцкому, и под конец он обыкновенно меня спрашивал: «Ну что? Опять какие плохие известия?» — до того [все] изверились в победе.
Не помню, по какому случаю я опять был в Петербурге как раз в тот день, когда было получено известие о погибели Макарова. Остановился я в гостинице «Англия» в номере с окнами на Исаакиевский собор. Никогда не забуду ужасного, гнетущего впечатления от звона исаакиевского колокола, сзывавшего
665
на торжественную панихиду по погибшим морякам. Помню, как я долго стоял у окна, слушая эти заунывные, мерные удары, и смотрел на подъезжавшую толпу военных, гражданских и придворных чинов. Так как я пишу это уже гораздо позже, можно меня заподозрить в том, что описываю свои ощущения уже после оценки всего совершившегося, но даю слово, что я совершенно объективен во времени и передаю то, что тогда ощущал. Этот блестящий съезд и царской семьи, и чиновного, и придворного, и военного мира под непрестанный звон похоронного колокола казался мне похоронами былого величия России, и долго я не мог отделаться от этого впечатления. Когда появилась статья моего beau-frère’а Трубецкого, начинавшаяся словами: «Иван Иванович, что Вы?», столь зло бичевавшая халатность наших властей в Порт-Артуре, А. В. Ласточкин, получивший эту статью раньше всех, прибежал нам ее прочесть. Надо признать, что написана она была необычайно ярко и талантливо, но я почувствовал в том небольшом поле моего кругозора, моего действия, как она произвела впечатление крайне опасное; она дала тон критики и недоверия к правительству. Именно в такие минуты, когда доверие, как сила, могущая сдвинуть гору, необходимо. Впоследствии я наблюдал еще более грозное явление — падение интереса к войне. Поход эскадры Рожественского, длившийся так долго, заставил всех остыть, откладывая развязку на далекий неизвестный срок. В этот период времени гораздо больше интересовались поездками государя по России для напутствования войск, отправлявшихся уже целыми частями. В моей губернии такого отправления целой части не было, почему его величество и не приезжал в Гродненскую губернию, но однажды проехал через нее для прощания с войсками, отправлявшимися из Варшавского военного округа. По случаю этого проезда мне пришлось вступить в неприятное пререкание с министром внутренних дел. Проезд предполагался с таким расчетом, чтобы царский поезд имел остановку в Белостоке. Из всего написанного мною об этом городе ясно, что такую остановку я нашел рискованной, почему, получив маршрут царского проезда через свою губернию, немедленно телеграфировал Плеве свои соображения, прося его повлиять, чтобы остановка поезда была бы в другом месте, на что я получил от министра резкий и сухой ответ (таковы были всегда его отношения ко мне), что изменить маршрут немыслимо и что на моей обязанности как губернатора обеспечить благополучный проезд. Тогда, au risque прослыть за трусливого, негодного губернатора, я телеграфировал министру Двора свои опасения и намекнул, что удобнее всего сделать эту требуемую по расписанию получасовую остановку недалеко от Гродно, ночью, там, где путь разветвляется на Августов и Сувалки. Министр Двора, по-видимому, внял моей просьбе, потому что я получил телеграмму Плеве, сообщавшую мне об изменении маршрута в указанном мною смысле и запрашивавшую меня, какие мои требования, дабы вполне быть уверенным в полной безопасности царского проезда. Я ответил телеграммой, что сил полицейских и военных у меня вполне достаточно, но что для оценки положения мне необходимо, чтобы Жандармское местное управление вполне открыло бы мне карты и не имело бы от меня каких-либо тайн. Последствием этого было то, что на следующее утро ко мне явился генерал Пацевич с докладом, что получил распоряжение директора Департамента полиции ничего от меня
666
не скрывать и дать мне все те сведения, которые я от него потребую. Я просил его подробно доложить мне, какие у него имеются дела в производстве по тайному наблюдению за революционерными элементами. Из перечня дел я обратил внимание на дело одного вольноопределяющегося [из] полка, расквартированного в Гродно. Вольноопределяющийся этот подозревался в принадлежности к боевой организации эсеров, но, по объяснениям Пацевича, данных было слишком мало, чтобы ликвидировать это дело, так как добыты были данные лишь из донесений внутреннего агента. Зная, что полк предназначался на охрану царского пути, я пришел в ужас от мысли, что означенному лицу, если оно действительно революционер из боевой дружины, будет поручена охрана. Вместе с тем принять какие-нибудь меры против него могло или испортить все дело наблюдения секретной полиции, придававшей этому делу, со всеми его филиациями в других губерниях, серьезное значение, или же, в случае лживости показаний внутреннего агента, погубить карьеру совершенно неповинного юноши. Я решился объясниться начистую с самим Поволоцким, не скрывая от Пацевича принятого мною решения. Поехал я к Поволоцкому, заперся с ним с глазу на глаз в кабинете и, не вдаваясь во все подробности, объяснил ему необходимость этого вольноопределяющегося на время проезда государя удалить под благовидным предлогом. Поволоцкий отнесся крайне предупредительно к моей просьбе, оценив, что я оберегаю не только юношу, но и тот военный мундир, который он носит, и обещал это исполнить. Поволоцкий на следующий день телефонировал, что этот вольноопределяющийся отпущен в отпуск и сегодня же уезжает из Гродно. С этого случая у нас установились с Поволоцким особенно дружеские отношения, которые и не прекращались до моего отъезда из Гродно.
Несмотря на принятые меры для безопасного проезда государя, сердце было неспокойно и, как потом оказалось, было отчего, потому что военная охрана далеко не была на высоте своего положения, что случайно выяснилось в самую ночь проезда государя. Как я уже писал прежде в моих воспоминаниях о лагерной жизни, за час или полтора до проезда государя, по телеграмме коменданта царского поезда, войска становились в третье положение, то есть прекращалось не только всякое движение, но и проезд и проход по полотну железной дороги; стрелки главного пути ставились как нужно было для проезда, запирались на замок и при каждой стрелке становился часовой. Так как остановка поезда, как я сказал выше, была в нескольких верстах от Гродно, за Неманом, я должен был выехать в своем вагоне до объявления 3-го положения. Несомненно, ночью государь бы меня не принял, все же я должен был быть на месте остановки и передать на поезд всеподданнейший рапорт о состоянии губернии; рапорт этот, хотя, вероятно, никогда и не читался государем, все же был предметом особых забот канцелярии: тщательно, каллиграфически переписывался на особой слоновой бумаге и вкладывался в особую папку. Выезжая поздно из дома, я, как нарочно, сказал своему вечному спутнику, чиновнику особых поручений Кологривову, не забыть этот рапорт; он даже усмехнулся на такое наивное напоминание. Приехали мы с ним на вокзал, уселись в вагон, прицепили паровоз, и жандармское начальство пришло осведомиться у меня, можно ли отправляться. Я спросил Кологривова все ли готово, где рапорт. Он вдруг побледнел как полотно и объявил мне, что
667
забыл папку на столе в швейцарской; съездить за рапортом требовалось не менее четверти часа времени, и то, если найдется извозчик, так как мои лошади уже уехали; железнодорожное же начальство возражало, что больше ждать нельзя, так как через пять минут наступит 3-е положение. Сказал я Кологривову выпутываться, как он хочет, но доставить мне рапорт к месту остановки царского поезда, на что времени было вполне достаточно. Только что он успел выскочить из вагона, как мы тронулись, и тут только я сообразил, что если при содействии исправника через первую линию охраны полицейских его пропустят, то на последней, военной линии без пропуска он не пройдет. Понадеялся я найти на месте кого-нибудь из военных властей и через них устроить его пропуск, но, приехав туда уже глубокой ночью, никого не нашел, послать мне некого было, так как при мне никого не было, самому же разыскивать военное начальство как-то не приходилось, и решил я просто обойтись без рапорта, оправдывая такое отступление от принятого архаического порядка ночной порою. Минут за десять до прибытия царского поезда, во время самого напряженного настроения охраны, когда я уже вышел из вагона и ждал на путях, из темноты вынырнул Кологривов и подал мне папку с рапортом. На мой вопрос, как его пропустили часовые, он мне сказал, что на оклик «кто идет?» он назвал свою должность, и солдат, вглядевшись в его форменное пальто и фуражку с кокардой, свободно его пропустил. Такое грубое нарушение самых элементарных правил охраны побудило меня сообщить этот случай командиру корпуса; но я еще более убедился, как нельзя гарантировать никогда безопасный проезд царского поезда.
Поезд простоял положенные полчаса для смены паровозов и проверки исправности подвижного состава, никто не выходил, кроме коменданта поезда, которому я вручил рапорт.
Не могу не рассказать попутно, как особенно ценилось военными точное исполнение Положения об охране проезда царских поездов, что собственно было их прямым долгом и не требовало особых наград. В Харькове служил помощником пристава некто Игнатьев, который гордился царским подарком — серебряным портсигаром с вензелем и изображением; на мой вопрос, за что он его получил, Игнатьев мне рассказал, что когда он был офицером, он однажды стоял на охране на Нижегородской железнодорожной линии при проезде государя; по Положению, в случае какого-нибудь несчастья, а тем более остановки поезда, ближайший часовой поднимал тревогу выстрелом в воздух, что повторялось следующим. В то время, когда царский поезд был на участке Игнатьева, государь велел остановиться, чтобы пройтись пешком; ближайший часовой, видя остановку поезда, ударил тревогу, и Игнатьев, запыхавшись, прибежал, спотыкаясь, по шпалам и за такую спешную явку и был награжден портсигаром.
Война отозвалась и на нашей семейной жизни благодаря назначению Яши начальником штаба главнокомандующего. Мои родители поехали с ним прощаться; по рассказам моей матери, как сестра моя ни крепилась, ни брала на себя, минута расставания была очень тяжелая, и это очень потрясло мою мать; она вернулась в Гродно совсем измученная. Я их встречал на вокзале и был поражен ее видом, до того она за эти несколько дней исхудала. Я убежден, что пережитые волнения и положили начало той болезни, которая свела ее в могилу. Скоро приехали
668
и Варя с Мусей, решив жить у нас в отсутствие Яши. Конец этой первой зимы был очень тягостный. Моя мать слабела, постоянно засыпала даже среди оживленного разговора в гостиной; доктор Беклемишев не понимал ее болезни, лечил ее общим массажем, что еще больше ее изнуряло. Весной мои родители все же решили ехать к Бенкендорфам. Я себе выхлопотал двухмесячный летний отпуск; семья моя уехала заранее в Измалково к Самариным, с тем чтобы прожить у них несколько дней и оттуда уже направиться в Сергиевское. Сестра моя уехала на лето с Мусей в свое Красное, а родители остались со мной, с тем чтобы вместе тронуться из Гродно; ввиду этого я при отъезде избрал путь на Гомель, чтобы довезти их до посадки на пароход, шедший прямо к Бенкендорфам по реке Сож; а я должен был из Гомеля прямо проехать в Сергиевское. Мирский, считавший себя, как лейб-гусар, младшим товарищем моего отца и знавший про болезненное состояние моей матери, любезно оказал мне содействие, и мне дали по такому необычному кружному маршруту прекрасный салон-вагон, так что мои родители наслаждались этой поездкой как никогда. Задержался я в этот раз в Гродно и не уехал с семьей, потому что должен был собирать несколько совещаний для обсуждения правительственного проекта о мерах к улучшению крестьянского быта. Тогда была мода на всякие такие комиссии и проекты. Заседали мы несколько вечеров подряд в многолюдном собрании, так как кроме губернских и уездных должностных лиц, имевших касательство к крестьянскому делу, были приглашены и видные землевладельцы губернии. Мне предстояло много труда, так как я боялся трения между особо русофильскими элементами совещания, как, например, управляющим Государственным имуществом Волковичем, о котором я уже упоминал, и польскими помещиками. Во время сессий этих совещаний состоялось назначение Веревкина ковенским губернатором. За отъездом семьи я жил уже на полубивуачном положении, почему не мог чествовать его прощальным обедом, зато уездные предводители и помещики, участники совещаний, устроили ему прощальный завтрак, на который, понятно, и меня пригласили. На этом завтраке сказано было ему много пожеланий, я же в душе радовался его уходу, надеясь получить на его место князя Святополк-Четвертинского. Но, увы!, как я писал раньше, Мирский меня не поддержал, и назначен был Вышеславцев, который еще менее Веревкина мог оказать нужное содействие. Отъезд жены и болезненное состояние матери лишили меня возможности устроить в конце совещаний прощальный ужин всем его членам. Каждый вечер по окончании занятий всех присутствовавших ожидал в Гербовом зале чай с холодным ужином, но прощального ужина, где бы я мог поблагодарить всех потрудившихся и съехавшихся для этого, я не сделал, чем, как потом мне рассказывали, я очень обидел поляков. После заключительного заседания я со всеми простился и поблагодарил; самым же ближайшим сотрудникам и интимным знакомым семьи шепнул зайти ко мне проститься с моими родителями. Об этом маленьком импровизированном ужине распространились на следующий день слухи, и истолковано это было как нежелание принять у себя поляков.
На следующий день мы с родителями выехали из Гродно. В Гомеле я с ними расстался, но расстался ненадолго, потому что они собирались недели через три уже быть в Сергиевском. Начало этого лета я не помню, зато начиная с конца
669
июля все обстоятельства этого тяжелого времени резко врезались мне в память. К 22-му июля я поехал к моей сестре в ее Красное, желая проведать ее в одиночестве. Со мной поехали и старшие мальчики. Пребывание в Красном я плохо помню, но зато ясно помню, что, возвращаясь оттуда 29-го июля, я на вокзале встретил доктора Маркевича, и на мой вопрос: «Что случилось?» он мне сказал, что у моей матери продолжаются желудочные заболевания, но что это, по-видимому, пустяки. На следующий день моего приезда приехали к нам Тарановские, муж с женой, и чуть ли не в первый день их приезда Сережа, неосторожно обращаясь с пистолетом монтекристо, всадил себе в икру правой ноги пулю. Переполох был страшный; немедленно Николай поехал в Калугу за доктором Красинцевым, но, к несчастью, оказалось, что Красинцев накануне с санитарным поездом уехал на войну, так что вместо него приехал Дубенский. Дубенский неопытно долго возился над ногой, зондом отыскал пульку, застрявшую около кости, но достать ее не мог. Употребил он варварский способ: разрезание без всякого наркоза, одними ножницами, ход пули. От звука режущих ножниц с няней даже сделалось дурно, а Сережа стоически курил и потешался над няней. Дубенский, видя свою неудачу, просто забинтовал ему ногу и велел лежать. Все, в том числе и гости наши, ублажали Сережу, а он большей частью проводил время на террасе своей матери, вполне довольный своей судьбой. Однажды его караулила моя мать на террасе, и вот здесь с ней сделалась первая рвота, которая потом повторялась после каждого приема пищи; она видимо слабела, и 30 июня, в день рождения нашего Миши, день, который всегда так торжественно и шумно праздновался, она ушла прилечь под конец дня; я, встревоженный, пошел за ней, застал ее в классной с глазами полными слез; на мой вопрос: «Что с тобой, Мама́?» она мне с тоской сказала: «Жаль мне Папа́ и вас, с вами расставаться». Это единственный раз, когда она намекнула, что понимает серьезность своего положения. Меня эта фраза как ножом резанула. И Папа́ был напуган, почему послали уже за другим доктором — Парфиановичем. Приехавший на другой день Парфианович, увидав рвоту моей матери, пришел ко мне в кабинет и сказал мне, что не может от меня скрыть, что положение моей матери не только серьезное, но почти безнадежное, так как имеются все данные предполагать наличность рака в пищеводе. Требовал он поверки своего диагноза, но советовал обратиться для этого в Москву, пока переезд этот для нее еще возможен. Когда доктор уехал, я подробно, с осторожностью рассказал все моему отцу, и мы решили, что им надо переехать в Москву и там поместиться в какой-нибудь санаторий. Мама́ на это согласилась, и я поехал вперед в Москву все им устраивать; задержался в Калуге, чтобы устроить им прямой вагон без пересадки до Москвы и уговорить Парфиановича проводить мою мать. Еще более тяжелое впечатление сделал на меня этот последний разговор с Парфиановичем. Он мне сказал: «Мне невыразимо вас жаль, потому что, несомненно, это случай длящийся; она, быть может, протянет и год, и полтора, но при таких невероятных страданиях, что для окружающих ее близких это будет совершенно невыносимо видеть».
В Москве тогда входил в славу доктор Щуровский, а так как наш старый друг доктор Генкин был женат на его сестре и уже несколько лет практиковал в Москве, я первым делом обратился к Генкину; он обнадежил меня в любое время
670
привести Щуровского, но предупредил, что у последнего санатория в Москве нет, почему надо мне обеспечить себя удобным помещением для больной в Москве. Выручила меня тетя Лидия Небольсина: она телеграфировала своему брату Евгению Волконскому, и тот предоставил в наше распоряжение весь свой большой дом на Пречистенке. Устроив все, я телеграфировал моим родителям, что все готово и я их жду. Сам же на несколько часов поехал в Меньшово повидать Гагариных и тут впервые увидал подростками Соню, мою будущую невестку, и ее сестру Марину. Впоследствии уже я нашел в Сергиевском на письменном столе моей матери написанный ею черновик телеграммы, в которой она благодарит меня и тетю Лидию за хлопоты; это последнее, что она написала при жизни, и я этот черновик храню у себя. Выехали мои родители из Сергиевского 6 августа. В этот день Миша, любимец бабушки, уговорил ее причаститься, избегался, нахлопотался для этого и сам привел ей священника с Дарами. Приехали они в Москву 7-го утром; провожал их доктор Парфианович, а я их встречал в Москве на Брянском вокзале с доктором Генкиным. Она поразила меня своим худым, изможденным лицом. По рассказам Папа́ и сопровождавшей ее девушки Василисы, она совершенно не питалась в мое отсутствие, так как тошнота и рвота были беспрерывные. Приехавши в дом Волконских и встретив тетю Лидию, она почувствовала себя такой бодрой, что не захотела даже ложиться и уселась в кресле у итальянского окна на улицу и предалась воспоминаниям молодости, так как этот дом перестроен был из дома Наумова, любимого ею двоюродного брата. Вдруг ей неудержимо захотелось мороженого, Генкин разрешил, и я поехал разыскивать по всему городу мороженое; час был ранний, и я с трудом отыскал в ресторане «Прага» несколько порций оставшихся недоеденными от вчерашнего ужина. С торжеством повез я свою находку. Мама́ с жадностью набросилась на мороженое, но не прошло и пяти минут, как возобновились тошнота и рвота; уложили ее в постель, с которой она больше и не вставала. Днем приезжали Щуровский с Генкиным; Щуровский потребовал целый ряд исследований, прежде чем высказаться; поручил одному своему ассистенту наблюдать и назначил свой следующий приезд на 11-е августа, посоветовав иметь при Мама́ постоянно сердобольную. Поехал я к своей старой знакомой Кошелевой, начальнице Вдовьего дома, и она отрядила нам двух вдов, уже посвященных в крест, которые, чередуясь, ухаживали за моей матерью. Устроив все это, я по желанию Папа́ уехал обратно в Калугу устраивать его денежные дела. Мама́ меня благословила, добавив, что ее беспокоит, что я так измотался из-за нее; это были ее последние сознательные слова ко мне; когда я вернулся, я застал ее уже без памяти. В Калуге я довольно скоро все устроил и до вечернего беспересадочного поезда поехал на Калужку помолиться у чудотворной иконы о выздоровлении Мама́. Вернувшись, я застал у «Кулона» телеграмму тети Лидии: «Положение значительно ухудшилось, началась кровяная рвота». Я решил немедленно, с первым поездом, ехать в Москву, но на вокзале встретил доктора Маркевича, сообщившего мне, что его выписали к нам в Сергиевское, так как Соню укусила какая-то муха, и у нее сильная опухоль с жаром. Я его спросил: «Что же это может быть?» Он мне ответил: «Ничего не могу сказать, не видав больную! Надеюсь, не сибирская язва». От последнего предположения у меня душа в пятки ушла, так как за несколько
671
лет перед этим умерла в два дня дочь нашей прачки Варвары от сибирской язвы, полученной через укус мухи. Я решил хотя бы на одну ночь заехать в Сергиевское. К счастью, в Сергиевском тревога оказалась напрасной: у Сони ничего особенного не было, и я на следующий день выехал в Москву. Это было 10 августа. Приехал я довольно поздно и застал мою мать уже в беспамятном состоянии; до меня приехали из Красного Варя с Мусей; по настоянию Вари Мама́ пособоровали еще до моего приезда. На следующий день приехал Щуровский и признал положение безнадежным, причем добавил, что так как развился острый нефрит, возможно продлить жизнь Мама́ на несколько дней вливанием воды в вену, но это будет только продолжением мучительной агонии, почему мы все решили этого не делать. Ее страдания длились очень долго, почти все время мы все не отходили от ее постели. Она громко стонала, лежа лицом к стене, и только раз мы уловили осмысленный ее взгляд и движение: она порывалась повернуться к нам лицом и двигала правой рукой, как будто бы нас крестила. В 10-м часу вечера она скончалась, и я, по желанию Папа́, сейчас же поехал в Девичий монастырь к тетушке (матушке Евпраксии), чтобы устроить место рядом с ее родителями, причем Папа́ настаивал, чтобы было куплено место для него там же. Так как в этот день я никуда не выходил, меня поразил вид города, разукрашенного флагами, местами зажигались иллюминации и на всех бульварах гремели оркестры музыки, что совершенно не гармонировало с моим настроением. Долго я не мог понять в чем дело, пока не вспомнил и не сообразил, что в этот день должны были состояться крестины наследника Алексея Николаевича. По дороге послал я телеграмму в Сергиевское. На следующий день утром приехали Нюничка с Мишей, выехавшие еще до получения телеграммы. Я их встречал на Брянском вокзале и объявил им. Миша был ужасно потрясен, и я помню, как на вокзале сердечно и мило утешала его Ольга Николаевна Булыгина, приехавшая с тем же поездом. На первой панихиде, на которой Миша присутствовал, он безутешно плакал, и мне стоило больших усилий его успокоить. Время было летнее, Москва была пуста, а потому мало кто приехал. Все-таки помню присутствие некоторых, которых участие было бы приятно моей матери. Был Булыгин, тогда помощник московского генерал-губернатора, был Митя Норов с женой, служивший в Москве помощником городского пристава, и, что особенно тронуло бы мою мать, приехал помолиться Петр Андреевич Щуровский (брат доктора), о котором я писал в моих детских воспоминаниях как о моем юном учителе музыки; моя мать с ним много возилась, стараясь направить его, кутилу, на путь истины. В тот же день вечером должны были приехать Лиза с Сережей, и Папа́ захотел сам ехать ее встречать. Захотел он по дороге на Курский вокзал заехать в церковь Никиты Мученика на Басманной, в которой они венчались, чтобы заказать там сорокоуст. По дороге туда он мне показывал место, где некогда стоял дом бабушки Варвары Андреевны, рассказывал, как он оттуда выехал в церковь, и был очень взволнован; несмотря на всю свою всегдашнюю сдержанность, он так был расстроен, войдя в церковь, где шла вечерняя служба для говельщиков Успенского поста, что просил меня переговорить со священником, а сам остался в углу. Только два раза я его и видел в таком состоянии: именно в эту минуту и потом на следующую весну, когда он впервые въехал в Сергиевское и вошел
672
впервые без Мама́ в свои комнаты. На Курском вокзале мы встретили Лизу с Сережей, которых сопровождал Сережа Евреинов. Лиза вспомнила желание моей матери и привезла с собой письма, написанные мною Мама́ во время моей первой разлуки с нею в детстве, чтобы положить их с ней в гроб; привезла она с собой целую серебряную лохань сергиевских цветов. По желанию Папа́ похороны были назначены на 14-е, чтобы они не совпали с 13-м, днем рождения Лизы. Хотя мы с Лизой и детьми остановились на квартире Сережи и Паши Трубецких, все же весь день проводили с Папа́ в доме Волконских. Очень был потрясен и жалок Сережа. Когда после первой панихиды, на которой он присутствовал, подали завтрак, он не хотел к нему прикоснуться; его коробило, что обыденная жизнь входит в свои права.
Отпевали Мама́ в церкви Троицы-Зубово. К этому времени приехали многие родные моей жены: братья ее Сережа и Женя, Федя Самарин, Гагарины. Помню еще присутствие Мины Давыдовой и помню, как Лиза ей сказала: «Если бы моя belle-mère была жива, она сказала бы тебе: “Mina, chère amie, quand changerez-vous de coiffure?”».
К похоронам же приехали и Волконские, мать с дочерью, почему Папа́, мало их знавший, непременно захотел в тот же день выехать из их дома; Федя Самарин предложил ему воспользоваться своей пустой квартирой на Поварской, куда тотчас же после похорон и переехали Папа́ с Варей, Мусей и тетей Лидией Небольсиной. Мы же с Нюняшей и детьми в тот же день выехали обратно в Сергиевское, так как я уже просрочил свой отпуск, и надо было торопиться в Гродно. Перед отъездом я имел продолжительный волнительный разговор с тетей Лидией. Видя, как она приятна Папа́, я ее просил не покидать его и переехать к нам жить. Она уже давно овдовела, племянницы ее Масловы, которых она воспитывала, давно вышли замуж, и жила она то при брате, Евгении Волконском, то при племяннике, Мите Норове. Долгое время она не соглашалась; она была безумно застенчива, и предполагая, что наша жизнь в Гродно крайне светская, она этого особенно пугалась. Когда я ей объяснил, что вообще мы живем в Гродно не шумно, а эту зиму, по случаю траура, проведем еще скромнее, она, наконец, согласилась. Папа́ хотел оставаться в Москве подольше, посещать ежедневно могилу Мама́, поставить решетку на купленные места и заранее заказать памятник; это его тешило, занимало и было единственным утешением. Решено было, что при нем останутся Варя и тетя Лидия и с ним вместе и поедут в Гродно. Уже после моего отъезда Папа́ обнаружил, что будто бы сдвинули наружные признаки могилы Мама́, то есть временную ограду и крест; сделано это было, казалось, чтобы продать еще одно место, которое вскоре было заполнено. Я не могу до сих пор утверждать, было ли это так или просто показалось моему отцу, но, во всяком случае, это его страшно взволновало; поддерживала и подзуживала его тетушка Кутузова, которая недолюбливала мать-казначейшу, которая руководила всей хозяйственной частью монастыря и имела большое влияние на игумению. Причиной тому было то, что мою тетушку и сестры, и митрополит прочили в игумении; она, по скромности, отказывалась и, чтоб прекратить всякую возможность таких настояний, тайно приняла схиму. Новая игумения не оценила по достоинству этот отказ и вместо того, чтобы относиться к ней любовно, почтительно,
673
была с ней высокомерна. Враг силен, особенно в монастыре, и смутил мою тетушку; она сама каялась, что не может одолеть неприязненного чувства к игумении. Папа́ поднял целую историю по поводу этой могилы; не добившись ничего от игумении, которая под предлогом нездоровья даже и не приняла его, он потребовал, чтобы Варя поехала к митрополиту. Сопутствовал ей, чтобы придать больше весу ее просьбе, брат моей жены Петя Трубецкой. Моя сестра, не имевшая никакого опыта в отношениях с духовными лицами, страшно смутилась у митрополита и, желая как-нибудь отметить его звание митрополита, считая таковой сан выше епископского, звала его все время «Ваше преждеосвященство». Митрополит отнесся довольно холодно и поручил разбор дела тому викарному, который ведал женскими монастырями; последний ограничился бумажным производством, письменным запросом игумении, которая, понятно, отрицала обвинение Папа́. Видя, как это волнует моего отца, моя сестра просила тетушку Кутузову убедить его, что он ошибся; последняя, испугавшись того, что она натворила своими разговорами, охотно это исполнила. Кажется, все-таки для вящего доказательства внешние знаки были немного сдвинуты, и Папа́ успокоился. Все подробности эти мне рассказывали уже впоследствии при свидании, так как, как я сказал выше, мы уехали в тот же день. С нами ехали Женя и Сережа Евреинов. Приезд в Сергиевское был нерадостный: все пережитое казалось таким кошмарным сном и, главное, произошло так быстро, что как-то не верилось, что Мама́ уже нет на свете. Ведь только какие-нибудь две недели, как я выехал из Сергиевского устраивать ее пребывание в Москве, а возвращаюсь уже похоронивши ее! В одном только чувствовалось утешение: это было то, что она избегла тех длящихся мучительных страданий, которые предсказывал Парфианович. Перед отъездом из Сергиевского отслужена была в ее комнате всенощная-парастас, к которому собралась вся дворня; многие искренно плакали, до того она была всеми любима. Посетил я в Тимофеевке старушку Мамонову, для которой кончина Мама́ была настоящим, искренним горем. В Сергиевском мы задержались лишь настолько, чтобы успеть спешно закончить дела по имению и устроить вагон прямого сообщения для отъезда семьи в Гродно. Сознаюсь, что никогда я не покидал Сергиевского с таким радостным чувством: я жаждал другой обстановки и, главное, всепоглощающей работы. Лиза и старшие девочки облеклись в траур, и никогда Лиза не казалась мне такой красивой, как в черном платье с крепом. В Гродно нас встретила масса народу. Я был глубоко тронут общим сочувствием: действительно, Мама́ и моих чиновников сумела пригреть и приласкать. Кажется, по пятницам у нее бывал по возвращении мальчиков из гимназии уютный чай со всевозможными угощениями для них и всех тех товарищей, которых они хотели пригласить. И теперь вся эта молодежь, встречавшая Мишу и Сережу, вспоминала, что она потеряла в ней. Наша Тоня, enfant précoce, тогда трехлетний ребенок, ничуть не смутилась огромного количества встречавших, всех приветствовала и вдруг, увидав советника губернского Правления Ахшарумова, неожиданно ему сказала: «Как, Вы здесь? А я думала, что Вы на Дальнем Востоке!» Откуда она это взяла, никто не знал, но Ахшарумов, по-видимому, устыдился, что отлынивал от войны, и вскоре покинул Гродно; так что, быть может, Тонины слова были не в бровь, а прямо в глаз.
674
Я был особенно тронут архиереем, который, оказывается, дал распоряжение в течение года поминать мою мать в соборе и в своей архиерейской церкви. По его примеру и в других церквах города Гродно священники поминали ее за каждой службой по собственному почину. Узнал я об этом, когда захотел заказать сорокоусты в своей приходской и гимназических церквах.
Жизнь и служебная, и семейная потекли своим чередом, только, понятно, у нас никаких вечерних приемов не было. Приблизительно через месяц приехал мой отец с моей сестрой и тетей Лидией. После 40-го дня, чтоб как-нибудь развлечь моего отца, ему ежедневно устраивались партии в винт. Устройство этих партий было постоянным предметом забот моей жены, и с утра приглашались по телефону партнеры, так что каждый вечер можно было наблюдать обычную картину: я сижу у себя в кабинете за целой грудой бумаг к подписи; в огромном Гербовом зале, в излюбленном уголке, идет партия винта, а в гостиной Лиза с тетей Лидией сидят и работают. Иногда у Лизы какая-нибудь сотрудница из Благотворительного общества или же, что бывало реже, в Колонном зале идет заседание Благотворительного общества под председательством Лизы. Общество это было совершенно своеобразное учреждение губернии, так как обнимало всю благотворительность города Гродно со всеми ее разновидностями в полном объеме. По уставу председательница была выборная, а товарищем председательницы — губернский предводитель. В первый же год нашего пребывания в Гродно Лиза была избрана председательницей, и Веревкин со всем Советом in corpore приехал просить ее принять это избрание; с этого момента Лиза положила всю душу на это дело. Это был первый случай в ее семейной жизни, что она, вне детской жизни, взяла на себя руководство общественным делом. А дело было очень большое. Общество владело в городе большой площадью земли с несколькими домами; часть из них сдавало в наем, а другую занимало своими учреждениями — приютом и богадельней. Лиза застала и то, и другое в большом запустении, не говоря уже о помещении богадельни, которое было сносно в пожарном отношении, но, главным образом, по внутренним распорядкам. Ей пришлось переменить весь строй воспитательной части в приюте и для этого подыскать новую начальницу. Она часто посещала и приют, и богадельню в сопровождении самого деятельного члена Совета Цветкова, губернского землемера, о котором я уже писал выше, и тогда проводила там все утро, иногда опаздывая к завтраку. Сотрудниками ее, почти ежедневно ее посещавшими, были: секретарь — доктор Шенберг (а когда он уехал — Д. В. Симоновский) и казначей — милейший А. Д. Орлов. В Совете была всегда маленькая глухая борьба между самовластным Цветковым и остальными членами, и только благодаря такту жены от этой борьбы дело не тормозилось, а напротив, все более развивалось от соревнования членов. Весь город был разделен на участки, и во главе каждого стояла дама-попечительница; через них и оказывалась помощь нуждавшимся, но предварительно нужда и положение просителей проверялись самой попечительницей. Если помощь требовалась лишь денежная, попечительница в известных пределах могла ее оказать своей властью; если же помощь была особая, требовавшая содействия других учреждений, дело разрешалось и направлялось Лизой. Особенно много было просьб помощи на выезд из города какого-нибудь заезжего,
675
лишившегося заработка; тогда или ему давался именной бесплатный билет, или же он сопровождался на вокзал верным человеком, который покупал ему билет и сажал его в поезд. Просителей ежедневно набиралось много, и швейцар Куликовский сортировал их, держа в первой, холодной передней тех, которые наводили на сомнение, что они могут внести заразу в дом; остальных же он вводил в переднюю, где стоял зубр, и, окончив эту сортировку и позвав секретаря, шел докладывать ее превосходительству. Но и помимо этого ежедневного приема, еще неоднократно Куликовский вызывал Лизу в переднюю к какому-нибудь запоздавшему просителю, да кроме того редкий день проходил без посещения какой-нибудь попечительницы. Из них помню, кроме жены нашего вице-губернатора О. М. Лишиной, милейшую О. В. Кривошеину, скромную труженицу, но действительно горевшую добром и любовью ко всем; затем миловидную, но не очень умную M-me Винавер, высокую, с большими претензиями, и уж совсем глупую M-me Ржепецкую. Бывали особые заседания только дам-попечительниц, и надо отдать справедливость, что дело это, направленное любящей женской рукой, действительно преуспевало в Гродно. Чтобы увеличить постоянные определенные средства, которых было мало, так как доходными статьями были только квартирные платы сдаваемых Обществом помещений, по инициативе Лизы решено было открыть аптеку, как наиболее выгодное дело; правда, что этим Общество лишалось одного рода помощи: бесплатных и удешевленных рецептов, по которым городские аптеки города Гродно отпускали призреваемым Обществом лекарства, для чего требовалась лишь подпись одного из врачей, сотрудников Общества. Для открытия этой аптеки потребовалась и моя помощь как губернатора, потому что число аптек в городе определялось Министерством по количеству жителей; надо было вновь собрать статистические сведения, чтобы прибавить одну аптеку в Гродно. Когда же Министерство разрешило этот вопрос в благоприятном смысле, и даже еще раньше того, когда лишь возникли слухи о новой аптеке, посыпались прошения частных предпринимателей. Выбор зависел от меня, и тут, невзирая ни на какие протесты, я дал это право Благотворительному обществу. Дело это очень заботило Лизу и, действительно, впоследствии оно оправдало возлагавшиеся на него надежды, давая значительный доход. Лиза привлекла к себе опытного сотрудника в лице врачебного инспектора Кошелева. Открытие аптеки было обставлено особенно торжественно и началось молебном, совершенным архиерейским служением. Слово владыки, тогда преосвященного Никанора, было не особенно подходяще: он в своем слове восхвалял простые народные средства, в особенности мед, которым следует лечить от всех болезней; присутствовавшие могли вынести заключения, что лекарства не нужны, а это не входило в расчеты Благотворительного общества, надеявшегося извлекать доход именно от продажи лекарств. Другие доходы Благотворительного общества слагались из ежегодного базара и разных благотворительных спектаклей. Для базара с лотереей-allegri надо было собрать пожертвования, и к этому уже привлекалась вся губерния. Еще осенью Лиза подписывала груды писем всем помещикам и видным деятелям губернии и в ответ получала пожертвования либо вещами, либо деньгами — последние преизбыточествовали. Я, как губернатор, был против подписных листов, рассылаемых через полицию, так как такой сбор
676
пожертвований ввиду подчиненного положения исправников и желания их отличиться мог принять характер вымогательства. Если я не ошибаюсь, таких листов и не рассылалось по Гродненской губернии. Поступление пожертвований всегда очень волновало, и часто за обедом Лиза делилась с нами сведениями об особенно удачном дне, когда повесток с почты приносилось на особенно большую сумму. Несмотря на траур, и ей и мне пришлось быть на том вечере в Общественном собрании, когда разыгрывалась годичная лотерея-allegri Благотворительного общества. Необычайный успех этого дня был лучшим доказательством той симпатии и любви, которые Лиза приобрела среди общества. Когда все дамы-попечительницы подсчитали свои деньги и выяснена была общая выручка, значительно превышавшая выручки прежних годов, раздался гром аплодисментов присутствовавших, и Лиза, сконфуженная и довольная, обходила своих сотрудников со словами благодарности.
Помню еще два ее начинания для собирания средств. Одно было любительский спектакль в Городском театре, а другое — базар кукол, устроенный у нас в Колонном зале в один из воскресных приемных дней. Старик Четвертинский, посетивший в этот день мою жену, купил одну из лучших кукол и галантно преподнес ее моим дочерям. К сожалению, несмотря на всю тактичность и любезность жены, польское общество все же было недовольно, что не имеет своего отдельного католического благотворительного общества. Жена моя настолько не делала различия национального и вероисповедного, что даже в приюте католиков было если не больше, то, по крайней мере, не меньше православных. И вот на этой почве, на святом деле воспитания юношества, католики показывали свою непримиримость. С давних пор в приюте не было законоучителя-ксендза, и даже вообще не знаю, был ли когда-нибудь таковой; жена, занявшись устроением, приведением в порядок воспитательной части приюта, обратила на это внимание и, возмущенная тем, что дети-католики остаются без Закона Божия, лично просила ксендза Колерза, старшего на кафедре Гродно, скорее назначить в приют законоучителя. Тот рассыпался в любезностях, пришел в ужас от такого ненормального положения, благодарил жену за то, что она обратила внимание и приняла к сердцу духовные нужды католиков, посетил даже, кажется, приют и обещал удовлетворить немедленно просьбу моей жены. Но кончилась все это словами; прошли недели, месяцы, а законоучителя все не было. Воспользовалась Лиза приездом католического епископа, барона Роопа; взошла она ко мне в кабинет во время его официального визита, подробно изложила ему все обстоятельства дела, и он, казалось, пришел в непритворный ужас, так же как и Колерз, благодарил и обещал, но и зима прошла, и мы совсем покинули Гродно, а приют все был без католического законоучителя. По моему, объясняется это тем, что поляки домогались своего отдельного благотворительного общества и всячески препятствовали слиянию национальностей, тем паче в деле воспитания.
Упомянув о бароне Роопе, который впоследствии играл видную политическую роль, хочу написать о нем поподробнее. Долгое время виленская кафедра была вакантна, потому что епископ был удален, по требованию русских властей, за его пропаганду против церковно-приходских школ. Как всегда, больным местом было неясное и ложное разрешение униатского вопроса; униаты,
677
приверженцы римского папы, были, как известно, со времен Николая Павловича вдруг признаны добровольно перешедшими в православие; с этой минуты получилось обратное явление: они, сторонники православной обрядности, стали ярыми ее ненавистниками; католическая пропаганда имела среди них громадный успех, и если не все, то значительное большинство населения вернулось не в унию, которая была уничтожена в России, а прямо в католичество, но тайное. Православный епископ, считая их официально за православных, не довольно еще укрепившихся, насаждал церковные школы именно в этих местностях, а епископ католический оберегал своих чад, хотя и тайных чад, [и] в секретных посланиях предостерегал их от посещения этих конфессиональных школ. На этом и разыгралась вся история. Русской государственной властью епископ был удален и сослан, а римская курия, оскорбленная таким поступком, не соглашалась назначить нового епископа. Весь край — собственно литовский и лишь ополячен католической пропагандой. В Гродненской губернии всегда наблюдалось гонение католической церковной властью литовской национальности. В дополнительном богослужении литовский язык не допускался именно церковной властью, ксендз-литовец был если не гоним, то, во всяком случае, не поощряем. Мирский, вступив в управление краем, поставил себе целью поддержать самосознание литовского народа, освободить его по мере возможности от польского влияния в надежде, что с этой народностью, не имевшей в прошлом спорных, враждебных, национальных соприкосновений с русской властью, легче пойдет дело объединения с Россией. На основании этого он был если не инициатором кандидатуры барона Роопа, то, во всяком случае, большим его сторонником. Барон Рооп, казалось ему, именно мог явиться в этом деле примирителем, потому что не принадлежал к польской национальности: его происхождение было немецкое; брат его занимал видный пост командующего войсками Одесского военного округа. Впоследствии епископ Рооп не оправдал видов правительства и тоже был смещен русской государственной властью, но это случилось значительно позднее, когда я уже ушел из Гродно; при мне же все его действия были вполне корректны, если не считать разве его пассивного отношения к просьбе моей жены, о чем я писал выше.
Посетил Рооп Гродно при мне лишь раз. Объезд его сельских костелов сопровождался особой торжественностью: карету его окружали верховые в национальных костюмах; эта конная свита менялась в каждом приходе, в ней участвовали не только крестьяне, но и помещики-поляки. Впоследствии это обратилось в такое оказательство, что правительство вмешалось и запретило, но это было опять после моего выезда из Гродно. Накануне приезда Роопа декан Эллерт пришел ко мне с официальным приглашением от имени епископа присутствовать на следующий день на торжественной мессе, совершаемой епископским богослужением в Фарном костеле. На мое недвуличное замечание, что я недостаточно знаю католическую службу, а польский язык не понимаю, почему могу невольно оскорбить их религиозное чувство, не сделав вовремя требуемого поклона, Эллерт меня предупредил, что он мне покажет знаком, когда надо стоять, если епископ сидит; в общем же я должен следить за епископом и лишь вставать тогда, когда он встает. Когда я на следующий день приехал в костел, я понял, что мне легко
678
будет руководствоваться указаниями, сказанными мне накануне Эллертом. Оказалось, что мне было приготовлено кресло за алтарной решеткой, вблизи самого престола en face, против кресла епископа. Когда кончилась литургия, я уехал к себе домой поджидать Роопа, который по этикету обязан был сделать мне визит первый; потом выяснилось, что я сделал неловкость, так как служба кончилась царским молебном, на который, собственно, я и был приглашен. Благодаря этому визит Роопа задержался, и он довольно долго промедлил, оставаясь одетым в форме. Швейцары и казенная прислуга губернаторского дома, все католики, встретили его с благоговейным трепетом, чуть [ли] не распростертые на полу. Принял я его в своем служебном кабинете и довольно долго беседовал с ним по делам штрафного католического духовенства, которое содержалось в одном из гродненских монастырей за Неманом; дело в том, что по высочайшему Манифесту должны были быть сняты все административные взыскания, кроме тех, которые наложены были епископской властью за канонический проступок. В этом монастыре содержался ксендз по распоряжению гражданской власти за какое-то нарушение постановления, действовавшего в крае, и этого ксендза настоятель монастыря не хотел выпускать несмотря на то, что он подходил под действие Манифеста. Рооп сначала возражал, что этот ксендз, помимо того, находится под штрафом церковным, но, так как он не мог этого доказать, а из дела было видно, что единственный проступок этого ксендза — чисто административный, он сдался и обещался это дело уладить, что и исполнил с точностью. По другому делу мы никак с ним договориться не могли, да я, впрочем, и не очень настаивал, так как это относилось к области церковно-дипломатических вопросов, которым я не сочувствовал. Дело в том, что в Гродно существовал старинный женский монастырь — Бригитский; распоряжениями государственной власти времен, кажется, еще Муравьева, монастырь этот подлежал полному упразднению, но потом это распоряжение было смягчено и разрешено было наличным монахиням дожить свой век; новых запрещено было принимать. По сведениям, имевшимся в моей канцелярии, убыль монахинь вначале шла очень быстро, но ко времени моего разговора с Роопом уже более 20 лет, как число трех монахинь оставалось неизменным. Подсчитывая года оставшихся, надо было придти к заключению, что они достигли мафусаиловой старости. Молва упорно утверждала, что умиравшую монахиню тайно хоронили и заменяли новой. Проверить это, собственно говоря, можно было только нарушив неприкосновенность монастыря и лично увидав этих монахинь, сняв с них портреты и затем периодично сверяя их. Такая мера, понятно, не только мне претила, но была бы просто скандалом, почему я ограничился тем, что начистую переговорил с бароном и успокоился на том, что он мне своим епископским словом поручился, что эта молва ложна. Боюсь утверждать, но мне кажется, что перед моим отъездом мне было сообщено, что одна монахиня умерла, и их осталось две. По моему приказанию, пока барон сидел у меня, мне был приготовлен экипаж, так что через 5 минут после его отъезда, я сейчас же поехал к нему с официальным ответным визитом. Там и окончилась наша первая встреча в Гродно. До конца моей службы я не мог жаловаться на отношения с ним, я его считал истинно верующим католиком, принявшим католичество по убеждению, чуждого национального польского вопроса, но зато
679
ярого противника попрания малейших прав Римского престола. Во мне он тоже видел истого православного, противника воинствующей церкви. Как раз в это время я по собственному побуждению выступил на защиту разрушенного костела, который Военное ведомство предполагало обратить в казармы. Костел этот находился в конце Соборной улицы и, действительно, был настолько поврежден, что использовать его в виде храма было невозможно. Военное ведомство, имевшее по соседству казармы, хотело использовать еще прочные стены костела для расширения помещения полка. Я тогда писал и министру, и генерал-губернатору о том дурном впечатлении, которое произведет эта мера, указывал, как мы, православные, были бы оскорблены, если бы так поступили с нашим, хотя [и] полуразрушенным, храмом. Мое мнение было, если правительство считает необходимым отнять всякую надежду у католиков на восстановление этого костела, разобрать его стены до фундамента, но отнюдь не приспособлять его для жилого помещения. Как с ним поступили впоследствии, не знаю, но домогательство Военного ведомства было отклонено.
Прежде чем описывать последнее обстоятельство, вынудившее мой уход из Гродно, хочу еще вспомнить ученическую жизнь моих старших мальчиков и первые экзамены Сони, Льяны и Георгия. Старшие мальчики приучились к своей гимназии и завели себе друзей, но положение их было все-таки не особенно приятное: одни относились к ним с некоторой усмешкой, как к изнеженным юношам, другие же — с некоторой льстивостью; из числа первых особенно им досаждал один учитель, подтрунивая над ними при всяком удобном случае; эти нападки приняли одно время такой характер, что я даже должен был иметь конфиденциальный разговор с директором, тем более что такие нападения были совершенно незаслуженны, потому что мальчики держались особенно скромно и тактично; если в чем положение Мишино выделялось, то только тем, что он вечно за меня дрожал, старался сопровождать меня на прогулках, а в те дни, когда я бывал в Белостоке, висел на телефоне, постоянно спрашивая, где я нахожусь. Многих товарищей мальчики ввели в наш дом. Учились они так себе, но все же каждый год переходили благополучно; прошли они, таким образом, два класса: 6-й и 7-й. Георгий в Гродно впервые начал держать экзамены в качестве экстерна, но с его живым характером экзамены шли из рук вон плохо. Помню курьез, как его для письменной задачи посадили в кабинет инспектора. Он живо ее сделал, понятно, напутал и, не сказавшись никому, ушел; по дороге забежал на гимнастический двор, где по случаю перемены бегали воспитанники, помог какому-то юнцу сделать французский перевод, потом явился домой ко мне в кабинет торжественно заявить, что экзамен благополучно сдан. В это время его хватились, стали всюду разыскивать, а на поверку оказалось, что задача сделана неудовлетворительно.
Он завел себе своих особенных друзей на трэке. Трэк — было особо отгороженное место на окраине города в пяти минутах ходьбы от нашего дома, где гимнастическое начальство устроило всякие игры и спорты: зимой — каток, а летом — теннис, крокет и гимнастику. Однажды на катке Георгий столкнулся с таким же малышом, как он сам, и оба упали, после чего он сейчас же предложил товарищу по несчастью перейти на «ты». Мальчик этот, ростом еще меньше
680
Георгия, оказался сыном станового пристава Гродненского уезда Махинко. Малыш этот стал обожателем Георгия и поводом постоянного дразнения всей семьи последнего. Трэк был местом сборища всей гродненской молодежи; все мои дети были записаны членами и всю зиму пользовались катком. В общем, у них было много друзей: дети Веревкины, Беклемишевы, Ласточкины, одна из дочерей Кузьмина и другие. Самым большим другом мальчиков был Федя Алябьев, о котором я уже вспоминал. Вся эта молодежь собиралась у нас на уроках танцев и гимнастики. Приглашена была для этого учительница женской гимназии Николаева, и по воскресеньям танцкласс переходил в веселый танцевальный вечер. Николаева обижала младших и, придавая серьезное значение этому обучению, игнорировала их. Особенно жалка была всегда Мария, которая стремилась принять участие, а учительница ее оттирала, так что, видя огорчение Марии, я брал ее и выступал с ней в менуэте в последней паре. Летом уроки гимнастики переносились в сад. В сад было три выхода: из телефонной, колонной гостиной и будуара жены; когда двери и окна были открыты, он составлял как [бы] красивое продолжение нашей квартиры. Как только становилось тепло или когда еще было тепло, что было большую часть года, так как зимы в Гродно короткие, в этом саду протекала большей частью вся жизнь детей. В саду были устроены и теннис, и крокет ground. Зала Присутствия, где происходили все мои заседания, выходила окнами тоже в этот сад. Мое председательское место, хотя было и спиной к саду, но в полукруглом фонаре, выступавшем в сад, почему в боковые окна я видел весь сад en long и мог следить за детской жизнью. Помню, как я неоднократно наблюдал, как более интимные чиновники особых поручений выпрыгивали через окно в сад, чтобы принять участие в партии тенниса. Соня и Льяна в последний год пребывания в Гродно тоже держали экзамены, но мы с женой решили везти их для этого в Вильно, так как гродненская женская гимназия была мне непосредственно подчинена и программа ее нас не удовлетворяла. Повезла их Лиза и ежедневно сообщала мне по телеграфу результаты, а я в ответной телеграмме сообщал ей об успехах Георгия, которые были плохи. Во время их пребывания в Вильно случилась Цусимская катастрофа, так что мы врозь друг от друга переживали тяжелое впечатление этого бедствия. Всем стало ясно, что война проиграна, позорно проиграна, и былое величие России и вера в ее могущество бесповоротно подорваны.
В течение этой последней гродненской зимы мы пережили большую тревогу. Лиза однажды поехала делать визиты в парных санях с выездным лакеем Доколиным на запятках. Я же председательствовал на каком-то заседании в обычном зале губернского Правления, как вдруг в залу, вопреки всякому приличию, вошел Доколин, в запачканной ливрее, бледный, трясущийся, со словами: «Елизавету Николаевну лошади убили». Не помню, как я добежал до спальной жены, крикнув только, чтобы позвали какого-нибудь доктора из Губернского правления. Лизу я застал уже лежащую на постели в ужасном нервном состоянии, но в полной памяти. Первый прибежал вслед за мной помощник врачебного инспектора, старичок-врач, не практикующий, почему от него толку было мало. Уже помимо меня швейцар телефонировал в больницу Беклемишеву, но за его отсутствием приехал его помощник-хирург, который констатировал, что никаких поломов
681
нет; опасность внутренних повреждений могла выясниться лишь впоследствии. Из расспросов выяснилось, что дело произошло так: ввиду того, что Гродно крошечный город, и делая визиты, приходилось останавливаться постоянно, проехав всего несколько домов, лошади застоялись и при первом более дальнем расстоянии кучер дал им идти полной рысью; на крутом повороте он не рассчитал, сани раскатились, ударились о тумбу и жена, как была закутанная в меховую ротонду, была выброшена из саней с такой силой, что долго катилась по гладкому ледяному плацу. Доколин был также выброшен, и как только поднялся, побежал к жене, думая, что она убита. Жена сама, хотя не теряла сознания, боялась пошевельнуться; ее подняли при помощи солдат, прибежавших из соседней казармы, бережно усадили вновь на те же сани, так как лошади тут же сами остановились и шагом доставили домой. Хотя наружных повреждений никаких не оказалось, внутреннее сотрясение было столь велико, что ей пришлось долго лежать, да и последствия этого падения сказались на всю жизнь. Все последующие недомогания ее объяснялись лечившими ее профессорами этим падением.

Мария Осоргина в театральном костюме.
Около 1908. Частное собрание, Париж
Перейду теперь к описанию причины и обстоятельств моего ухода из Гродно. В январе или феврале 1905 года в Белостоке был убит городовой, и на этот раз злоумышленник был арестован, так что следствие сейчас же началось и шло под особым наблюдением прокурора Окружного суда Чаплинского. Возвращаясь как-то из служебной поездки по губернии, я был огорошен на вокзале известием,
682
переданным мне правителем канцелярии Тарановским, что без меня получено распоряжение генерал-губернатора о передаче этого дела военному суду. Для меня такое распоряжение было явным доказательством об ожидаемой в моей губернии смертной казни. Хотя распоряжение это было уже приведено в исполнение соглашением вице-губернатора с прокурором, все же я решил попытаться парализовать такое действие генерал-губернатора, так как я, убежденный, по христианским принципам, противник смертной казни, не мог хладнокровно к этому относиться, тем более что, как я писал в харьковских воспоминаниях, распоряжение о приведении в исполнение приговора входило в круг обязанностей губернатора. Телеграфировал я Фрезе, прося его меня принять, на что получил ответ, что он меня ждет. Помню, как он принял меня вечером со словами: «Знаю, знаю! Вы приехали со мной спорить о белостокском деле? Слышал, что Вы противник смертной казни, да и я не ее сторонник, но я своего распоряжения не отменю!». — «Это не только Ваша власть, но и Ваше право, — отвечал я ему, — но Вы обязаны также и выслушать меня, так как своим распоряжением Вы привлекаете и меня к участию в деле, которое моя совесть считает грехом». Тут я ему подробно изложил свой взгляд, не только принципиальный, но и утилитарный, доказывая ему, что эта мера никого из убежденных революционеров не устрашит, а наоборот, придавая одному из них ореол мученичества, скорее подвигнет новых сумасбродов на такие поступки. Беседа длилась очень долго, и хотя мы друг друга не убедили, чувствовалось взаимное уважение, и тон ее с его стороны был более чем дружественный. Видя, что я его переубедить не могу, кончил я беседу такими словами: «Во всяком случае, Александр Александрович, я считаю это грехом, не поступлюсь со своим мнением и, вернувшись домой, напишу Вам официальное письмо, что по состоянию своего здоровья я вынужден покинуть губернаторский пост и прошу Вашего ходатайства о причислении меня к Министерству. Причина моего ухода останется тайной и поэтому не вызовет толков, выгодных для революционеров».
Фрезе на такие мои слова вскочил и горячо стал убеждать меня не ломать своей карьеры, причем высказал мне такие лестные отзывы о моей деятельности, которые мне не приходится повторять, и кончил такой фразой: «Что же Вы хотите? Чтобы я, старик, отменил свое распоряжение, чтобы удержать полезного царского слугу на службе?». Я ему с улыбкой возразил: «Глубоко чувствую и ценю Ваше доброе ко мне отношение и отнюдь не намерен пользоваться им, чтобы вынудить от Вас шаг, который Ваша совесть осудила бы. Но не насилуйте и меня, и Ваше доброе отношение ко мне проявится в том, чтобы дело об этом несчастном затянуть до тех пор, пока не состоится мое отчисление от должности губернатора».
Он горячо меня обнял, совершенно по-отечески, и с большим волнением сказал: «Вы правы: всякий должен поступать по велениям своей совести, но как мне больно с Вами расставаться! Обещаю Вам, что это злополучное дело будет задержано до Вашего ухода из Гродно».
Покончив с этим, мы перешли к обсуждению того, кому мне сдать должность. Вице-губернатор Лишин постоянно был болен и собирался в продолжительный заграничный отпуск; возлагать это дело на лицо постороннего ведомства
683
было бы и неосторожно, да едва ли и корректно, почему я тут же и предложил Фрезе устроить Лишина и заменить его новым лицом; на его вопрос, могу ли я кого-нибудь рекомендовать, я смело указал на гродненского уездного предводителя Ознобишина; рассказал я про его вполне тактичную, смелую и выдержанную деятельность при подавлении беспорядков в Крынке и кроме того, как особый плюс такого назначения, обратил его внимание на то, что Ознобишин местный землевладелец, отлично знает губернию, пользуется всеобщим уважением и к тому же как окончивший Правоведение — юрист. Не скрыл я от Фрезе, что мать его, хотя почтенная старушка, все же низкого происхождения, то есть попросту крестьянка. Понятно, для поляков это минус, но плюсов у него столько, что можно пройти и мимо иного минуса, да и кроме того я и прочу его только в вице-губернаторы, так что он не принужден будет представительствовать. Фрезе тотчас со мной согласился и спросил меня, каким назначением удовлетворился бы Лишин; я высказал предположение, что он удовольствовался бы местом члена Совета министра внутренних дел с сохранением ему полного вице-губернаторского содержания. Как деятельность, это был полный отдых, а вместе с тем такое назначение для вице-губернатора было бы совершенно исключительное, и это польстило бы его самолюбию. Но все же я просил Фрезе дать мне срок переговорить с Лишиным и кроме того конфиденциально узнать от Ознобишина, как он относится к вопросу смертной казни, дабы и после моего ухода не создалось бы вновь настоящее трудное положение.
Фрезе на все соглашался и только повторял: «Да Вы, может быть, еще передумаете!». Но я был непреклонен. Расстались мы с ним, еще несколько раз обнялись, и в тот же вечер, скорее, ночью вернулся я в Гродно. Это был последний раз, что я видел этого достойного прекрасного человека.
В Гродно на вокзале меня встретил Тарановский и тут же вручил мне конфиденциальное письмо от министра внутренних дел, которым в то время был уже Булыгин; Булыгин предлагал мне пост тульского губернатора, долженствовавший скоро стать вакантным за предполагаемым назначением губернатора Шлиппе в Государственный Совет. Можно понять, как это известие меня поразило, и ехал домой с тяжелыми мыслями, как отнесется семья моя к решенному мной причислению к Министерству. Меня мучило, что оберегая цельность своего мировоззрения, я вместе с тем приношу для этого в жертву семью, обрекаю ее на более скромную жизнь и необходимость разлуки со старшими сыновьями. Такое же предложение, казалось, разрешало в благоприятном смысле всю запутанность положения, и я лично увидал в этом le doigt de Dieu. Помню как сейчас, как я с этими словами, с письмом Булыгина в руках, вошел в нашу гостиную, где несмотря на поздний час меня ожидали Лиза, Папа́ и тетя Лидия. Они, выслушав мой подробный рассказ, пришли к такому же заключению, почему я решил принять сделанное мне предложение, если только Фрезе согласится подождать мое новое назначение, которое, как видно было из письма министра, можно было ожидать не ранее, как через полтора-два месяца. Ночью же я написал подробное частное письмо Фрезе и поручил Тарановскому отослать его с чиновником особых поручений с первым поездом, отходящим на Вильно, с тем чтобы завтра же получить ответ. Я торопился, чтобы не задержать ответ Булыгину ввиду
684
того особенно любезного способа, которым он мне сделал это предложение. Он писал мне, что думает, что близость Тулы к Сергиевскому мне будет особенно приятна, почему прежде, чем докладывать государю о кандидатах на этот пост, он подумал обо мне и задержит всеподданнейший доклад до получения моего ответа. Ответ Фрезе, полученный на следующий день вечером, был не только благоприятный, но и трогательный своим дружеским тоном. Кончал он письмо уверением, что готов ждать и больший срок, лишь бы знать, что я не покину службы и буду продолжать свою полезную деятельность. Получив это письмо, я тотчас написал Булыгину, что принимаю его предложение с признательностью и прошу только об одном, чтобы испрошенный мною через генерал-губернатора двухмесячный отпуск на это лето был бы за мною сохранен. Подписав этот ответ Булыгину, я почувствовал, что связь с Гродно у меня порвана, и сознание, что я не буду свидетелем результата всего предпринимаемого мною, клало свой отпечаток на мою деятельность: не было у меня более той уверенности и смелости, которыми я прежде отличался, да кроме того невыносимо жалко было расставаться со своими сотрудниками. Кто и как проболтал[ся] о предстоящем моем уходе — не знаю, во всяком случае, это не был Тарановский, который по служебным делам был могила; все же это стало достоянием общества и нам с женой пришлось услышать много искреннего, дружеского сожаления. Разговоры эти дали мне повод начать переговоры с Лишиным; он так был огорчен и устрашен перспективой вновь знакомиться и приноравливаться к новому губернатору, понимая вместе с тем, что сам никаких шансов не имеет, что не только с охотой, но и с благодарностью принял мое предложение похлопотать о назначении его членом Совета министра внутренних дел. Его жена Ольга Михайловна особенно обрадовалась перспективе переезда в Петербург, где ее вотчим, генерал Вендорф, был помощником градоначальника. Наладив дело с Лишиным, который тут же уехал в заранее разрешенный ему заграничный отпуск, я начал переговоры с Ознобишиным. С его стороны я встретил не только согласие исполнить все требования генерал-губернатора, но и совершенно необычную радость такому блестящему устроению его карьеры. Устроив все эти дела, написав обо всем конфиденциально и подробно генерал-губернатору, я продолжал свою службу, но служебных поездок более не предпринимал, кроме Белостока, который не переставал мне давать много хлопот. Особенно страшна была в этому году Пасха в Белостоке: были упорные слухи о готовившемся еврейском погроме, меня заботила, как я уже писал выше, деятельность предводителя Неверовича, типа грубого русификатора, он своими бестактными выступлениями и желанием всегда играть роль часто осложнял положение. Я писал Фрезе о своих опасениях и просил его прислать мне одного из офицеров, состоявших в его распоряжении, с тем чтобы я мог командировать его в Белосток на время Страстной и Пасхальной недель с правами вице-губернатора, исполняющего поручение губернатора. Таким образом, ему подчинялась уездная и городская полиция, и он сам мог входить в сношения с военными властями для оказания содействия в случае надобности. Неверович же, сам бывший когда-то чиновником особых поручений генерал-губернатора, понятно, пред таким лицом стушевался бы. Фрезе исполнил мою просьбу и прислал мне ротмистра Загряжского, о котором я уже выше
685
писал; дал я ему все нужные инструкции, и отправился он в Белосток на две недели, сносясь со мной ежедневно по телефону, а иногда приезжая между поездами для личных докладов. В это же время в Гродно распространились слухи, и даже, кажется, были подметные письма обратного характера, а именно, говорили и угрожали, что в пасхальную ночь будет со стороны евреев нападение с бомбами на крестный ход, совершаемый кругом собора. Хотя не было никаких данных, подтверждавших возможность этого, все же в обществе появилась паника, почему на Страстной все спрашивали жену, будет ли она в соборе; ее утвердительный ответ успокоил многих, и хотя народу было меньше, все же собор не пустовал. По отношению детей Лиза не имела той смелости и их она отправила с моим отцом и тетей Лидией к заутрене в церковь женской гимназии, обещаясь «к обедне к ним приехать».
Служба в соборе прошла совершенно благополучно, хотя Лиза мне потом рассказывала, что она пережила большую тревогу: я, как всегда, стоял около правого клироса со всеми мундирными должностными лицами; Лиза же с остальными дамами — у левого клироса; и вдруг она заметила, что вблизи меня, даже немного впереди, появилась какая-то подозрительная фигура, просто одетая; как эта личность могла пробраться на официальное место — было непонятно. Жене это показалось еще более знаменательным, и пришло ей в голову, что это прокравшийся злоумышленник; с тревогой она следила за всеми его движениями и только успокоилась, когда увидала, что он стал истово креститься. После заутрени мы с Лизой уехали в женскую гимназию, после чего должны были быть у меня, по обычаю, розговеньи для всего города, в том числе и для архиерея. Садиться без него за стол нельзя было и пришлось его ждать, а он в отместку за то, что мы уехали, особенно долго медлил, так что мы все прождали его часа два, что было очень томительно. С удовольствием вспоминаю эти торжественные розговеньи в обе Пасхи, проведенные в Гродно; в них не было той простоты, того уюта, как бывало в Сергиевском, но было зато широкое хлебосольство, которое при моем служебном положении мне позволяли средства. Преосвященный Никанор в шутку говорил: «Я помню и держусь русской пословицы: “Если хочешь быть сыт — садись к хозяйке, а если пьян — то к хозяину”». И, действительно, чего-чего [только] не было на столе! Повар наш был не только артист, но и художник, так что громадный стол в Гербовом зале, накрытый человек на 200, был прямо красив, уставленный зелеными башнями из кресс-салата, у которых ютились крашеные яйца, фигуринами Baum-Küchen аршина полтора высоты, узорчатыми мазурками, разноцветными пасхами, объемистыми разукрашенными куличами, барашками из масла, как бы живыми поросятами и т. д. Но главная pièce de resistance, над которой особенно трудился повар, о которой много говорили, — это было огромное рыбное блюдо для архиерея: это блюдо изображало целую художественную группу; центром ее была большая редкая рыба и к ней как бы подплывали маленькие гатчинские форели. В этот год впервые были у заутрени и разгавливались Соня, Льяна и Георгий. Я помню, как Кологривов, Алябьев и Беклемишев старались прикрыть их от взоров жены, чтобы она их не услала спать. На следующий день, по обычаю, собиралось одновременно все городское духовенство с крестом; первое место занимал кафедральный протоиерей
686
Диковский и один старый архимандрит, живший в Гродно на покое. Все духовенство потом у меня завтракало, а к обеду приглашались все бессемейные чиновники. Зато визитов, кроме архиерея, я никому не делал, а ввел харьковский обычай собираться всем в Общественное собрание для взаимных поздравлений, внося за это благотворительный сбор в пользу Благотворительного общества. Ехали мы с Лизой туда часа в 3 дня и, пробыв там часа полтора, повидав всех, этим и отбывали праздничную повинность. И в Белостоке Пасхальная неделя прошла совершенно благополучно.
687
Глава X
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. ТУЛА (1905)
Начал я готовиться к отъезду. 6-го мая состоялось назначение Шлиппе в Государственный Совет, а меня — тульским губернатором. Я категорически отказался от всяких торжественных официальных проводов, ссылаясь на свой траур, слабое здоровье жены и тяжелые военные обстоятельства. Все же общество тепло нас проводило. Женская гимназия после торжественного акта поднесла мне адрес, написанный в очень теплых выражениях. Благотворительное общество сделало то же для жены и благословило ее образом. Все гродненское общество, собравшись единодушно к нам, благословило меня иконой Софии Премудрости Божией с выгравированной на серебряной доске очень сердечной надписью. Подносивший мне эту икону генерал Поволоцкий сказал, между прочим, такую фразу: «Между нами, Михаил Михайлович, не только никогда не пробежало кошки, но даже и маленького котенка». Это образное выражение наших добрых отношений мне было очень приятно. Чины Министерства внутренних дел губернии поднесли мне громадных размеров рамку со своими фотографическими карточками и видами Гродно. Кроме всего этого, было постановлено собрать по подписке капитал для учреждения стипендии моего имени в каком-нибудь учебном заведении. Об этой стипендии я долго ничего не слыхал, когда вдруг за год до войны, когда я уже давно жил в отставке в Сергиевском, я получил письмо от директора вновь открытого реального училища города Гродно с просьбой предоставить эту стипендию его училищу; я ему ответил, что это зависит от родителей, так как меня даже не известили о собранном капитале.
Ирония судьбы! Во время революции этот самый директор приезжал в Сергиевское с целью нас с семьей выселить и занять наш дом под свое учреждение...
Отъезд наш из Гродно задерживался экзаменами мальчиков и ожиданием назначения Ознобишина, чтобы сдать ему должность. Наконец, назначение Ознобишина состоялось. Дал я ему время осмотреться, всего дня три или четыре и, сдав ему губернию, со всей семьей уехали. Проводы были очень теплые: провожала нас масса народа, а некоторые, самые близкие, сели с нами в вагон и провожали до скрещения поездов. Перед отъездом я сговорился с Тарановским, что он перейдет со мной в Тулу на ту же должность. Кологривов, который, наверное, за мной бы последовал, к этому времени уже покинул Гродно, польстившись на место чиновника особых поручений при иркутском генерал-губернаторе графе Кутайсове. Земский начальник Валерьян Николаевич Ушаков, прощаясь со мной,
688
усиленно просил меня перевести его в Тульскую губернию и, главное, в какой-нибудь город, где он мог бы дать образование своему сыну. На мое замечание, что на место земского начальника он претендовать не может, так как по закону и по моим взглядам таковыми должны быть местные дворяне, он мне ответил, что с удовольствием примет и место исправника, что я ему безусловно обещал.
Итак, связь с Гродно порвана, и начинается этап новой моей службы, в этот раз последний. Бросая ретроспективный взгляд на гродненский период моей жизни, не могу не вспоминать его с особой благодарностью. Много там было и тяжелого, и волнительного, но вместе с тем много было и отрадного. Моя служба не отвлекала меня вполне от семьи, а напротив, гармонично вплеталась в семейную жизнь. Это был первый период беззаботной жизни с точки зрения материальной, и даже не только беззаботной, но и хорошо обеспеченной. Близость к нашей семье моих подчиненных и сотрудников совершенно уничтожала сухость службы. Далеко не убежден, чтобы меня любили в Гродно, за исключением некоторых, которые были мне преданы, но зато почти уверен, что меня там уважали и даже ,думаю, больше уважали, чем боялись. Зато мою жену все без исключения любили и преклонялись перед ней; перед ней я и был особенно виновен своим уходом из Гродно, отрывая ее от любимого дела Благотворительного общества. Мне рисовалось, что если так хорошо жилось нам на чужбине, то тем паче нам будет легко в русской, знакомой и во многом родственной губернии. Увидим впоследствии, как я жестоко ошибся!
Из Гродно мы всей семьей двинулись прямо в Сергиевское. Одна тетя Лидия нас покинула раньше, обещав летом к нам приехать; жизнь в Туле ей особенно улыбалась: она довольно долго жила в ней еще с мужем и имела в ней друзей и знакомых. Пребывание в Сергиевском мало помню. Помню, как Папа́ было трудно войти в опустелые его комнаты в первый раз после кончины Мама́. Вари с нами не было, она ждала в Петербурге возвращения своего мужа с войны. Главнокомандующий Алексеев был уволен, и с ним вместе и Яша лишился своего поста. Просил он Куропаткина использовать его на войне, дав ему хотя бы в командование корпус, но Куропаткин, довольный, что спихнул Алексеева, отнюдь не шел навстречу желаниям Яши, и Яша должен был вернуться в Петербург. Варя страдала за него, рекламировала его скромность, сама в душе надеясь, что муж ее будет возвеличен особой милостью государя. Помню, как она жестоко обиделась, когда кто-то передал ей слух, что ее муж назначается помощником командующего войсками Одесского округа, она с горячностью возражала, что такой низкий пост не посмеют предложить ее мужу. А он, бедный, в течение следующей зимы с трудом выхлопотал себе назначение начальника дивизии в городе Кельцы — до того пали фонды всех участников злополучной Японской войны. Я лично в Сергиевском пробыл неделю и поехал в Петербург видеться с министром. Булыгин принял меня, как всегда, довольно сухо, несколько иронически. Когда я стал ему говорить про Гродненскую губернию и про волнующий там всех вопрос восстановления дворянских выборов, обещанных государем, но почему-то не объявляемых, я увидал, что он совершенно этими вопросами и не интересуется. Он, казалось мне, совершенно не в курсе дела. Про Тулу он мне дал один совет: прежде чем воспользоваться двухмесячным отпуском, вступить в управление губернией,
689

Михаил Михайлович Осоргин. Рисунок М. М. Осоргиной.
Измалково, 1921. Частное собрание, Москва
так как тульского вице-губернатора Алексея Николаевича Хвостова он охарактеризовал как человека крайне ненадежного, который способен в interrègne что-нибудь накрутить, лишь бы показать полноту своей власти; при этом он со злым смехом вспоминал, как при назначении калужским губернатором на его долю пришлось исправлять последствия самодурных поступков вице-губернатора Маслова. Дело было так: при предшественнике Булыгина Жукове был правитель канцелярии, служивший очень долго и игравший громадную роль в чиновном мире. По-видимому, он с Масловым был не очень почтителен, и Маслов его возненавидел; правда, что этот правитель канцелярии имел неважную репутацию, и о взяточничестве в канцелярии губернатора говорили довольно открыто. Как только Жуков был уволен, Маслов без всякого предупреждения назначил правителя канцелярии исправником (для всякого бюрократа понятно, какой это был афронт), но самое трагичное в этом было то, что в это время не было вакансии исправника в губернии, и Маслов, ничтоже сумня[ше]ся, без всякого повода, причислил одного исправника к Губернскому правлению для очищения вакансии. Телеграмма об этом несправедливом распоряжении вскрыта была не исправником, а его женой, и «с тех пор, — окончил свой рассказ со смехом Булыгин, — она ежедневно в тот же час стала лаять собакой, и мне пришлось жену исправника лечить, выгнанного исправника устроить на лучшее место, а “исправника поневоле” устраивать в другой губернии советником губернского Правления. Вот,
690
чтобы Хвостов не заварил вам такую кашу, я и советую Вам вступить в управление губернией и воспользоваться двухмесячным отпуском, лишь давши определенные директивы».
Советовал он мне быть осторожным с его племянником Голицыным, которого он аттестовал мне как прекрасного человека, но несуразного либерала. Разговор наш был прерван докладом лакея, что завтрак подан. Я был очень удивлен, что Булыгин не подумал даже меня пригласить, а просто встал и стал прощаться. На мой вопрос, когда я могу видеть его жену Ольгу Николаевну, он мне сказал, что она бывает обыкновенно дома после 3-х. Вся преднамеренная сухость и невежливость такого поступка еще яснее станет понятна, если добавить к этому, что жил он тогда на даче на Аптекарском острове и он же мне при встрече попенял, что я в такой далекий путь пустился в мундире, а не посетил его запросто, как простого знакомого. Днем я вновь вернулся, чтобы увидать Ольгу Николаевну, и довольно долго у нее посидел. Она почему-то в течение всего моего визита была очень взволнована, прислушивалась к каждому звуку, и когда услыхала пыхтение автомобиля, сказала: «Это, наверное, Витте!» и вдруг расплакалась.
Долго она не могла успокоиться и потом все извинялась, что так при мне распустилась. Я тогда не понял, в чем дело, и только теперь, прочтя записки Витте и узнав, в каком трудном положении находился Булыгин, за которым, как за ширмами, действовал Трепов, я могу себе дать отчет, почему Ольга Николаевна была так нервна. Следуя советам Булыгина, я отложил до другого раза мое представление государю по случаю нового назначения, а также посещение министров и безостановочно проследовал в Тулу, намереваясь пробыть в ней недели две, а затем воспользоваться двухмесячным отпуском. Проехав Серпуховской мост, облекся я в мундирный сюртук, так как я въехал уже в Тульскую губернию. На первой остановке ко мне вошел исправник Тульского уезда, и я почувствовал себя уже вступившим в новую роль тульского губернатора. На платформе тульского вокзала ожидала меня довольно большая толпа представляющихся с вице-губернатором Хвостовым во главе; его грузная, толстая фигура сразу бросилась в глаза. Познакомившись с ним и поздоровавшись со всеми встречавшими меня, я прямо проехал в собор. Хвостов, прощаясь со мной на вокзале, просил моего разрешения приехать сегодня же ко мне сдать губернию; я ему сказал, что я хотел даже его об этом просить, но просить приехать его попозже, так как предварительно сделаю несколько официальных визитов: к архиерею, к исправляющему должность губернского предводителя и к нему, Хвостову. В соборе я был встречен соборным духовенством с уважаемым митрофорным протоиереем, кажется, Ивановым во главе, который встретил меня теплым приветливым словом. Понятно, я сразу почувствовал себя в русском городе, но не могу сказать, чтобы ощутил тот уют, который я надеялся найти. Встретившее меня чиновничество на первых же порах удивило меня некоторой подобострастностью; невольно ощущалось, что между губернатором и его подчиненными здесь, в России, гораздо более расстояния, чем в Гродно, где одно то, что мы — русские, связывало нас в одну родную семью. Первое впечатление и от города было самое грустное: не было той зелени, той легкости воздуха, как
691
в Гродно; напротив, подъем из Кремля по Киевской улице одарил меня тучей пыли. Дом по своим размерам меня уже совсем огорчил; привыкши к простору гродненского и сергиевского домов, мне до конца моего пребывания в Туле все казалось, что где-то еще есть просторные апартаменты. Сад при губернаторском доме до того был запущен, что все время вспоминалась красота гродненского сада. Итак, первое впечатление было не из приятных. Намеченный мной план визитов так и не удалось привести в исполнение; едва я успел выехать, облекшись в мундир, с визитом к архиерею, как встретил его, направлявшегося ко мне. Тульским архиереем был в то время преосвященный Лаврентий, почтенный по годам и фигуре старец, но довольно бесцветный. Приезд его первым ко мне было какой-то любезностью, не подобавшей его сану, но я считал неудобным повторять с ним церемонию, как в Гродно с бароном Роопом, почему отложил мой ответный визит до следующего дня. Исправляющий должность губернского предводителя тульский уездный предводитель Еропкин, по докладу полицмейстера, жил в деревне и даже не имел квартиры в городе. Алексей Николаевич Хвостов, торопясь скорее дать мне свою оценку губернии и ее деятелей, не дождался моего визита и поспешил приехать ко мне. Таким образом, я весь первый день оста[ва]лся дома. Первую мою беседу с Хвостовым я считаю моим первым служебным актом во вновь вверенной мне губернии, и как таковая, она положила отпечаток на мою служебную деятельность. До сих пор, описывая мою служебную деятельность, я не скрывал своих погрешностей, ошибок, но в общем, мне кажется, что и земским начальником, и предводителем, и вице-губернатором, и, наконец, гродненским губернатором, общий тон был взят мною правильно и крупных ошибок мною не было сделано.
Теперь я приступаю к описанию именно той эпохи моей службы, которая оказалась потом и последней и во время которой я погрешил именно в неправильном тоне, почему в ней было гораздо более ошибочных шагов и, главное, непоследовательность. В одном я остался верен себе, это в искренности и в правдивости. Причина моего ухода из Гродно, я не знаю, почему и как, стала достоянием общества, и губерния ожидала меня как либерального губернатора. Многими, ненавидевшими режим Шлиппе, крайне правого, мое назначение приветствовалось; другие же, единомышленники Шлиппе, сразу насторожились. К последним относилось чиновничество, подчиненное губернатору, подобранное и воспитанное Шлиппе за время его продолжительного губернаторства. Во всех этих течениях я и не сумел разобраться, причем, должен добавить, что по родственным связям моим со стороны жены и по ее знакомствам, когда она была еще девушкой, мне были близки именно те элементы, которые были в противном Шлиппе лагере, как-то Самарины (тогда еще была жива тетя Лина), Раевские, Голицыны, Бельгарды, Долгорукие, графиня Бобринская, урожденная Львова, Лопухины и т. д. Беседа же с Хвостовым и его оценка меня еще более спутала. Так как вскоре началось смутное время революции, я и не успел разобраться, что отчасти уменьшает мою вину. Так как это мое последнее губернаторство совпадает с началом первой революции и с Манифестом 17 октября, положившим грань между старой и новой Россией, дошедшей, почему и отчего, разберется история, до полного развала, постараюсь
692
как можно подробнее, правдивее изложить это время хронологически, по порядку. Пусть по этому рассказу судят, как провинция болезненно переживала это смутное время, как провинциальная администрация была совершенно не осведомлена центральной властью о ходе государственного дела, почему многие губернаторы, в том числе и я, должны по совести признать, что не были на высоте положения. Оценивать подробно своих подчиненных и сослуживцев, как я это сделал в Гродно, не буду. Буду писать о каждом из них постольку, поскольку я с ним сталкивался и поскольку его личность или действия побуждали меня к тем или иным распоряжениям. Делаю это и из осторожности, потому что пробыв губернатором в Туле всего несколько месяцев, и во время самого разгара исторических событий, я могу дать ошибочную характеристику и положить тень на какого-нибудь почтенного деятеля. Пусть факты говорят сами за себя. К сожалению, документы, как-то письма, черновики телеграмм, воззвания, собранные мною, все погибли в Сергиевском, но буду стараться восстановить по памяти как можно точнее все пережитое.
Итак, начинаю описание своей службы в Туле с первой беседы с Алексеем Николаевичем Хвостовым.
Из разговора с Булыгиным я уже составил себе некоторое понятие о Хвостове, но все же я не понимал этого человека настолько, чтобы знать, как отнестись к его словам, почему я, привыкший к определенному отношению к вице-губернатору, на первых порах нашего знакомства отнесся к нему с полным доверием. Повторил он мне то, что сказал еще на вокзале: как он особенно радуется перспективе служить со мной, причем, чтобы объяснить такую ко мне симпатию, добавил, что когда-то служил вместе с Алешей Лопухиным по Министерству юстиции и от него знает меня и мою деятельность. Не преминул он намекнуть, как тяжело ему было быть сотрудником Шлиппе, крайнего ретрограда, с которым он совершенно не сходился. Это выступление выяснило мне, что мой прямой помощник, по-видимому, считает себя либералом и крайне расположен ко мне, причисляя меня к своему лагерю. К сожалению, я только потом узнал, что у Хвостова никаких политических принципов не было, кроме личной карьеры, почему он обыкновенно держался одной линии — держаться противных взглядов со своим принципалом; на этом строить свою популярность в обществе, которое в те времена склонно было видеть в каждом администраторе притеснителя; перед Министерством же такое направление поможет ему, он надеялся, выделиться, подчеркивая все ошибки губернатора. Много позднее я узнал причину ухода его из вице-губернаторства минского; служил он там с губернатором графом Александром Александровичем Мусиным-Пушкиным. Граф Пушкин, уезжая в отпуск, сдал ему губернию с таким наставлением: во время его отсутствия не производить в губернском Воинском присутствии ревизии, которую Пушкин хотел произвести сам по возвращении ввиду упорных слухов, что там неблагополучно в смысле взяточности. Как только Пушкин уехал, Хвостов намеренно произвел эту ревизию; действительно, нашел там некоторые злоупотребления, представил всю ревизию в Министерство и ехидно в ней намекнул, что злоупотребления эти были известны губернатору, им прикрывались, почему ревизия при нем и не производилась. Пушкин, возвращаясь
693
из отпуска, заехал предварительно в Петербург, где в Министерстве ему показали бумаги его вице-губернатора. По возвращении в Минск Пушкин на вокзале не подал руки Хвостову и просил избавить его от его посещения. Хвостову не оставалось ничего другого, как уйти, и только через некоторое время, после успешных хлопот, удалось ему получить место тульского вице-губернатора при Шлиппе, к которому сейчас же стал в оппозицию, сойдясь и дружа со всеми деятелями, враждебными губернатору. Во главе последних стояли граф Владимир Алексеевич Бобринский и его родственник князь Георгий Львов; первый был богородицкий уездный предводитель, прославившийся тем, что за резкое, бестактное выступление в печати получил высочайший выговор; второй только недавно оставил административную деятельность (он был непременным членом губернского Присутствия) и занял пост председателя губернской Земской управы, где был кумиром 3-го элемента. Но к этим личностям я вернусь впоследствии, так как и в Туле они сыграли немаловажную роль; теперь же я о них говорю, лишь характеризуя направления Хвостова. Повторяю, все это я узнал позднее, почему на первых порах и оказал Хвостову незаслуженное доверие, что меня во многом и путало.
Начал Хвостов характеристику губернии такими мрачными красками, что я с ужасом думал, в какую кашу я попал. Режим моего предшественника он изображал как сплошное взяточничество; обвинял он в этом и канцелярию губернатора с ее правителем Мейером во главе, и полицию всю, как городскую, так и уездную, и даже намекал на недобросовестное ведение дел в разных губернских Присутствиях. Даже свое собственное Губернское правление он не выделял из общей дурной оценки, особенно напирая на неблагополучия во Врачебном и Межевом отделениях. Правда, что губернский землемер Смирнов занял этот пост за два года до моего рождения, а губернский врачебный инспектор Кнерцер — когда мне было года три, почему оба были такими древностями, что, понятно, ни за чем следить не могли, а вместе с этим оба приобрели довольно крупные состояния. Что касается полиции, он привел даже такой пример, который и подтвердился: помощник тульского полицмейстера (фамилию не помню) обвинялся в том, что выдал одному тульскому купцу свидетельство о его смерти, дабы прекратить возбужденное против него дело в городе Томске о каком-то дебоше в пьяном виде, за которое этому купчику надлежало отсидеть под арестом.
Перейдя к оценке уездных деятелей, уездного общества, характеристика Хвостова оставалась такой же безнадежной: обвинять во взяточничестве, в подлогах по службе людей, совершенно самостоятельных, не приходилось, почему Хвостов удовольствовался опорочиванием таковых или с семейной точки зрения, или рассказывая какой-нибудь неблаговидный, некрасивый поступок. На мой вскрик: «На кого же опираться, кому доверять?» он указывал отдельных лиц, добавляя какое-нибудь «но», которое подрывало всякое доверие к указанному лицу. Беседа наша длилась несколько часов. По окончании ее я чувствовал себя нравственно совершенно разбитым, с трудом мог собраться мыслями и очень упал духом. Я понимал, что всему все же верить нельзя, но, главное, я не вынес полезных для себя сведений, не узнал, на кого мне опираться, пока я сам не разберусь.
694
Для меня одно было совершенно ясно: Тульская губерния разделена на два враждующих между собой лагеря, и нет той клеветы, той грязи, которую враждующие политиканы не вылили бы друг на друга. Решил я до отпуска познакомиться с губернскими учреждениями и с их деятелями, а после отпуска предпринять подробный объезд губернии. Так как в губернаторском доме большой залы, достаточной для общего приема, не было, объявил, что подчиненные мне губернские учреждения я лично объезжу и на месте познакомлюсь с их членами, так же и уездное городское и полицейское Управления; что же касается чинов других ведомств, то я велел напечатать в «Губернских ведомостях» и разослать по учреждениям объявления, что в течение трех дней я буду принимать от такого-то до такого-то часа всех желающих мне представиться.
Знакомясь с членами Присутствий, мне подчиненных, я вынес впечатление малоутешительное. Старший советник Губернского правления Швенцел, ближайший друг Хвостова, был, может быть, прекрасный человек, но был разбит параличом до того, что его носили на руках, а потому совершенно не мог приносить ту пользу, которая от него требовалась. О «мафусаиловых древностях» — губернском землемере и врачебном инспекторе — я уже упомянул. Последний наотрез отказался объезжать губернию, ссылаясь на свою старость; его помощник, доктор Архангельский — прекрасный врач и по нравственным качествам бескорыстный, гуманный друг человечества — мог бы с успехом заменить Кнерцера, но, оберегая его, избегали для него этих командировок, так как, увы!, он страдал запоем, и всякий такой выезд выбивал его из колеи. По губернскому Присутствию два непременных члена, Михаил Михайлович Бодиско и Николаев, с первых же слов показали отсутствие деловитости; при дальнейшем знакомстве я, между прочим, натолкнулся на такое дело: после постройки Сызранско-Вяземской железной дороги, оконченной в 1875 году, выплачены были Крестьянским обществам деньги, следуемые им за земли, отчужденные под полотно железной дороги. По закону деньги эти не выдавались крестьянам на руки, а погашалась ими соответствующая выкупке часть долга с понижением соразмерно на будущее время ежегодных выкупных платежей; все это производилось простой перепиской губернского Присутствия с Казенной палатой. И вот такое дело лежало в производстве у Бодиско без всякого движения, и крестьяне продолжали выплачивать прежние выкупные платежи, несмотря на отобранные у них земли. Много стоило мне труда и переписки, чтобы добиться возвращения этим крестьянам излишне взысканных с них платежей. Непременный член городского и земского Присутствия барон Дельвиг несомненно был человек знающий и добросовестный работник, но меня он, так сказать, огорошил совершенно с другой стороны. Попросил он у меня секретную аудиенцию, и когда мы остались наедине, он мне откровенно высказал, что он по политическим убеждениям — крайне правый, воспитан в духе шлипповской школы, а потому думает, что так как я, по слухам, придерживаюсь либерального образа мыслей, он, вероятно, мне в сотрудники непригоден, почему предпочитает теперь же уйти добровольно. Я ему возразил, что, во-первых, не всякому слуху верь, а во-вторых, его роль сводится к точному беспристрастному докладу дела; я, по своим взглядам, не признаю достойным для губернатора
695
быть либо правым, либо либералом; губернатор должен быть только закономерным и исполнителем высочайших предначертаний, почему я буду только стараться согласовать свои решения с точным духом закона и буду ему только благодарен, если он, заметя, что я уклоняюсь от закона, будет возражать и докажет мне мою ошибку; ввиду этого я посоветовал ему повременить с уходом, на что он согласился.
Знакомство мое с полицмейстером, которым в то время был Воронцов-Вельяминов, заставило меня еще более насторожиться. При первом его утреннем рапорте на следующий день моего приезда он меня озадачил вопросом: «Кого прикажете, Ваше превосходительство, из Ваших людей зачислить в полицию?». На мой недоумевающий ответ, что ни один из моих людей не хочет от меня уходить, он сконфуженно пояснил, что этого не требуется, но что при прежнем губернаторе был такой порядок, что часть его прислуги зачислялась в штат полиции, получала там жалованье и командировалась в губернаторский дом на положении вестовых. Воронцов-Вельяминов был только исправляющий должность полицмейстера, так как настоящий полицмейстер, Гартье, женатый на племяннице Шлиппе, с уходом последнего искал пристроиться и был отчислен от должности Хвостовым, кажется, за пропуском срока отпуска.
Правитель канцелярии Федор Федорович Мейер, которого Хвостов особенно дурно аттестовал, обвиняя его в потворстве и попустительстве евреям, произвел на меня не особенно приятное впечатление. Особенно меня поразила, после харьковского Пивоварова и гродненского Тарановского, неряшливость слога бумаг, составленных в канцелярии, и недостаточная разработка существа предмета, о котором писалось, но так как у меня уже предрешено было перевести сюда Тарановского, я не особенно углублялся в оценку личности Мейера и только на первом же его докладе совершенно откровенно высказал ему мои планы; он просил меня дать ему время подыскать себе новый род деятельности и, действительно, осенью перешел на должность помощника управляющего Государственными имуществами Нижегородской губернии. Чтобы обрисовать эту личность, я должен рассказать нижеследующее: Мейер имел большую семью собственную и при нем жила и его старушка-мать; жили они в Туле давно, почему переезд оттуда был для них целой катастрофой. Естественно было бы встретить с их стороны неприятное, если не враждебное отношение ко мне, а между тем, когда спустя несколько лет уже простым смертным я проезжал через Нижний и обратился к Мейеру с просьбой о какой-то пустяшной услуге, я встретил с его стороны самую предупредительную любезность; он заставил меня переехать к себе, где вся его семья встретила меня с родным радушием; на мой вопрос: «Неужели Вы меня не ненавидите?» отвечал с улыбкой: «За что?» Причем Федор Федорович не покидал меня ни одной минуты и успокоился только тогда, когда посадил меня со всеми удобствами в вагон, и поезд тронулся. Кажется, такие поступки говорят в пользу порядочности человека и совершенно не вяжутся с представлением, которое мне дал о нем Хвостов.
Знакомство с должностными лицами других ведомств сделало на меня мало впечатления. У Шлиппе чиновника особых поручений не было; места оставались вакантными для усиления средств канцелярии, а на приемы командировался
696
какой-нибудь простой чиновник канцелярии. Привыкши в Гродно и в Харькове к воспитанным, образованным, светским чиновникам, дежурившим при мне, я был крайне недоволен таким порядком. На первых же порах дежуривший чиновник сделал неловкость, за которую мне пришлось потом извиняться. Прервав заседание Окружного суда, все члены этого Присутствия с товарищем председателя во главе приехали мне представиться, а чиновник продержал их в приемной, докладывая мне не в очередь о каких-то частых прежних посетителях Шлиппе. Поразило меня посещение директоров Тюремного комитета, из которых один, еврей Зафрен, казначей Комитета, держался как-то особенно развязно. Бросилось мне в глаза, что князь Львов и князь Голицын приехали ко мне в пиджаках. За три дня перебывало у меня много народа, но впечатления у меня осталось мало; может быть, это была предвзятая мысль, но я никак не мог распознать простого, любезного, корректного и равноправного отношения: я видел все либо льстивость, либо фрондерство. На первых же порах я стал подыскивать себе чиновника особых поручений; явился ко мне очень милый молодой человек, тепло рекомендованный одним из старших уездных предводителей; этот предводитель был хотя и неумный человек, как говорили, но был столпом правого крыла, хотя сам был под секретным надзором полиции; последнее обстоятельство случилось прямо по недоразумению. Был этот предводитель в Петербурге именно в год убийства Плеве, и, желая оказать любезность губернатору и вместе с тем сообщить животрепещущую новость, он в одной телеграмме поместил и поздравление с именинами, и сообщение об убийстве; но, сократив ее до минимума из экономии, послал такую опасную телеграмму: «Поздравляю, Плеве убит», за что сейчас же был отнесен к разряду неблагонадежных лиц. Рекомендованный мне молодой человек, которого он был опекуном, Владимир Николаевич Свентицкий, произвел на меня самое благоприятное впечатление как по светскому обращению, так и по образованию и воспитанию; воспитывался он одно время в Париже, что придало ему особый лоск; но, к моему великому удивлению, на запрос жандармскому полковнику о политической благонадежности Свентицкого, он ответил, что запрос мой отослан в Департамент полиции. Я знал, что это значит, что о запрашиваемой личности имеются неблагоприятные сведения; и, действительно, значительно позже я получил ответ, что Свентицкий в Париже был не только знаком, но и дружен с крайне опасными революционерами. Такой ответ был равносилен волчьему паспорту и преграждал молодому человеку возможность всякой государственной службы. Но губернатор не был связан в своих решениях и мог под свою личную ответственность определить на службу такого человека. Свентицкий произвел на меня такое хорошее впечатление и так мне было жалко подумать о его будущности, что я au risque прослыть за опасного либерала решился вызвать к себе Свентицкого и, начистую происповедовав его, принять его на службу, если все его заблуждения были только минутными увлечениями юности. Второе свидание с Владимиром Николаевичем заставило меня еще больше его оценить; он мне все совершенно откровенно рассказал, добавив, что это даже не было увлечением, а просто любознательностью и желанием вертеться во всех кругах. Назначение его состоялось, и я ни разу
697
в нем не раскаивался. Вторым чиновником особых поручений я взял сына непременного члена Губернского присутствия Бодиско, тоже моего тезку; он со школьной скамьи попал ко мне. Этими назначениями и переговорами с Мейером я и ограничил свою деятельность по части обновления состава служащих. По очереди председательствовал я во всех Присутствиях, так что познакомился с порядком ведения дел; менять я ничего не хотел, на убедившись воочию, что в установленном порядке есть дефекты.
Все же этот краткий промежуток, проведенный мною в Туле, дал мне много хлопот, но совершенно в другой области: начались в городе пожары, и пожары не только ежедневные, но и несколько раз в день. В городе начали волноваться, предполагая наличность какой-то шайки поджигателей. Погода была знойная, и можно было опасаться, что при скученности деревянных построек всякий пожар обратится в бедствие. Примеры гибели чуть ли не целых городов от огня — не диковинка в России. К тому же, сопоставляя обвинение, брошенное полякам во время восстания, что они виновны в большинстве пожаров, бывших в то время в России, с настоящим временем Японской войны, в низах общества, по трактирам, харчевням стали говорить, что несомненно это поджигатели, подкупленные японцами. Помню, как жутко бывало, когда швейцар Алексей Кудряшов докладывал: «По телефону сообщают, Ваше превосходительство, о закрытом (или открытом) пожаре там-то». Термин «закрытый» означал пожар внутри дома, не пробившийся наружу, а «открытый» — наружный, грозящий соседним зданиям. На несколько пожаров я выезжал и убедился, что пожарная команда действует исправно. Было несколько подозрительных случаев сгоревшего имущества, только недавно высоко застрахованного, но установить ничего не удалось. Пошли дожди, погода переменилась и пожары прекратились. Все же, когда я уже уезжал в отпуск, когда меня провожали на вокзале, начался грандиозный пожар в городе, и я спешно отослал полицмейстера на место пожара.
Лето это, проведенное в Сергиевском, прошло очень быстро. В течение его совершил я со старшими сыновьями поездку по Волге. Я всегда особенно любил эти путешествия, а на этот раз, делая его вместе с Мишей и Сережей, без перспективы застрять в унылой Михайловке Симбирского уезда, одно воспоминание о которой наводило на меня тоску, это событие сделалось одним наслаждением. Маршрут мы наметили такой: по железной дороге доехать до Нижнего, оттуда спуститься на пароходе до Сызрани, куда мне должен был быть выслан отдельный вагон, и затем обратно в Сергиевское. Туда мы наметили ехать через Калугу, чтобы миновать Тулу, а на обратном пути, проезжая через пределы Тульской губернии, проехать инкогнито, дабы избавиться от встреч и деловых разговоров. К сожалению, пришлось ехать до открытия Нижегородской ярмарки, так как в начале августа надо было уже спешить в Тулу: детям — в гимназию, а мне — на службу; это имело и свою хорошую сторону, потому что до ярмарки пароходы от Нижнего шли совсем пустые, и мы могли надеяться ехать со всеми удобствами. Все же мой отъезд задержался, так как я получил телеграмму от бывшего полицмейстера тульского Гартье с просьбой разрешить приехать ко мне в Сергиевское по важному, спешному делу. Желая окончить поскорее дело о назначении тульского полицмейстера и считая справедливым, если Гартье совсем уйдет, утвердить
698
Воронцова-Вельяминова, я ответил первому, что я его жду. Гартье за свое молодечество, смелость и расторопность при пожарах был любимцем тульского общества. Во время этой серии летних пожаров, о которой я только что писал, городской голова Волков, с которым я познакомился еще раньше при приезде его к нам в Сергиевское с великим князем, неоднократно вздыхал: «Ах, если бы был Гартье! Пожары эти были бы тотчас прекращены!» Но тут же на ушко добавлял: «Только очень уж он волю рукам давал! Да и ругатель он был виртуозный!» Понятно, что я хотел с ним познакомиться и не прочь был иметь под рукой такого энергичного начальника полиции. Приехал Гартье, но при первой же беседе выяснилось, что он опять находится в недоумении, так как ему представляется возможность занять пост бранд-майора Москвы, и только если это ему не удастся, он согласен вернуться в Тулу. Пронюхав об этом, уже без разрешения в тот же день прикатил Воронцов-Вельяминов узнать, чем решится его судьба; и я с ним же написал Хвостову, прося утвердить его полицмейстером, а с Гартье окончательно распроститься, желая ему дальнейшего успеха. Назначение Воронцова, как увидим впоследствии, было одной из моих первых серьезных ошибок. Покончив с этим, я, наконец, вырвался с детьми на Волгу.
Приехали мы в Нижний в 10 часов утра, в чудный летний день. Время мошек, этого волжского бича, уже прошло, река была еще довольно полноводная, оживление перед ярмаркой было громадное; все, что шло в Нижний, — и поезда, и пароходы — было битком набито. Объехали мы довольно бегло ярмарку, где приготовления к открытию были в полном разгаре; беспорядок был там еще полный, смешение национальностей такое, что глаза и слух никак привыкнуть не могли. Побывали мы и около губернаторского дома, откуда открывается невыразимо величественный вид: дом стоит так высоко над Волгой, что совершенно ее доминирует, и из трех его фасадов открывается необъятная даль. Мне рассказывали, что угловой кабинет губернатора находится во 2-м этаже, и из окон его видно слияние Оки с Волгой и вся ярмарка, раскинутая между двумя реками. Кто не видел Волги, тот не может дать себе отчета об оживлении этой реки; несмотря на громадную ширину ее в этом месте, она так запружена движущимися судами, что кажется невозможным выбраться тем пароходам, которые идут из Нижнего, а между 12-ю и 2-мя часами отплывают одновременно все пароходы, идущие вниз: в 12 — пассажирские, а в 2 — товаро-пассажирские. Пассажирские с места стараются обогнать друг друга, дабы на первые станции прибыть раньше и перехватить пассажиров. Товаро-пассажирские за этим не гонятся, и мы именно избрали таковой, чтобы продлить удовольствие путешествия на пароходе; идет такой пароход до Сызрани почти на сутки дольше пассажирского, имеет длительные остановки во всех больших городах, по 3—4 часа, что было нам особенно в руку. Правда, эти пароходы значительно менее роскошны пассажирских, но мы были почти единственными пассажирами 1-го класса, просторно разместились в двух отдельных каютах, а столовая-гостиная за малым количеством пассажиров была как бы «attenance» нашего помещения; в ней были и фортепьяно, и библиотека, и письменные столы; и мальчики были в полном восторге. Облюбовали мы себе стол на самом носу для наших repas, и так он за нами и остался во время всего нашего путешествия. Насладительно было после душной
699
железной дороги, пыльного города освежиться в ванне на пароходе и свежим, чистым усесться на носу за вкусным завтраком, любуясь, панорамой волжских берегов. Всегда на меня особенное производила впечатление вечерняя остановка в первый день выезда. Название пристани не помню. Причаливает пароход к правому нагорному берегу. Я помню, если не ошибаюсь, что на противоположном берегу, не особенно далеко, расположено село Макарьево, колыбель ярмарок. При остановке парохода вечером оживление уже минимальное и то только у пристани причалившего парохода. Врываются на пароход вечерние звуки: пение, засыпающий танец, мычание возвращающегося стада, а попозже и вечерний церковный звон. Отходим мы от пристани уже в темноту, огни — на мачте и боковые — зажжены, сам пароход весь освещен электричеством. Чтобы дать понять о его величине, скажу, что гуляя по нижней палубе, где сложен правильными рядами более ценный товар и тот, который надо выгрузить на очередной пристани, я делал основательно большую прогулку, во время которой заметил какую-то дверь и, думая, что это какая-нибудь служебная каюта, приотворил ее и очутился в просторной конюшне на 12 стойл; эта конюшня занимала такое незначительное пространство сравнительно со всем пароходом, что ее совсем не было заметно. Вот каких гигантских размеров был пароход!

Тула. Дом Земской управы. 1905.
Частное собрание, Париж
В Казани была первая длинная остановка, и мы поехали осматривать город. Ввиду спада вод пристань была уже на самой Волге, и до города надо было ехать
700
верст семь. Успели мы все-таки осмотреть и Кремль, и Сумбекову башню, и проехаться по главным улицам города. Так же впоследствии осмотрели мы и Самару. В Симбирске остановка была ночью, почему мы и не сходили на берег. Да и не попутные города были интересны, а сама Волга; знаменитые Жигулевские горы вызвали полный восторг моих сыновей. Вообще лучшего путешествия, более полного по сочетанию как природы, так и местной жизни, трудно себе представить, принимая во внимание, что путешествие совершается с полным удобством и комфортом. Я с раннего утра до поздней темноты сидел на носу парохода, и хотя я имел книжку в руках, мало в нее заглядывал. Сережа вставал гораздо позднее, но как только бывал готов, присоединялся ко мне. Миша больше интересовался машинами парохода и, кроме того, взял на себя все материальные заботы путешествия, а так как мы были почти единственными пассажирами 1-го класса, кухня и повар были в нашем распоряжении, и Миша заранее заказывал меню. С нами на пароходе ехало семейство с двумя детьми лет 5-ти, которыми Сережа очень забавлялся. Долго потом он напевал ту песенку, которую они распевали, ложась спать. Кажется, именно в это путешествие с нами был еще интересный пассажир — богатый татарин; он был живой пример того, как надо исповедовать свою религию. Где бы ни застало его время молитвы, особенно закат солнца, будь то на палубе или в общей гостиной, постилал он себе коверчик, скидывал обувь и, став на корточки, руками закрывал лицо и бормотал свою молитву. Он не стыдился такой своеобразности молитвы, вызывавшей иногда смех окружающих, и, не торопясь, минут 5—10 оставался в этом положении. Многим из нас, считавшим за стыд лишний раз перекреститься в обществе или при других совершить свою вечернюю молитву, следовало бы брать с него пример.
Добрались мы на третий день до Сызрани и с сожалением покинули пароход. Подъезжая к Сызрани, Миша опять вспомнил свои гродненские страхи и заволновался, решив, что какой-то пассажир подозрительно за мной следит; ни за что не хотел он пустить меня одного на извозчика, так как переезд от Волги довольно длинный и по глухой местности; время же было вечернее. На вокзале нас сразу охватила атмосфера начинавшегося военного развала: не то что вокзал, но и вся платформа была занята публикой, ожидавшей либо возможности сесть на пассажирский поезд, либо воинского эшелона; не будь у нас отдельного вагона, предстоящее нам двухдневное путешествие до Сергиевского было бы сплошным кошмаром. К счастью, вагон нас ожидал, но начальник станции просил пройти в него теперь же, предупредив, что он стоит далеко на запасных путях, что прицепит он его к поезду в последнюю минуту, когда публика так или иначе утрясется, порекомендовал до того не поднимать штор в вагоне, чтобы не вышло какого-нибудь скандала. Все это доказывало, что настроение повышалось и подчинение власти соответственно понижалось. У меня у самого на душе было нехорошо: я сознавал, что, пользуясь такими прерогативами, я нарушал справедливость, почему и был рад, когда мы, наконец, довольно уже поздно, тронулись без всяких осложнений. В Тульской губернии две большие остановки: Узловая и сама Тула. Подъезжая к этим станциям, мы опустили занавески к стороне платформы и запретили проводнику говорить, кто я. Все же буфетчик на станции Узловой узнал, что проезжает тульский губернатор, почему особенно позаботился о той
701
еде, которую потребовали в вагон. В Туле же Миша, гуляя по платформе, натолкнулся на нашего старого знакомого землемера-таксатора Михаила Денисовича Кришневского, отчасти ставшего моим подчиненным, так как он принадлежал к составу тульского Управления государственного имущества; он почти ежегодно работал в Сергиевском, снимая какой-нибудь лесной план, и теперь с этим поездом ехал в Сергиевское, почему Миша затащил его к нам в вагон. Кришневский был один из тех, который, несмотря на перемену моего служебного положения по отношению к нему, остался совершенно таким же — услужливым без всякой льстивости; только однажды, когда мы уже переехали в Тулу, он переборщил: он был церковным старостой прихода губернаторского дома, и когда мы в первый раз приехали всей семьей к обедне, оказалось, что нам приготовлено место, но какое место! Весь правый клирос и часть солеи с правой стороны перед иконостасом устланы были коврами, на которых были расставлены несколько кресел, у решетки же стоял сторож, отстранявший публику. Я поблагодарил Кришневского, но больше мы никогда в эту церковь не ездили.
Но отвлекся. Вернулись мы в Сергиевское, радостно встреченные всеми, полные впечатлений. Миша подробно рассказывал с обычной аккуратностью чуть ли не час за часом все наше путешествие, высмеивая беспомощность и непрактичность Сережи, отчего его рассказ часто прерывался возгласами Сережи: «Болван!» Меня, как всегда, Миша обвинял в суетливости, я и не возражал, потому что все равно всю семью не переспоришь, а все делали всегда анекдот из меня во время путешествия. Точный и аккуратный рассказ Миши дополнял Сережа, художественно передавая виденные красоты или же талантливо изображая какую-нибудь couleur locale’ную сцену. Я был вполне удовлетворен, потому что видел, что они действительно насладились, и тут же замечтался повторить это путешествие со всей семьей. Из дальнейших эпизодов этого лета помню еще объезд лесов. Обыкновенно я каждый год летом объезжал все леса в один день, для чего выезжал часов в восемь утра и с одной остановкой, довольно продолжительной, для завтрака и чая, которые доставлялись на заранее указанное место; возвращался домой часам к семи-восьми вечера, сделав верхом верст 30—40. Цель этих объездов была хотя бы поверхностно ревизовать лесное хозяйство на месте, указать, что надо дальше предпринять, наметить, где производить чистку, где новые лесные посадки и где окончательно прекратить пастьбу скота. Хотя этот обзор был довольно утомительный, все же я всегда очень этим наслаждался, а сопровождавший меня Николай Шуто́в, знавший лес, как свои пять пальцев, плавал в наслаждении. Он действительно любил лес, как истый лесной человек. Я помню, как однажды въехав в маленький гаек соснового насаждения, единственное место, где росли сосны, которые он особенно берег, Николай снял шапку, перекрестился и сказал: «Ух, какая благодать! Какой дух хороший!» В этом году объезд лесов имел для меня особое значение, так как я предполагал продать почти все имение Крестьянскому банку, оставив себе только усадьбу, немного полевой земли и Зараз, так что объезд этот был как бы прощанием. Со мной вызвались ехать и мальчики на Красную гору, и привал устроили в Молчанове близ Комолы. День были жаркий и мальчики воспользовались привалом, чтобы выкупаться в Комоле. Вернулись мы домой часов в семь и только что уселись за обед, как
702
Мишу стала трясти лихорадка; поставленный градусник показал очень высокую температуру. Жена забила тревогу, и я немедленно послал Николая за доктором, для чего надо было особенно спешить на поезд, идущий в Калугу; под рукой была еще нерасседланная лошадь Миши — Друг, и я крикнул Николаю: «Садись на него и скачи! Хоть зарежь его, но поспей на поезд». Отдавал я эти приказания громко, и, вероятно, мои слова, сказанные близ комнаты, долетели до слуха Миши, уже уложенного в постель, и он вдруг в полубредовом состоянии расплакался, выкрикивая: «Папа́ велел Друга зарезать!». Понятно, что такое нервное состояние Миши еще больше напугало Лизу. Николай на этот раз превзошел самого себя: вечером доктор Дубенский был уже около постели Миши. Но как его раздобыл Николай? Подъехал он к полотну железной дороги, когда поезд с противоположной стороны подходил к станции. Видя, что ему не поспеть на вокзал, делая объезд по дороге, он поскакал напрямик к полотну железной дороги против вокзала, соскочил с лошади, крикнул знакомому стрелочнику взять лошадь, а сам вскочил со стороны поля на подножку уже отходящего поезда, понятно, без всякого билета. Тут он сообразил, что обыкновенно в этот день недели Дубенский возвращается из своего тульского имения, где он проводил один день в неделю, в Калугу, почему Николай пошел по вагонам и, действительно, нашел Дубенского, мирно спавшего во 2-м классе; разбудил он его и упросил вернуться в Ферзиково со встречным поездом, для чего они слезли на станции Желябужской, где Николай еще догадался телефонировать начальнику станции Ферзиково заказать к поезду тройку почтовых лошадей. Понятно, все это ему удавалось, потому что он всех знал и за ним как за моим управляющим все ухаживали; но кроме того надо было обладать и его сметливостью, и его искренней, сердечной преданностью нам. Дубенский ничего серьезного в состоянии Миши не нашел, приписал все холодному купанию после большого утомления, и, действительно, через день Миша был уже на ногах.
Начали мы готовиться к отъезду в Тулу. Решено было сначала ехать мне одному с сыновьями, а потом и остальной семье. Особенно настаивали на этом Миша и Сережа, чтобы иметь возможность каждое воскресенье и праздник возвращаться в Сергиевское. Кроме того семья не могла сразу вся переехать, потому что дом в Туле был недостаточно поместителен, и надо было приспособить для Нюнички, Розали и Марии Григорьевны принанятый дом, расположенный как раз через улицу против губернаторского; дом этот ремонтировался и должен был быть готов только к середине сентября. Со мной ехала тоже тетя Лидия услаждать мое одиночество, когда сыновья будут уезжать в Сергиевское; для нее переезд в Тулу при такой обстановке был приятным и счастливым событием. Директор тульской гимназии Сергей Александрович Радецкий, сообщил мне, что сыновья по аттестату гродненской гимназии приняты и зачислены в 8-й класс. Был выписан тульский гимназический портной Воробейкин, чтобы сшить им новую форму: в Виленском округе курточки были черные, а в Московском — серые, и приказано ему было приготовить их для окончательной примерки к 14 августа, так как 16-го был назначен молебен. Отпраздновали мы 13-го день рождения Лизы и 14-го двинулись в путь. В Ферзикове оказались мы с Сережей и Катей Евреиновыми, ехавшими куда-то за Тулу, и с ними приятно и уютно доехали до нашего
703
места назначения. Катя старалась всякими разговорами и вопросами подчеркнуть перед пассажирами на вокзале и перед кондукторами, что я тульский губернатор, но это оказалось даже не нужно, потому что все и так меня лично знали, а в поезде, по чьему-то распоряжению, мне даже было оставлено два купе. Переехав Оку, я опять облекся в форменный китель. На вокзале встречал меня Хвостов, правитель канцелярии Мейер и полицмейстер. Распростился с Евреиновыми и отправился к себе уже в своем экипаже, так как все уже было перевезено из Гродно. Гродненский повар Иван уже был на месте; даже принял в свое ведение губернаторский дом Чистяков, бывший когда-то, когда я был земским начальником, моим письмоводителем, а потом в Гродно околоточным надзирателем, заведующим охраной имущественной части губернаторского дома.
Не прошло, я думаю, часов двух или трех после моего водворения, как швейцар принес мне письмо, принесенное каким-то незнакомым реалистом будто бы из дома барона Дельвига. Письмо было написано перевернутым почерком, и в нем таинственный незнакомец предупреждал меня, что сегодня готовится на меня покушение. Причем подробности ожидаемого события были таковы: меня предупреждали, что явится сегодня, как я раньше приказал, портной Воробейкин с платьем моих сыновей, но не он сам, а другое лицо, которое, когда я взойду посмотреть на примерку, бросит мне в ноги бомбу. Таинственный незнакомец добавлял, что сообщает мне о сем ввиду симпатии ко мне как к человеку, имеющему репутацию гуманного администратора. Я был очень озадачен этим письмом, потому что, с одной стороны, сообщенные подробности были настолько достоверны, что казались правдоподобными, с другой же стороны, бесцеремонность и бессмысленность такого покушения, требовавшего вместе с тем особой отваги, так как гибель злоумышленника была неминуема, наводили на мысль, что это не что иное, как мистификация. Вызвал я к себе начальника Жандармского управления, передал ему письмо и, когда он с ним ознакомился, спросил его, что он предполагает делать. Ответ его, рисующий, насколько он был не на месте, был неутешительным: «Как прикажете, Ваше превосходительство!..» Я ему довольно резко ответил, что охрана и предупреждение покушений входят непосредственно в его обязанности и что если он в этом неопытен, пусть посоветуется с новым смотрителем губернаторского дома Чистяковым, который около двух лет под руководством полицмейстера, начальника Жандармского управления ведал охраной губернаторского дома. С общего согласия поступили так: назначили примерку платья мальчиками на следующий день, приказав по телефону Воробейкину лично принести платье и никого из своих мастеровых не присылать и не брать с собою. Потом Чистяков мне докладывал, что какие-то агенты жандармского полковника проследили, что когда по телефону было сообщено о перенесении примерки на следующий день, немедленно какой-то субъект удалился из мастерской Воробейкина и куда-то отправился как будто гонцом. Насколько это было правдой — совершенно не знаю; было ли это мистификацией, желанием меня напугать или серьезным намерением революционеров — осталось совершенно невыясненным. Только в одном этот случай был для меня полезен: он побудил меня внимательнее присматриваться к начальнику тульского Жандармского управления; вызвал я его к себе в дом и подробно с ним беседовал;
704
произвел он на меня впечатление человека ограниченного, но вполне порядочного. Он совершенно откровенно мне сознался, что в Туле чувствует себя совсем как в потемках, совершенно не знает, какие имеются на лицо революционные организации и кто их возглавляет; сведения его совершенно случайные и, не имея никакой внутренней агентуры, он не в состоянии проверить их достоверность. В оправдание его можно было сказать одно: назначен он был в Тулу очень недавно, а предшественник его, уезжая, оборвал все нити и сдал ему только официальную часть Управления. Про его предшественника рассказывали, что это был любитель сыска, прирожденный Le Coq или Шерлок Холмс в маленьком масштабе; обладал он порядочным состоянием и тратил личные средства на сыскное дело. К сожалению, занимал он хороший дом-особняк с большим садом, который особенно понравился Хвостову; последний просил его уступить ему эту квартиру, тот не согласился и в результате, по проискам Хвостова, был переведен в другую губернию. Хвостов тотчас занял облюбованную квартиру, а обиженный начальник Жандармского управления в отместку, уезжая, оборвал все нити. Да если бы он даже этого и не сделал, новый начальник не в состоянии был бы поддерживать связь с внутренними агентами, не имея на то достаточной казенной ассигновки. Написал я директору Департамента полиции, что такая полная неосведомленность жандармского полковника меня пугает, почему очень прошу принять меры к организации правильной агентуры. Какие это имело последствия — увидим ниже.
В это время я был очень озабочен вопросом о назначении правителя канцелярии. Тарановский неожиданно для меня написал мне, что ему предложено место делопроизводителя канцелярии генерал-губернатора, что такое назначение ему очень улыбается, но примет он его только в случае моего согласия, так как считает себя со мной связанным. Понятно, я не счел себя вправе настаивать на приезде Тарановского и довольно сухо ответил ему, что рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, а потому считаю его письмо за отказ ко мне приехать и буду подыскивать другого правителя канцелярии. Семья моя никогда не могла простить этого поступка Тарановскому, и, действительно, мое положение было довольно трудное. Мейер ожидал с минуты на минуту назначения в Нижний, как я уже писал выше, и уже укладывался; из его помощников не было ни одного мало-мальски пригодного для занятия этой должности. Обратился я в Харьков к бывшему правителю канцелярии Тобизена старику Пивоварову, прося его кого-нибудь мне рекомендовать, и он, к моему великому удивлению, предложил самого себя. Я, понятно, с радостью ухватился за эту мысль и немедленно выразил согласие на его назначение. Увы, я не учел пролетевшее время! Месяца через полтора приехал Пивоваров, но уже совсем другой: постаревший, обрюзгший и склонившийся, и к тому же влюбившийся на старости лет в молодую особу, которую привез с собой, надеясь на ней жениться, как только получит развод от жены. Перо его было такое же блестящее, как и прежде, но теперь оно [работало] медленно, дела залеживались, и хотя я был совершенно покоен за добропорядочность ведения дела, я не был обеспечен продуктивностью его, так как Пивоваров совершенно службой не интересовался.
705
Немного осмотревшись, я начал объезд губернии, распределив этот объезд на две поездки; в первую поездку я наметил посетить Черненский уезд, Новосильский, Ефремовский, Богородицкий и Епифанский, а во вторую поездку — Каширский и Веневский. Одоевский, Белевский, Крапивненский и Алексинский я решил отложить до лета и так в них никогда не попал. Отложил я их посещение, главное, ввиду того, что в них не ожидалось острой продовольственной нужды, тогда как в остальных уездах урожай был настолько плох, что можно было ожидать необходимости серьезной продовольственной помощи. Приезжал в Тулу еще до моей поездки сенатор Галкин-Врасский для организации общественных работ в Тульской губернии и оставил в Туле своего помощника Врасского для руководства исполнением намеченного плана. По желанию Галкина-Врасского я созвал у себя в его присутствии совещание из уездных предводителей, председателей уездных Управ и Губернскую Земскую управу в полном составе. Из числа членов последней наиболее видный по деловитости после председателя князя Львова был Арбузов, ведавший Сельскохозяйственным отделом; хотя он совершенно и затенялся князем Львовым, преклоняясь перед последним, все же он имел свое мнение, которое и не скрывал. Князь Львов был такой энергичный и работоспособный человек в области хозяйственной, что, в сущности, без него его сослуживцы и подчиненные совершенно терялись. Я помню, как однажды мне потребовалась спешная справка из Губернской управы, я даже лично по телефону запросил по этому поводу канцелярию Губернской управы и получил неожиданный ответ, что князь в отъезде, вернется завтра, и он один только знает это дело. Я не мог предполагать, чтобы это было бы некоторым бойкотом административной власти, а, скорее, это было лишним доказательством, что князь Львов держал все дело в своих руках и ревниво охранял свое главенство. Уже тогда не внушал он мне доверия. Третий член от Губернского Земства пестрил громкими именами земских работников и более или менее предосудительным политическим прошлым. В откровенной беседе со мной по этому поводу Львов мне высказал такое мнение: «Я их не боюсь, знаю, с кем имею дело, и пользуюсь их знанием вовсю. Моя система такова: заваливать их работой, чтобы у них не было свободного времени для политики». Я не имел повода подозревать в нем самом политически неблагонадежного лица, он был еще окружен славою блестящего ведения земской организации на войне, обласкан был самим царем и был в полном фаворе у центрального правительства. В составе Управы в качестве добавочного сверхштатного члена служил двоюродный брат моей жены Н. С. Лопухин, впоследствии женившийся на моей старшей дочери. Лопухин был совершенно под обаянием Львова, пел ему такие дифирамбы, что это еще более успокаивало меня, хотя были случаи, в которых неискренность и лживость Львова заставляли меня настораживаться. Помню такой характерный инцидент. Приходит ко мне князь Львов в приемные часы, как всегда демонстративно в пиджаке, и жалуется мне, что типография Губернского правления отказалась отпечатать спешный доклад Управы для предстоящего Земского собрания; что его земская типография завалена срочной работой к тому же Собранию, почему просит моего авторитетного вмешательства. Я тут же переговорил по телефону с типографией, приказал немедленно исполнить его требование, и князь от меня уехал. Едва
706
успел он отъехать, как явился советник Губернского правления, в ведении которого была типография, со злополучным докладом и объяснил, в чем дело. Был разослан по всем типографиям циркуляр Главного управления по делам печати, категорически запрещавший печатать постановления бывшего до того незадолго заседания Пироговского общества, потому что постановления этого съезда во многом касались земского дела и стремились вселить в Земство мысль о необходимости расширить свою компетенцию и, не ограничиваясь одной хозяйственной деятельностью, обсуждать и общегосударственные вопросы. В этом злополучном докладе Земской управы, касавшемся разных медицинских вопросов, крайне объемистом, в тексте было упомянуто о бывшем Пироговском съезде и в виде повествования были изложены его постановления. Такой ловкий маневр, стоявший вразрез с упомянутым циркуляром, и дал повод типографии отказаться от напечатания доклада. Действия моей типографии были совершенно правильны, и можно было только удивляться хитрости и лицемерию Львова. Тут уж я возмутился, немедленно вызвал к себе в кабинет по телефону председателя Управы и показал ему запрещенные страницы доклада; на это он сконфуженно мне заявил, что он просмотрел такую вещь и страницы эти несущественны. Я ему укоризненно указал его личную подпись в конце доклада и вернул ему оный. Но все же этот случай подорвал мое доверие к Львову.
На заседании под председательством Галкина-Врасского все время чувствовалась недоверчивость бюрократии к Земству и скрытый бойкот Земства к правительству; и то и другое создавало напряженное настроение. Когда председателем был предложен по одному уезду (не помню, какому) план общественных работ для этой местности и произошло разногласие среди самих представителей этого уезда, я предложил, по-моему совершенно целесообразно, созвать немедленно экстренное Земское собрание этого уезда, дабы оно высказалось по поводу целесообразности той или другой общественной работы; на это Галкин-Врасский очень резко возразил мне, что Земство тут ни причем. Я как сейчас помню взгляд, брошенный на меня Львовым, и ожидал с его стороны какого-нибудь выступления, но, к крайнему моему удивлению, он промолчал и за все время заседания не проронил ни одного слова. Вообще это заседание произвело на меня самое тяжелое впечатление; привыкши в Гродно к солидарности и согласованности властей, наблюдаемая мною теперь в Туле открытая борьба и частая неискренность меня особенно пугали. Объезд губернии еще более усилил во мне эти опасения, так как каждый уезд не то что имел свой личный характер, но был настроен отлично от других. Так как это был мой первый объезд губернии, я наметил при посещении уездного города посетить все уездные учреждения, присутствовать на Административном присутствии уездного съезда по продовольственному делу и в некоторых уездах обревизовать где земскую больницу, где волость, где камеру земского начальника. Первый по маршруту стоял Черненский уезд. Предводителем дворянства там был некто Офросимов; он утверждал, что наши роды одного корня; по его словам, было три брата, кажется, валахи, вышедшие в Россию и принявшие русское подданство при московском князьке: один, Осорь, был родоначальником нашей фамилии, другой, Офрось был его родоначальником, третий, Охлябь, от которого произошел род Охлябининых. Офросимов
707
принадлежал к самому правому крылу тульского дворянства, но вся его деятельность ограничилась, кажется, полной бездеятельностью; репутация у него была кутилы, его можно было всегда видеть в Туле в ресторане гостиницы Чайкина. Деловую сторону своего уезда он совершенно не знал, да и не интересовался ею, но он был добрый малый, русский хлебосол, а потому, по нетребовательности нашего русского общественного самосознания, был любим у себя в уезде. Первый прием нового губернатора у себя в уезде он понимал как необходимость угостить губернатора на славу. И действительно, в помещении уездного съезда весь день был накрыт стол, и завтрак, чай и обед чередовались без перерыва. Созвал Офросимов не только должностных лиц уезда, но и уездных дворян; последнее было очень приятно, так как давало мне возможность знакомиться не только с деятелями служебными, но и с деятелями общественными. Такое знакомство мне удалось только в Черненском уезде, в остальных уездах дворяне не удостоили меня своим посещением. К сожалению, должен сказать, что знакомство с черненским дворянством за столом, уставленным бутылками вина, не оставило во мне приятного впечатления. Съехавшиеся дворяне были одного настроения со своим предводителем и ввиду моей репутации, как я уже писал выше, либерального администратора хотели, по-видимому, дочиста со мной договориться и me dire mon fait, если я не буду петь с ними в лад. Хотели они привести свое намерение в исполнение уже к вечеру, после обеда, прерываемого бесконечными тостами по всякому удобному случаю. Я должен был торопиться к поезду, почему наши объяснения и не были доведены до конца, но уже из начала разговора мне стало ясно, что мы друг друга не поймем и не споемся в течение всего дня; за исключением времени еды Офросимов не был со мною; все учреждения осмотрены были мною без его участия, и даже в канцелярии уездного съезда, где я беседовал с земскими начальниками, он отсутствовал. Так же, как и в Гродно, этот первый объезд дал мне мало материала; я только знакомился с людьми, и то крайне поверхностно; но и такое поверхностное знакомство убедило меня, что крестьянское дело в лице земских начальников ведется в губернии спустя рукава. Это убеждение, за некоторыми исключениями, впоследствии все больше во мне укреплялось. Как яркие примеры, приведу такие случаи. Однажды на приеме у меня в Туле в беседе с одним земским начальником я коснулся вопроса, что он начал делать по поводу надвигающейся продовольственной нужды. Не помню точно, что он мне ответил, но помню мое возражение: «Позвольте, ведь то, что вы намерены делать, противоречит продовольственному закону», то есть тому самому закону, который был введен в Министерство Сипягиным и о котором я писал в моих харьковских воспоминаниях как тема неудачного для меня экзамена этого министра. На это земский начальник удивленно мне ответил: «А разве есть такой закон? Я никогда его не читал», что побудило меня ему посоветовать поосновательнее проштудировать крестьянское законодательство. Другой земский начальник (Глебов) при первом моем знакомстве наивно спросил меня, не буду ли я иметь что-нибудь против того, чтобы он устраивал свою служебную деятельность по прежнему порядку; на мой вопрос, в чем же заключается этот порядок, он мне объяснил, что живет он в Москве, куда письмоводитель привозит ему бумаги к подписи, сам же он приезжает в камеру раза 2 в месяц
708
для разбора дел. Человек этот был в высшей степени почтенный и значительно старше меня, почему мне было очень трудно сказать ему, что я считаю такой порядок совершенно недопустимым; мне это было тем более трудно, что я из разговоров знал, что земский начальник Ефремовского уезда Арсеньев, брат бывшего губернского предводителя, был почти ежедневный партнер и посетитель моего предшественника губернатора Шлиппе, значит, с ведома последнего жил не в своем участке.
Таких редких примеров в Черненском уезде я не встретил, но общий тон уездного съезда был мало деловой. Реформа была уже не новая, ей минуло уже 15 лет, к ней уже применились; не привлекала она идейных тружеников и давала лишь возможность разорявшемуся дворянству занять платную должность, не покидая своего имения. И в Черненском уезде я встретил родственника (это была моя судьба в Тульской губернии), а именно Сумарокова, женатого на троюродной сестре моей жены Трубецкой, причем его жена была племянницей моей кузины Всеволожской, урожденной Устиновой; он на меня произвел впечатление несомненно неглупого человека, но его денежная запутанность ему очень вредила, а затем, когда он после моего ухода попал в предводители, и погубила окончательно. Следующий уезд, который я посетил, был Новосильский. В нем предводительствовал Шатилов. Предводитель был давно болен, если не ошибаюсь, параличом ног, и должность его правил его молодой помощник Сухотин. После обильного, несуразного, утомительного черненского хлебосольства встреча в Новосильске была разительным контрастом. Сухотин, по поручению предводителя, поставил себе целью, чтобы я со своей свитой не проголодался бы, но центр тяжести моего посещения и его работы было дать мне возможность основательно ознакомиться с уездом; у меня осталось впечатление, что в этом уезде на службу смотрят несерьезно. С самим предводителем у меня впоследствии вышло недоразумение по следующему поводу: как я уже сказал, этот предводитель был серьезно болен, помощник же его был совершенно юный человек. После Манифеста 17-го октября снова назрел вопрос о подготовлении к выборам в Думу, я очень был озабочен положением дел в Новосильском уезде, потому что требовалась твердая разумная рука предводителя, чтобы направить все подготовительные работы; вследствие этого я написал конфиденциальное письмо новосильскому предводителю, в котором с изысканной любезностью (письмо было составлено Пивоваровым, а он был на это мастер) излагал ему все мои опасения и кончал просьбой к нему вступить на это время в должность или же, если болезнь его безусловно этому препятствует, подыскать себе достойного заместителя, но не поручать такое серьезное дело такому молодому человеку, как Сухотин. В ответ я получил от него письмо если не дерзкое по форме, то, во всяком случае, неприличное по содержанию; смысл его был таков: благодарю за советы, но в них не нуждаюсь. На это я никак реагировать не мог, закон не давал мне способов противодействовать абсентеизму предводителя, и я предоставил дело собственному течению. Но я забежал вперед.
Посещение Ефремовского уезда ничем особенным не ознаменовалось; так же как и в Черни, наблюдался довольно сильный преферентизм к служебным вопросам, но зато там я натолкнулся на такую непорядочность, которая меня глубоко
709

Тула. Дом Земской управы, 1905.
Частное собрание, Париж
взорвала. В уезде жил Александр Карлович Бельгард, бывший полтавский губернатор, с треском уволенный со службы, как я писал в своих харьковских воспоминаниях; он был старожил Ефремовского уезда и чуть ли не три трехлетия до своего губернаторства предводительствовал в этом уезде; стоило ему вернуться в уезд опальным бывшим губернатором, как все от него отвернулись, уездная же полиция, до того низкопоклонствовавшая перед ним, совершенно его игнорировала; имение его отстояло от города верстах в 12-ти, и надо было видеть конфуз и растерянность исправника, когда я ему сказал, что вечером, после окончания обозрения учреждений, я поеду к Александру Карловичу, а он, исправник, будет меня сопровождать в одном экипаже, чтобы я мог поподробнее побеседовать с ним о положении в уезде, которое было довольно тревожно, потому что летом, еще до моего приезда, были аграрные беспорядки в соседнем уезде, в имении графа Бобринского. По-видимому, исправник не знал, что я в родстве с Бельгардом, и был очень сконфужен, когда мы с ним взошли в дом. Добрейшая Эмилия Павловна, жена Александра Карловича, по присущей ей доброте была равно любезна и радушна со мной, исправником и становым; зато сам Бельгард, тепло, сердечно обрадовавшийся моему приезду, любезно отнесшийся к становому, был убийственно холоден с исправником, едва ему подал руку, добавив, что очень доволен, что благодаря моему приезду он, Бельгард, старый предводитель, может наконец возобновить знакомство с начальником уездной полиции.
710
Исправник был очень сконфужен, и я не преминул на обратном пути высказать ему свое удивление его поведению. Из Ефремова проехал я в Богородицкий уезд. К этому времени уездный предводитель граф Владимир Алексеевич Бобринский успел перекреститься из ярого либерала в такого же ярого консерватора; поводом к этому были беспорядки на его хуторе Ждянка, организованные одним из его прежних адептов; инцидент был уже исчерпан, главные виновники были арестованы и следствие энергично велось, но сам граф, почувствовав первый натиск либеральных веяний, осуществленных на деле, затрепетал за свое материальное благополучие и перешел в лагерь крайне правых. Впоследствии, как известно, он сыграл некоторую роль при созыве совещания в премьерство Витте.
Председатель уездной Управы Ушаков тоже перекрестился, но не особенно ярко; был он когда-то земским начальником, о нем ходили слухи, может быть, сплетни, что он и нагайку пускал в ход, так что его служебное положение пошатнулось; вследствие этого он, желая подладиться к Бобринскому, тогда еще либеральному предводителю, резко переменил фронт, стал отрекаться не только от отеческих приемов управления, но и отрицать необходимость той твердой власти, которая вводилась императором Александром III в лице земских начальников. В результате Бобринский провел его в председатели уездной Управы как либерального гласного. Когда же сам граф поправел, и Ушаков стал выявлять новый образ мыслей; но тут уже ему ни тот, ни другой лагерь не верили. Не знаю, была ли это заслуга Ушакова или его предшественника, но показанные мне земские учреждения сделали на меня впечатление вполне хорошее, особенно больница, где старшим врачом был Александр Голицын, женатый на племяннице моей жены.
В очень близком расстоянии от города находилось хозяйственное училище, рассадник не только либеральных, но и революционных веяний в уезде. Не помню, какую долю участия в существовании этого училища принимало Земство, но демонстрировали мне его и Бобринский, и Ушаков. С внешней стороны это учебное заведение было блестяще и, вероятно, служило когда-то предметом гордости и Бобринского, и Ушакова, но теперь настроение обоих переменилось и они только печаловались на неблагонадежность и учащихся, и учащих. Эти сетования и были главным предметом беседы после объезда во дворце Бобринских. Загородный их дом, расположенный почти сейчас же за городом, нельзя назвать иначе, как дворцом. Построен он был по повелению Екатерины Великой для ее незаконного сына, родоначальника этой фамилии. Сам город, возникший уже после постройки дворца, распланирован был так, что все улицы расходились радиусами по полуокружности таким образом, что каждая улица была как бы лучом, исходящим от одного из окон громадной полукруглой залы дворца. Внутренняя обстановка дома, а также и сама хозяйка, бывшая сельская учительница, совершенно не гармонировали с внешним видом дворца. Все же сам Бобринский, совершенно неуравновешенный человек, увлекавшийся до несуразности, человек был незаурядный, а потому беседа с ним несомненно была интересная. При этом объезде все более выяснялась неурожайность этого года и надвигавшаяся продовольственная нужда. Бобринский и в продовольственной помощи видел отголосок тех либеральных веяний, от которых он отошел, а потому если
711
не отрицал, то умалял выяснившийся неурожай, что очень попортило положение в уезде, как увидим впоследствии.
Из Богородицкого уезда я проехал в Епифанский. Подъехал я к станции ночью, и когда утром я проснулся и собирался выйти из вагона, я увидел такую сцену: какой-то необычайно толстый господин в мундире с цепью земского начальника тщетно пытался взлесть прямо с полотна на ступеньки моего вагона; услужливые стрелочники даже какой-то ящик ему принесли, но, несмотря на эту помощь, благодаря своей корпуленции, он все же не мог взобраться на ступеньки вагона, так что кончилось тем, что его приподняли и втиснули в дверь. Это оказался добродушнейший земский начальник Игнатьев, в камере которого я назначил ревизию всего его участка. Приехал он для того, чтобы пригласить меня к себе обедать. Тип это был совершенно особенный, очень напоминающий помещика Петуха из «Мертвых душ». Впоследствии судьба сыграла с ним злую шутку. Графиня Варвара Николаевна Бобринская, бившая всегда на передовую женщину, перед октябрьской забастовкой стала рассылать через волостные Правления в школы брошюры антиправительственного содержания; один из волостных старшин участка Игнатьева такую посылку задержал и представил своему земскому начальнику. Графиня Бобринская, возмущенная таким поступком, явилась с жалобой к Игнатьеву; застала она его в камере во время разбора какого-то дела, в цепи, и, получив ответ Игнатьева, что он признает действие старшины вполне правильным, она, как необузданная женщина, тут же зонтиком исколотила Игнатьева. Был составлен протокол и дело передали судебному следователю; дело слушалось в Окружном суде уже после Манифеста, и, о ужас!, под влиянием веяния времени графиня Бобринская была оправдана, а бедный Игнатьев, тысячу раз правый в этом деле, был только осмеян таким приговором суда. Надо было видеть фигуру добродушного толстяка, этого земского начальника, чтобы понять всю трагикомичность этого инцидента. При ревизии ничего поразительного в хорошую или дурную сторону не было найдено; дело велось патриархально, но, во всяком случае, без злоупотребления; должностные лица, собранные со всего участка, до сельских старост включительно, произвели на меня приятное впечатление почтительно-любовным отношением к своему земскому начальнику, а обращение Игнатьева с ними располагало к нему; он, несомненно, их всех знал, и связь его с населением чувствовалась; он не олицетворял ту твердую власть, которую наметили законодатели в этой реформе, но осуществлял идею благожелательной крестьянам власти. До этой ревизии я посетил город, где в Земском доме было сосредоточие всех земских учреждений, находившихся под ведением предводителя; меня встретил предводитель князь Голицын со всеми должностными лицами. В этом уезде дело было поставлено серьезнее и могло быть сравнено с Новосильским уездом, но чувствовалось, что симпатии главы уезда на стороне Земства, а не администрации, почему в уездном съезде незаметно было того творчества, которое должно было сделать из сухого закона о земских начальниках действительное, живое, постоянно развивающееся дело. В Земстве же, наоборот, чувствовалось желание расширять, развивать свою деятельность, хотя и с явной тенденцией вторгаться в те области жизни населения, которые не были предоставлены ведению Земства. По сведениям, которые
712
я имел еще в Туле, третий элемент Епифанского уездного Земства имел репутацию далеко не надежную в смысле политическом, особенно среди врачей. Помню, что одна из женщин-врачей, Афанская, по сведениям Жандармского управления, просто занималась пропагандой; но Голицын в беседе со мной особенно хвалил эту личность за ее врачебную деятельность; когда же я коснулся вопроса ее политической неблагонадежности, он, хотя и отрицал оную, все же настаивал на полезной ее деятельности, а что касается другой стороны ее деятельности, говорил, что это не его дело. Желая удостовериться в действительной пользе такой женщины-врача, я назначил на следующий день посещение той больницы, которой она заведовала. После обеда у Игнатьева ночевал я у себя в вагоне, откуда намеревался ехать назавтра в больницу, и был очень неприятно поражен, когда на следующий день ни предводитель, ни председатель Управы не потрудились приехать сопровождать меня для ревизии подведомственных им учреждений. Прислан был для этой цели член уездной Земской управы Бычков, избранный из числа гласных от крестьян; этот член Управы, хотя и крестьянин, понял всю бестактность дворян, заправил уезда, и был очень сконфужен. Меня такой некорректный поступок до того рассердил, что я, кажется, даже и не поехал ревизовать больницу, а кого-то командировал, впрочем, не помню точно; сама же личность женщины-врача, вызвавшей эту ревизию, после всех ужасов октябрьских событий, оказалась такой песчинкой, что скоро забылась. Этим уездом кончилась моя первая ревизионная поездка.
Вторая поездка намечена была по маршруту Кашира и оттуда по ветке в Венев, и из этого города на лошадях обратно в Тулу. Но в Веневе я изрядно простудился, схватил горловую боль и вернулся окружным маршрутом по железной дороге. Отъезд в эту ревизионную поездку был мною немного отсрочен ввиду начавшихся волнений в учебных заведениях. При возвращении моем из Епифани полицмейстер, встречая меня с рапортом на вокзале, доложил, что в гимназии неблагополучно; гимназисты подали какую-то петицию директору и занятия прекратились. Больно мне было получить это известие, понимая, как должны были реагировать мои сыновья; они по укладу нашей семьи не могли симпатизировать всяким таким выступлениям молодежи; вместе с тем, чтобы отказаться и пойти против течения товарищей, требовалось от них громадное мужество, потому что такой поступок их, как моих сыновей, был бы растолкован не идеей, а мелким бюрократическим настроением. Когда я вернулся домой, и они мне рассказали, как они подписывали эту петицию, брали потом свою подпись назад, мне их стало безумно жаль, тем более что видно было, как у них издерганы нервы; я, главное, с целью их успокоить ввиду прекращения занятий в гимназии отослал их к моему отцу в Сергиевское. Застал я жандармского полковника, заработавшего вовсю; он меня уверял, что все нити дела в его руках, что воротила этого движения — товарищ моих сыновей, кажется, Северцев, и что стоит его арестовать, чтобы все утихло. Но и Северцева он арестовал, и еще кого-то другого, а движение разрасталось и перекинулось в другие учебные заведения, а таковых в Туле было довольно много: кроме классической гимназии, было реальное училище, коммерческое училище, две женские гимназии, очень хорошо поставленное женское епархиальное училище и духовная семинария, управляемая ректором, архимандритом Георгием,
713
убитым впоследствии во время революции в Варшаве за его антирусскую политику на посту Варшавского архиепископата. Во всех заведениях было неспокойно, но полная, открытая забастовка разразилась только в октябре; до того занятия шли кое-как. Ко мне часто собирались все начальники этих заведений; из них самый симпатичный был ректор гимназии Сергей Александрович Радецкий; это был человек глубоко порядочный, гуманный, совершенно не карьерист, а любящий молодежь человек, к тому же очень тонко разбиравшийся в разных проявлениях юной жизни. Я помню, как он сочувствовал и понимал положение моих сыновей и как он сердечно одобрил отправление их в деревню. Увы!, этот человек погиб потом трагически, но о том будет речь впереди. Все же нельзя было мне откладывать назначенной ревизии; хотя не со спокойным сердцем, все же поехал я в Каширу и дальше. Город Кашира произвел на меня чарующее впечатление своей красотой; есть одно место на бульваре, с которого открывался незабываемый вид на Оку с железнодорожным мостом в некотором отдалении, да и сам город по благоустройству своему выделялся из всех ранее осмотренных мною городов. Уездный предводитель дворянства Татаринов, человек несомненно неглупый и работавший, был затенен в уезде крупной по трудоспособности и по деловитости фигурой председателя Уездной управы Брянского. Из Каширы я проехал в Венев, где попал в сборище родных, свойственников и знакомых. Один из членов Управы, женатый на моей двоюродной сестре Ржевской, по скромности своей (происхождение его было не блестящее) хотел даже скрыться от меня и все время старался держаться подальше; но я его вытащил, сосчитался с ним в родстве и поручил ему передать его жене теплый привет, хотя я никогда в жизни ее не видал. Надо сказать, что этот уезд не произвел на меня впечатления культурной среды, но я уже разбаловался и потому суждения мои были, может быть, неправильные. Сам предводитель Попов был уж очень неумный человек, и как-то с ним было очень трудно вести деловые разговоры, а Веневский уезд, как довольно сильно пострадавший от неурожая и к тому же вне сети магистральных железнодорожных линий, требовал особого внимания в этом году.
Этим уездом я и покончил свои поездки по Тульской губернии. Вернулся я в Тулу и уже не покидал город до самого того момента, когда я вообще покинул службу. Со дня моего возвращения до начала всеобщей забастовки, которой в Туле предшествовала забастовка пекарей и булочников, протекло немного времени, и только этот небольшой период моей деятельности я могу считать протекшим в Туле в нормальных условиях. К этому периоду относится и назначение Пивоварова моим правителем канцелярии. В это же время была намечена программа продовольственной помощи в губернии. По закону все дело лежало на губернском Присутствии, и Земству уделялась самая малая доля забот, как-то продажа хлеба и продуктов по удешевленным ценам, помощь для прокормления скота и снабжение населения заработком. Состав губернского Присутствия, как я уже писал, в лице его непременных членов был такой архаический, что я чувствовал, что я с ними ничего не сделаю, а потому все дело возложил на губернскую Земскую управу, но чтобы не быть незаконным, она трактовалась не как Земская управа, а указывались лишь ее председатель князь Львов и член Арбузов, которые по должности состояли членами Административного отдела
714
губернского Присутствия. Насколько я считаю князя Львова двоедушным, лживым и в политике непорядочным, настолько в делах хозяйственных считаю его талантливым организатором и энергичным, незаменимым работником. Только благодаря ему трудный продовольственный год в Туле прошел для местного населения без потрясения хозяйств. Он ничем не брезгал и потому закупил достаточно продовольствия; прослышав, что в Кронштадте Морским министерством не принята крупная поставка сухарей, как злые языки уверяли, ввиду недостаточной взятки, предложенной поставщикам приемщиками, он немедленно отправился туда и оптом закупил всю поставку для Тульского земства. Планом продовольственной кампании было намечено скупить потребное количество продовольствия на местах у помещиков. За это особенно стоял богородицкий предводитель граф Бобринский, и так как к этому времени он перешел в лагерь крайне правых, он во всем не соглашался с князем Львовым и просил обеспечение Богородицкого уезда оставить на его иждивение, ручаясь, что он потребное количество хлеба скупит без труда на месте, в уезде. Губернское Присутствие согласилось и открыло ему нужный кредит. Прошла неделя, другая, и не получая уведомления от Бобринского о том, как дело им налажено, я заволновался и запросил его телеграммой; спустя несколько дней я получил от него ответ уже из Киева о том, что он вызван туда по своим личным делам и вернется в уезд не раньше, как через неделю; затем я получил другую телеграмму о том, что он вызван на совещание в Петербург. Пришлось и Богородицкий уезд присоединить к общей организации.
Тревожное настроение в Туле все нарастало, чувствовалась надвигающаяся гроза. Неоднократно беседовал я с жандармским полковником, который, увы!, ничего не знал. Он и в гимназическом движении не мог разобраться, хотя стало вполне очевидно, что в гимназии действует постороннее влияние, и гимназические неурядицы лишь одно из проявлений общего революционного движения. Арестовало Жандармское управление одного, другого гимназиста, занятия в гимназии начались, но шли далеко не нормальным порядком. Видя полную неосведомленность жандармского полковника, я конфиденциально вторично написал директору Департамента полиции, что необходимо теперь же прислать кого-нибудь, кто бы сумел организовать в Тульской губернии правильную агентуру.
И вот в один прекрасный день является ко мне на прием некий господин, назвавшийся Михайловым, с докладом, что Департамент полиции прислал его по моему требованию для организации тульской агентуры и что такое же поручение ему дано и по Орловской и еще какой-то губерниям, почему он часто будет в разъездах, но надеется очень быстро наладить дело. Я пожелал ему успеха и отпустил его. В тот же день вечером ко мне пришел еще не уехавший из Тулы бывший правитель канцелярии Мейер предупредить меня не в службу, а в дружбу, что он Михайлова знает и советует быть с ним поосторожнее. По рассказам Мейера, Михайлов уже раньше подвизался в Туле и должен был удалиться после крупного скандала в клубе, где он был уличен в шулерстве. Я не обратил особого внимания, знал по опыту, что для такой работы трудно подыскать вполне порядочного человека. Все же разговор Мейера я передал жандармскому полковнику. Впоследствии, как увидим дальше, этот Михайлов наделал мне много хлопот.
715
Вся моя семья к этому времени переехала в Тулу, и жизнь в доме пошла своим чередом. После сергиевского и тем паче гродненского простора в Туле казалось тесно, неуютно; все учреждения были разбросаны, приходилось мне бывать полдня вне дома, на разных заседаниях, даже для приема просителей надо было одеваться и идти в другой дом, где помещалась канцелярия.
Никогда не забуду, как мы с женой узнали про кончину Сережи Трубецкого. Получена была рано утром телеграмма о том, что он серьезно заболел в Петербурге, и жена его с детьми выехала туда. Я, чтобы получить более подробные сведения, хотел запросить телеграммой Кристи, бывшего в то время уже сенатором и жившего в Петербурге. Чтобы ускорить отправку телеграммы (телеграф был очень далеко от губернаторского дома), я вызвал к телефону начальника почтово-телеграфной конторы и продиктовал ему текст моей телеграммы для немедленной отправки. Еще я не докончил ему диктовать, как он меня перебил словами, что князь Сергей Николаевич Трубецкой уже скончался. На мой возглас: «Почему вы знаете?» он мне прочел только что полученную телеграмму от какого-то видного общественного деятеля на имя князя Львова. В ней сообщалось, что Сережа скоропостижно скончался на совещании у министра народного просвещения и что его, Львова, просят принять участие в депутации для возложения венка от общественных деятелей.
Трудно было сообщать это известие Лизе, до того никто не был подготовлен к этой ужасной потере. Жена моя решила сейчас же ехать в Петербург на похороны. Не имея возможности ее сопровождать ввиду тревожного настроения в Туле, я послал с ней моего старшего сына Мишу. Попали они к самому отпеванию. Похороны Сережи по количеству народа были совершенно необычайным явлением, но и являлись как бы подсчетом сил революции. Во время шествия только у гроба раздавалось церковное песнопение; толпа же то здесь, то там распевала революционные песни: «Мы жертвою пали...» и другие. Большого труда стоило его жене добиться, чтобы наравне с другими венками несли бы и венок, возложенный на его гроб от имени его величества.
Несомненно, в толпе молодежи, провожавшей его, многие провожали его прах с чувством благоговения и благодарности за все то, что он и как профессор, а потом как первый выборный ректор, сделал для молодежи. Ведь и кончина его была последствием непосильных его трудов, несмотря на серьезную болезнь сердца, в защиту этой молодежи. Он, первый выборный ректор, не испугался закрыть своей властью университет, когда молодежь стремилась сделать этот университет ареной политической пропаганды. Все профессора пришли в ужас от принятого им решения. Ожидали, что молодежь ответит ему на это оскорблением, но он, считая это долгом минуты, сам лично, в сопровождении своего помощника Мануйлова, явился в аудиторию на бурную сходку и объявил о закрытии своей властью университета. Правда, он был вознагражден отношением к нему студентов: на его горячую, искреннюю речь молодежь ответила бурными аплодисментами; видя его утомление, студенты принесли ему кресло; кончил он свое слово сидя, и проводила его молодежь как любимого, почитаемого руководителя. Было ему всего 43 года, так что не могло быть в нем мудрости старца — была лишь мудрость сердца. По делам этой же молодежи он и поехал в Петербург. Поехал он больной,
716
и силы не выдержали. Одно из последних его слов было: «Теперь они успокоятся...» На вопрос: «Кто?» он ответил: «Мои мальчики».
Эти слова и доказывали, как он все время думал о молодежи. И эта молодежь, в виде несметной толпы, и провожала его прах как в Петербурге, так и в Москве. В Петербурге чуть не раздавили мою belle-soeur Ольгу, и только присутствие духа Миши, сопровождавшего ее, спасло ее. В воротах товарной станции она споткнулась и упала и чуть не была задавлена напиравшей толпой; Миша встал над ней на четвереньки и неистово закричал, что заставило рядом стоявших отшатнуться и дало возможность в один миг поднять Ольгу с земли.
Жена моя с сыном вернулись с этих похорон совершенно потрясенные и разбитые как физически, так и нравственно. С возвращением их и кончилась более или менее нормальная жизнь; революционное настроение стало нарастать не по дням, а по часам, пока не вылилось во всеобщую забастовку. В самых первых числах октября началась в Туле забастовка пекарей; булочные закрылись, за исключением двух, которые работали под охраной войск. Эта охрана была необходима, потому что забастовщики неоднократно пытались ворваться и испортить опару.
Я постоянно объезжал город и днем и ночью, совершенно не полагаясь на полицмейстера, окончательно растерявшегося. Никакая нормальная работа не шла. Бывало, сидишь в своем кабинете, слушаешь какой-нибудь очередной доклад; вдруг телефон, что там-то и там-то собралась толпа забастовщиков и двигается, но куда и с какой целью, еще не выяснено; бросаешь работу, какой-нибудь экипаж всегда стоит уже запряженный, и летишь на место сборища. Так, однажды, захватив взвод казаков, я поехал разгонять толпу, настолько значительную, что ей, может быть, и удалось бы сорвать работу даже и в тех булочных, которые охранялись войсками. Эта толпа, по сведениям, по пути врывалась в частные дома и вливала керосин в хлебную опару у тех хозяек, где таковой было слишком много, и можно было предположить, что пекут они хлеб на продажу. Когда нагнал я эту толпу недалеко от Сенной площади, приказал я казакам ее разогнать; и тут же, сознаюсь, сплоховал. Стоило мне увидать зверские лица казаков (им эти забастовки надоели до невозможности), поднявших нагайки и мчавшихся во весь опор на толпу, и увидать толпу, состоявшую большей частью из подростков, улепетывавших с воплем и криками от нагайки, как у меня сердце упало, и я закричал уже не командным голосом, а каким-то истеричным: «Назад, назад, не надо!»
Казаки с недовольством возвращались назад, и на их лицах я читал прямое себе осуждение. А толпа, хотя и не собиралась больше, но явно мальчишки дразнили казаков. С этой минуты я понял, что не сумею подавить беспорядок, не из трусости, а из совершенно лишнего в этом случае чувства гуманности. Я потерял почву под ногами и веру в себя; все время во мне двоились чувства. Я понимал, что будущее еще грознее. Забастовка пекарей была только прологом, хотя и била по самым существенным нуждам населения. Я с ужасом думал о том, как предотвратить забастовку на электрической станции и водопроводе. Полиция была совершенно деморализована, а реальная физическая сила в виде войска заключалась в одном пехотном полку, преимущественно из запасных, крайне
717
ненадежных, сотни казаков, незначительной инвалидной команды, охранявшей Арсенал, и конвойной команды; последняя, охранявшая тюрьму, была единственная надежная. В городе же горючего материала было много. Не говоря уже о мелких самоварных фабриках, разбросанных по всему городу, в Туле были железнодорожные мастерские, рядом с ними большой рафинадный завод, затем исторический громадный военно-оружейный завод, управляемый целой военной организацией с генералом Куном во главе, и, наконец, большой патронный завод — полуправительственный, полуакционерный, с 8000 рабочих; последние два завода ввиду военного времени были на военном положении, но от этого не было легче; военное положение — слово грозное, но надо иметь силы, чтобы его проводить. На оружейном заводе настроение было бурливое. Часть рабочих, стариков, держалась традиций, описанных Лесковым в «Стальной блохе». Зато другая часть, и в особенности школа оружейного завода, была архилевая; в ней преобладало не только социал-революционное движение, но даже анархическое. Со страхом взирал я на будущее, когда эти силы всколыхнутся! Понимал я, что положение в Туле может сыграть решающую роль не только для данной местности, но и для Москвы. Попади в руки революционеров Арсенал, революция оказалась бы и вооруженной по-настоящему.
Вернусь к забастовке пекарей. Все же удалось мне до начала общей забастовки сохранить две булочные. Население применилось, пекло хлеб у себя на дому, лабазы торговали мукой на славу, все делали себе запасы, да и я лично закрывал глаза на то, что наш Евмений, по поручению жены, покупал в большом количестве сухую провизию, в том числе и муку, делая запасы, как бывало в Сергиевском, на целый месяц.
Из Министерства я никаких указаний не получал; ни Булыгин, тогдашний министр внутренних дел, ни Трепов, его помощник, а в сущности диктатор по внутренней политике, не почли нужным предупредить нас, губернаторов, о предстоящей общей забастовке. А между тем, как я потом узнал, тот же Булыгин спозаранку выписал свою жену из Рязанской губернии, предупредив ее, что на днях железнодорожное движение по всей России прекратится.
На девятый день по Сереже Трубецкому мой отец непременно захотел быть в Москве на его могиле в Донском монастыре. Вернулся он на следующий день, 8-го октября, с утренним поездом, и этот поезд был последний, который проехал через Тулу. Сидели мы за завтраком и слушали рассказы моего отца о его поездке в Москву, как вдруг взошел швейцар с докладом, что с Курского вокзала жандармский офицер телефонирует, что стрелочники на вокзальных путях забастовали и не пропускают маневрирующие паровозы. Я пошел к телефону переговорить лично с этим офицером и получил от него самое успокоительное заверение, что это какое-то пустяшное недоразумение, которое будет немедленно ликвидировано. Не прошло четверти часа, как он дополнительно телефонировал, что забастовали машинисты и кочегары; доклад был сделан уже более тревожным голосом, а через какие-нибудь два часа скорый поезд, шедший из Москвы, застрял в Туле за отказом подать ему паровоз; раздался гудок мастерских, все рабочие покинули мастерские, и жизнь на вокзале и железнодорожных путях совершенно замерла. Железнодорожная забастовка застигла один скорый
718
поезд в Туле, другой на станции Ясенки и сибирский экспресс на станции Тула Сызранско-Вяземской линии. Только после особенных хлопот железнодорожного начальства удалось поезд со станции Ясенки дотащить до Тулы, дабы обеспечить пассажиров продовольствием.
В первый же вечер ко мне явился приехавший на лошадях с этого поезда граф Татищев, назвавшийся чиновником Министерства финансов, с диким требованием, чтобы я его немедленно доставил в Петербург, так как он едет со спешным докладом к министру финансов. Я ему с усмешкой возразил: пусть он мне укажет способ к осуществлению его желания, на что получил стереотипный ответ: «Прикажите дать паровоз и хотя бы один вагон». «Вот видите, — отвечал я ему, — если бы надо было только приказать, давно бы все поезда сдвинулись бы с места, но, к сожалению, я приказываю, а забастовщики не слушаются». Привожу этот инцидент как доказательство того, что не только правительство, но и общество совершенно не ожидало этой вспышки революции и не понимало ее значения и силы.
В тот же вечер я принял меры к принятию на учет всех свободных помещений в городе для размещения застрявших пассажиров. Они прибывали и из уездов на вечерние поезда. Пассажиры поездов по моему требованию были обеспечены суточными для довольствия, для чего я велел жандармской железнодорожной полиции выяснить наличность пассажирской, товарной и багажной кассы. На следующее утро получил я телеграмму из Петербурга от генерал-адъютанта барона Мейендорфа с просьбой оказать содействие и нужную помощь его дочери графине Орловой-Денисовой, ехавшей в Саратов к своему мужу в собственном вагоне и застрявшей в Туле по случаю забастовки. Я немедленно послал на вокзал одного из своих чиновников особых поручений с предложением графине занять два номера в гостинице Чайкина, так как я не мог предвидеть, когда кончится эта забастовка. Она мне ответила, что очень благодарит за внимание, но что она предпочитает остаться в своем вагоне, где ей очень удобно. Из телеграммы барона Мейендорфа я уже видел, что это движение не только местное, Петербург учитывает его серьезность, а правительство сознает свое бессилие. К вечеру следующего дня приехал ко мне управляющий графини Орловой-Денисовой, прося от ее имени перевезти ее и детей в гостиницу, так как на вокзале шумно и неспокойно. Номера все уже были заняты, во всем городе не было ни одного свободного помещения, и я послал за графиней экипаж, прося ее просто переехать к нам в дом. Муж ее был племянником моего beau-frère’a Пети Трубецкого, и потому мы более или менее были en pays de connapissance. Приехала графиня с тремя мальчиками и двумя боннами-англичанками; Лиза их разместила по возможности удобно, и так, в тесноте, но не в обиде, прожили мы с этой милой семьей всю забастовку, около трех недель.
На забастовку железнодорожную я и не пытался реагировать, понимая, что это общероссийское движение. Все свое внимание я обратил на сохранение порядка в городе, для чего необходимо было предотвратить забастовку электрической станции и водопровода. Это мне и удалось, хотя с большим трудом. Страшно было, что подымется и явное недовольство среди населения, скученного благодаря обстоятельствам. В течение первых трех дней народ валом валил из
719

Тула. Киевская улица и Кремль. 1905 г.
уездов на вокзал к поездам; это как раз было время обычного отлива сельского населения после уборки урожая на заработки в города. Самые ближние соглашались вернуться домой, дождаться конца заварушки, но дальние никакого резона не слушали; приходилось их размещать и кормить. Спешно устроил я привокзальный ночлежный дом, печение хлеба и приготовление пищи в походных военных кухнях для этой толпы. От уездной же полиции и земских начальников я потребовал, чтобы они объехали сельские местности и выяснили положение, после чего прилив крестьян сократился. Каждый вечер в сумерках, до начала вечернего заседания, которое у меня было ежедневно со всеми представителями отдельных ведомств, я отправлялся на телеграф и по аппарату вел продолжительные беседы со всеми исправниками. Начальник почтовой конторы, настроенный крайне право, выбирал мне одного или двух совершенно верных телеграфистов, и в его присутствии велись переговоры с исправниками во всех уездных городах. Присутствие начальника конторы было необходимо, чтобы тут же отобрать у телеграфиста ленту и запечатать ее, так как часто в ней сообщались совершенно секретные сведения. Убежден, что ничего из этого не сохранилось, а что диалоги телеграфическим стилем могли бы дать много материала для истории. В уездах все было неспокойно, но открытого проявления еще не было; чувствовалось приближение грозы и казалось, все ожидает какого-то сигнала. Ирония судьбы! Манифест 17 октября, изданный для успокоения, и был тем самым
720
сигналом, который, по крайней мере по Тульской губернии взбудоражил сельские местности.
Не только сельские местности, но и такая замкнутая среда, как заключенные в тюрьмах, нервничала и перестала повиноваться. Однажды утром мне телефонировали, что две камеры в тюрьме взбунтовались, и вызвана конвойная команда. Послал я туда вице-губернатора Хвостова, которому за отсутствием тюремной инспекции были непосредственно подчинены места заключения. Через какой-нибудь час времени он мне телефонировал, что бунт подавлен, но пришлось стрелять и есть двое убитых. Остальные заключенные, несшие хозяйственные должности, забастовали и, между прочим, пекаря отказываются печь хлеба, ссылаясь на то, что и в городе пекарни бастуют. Убитыми оказались один из участников ограбления и похищения иконы Казанской Божией Матери, некто Чайкин, и молодой парень, бывший конторщик графа Бобринского, организатор погрома его хутора Ждянка.
В камерах было вполне тихо; бунтовавшие были кто перемещен в другие камеры, кто по одиночкам, а кто и в карцере. Только в одной пекарне не принимались за дело, а надо было начинать месить тесто. Когда я вошел в пекарню, мне бросилась в глаза фигура красивого высокого арестанта с белокурыми вьющимися волосами, стоявшего как-то поодаль. Мне какое-то чутье подсказало, что подчинись он — и все наладится. Как оказалось впоследствии, мое чутье подсказало мне правильно, так как это был главный пекарь и к тому же по профессии булочник города Москвы, но не простой булочник а с некоторым образованием и развитием. Одну минуту мне пришла в голову мысль прикрикнуть на него, но потом я остановился: «А что если не послушается? Ведь тогда придется наказывать». В одну минуту я вспомнил всю харьковскую историю беспорядка в губернской тюрьме, где, чтобы настоять на своем, гуманный, мягкосердечный Тобизен перепорол чуть ли не целую камеру. Это воспоминание заставило меня содрогнуться, и я просто подошел к высокому арестанту с просьбой показать мне тесто. Он охотно поднял крышку одного из чанов, я стал его расспрашивать, как невежда, дошло ли тесто, готово ли оно? Он с охотой отвечал мне, объяснял все признаки; в нем заговорила профессиональная жилка. Когда же я его просил показать, как месится тесто, он ловко, красуясь, начал мне показывать; подручные его стали ему помогать, и в один миг работа закипела. Забастовка была предотвращена, и я с некоторым удовольствием вернулся домой. А забастовка пекарей в городе продолжалась, как и прежде. Помню, как графиня Орлова-Денисова пекла с помощью детей почти ежедневно для моих вечерних заседаний вкусное печенье — палочки, которые потом в нашей семье приобрели права гражданства. На этих вечерних совещаниях неизменно присутствовали: начальник гарнизона (фамилию не помню), прокурор Киселев, начальник оружейного завода генерал Кун, кто-нибудь из начальствующих патронного завода, городской голова Волков, старший фабричный инспектор, полная безличность, кто-нибудь из начальников учебных заведений, обыкновенно директор Радецкий, жандармский полковник, жандармский офицер Железнодорожного управления, понятно, полицмейстер и правитель канцелярии. Оценивались и взвешивались события прошедшего дня, предугадывалось, чего можно бояться, и, главное, обсуждались
721
меры для обеспечения населения города продовольствием. Я чувствовал себя как бы начальником осажденного города. Прекратить железнодорожную забастовку я и не пытался; уже я знал, что эта забастовка распространилась на всю Россию, а потому возобновление сношений с внешним миром зависело не от нас, тульских деятелей; наша задача заключалась лишь в одном: дожить возможно благополучно и мирно до прекращения всеобщей забастовки. В пределах Тульской губернии, в Алексинском уезде, в то время проживал великий князь Николай Николаевич Младший в своем имении Першино, куда он приехал для осенней охоты. Числа 11-го или 12-го октября получил я от него телеграмму, в которой он просил меня прислать ему немедленно шифр и опытного чиновника для расшифровки телеграммы, полученной им от государя. Я немедленно выслал ему на лошадях Чистякова, заведовавшего в то время секретным столом, снабдив его самодельной копией шифра, которого я из своих рук выпустить не мог, так как он был у меня единственный, а шифрованные телеграммы сыпались десятками. Неимоверно быстро вернулся ко мне Чистяков, употребив на поездку туда и обратно одну ночь. Привез он мне письмо великого князя с требованием доставить его каким угодно способом в Москву, так как государь вызывает его немедленно в Петергоф. Исправник Тульского уезда Аристов был старый, опытный полициант; вызванный мною для обсуждения требования великого князя, он взялся доставить его высочество из Першина в Серпухов окольными путями, минуя Тулу и большие тракты; но он требовал для полной безопасности, чтобы не было никакой видимой охраны, а вся поездка носила бы характер выезда на охоту, для чего сопровождавшие его чины полиции, урядники и казаки, если того пожелает великий князь, одеты были бы охотниками. И полицию, и меня не столько пугала забастовка, сколько поднявшаяся революционная война, в смысле антимонархического движения; и с этой точки зрения безопасность великого князя как члена императорской фамилии, как только он выедет из Першина, где его окружали преданные люди, была крайне проблематична. Но требование великого князя было категорично, и приказание государя не допускало рассуждений; план же исправника Аристова казался подходящим, почему я, не сносясь даже с великим князем, дабы не разгласить эту тайну по телеграфу, и не посвятив в нее даже местную алексинскую полицию, просто послал в Першино Аристова с несколькими переодетыми казаками верхом с подробным письмом; я исправнику приказал при выезде великого князя прислать мне условную телеграмму совершенно постороннего содержания. Великому князю я написал как подробности плана Аристова, так и те соображения, которые побудили меня на нем остановиться. Не скрыл я от него, что его безопасность далеко не обеспечена, так как революционеры, несомненно, стремятся изолировать государя и отстранить от него всех преданных ему советчиков; и не прочь они от террористического акта над членами императорской фамилии с целью усилить террор и подвигнуть правительство на уступки. Кончал я письмо докладом, что для дальнейшего следования его высочества из Серпухова я уже теперь снесся с московским губернатором и, как только получу донесение исправника о часе выезда его высочества, я телеграфирую губернатору Джунковскому о приблизительном времени прибытия великого князя в Серпухов, полагая, что на проезд верхом от Першина до
722
Серпухова потребуется не более трех-четырех часов, рассчитывая, что этот пробег будет делаться в темноте, ночью. Великий князь на все согласился и таким способом и доехал до Серпухова. В Серпухове же он был встречен самим губернатором Джунковским. Последнему удалось довезти великого князя по железной дороге в вагоне, прицепленном к паровозу, шедшему с потушенными огнями. Доехали они так до последней станции по Курской дороге, откуда Джунковский на автомобиле перевез великого князя на станцию Химки Николаевской дороги, где опять ожидал такой же вагон и паровоз без огней. Контраст путешествия по Тульской губернии и Московской был, я думаю, разителен для великого князя; но тульский железнодорожный узел совершенно замер, и провезти через него великого князя не было никакой возможности иначе как действуя оружием, на что у меня не было достаточно сил.
Казаками я пользовался, главным образом, для поддержания порядка в городе, для чего город был разделен на районы и в каждый из них посылались разъезды с обязанностью не допускать нигде сборищ.
18-го октября утром перед завтраком у меня собрались по какому-то делу Хвостов, прокурор, городской голова и князь Львов; мы с ними беседовали в столовой у закусочного стола, ожидая завтрака, как вдруг швейцар мне доложил, что начальник почтово-телеграфной конторы вызывает меня к телефону по важному делу. Поспешил я к телефону и вдруг услыхал взволнованный голос начальника конторы: «Сейчас принята по аппарату агентская телеграмма. Я велел ее проверить и тотчас ее Вам пришлю. В ней высочайший манифест, изданный вчера». На мой вопрос: «Какой манифест?» он сконфуженно и как-то робко объяснил: «Да как Вам сказать! Похоже на конституцию». Я поспешил к своим гостям и сообщил им эту новость. Через полчаса принесли телеграмму с Манифестом 17-го октября. Произвел он на всех впечатление ошеломляющее. Один Волков, городской голова, человек не особенно далекий, ликовал, говоря, что отныне будет полное успокоение. Князь Львов загадочно молчал, хотя как будто торжествовал. Хвостов острил, изображая, какой выйдет сумбур от всех свобод, а Киселев, прокурор, совершенно не высказывался, хотя и прослезился. Мне казалось, что он все-таки боится, закономерно ли такое объявление и нет ли тут какого-нибудь подлога, который ему как прокурору придется преследовать. Я тут же распорядился через вице-губернатора отпечатать в губернской типографии эту агентскую телеграмму в возможно большем количестве экземпляров и распродавать их на улицах. Хвостов энергично принялся за это дело, и, я думаю, часа через два население города было уже оповещено. Даже полицмейстер спрашивал меня по телефону, можно ли разрешать украшать дома флагами, так как некоторые обыватели высказали это пожелание. Я приказал полицмейстеру отнюдь не препятствовать такому способу выражения радости, но вместе с этим разъяснил ему, что это должно исходить от самих обывателей, почему категорически запрещаю полиции требовать это и оповещать о сем.
Вечером этого дня у меня, как всегда, собрались на вечернее совещание разные должностные лица, и на этот раз с особою осмотрительностью обсуждалось положение. Всем было ясно, что создавшаяся атмосфера неспокойна; левые торжествовали от того, что правительство пошло на уступки, а правые были как-то
723
печальны и сконфужены. Надо принять во внимание, что большая часть тульских обывателей — домовладельцы, мещане или мелкие купцы — принадлежали к самым правым элементам, ни о каких вольностях не помышляли и все действия революционеров в виде забастовок, манифестаций, прокламаций яро осуждали как нарушающие их мирную, спокойную, уравновешенную жизнь.
Во время самых горячих дебатов у меня в кабинете затрещал телефон на моем письменном столе; говорил один из крупных тульских купцов Ермолаев-Зверев, считавшийся либералом, но вполне благонадежным. Он с возмущением сообщил мне, что сейчас на Киевской улице против окон его квартиры манифестировала толпа рабочих с национальным флагом и будто бы пела национальный гимн. Проезжавший казачий разъезд велел им разойтись, угрожая нагайками, что вызвало негодование всех присутствовавших, и теперь собирается толпа рабочих, возмущенная и шумливая. Я тут только понял, какую ошибку я сделал, не отменив в этот день казачьи разъезды, или же, по крайней мере, не дав им новой, более полной инструкции. Не желая на полуслове прекращать заседание, для которого этот факт являлся доказательством тому, как положение сложно и как надо все предусмотреть, я просил вице-губернатора поехать немедленно разобрать, в чем дело, и дать инструкции казачьим разъездам отнюдь не разгонять тех, которые манифестируют с выражением верноподданнических чувств. Сам же я приеду, как только закрою заседание, и вместе с ним объеду ночью весь город. Хвостов немедленно уехал, обещав тотчас же вернуться. Прошло полчаса, все разъехались, и я запросил Полицейское управление, находившееся на Киевской улице, где вице-губернатор и полицмейстер и все ли спокойно на улицах. Дежурный мне ответил, что в городе спокойно, но против Полицейского управления стоит еще толпа рабочих, с которой беседуют и вице-губернатор, и полицмейстер. Я велел спросить вице-губернатора, в чем дело, и получил ответ Хвостова через того же дежурного, что все улажено, и он, Хвостов, сейчас вернется ко мне. Прошло еще полчаса, Хвостова все не было; опять я запросил Полицейское управление, которое сообщило мне все то же, но с добавлением, что уже не толпа, а лишь маленькая группа беседует с вице-губернатором. Уже поздно ночью, около часа, вернулся Хвостов с полицмейстером и огорошили меня своим докладом. С этой минуты я совершенно перестал понимать Хвостова; как я ни старался, я не мог постичь, какого направления он держится и какое его отношение к совершающемуся. Только спустя много времени, когда в газетах появились разные разоблачения и, между прочим, переписка Хвостова с его отцом обо мне, я понял его двойственную роль и понял то, что он придерживался лишь одного правила: быть всегда противного мнения со своим губернатором и стараться доказать Министерству, что только умелые действия его, Хвостова, спасают положение.
На этот раз его доклад сводился к следующему: застал он на улице негодующую толпу рабочих, возмущенных действиями казаков и явно высказывавших мысль, что «жалует царь, да не милует псарь»; что государь объявляет свободу, а губернатор хочет ее отнять. Хвостов описывал возбуждение столь красочно и характеризовал его настолько угрожающе, что, по его словам, он счел необходимым тут же сказать рабочим будто бы от моего имени, что я сам в восторге
724
от этого Манифеста и вполне сочувствую всякому проявлению радости по этому поводу; инцидент с казаками есть простое недоразумение, и что во избежание таких повторений эти разъезды будут совсем отменены. Рабочие ему на это ответили, что если это правда, то пусть это докажут на деле; завтра они объявят по всем заводам день отдыха и соберутся здесь же, на Киевской улице, на митинг для разъяснения всем значения Манифеста. Если губернатор сочувствует Манифесту, то он должен сочувствовать и этому митингу, который будет одним из первых осуществлений свободы собраний. Хвостов доложил, что он им это разрешение дал и от моего имени обещал, что никакого противодействия с моей стороны не будет оказано, если только будет соблюден порядок. На мой вопрос: «Что Вы сделали!? Как Вы могли от моего имени дать такое разрешение не спросившись меня!? Ведь Вы только зажигаете пожар и способствуете разжиганию страстей!» Он мне ответил: «Спросить Вас я не успел и уверяю Вас, что это был единственный способ успокоить толпу». Вновь пришлось будить прокурора, начальника гарнизона, начальствующих над заводами и жандармов и совещаться с ними. Все были поражены действиями Хвостова, обвиняли его, а под шумок осуждали меня за то, что я не сам вел переговоры о толпой.
Действительно, я был поставлен в очень тяжелое положение: дезавуировать обещание Хвостова, с одной стороны, подрывало доверие населения к действиям губернской администрации, его лично, моего ближайшего помощника, совершенно дискредитировало, а с другой стороны, ставило меня в необходимость разогнать ожидаемый митинг военной силой. Для действия открытой силой я далеко не был уверен в войсках гарнизона, и, кроме того, меня ужасала мысль, что Манифест, стремящийся успокоить население, будет поводом, быть может, кровавых столкновений; власть, и так уже непопулярная, станет ненавистной даже в умеренных кругах. Вместе с тем допущение такого митинга на улице было чревато последствиями ввиду настроения мещанских масс города, как я и указал выше. Прокурор Киселев настойчиво доказывал, что разрешение такого митинга не предусмотрено законом, а высочайший Манифест — только предначертание государя духа будущих законов. Он, может быть, был прав, но первые мои соображения взяли во мне верх, и я, пародируя Кутузова перед сдачей Москвы, заявил, что вся ответственность на мне как на губернаторе, что я не решаюсь первые дни издания Манифеста ознаменовать стрельбой в толпу, почему, совершенно не сочувствуя обещаниям Хвостова, все же сообразую свои действия с его словами. Видя мое решение, столь резко и определенно высказанное, все перестали возражать, даже и прокурор. Тут же я продиктовал в форме письма обращение к лицам, управляющим наиболее крупными заводами города Тулы. В этом письме я сообщал им, что до моего сведения дошло желание рабочих следующий день праздновать по случаю издания высочайшего Манифеста и что ввиду этого я считаю желательным не препятствовать в этом отношении рабочим и не считать это их желание забастовкой. Разошлись мы очень поздно, да, кажется, я в эту ночь и глаз не сомкнул, ожидая со страхом и трепетом того, что будет на следующий день.
На утреннем докладе полицмейстер доложил, что большинство заводов не работает и по районам собираются для шествования на Киевскую улицу. Я ему дал
725
точные директивы полного невмешательства полиции, пока нет явного нарушения порядка или насилия с какой-нибудь стороны. Обещался я сам придти на Киевскую улицу, ему же приказал быть все время начеку. Не успел полицмейстер уехать от меня, как доложили мне о приходе иеромонаха, заведовавшего часовней при одном монастырском подворье на Посольской улице. Взошел он ко мне бледный, весь трясущийся, и рассказал мне, что с час тому назад к нему в часовню вошла толпа рабочих и с криками и угрозами заставила его отслужить панихиду по всем павшим борцам за свободу. Он повинился мне, что, устрашенный возможностью насилия с их стороны, он исполнил их желание, кается в этом, но умоляет не считать его государственным преступником; я его успокоил, говоря, что таковым его не считаю, но впредь просил его этого не делать, дабы из церковной молитвы не устраивать политической манифестации. Предчувствуя, что сегодня же поднимется вопрос об освобождении политических арестантов и что такое требование толпы, совершенно законное по духу Манифеста, может вылиться действительно в опасное насилие толпы, я спросил по телефону прокурора, как он предполагает действовать; он обрадовал меня известием, что им только что получена телеграмма прокурора Палаты выпустить всех политических, не отбывающих наказания по приговору суда, а о последних ждать дальнейшего разъяснения. Успокоенный этим, я, со своей стороны, сделал распоряжение об освобождении всех заключенных административным порядком, за нарушение обязательных постановлений и в порядке об охране. Таким образом, главный повод для беспорядков был предотвращен. Около 12-ти пришел ко мне Хвостов, и мы с ним вдвоем пешком пошли на Киевскую улицу. Никогда не забуду отвращения своего при виде того, что на ней творилось: вся она была запружена несметной толпой, так что всякое экипажное и трамвайное движение силою вещей остановилось. Везде пестрели красные и национальные флаги вперемешку, кое-где были выставлены царские портреты, устроены были посереди улицы из бочек временные трибуны, на которых разные ораторы разглагольствовали; в лице первого оратора, мимо которого я проходил, я узнал только что сегодня выпущенного политического арестанта. Я был в форменном пальто, и как только я появился среди толпы, немедленно я был окружен какой-то добровольной охраной, расчищавшей мне дорогу. Обращение моих добровольных охранителей со мной было необыкновенно почтительно. Тут же на тротуаре я слышал негодующие возгласы простых женщин и простонародья, возмущенных, что этот митинг я разрешаю и эту шваль не разгоняю. Я переглянулся с Хвостовым и по-французски ему заметил: «Видите последствие Вашего необдуманного обещания? Страсти разгораются, а как мы с ними справимся?». Одному из сопровождавших меня революционеров, который по тому, как с ним обращались, казался распорядителем, я категорично заявил, что к 3-м часам я прошу все это прекратить и совершенно очистить улицу. Он ответил, что это будет исполнено, но, может быть, с опозданием на полчаса, зато он просит разрешить вечернее собрание, в закрытом помещении, представителей разных политических организаций, чтобы договориться о дальнейших действиях в связи с Манифестом. Я ему ответил, что такое разрешение я дам при условии указания того помещения, где они хотят собраться, и согласия владельца этого помещения их пустить. То и другое было
726
немедленно исполнено типом, который со мной разговаривал, причем к нему уже присоединилось несколько товарищей. Тогда я вызвал на улицу полицмейстера Воронцова-Вельяминова и объявил ему о данном мною разрешении.
Вернулся я домой в совершенном чаду, я абсолютно не мог разобраться в совершавшемся. Мне претило всякое общение с теми личностями, которых власть до сих пор считала преступниками; меня преследовала мысль, каково моим подчиненным, в особенности полиции, если я, их начальник, не нахожу в самом себе твердых нужных директив. Тут же сгоряча я написал графу Витте, назначенному по издании Манифеста премьер-министром, горячее письмо, в котором я излагал трудности положения старого губернатора при создавшемся новом порядке вещей. Не могу я в мгновение ока настолько переродиться, чтобы вчерашнего государственного преступника, еще ярче проповедующего свои заблуждения, считать равноправным себе гражданином. Либо тогда я был преступником, либо теперь я лицемер. Да и само общество, продолжал я, не может с доверием и уважением относиться к такой метаморфозе представителя власти. Я считал, что оставление губернатора на старом месте прямо вредно для дела. Если мы, старые деятели, еще можем быть полезны нашим опытом, то только в других условиях, в других местностях; что же касается меня лично, то я считал, что могу быть полезнее для идеи порядка, живя у себя в деревне, почему просил разрешение мне выйти в отставку. Кончал это письмо фразой: «Пусть новое вино вливается в новые меха. Старые не выдержат притока этих новых ныне узаконенных веяний».
Только что окончил я письмо, как приехал полицмейстер доложить, что на Киевской улице все разошлись и движение восстановлено нормальное. На мой вопрос, как это произошло, он объяснил, что со всех трибун одновременно было сообщено о закрытии митинга и о том, чтобы завтра собирались сюда же в 3 часа. Я так и вскрикнул: «Как, опять завтра? Кто им позволил?» Полицмейстер объяснил, что в толпе говорили, что празднество продолжится три дня. «Ни под каким видом, — ответил я, — завтра никакого сборища не допускать». Я так и писал управляющим заводами об однодневном праздновании. С этим я отпустил Воронцова-Вельяминова. Его доклад меня и взволновал, и опять поставил передо мной вопрос, как поступить дальше: разгонять ли толпу или нет. На этот раз я понимал, что намерение собраться на новый митинг было уже своеволием и потворствовать этому было бы слабостью власти. Все же, желая по возможности избегнуть открытого столкновения, я пришел к мысли обратиться к благоразумию революционеров и решил написать тем вожакам, которые собрались с моего разрешения на вечернее заседание, требуя от них отмену созванного митинга. Положение было совершенно новое: я, представитель власти, губернатор, сносился с какими-то вожаками революционных партий, признавая этим самым организацию и силу власти этих вожаков. Все то, против чего десятилетиями, если не более, боролись, признавалось отныне закономерным. Послал я на это совещание своего правителя канцелярии Пивоварова с бумагой, в которой я категорически заявлял, что дальнейшие митинги на улице я положительно запрещаю. Пивоваров был принят на этом совещании крайне предупредительно, и президиум поручил ему выразить почтение начальнику губернии.
727
За этот день одно выяснилось: выявились те общественные деятели, которые стояли во главе противуправительственных партий; более всех меня поразил присяжный поверенный Рязанцов, руководитель партии социал-демократов, а до того считавшийся вполне благонамеренным; многие же, за которыми жандармская полиция усиленно следила, оказались совершенно непричастными к этому движению. Вызвал я к себе вечером жандармского полковника и с негодованием обратил его внимание на этот факт, а он, сконфуженно разводя руками, оправдывался: «Да, Ваше превосходительство, мы действительно ничего не знали».
На следующий день у меня было заседание Лесоохранительного комитета в Губернском правлении, и я уже собирался идти туда, как затрещал телефон в моем кабинете и какой-то неизвестный субъект сказал мне, что он со своим товарищем были организаторами митинга, что мое запрещение дошло до них слишком поздно, они не успели всех оповестить об отмене и теперь уже начинают собираться, почему он просит моего указания, как поступить. Я им велел немедленно придти в Губернское правление, куда я сам иду. Когда я туда пришел, меня встретили в передней двое, по типу рабочих из более интеллигентных. Они просили меня указать место, куда направить собирающихся, с тем чтобы там же объявить об отмене митинга. Вызвал я полицмейстера и, выяснив, что Сенная площадь пуста, базар уже разъехался, я разрешил им воспользоваться этой площадью, чтобы объявить собравшимся об отмене митинга. Вице-губернатору я поручил наблюсти за точным исполнением.
Заседание шло уже несколько времени, как неожиданно Хвостов прислал мне сказать, что революционеры вместо Сенной площади собрались в Кремле, где с паперти собора начали произносить речи, предлагая разойтись. Такое использование собора вызывает негодование собравшейся около Кремля толпы, которую он, Хвостов, с трудом сдерживает, и во избежание столкновений он уговорил революционеров перейти в соседний общественный сад, с тем чтобы митинг там длился не более часа. Это было уже явным нарушением моих директив и распоряжений как революционерами, так и самим вице-губернатором. Сознаюсь, что я стал с этой минуты крайне подозрительно относиться к Хвостову, но все же не представлял себе намеренности в его действиях, а скорее, растерянность и неумелость. Я немедленно закрыл заседание и сам лично отправился на место. На Киевской меня встретила какая-то группа полупьяных людей, отрекомендовавшаяся мне как депутация от правых рабочих, с заявлением, что они меня ищут, чтобы сказать мне, что они полицией довольны и чтобы я не верил бы революционерам. С полупьяными людьми нельзя было и разговаривать, и я им посоветовал идти по домам и каждому заняться своим делом. Подходя к Кремлю, я увидал следующую картину: стояла кучка по виду мастеровых, приказчиков, мелких торговцев, и Хвостов что-то горячо им объяснял. Казалось, что он не успокаивает их, как он мне прислал сказать, а скорее, уговаривает их что-то сделать. Увидав меня, он как-то сконфуженно пошел ко мне навстречу и на мое недовольное замечание, почему он дал разрешение на митинг, он ответил, что иначе он поступить не мог, так как в противоположном случае революционеры отказывались очистить Кремль. Я только отмахнулся от него, не начинать же с ним пререкаться при народе, и больше я его в этот день не видал. Сам же я пошел в общественный
728
сад, который кишмя кишел народом, и опять были временные трибуны и речи. Меня вновь окружили кольцом какие-то добровольные охранители, тут же подвернулся мне тот тип, который беседовал со мной в Губернском правлении, и я на него просто-напросто накричал за неисполнение моего распоряжения и нарушение своего обещания, после чего потребовал, чтобы теперь все немедленно разошлись бы. Он мне на это возразил, что, по его сведениям, на Киевской собирается толпа их бить, почему теперь им разойтись небезопасно. Я ему ответил, что я только что с Киевской, где никакой толпы нет, но я ручаюсь своим словом, что не допущу никакого насилия над ними, но речи только возбуждают страсти, а потому пора их прекратить. Он мне обещал принять все меры к немедленному расхождению толпы. Я же для вящего успокоения сам поехал на Киевскую улицу (к этому времени мне был подан экипаж) и, о ужас!, увидал манифестацию с портретом государя, национальными флагами. Во главе ее шел тот полупьяный субъект, который заявлял мне, что доволен полицией; шли они с пением гимна, с криками «ура» по направлению к Кремлю. Я, встретив их, разными уговорами направил их обратно из боязни, что они встретятся с расходящимся митингом. Сам же поспешил обратно в общественный сад истребовать скорейшего исполнения моего распоряжения. Участники митинга оказались нехраброго десятка: услыхав дальние крики «ура», толпа быстро покидала сад. Организаторам, которые терлись тут же около меня, я строжайше запретил показываться на Киевской и велел расходиться маленькими группами в разные стороны. За всеми этими перипетиями стало уже темнеть, и, вернувшись на Киевскую улицу и вновь столкнувшись с манифестацией, я вышел из экипажа и стал их уговаривать разойтись по домам. Трудно было убеждать эту полупьяную толпу, разгонять же ее силою было бы только глупой бестактностью после допущенного мной вчерашнего противуправительственного митинга. Тщетно стараясь убедить манифестантов разойтись, я шел посреди улицы рядом с ними, имея их по свою правую руку, слушая их полупьяное орание, как вдруг с левой стороны от меня появилось человек 20—25 молодежи, шедших рядами, с поднятыми револьверами и распевая в такт: «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Впереди них, как предводитель, все тот же юркий распорядитель, с которым я так часто сталкивался в этот день. Столкновение казалось неизбежным. Сознаюсь, что у меня сердце упало. Правой рукой я отмахивал манифестантов, левой схватил революционного руководителя и не своим голосом закричал на него: «Как вы смели сюда являться!» Он стал оправдываться, что он слышал, «что наших бьют». Я еще пуще стал кричать: «При мне, губернаторе, не смеют ни “наших”, ни “ваших”, ни своих, ни чужих — ни кого бы то ни было бить. Извольте немедленно попрятать свои револьверы и убраться вон».
Мой окрик революционерам, быть может, удовлетворил самолюбие манифестантов, а вместе с тем мое заявление, что я никаких насилий не допущу, тоже их облагоразумило, почему разошлись они в разные стороны совершенно благополучно, и эта боевая дружина революционеров совершенно скрылась. Полицмейстеру я приказал за темнотой отобрать царский портрет, и манифестанты, поорав еще с полчаса, наконец разошлись. Я объехал весь город, все рабочие кварталы и, убедившись, что везде спокойно, вернулся домой.
729

Тула. Самоварная фабрика Баташова. 1905.
Частное собрание, Париж
Дома я застал молодежь: по одному представителю от классической гимназии, реального училища, коммерческого училища, духовной семинарии и женских гимназий с нелепым требованием, что ввиду объявленной в Манифесте свободы собраний они заявляют мне, что завтра намерены все их товарищи собраться для обсуждения своих нужд в Пушкинском сквере; на это они и просят моего разрешения. Я им объяснил, что, не говоря уже о том, что в Манифесте лишь указаны предначертания духа будущих законов, издания этих правил надо еще ожидать, а до того действуют существующие законы. Все же до них свобода собраний не может касаться, так как они еще не полноправные граждане, а только дети. Кончил я мое объяснение тем, что не только не даю им разрешения на собрание, но категорично его запрещаю и приму все меры к недопущению такового. Возражали они мне довольно долго, в особенности одна еврейка-гимназистка, к тому же крайне нахальным тоном. Видя невозможность их урезонить, я прекратил с ними разговор, ссылаясь на недосуг и на более важные дела, чем убеждение зазнавшей[ся] молодежи, и ушел от них. Немедленно я вызвал к себе начальников и начальниц учебных заведений и, передав и осветив им этот инцидент, поручил начальствующим лицам принять все меры к удержанию их воспитанников от такого безумного шага. Полицмейстеру я поручил ни под каким видом не допускать сборища молодежи в скверах города, избегая всячески насильственных мер.
730
Следующий день, особенно памятный для меня по разыгравшимся в течение его событиям, был Царский день (восшествие на престол царствовавшего государя). Утренний доклад полицмейстера был успокоительный: попытка молодежи собраться не удавалась, их перехватывали по дороге наиболее популярные учителя, члены родительского комитета и попросту уводили или увозили их домой. Тон был взят верный: вместо политических борцов учащаяся молодежь оказалась в роли детей и с конфузом возвращалась домой. О том, что готовилось на этот день разными правыми элементами города, по-видимому, полицмейстер и не знал. Должен вернуться несколько назад, чтобы события дня стали более ясными.
Я уже писал, как настроена была мещанская и среднекупеческая среда города. Из последней особенно выделялся купец Колоколин; это был почтенный белый старец, владелец нескольких булочных, когда-то один из главных участников кулачных боев, а последнее время увлекавшийся рысистыми бегами и чуть ли не ежедневно выезжавший на Киевскую на каком-нибудь рысаке, которого он сам объезжал за наездника. В дни этих митингов он особенно был возбужден, громко выражал свое негодование и, между прочим, чуть ли не самому Хвостову сказал: «Пусть только мне развяжут руки, и я со своими молодцами (так он звал своих многочисленных приказчиков) живо расправлюсь с этой сволочью». Не желая лично вступать с ним в сношение, я поручил начальнику Жандармского управления вызвать этого старика и предупредить его, что никакие насилия не могут быть допустимы с какой бы то ни было стороны; всякий беспорядок прекращается только властью, а не самими обывателями. Между прочим, я в шутку дал такой совет жандармскому полковнику: при разговоре с Колоколиным иметь перед собой маленький плохенький столик и при слове, что никакое насилие недопустимо, ударить по этому столику так, чтобы он рассыпался. Не знаю, выполнил ли мой совет начальник Жандармского управления, но твердо убежден, что насколько он был способен, он добросовестно держался моих директив. Чтобы покончить с Колоколиным, добавлю, что когда я уже покинул пост губернатора, появилась в «Русском слове» выдержка из переписки Хвостова со своим отцом-сенатором по поводу событий этого дня в Туле. В этой переписке Хвостов, между прочим, характеризовал меня как совершенно слабовольного губернатора, всецело находящегося в руках своего правителя канцелярии, отъявленного либерала и революционера. Винил он меня, что я не умею ценить такие здравые силы, как, например, Колоколина, верного слугу престола, и просил своего отца посодействовать к награждению этого Колоколина. Инсинуации и хлопоты Хвостова увенчались успехом, и этот радетель престола Колоколин был награжден серебряной медалью, за что — неизвестно. Трудно мне оценивать деятельность Хвостова в этот день, тем более что он уже покойник: погиб с достоинством и с благородством в первые дни революции и тем искупил свои грехи интриг и лицемерия. Все же сочетание имен Хвостова и Колоколина с разными последующими фактами дня оставило во мне убеждение, что все совершившееся было подготовлено, а не было случайным явлением. Сделав это отступление, возвращаюсь к рассказу.
731
Поехал я в собор к обедне. Служили уже в зимнем соборе; не только собор, но и вся площадь в Кремле перед собором была полна народом. Так как это был первый Царский день во время моего губернаторства, я не знал обычаев, думал, что это всегда так бывает, и не обратил особенного внимания на это стечение народа. К концу обедни ко мне пробрался полицмейстер и доложил, что толпа такая громадная, что полиция не в силах очистить место для парада войскам. Толпа настроена крайне патриотично, имеет большой царский портрет, неизвестно от кого полученный, и вожаки этой толпы, какие-то чуйки, просят отслужить на площади царский молебен. Я вышел на паперть посмотреть и увидал, действительно, целое море голов. Над толпой высились национальные флаги, и как раз против входа в собор находился большой царский портрет, украшенный гирляндами цветов. Парадирующие части стояли в стороне, чуть ли не смятые напиравшей толпой. У меня пронеслась в голове мысль: «Вот она стихия! Начнется “ура”, а кончится неизвестно чем — как бы не погромом».
Уцепился я за мысль всенародного молебна, надеясь этим дать исход накопившимся чувствам черни, иначе не могу до сих пор назвать эту толпу. Вернувшись в собор, я послал просить преосвященного исполнить желание народа и царский молебен служить на площади, а не в соборе. Старец-епископ Лаврентий выразил свое согласие. К сожалению, он не пользовался в Туле никаким духовным авторитетом; не умел он говорить, а фигура его, маленькая, сгорбленная, не импонировала. Сослужившие ему были ему под стать, даже протодиакон был только среднего роста. Настоятель собора митрофорный протоиерей Иванов хотя и пользовался большим уважением среди рабочих, по своему маленькому росту терялся в общей толпе, и все духовенство потерялось среди окружающих, и даже мало видно было народу; сама служба была почти не слышна, то здесь, то там кричали «ура», запевали дикими голосами «Боже, царя храни», и потому достигнуть того эффекта и отрезвляющего действия, на которое я надеялся, не удалось. Служба началась и кончилась незаметно; генерал Кун, принимавший парад, едва мог добраться до полка и поздравить его с царским праздником. Несшие царский портрет грудью надвинулись на солдат и проносили портрет перед рядами с криками «ура». Получился полный сумбур. Я посоветовал командиру полка поскорее отвести войска с музыкой и тем отвлечь толпу. Это помогло: толпа стала редеть, несшие портрет втиснулись за оркестром музыки и, как слышал полицмейстер, крикнули уходя: «Пойдемте поздравить губернатора».
Вернулся я домой и едва успел снять мундир, как по телефону мне сообщили, что какая-то толпа с царским портретом направляется к губернаторскому дому.
Чтобы было понятно последующее, замечу, что обыкновенно днем, во время этих тревожных дней, у меня всегда стоял запряженный экипаж, чтобы успеть всегда вовремя выехать на беспорядки. Это вызвало даже впоследствии заметку в газетах, что у губернатора всегда экипаж заправлен, чтобы удрать и скрыться вовремя. На этот раз кучер не исполнил моего приказания и, вернувшись из собора, отпряг лошадей.
Как только мне постовой городовой через швейцара доложил, что толпа манифестантов приближается, я вышел на улицу. Увидал я подымавшуюся по
732
Николаевской улице громадную толпу с портретом царя впереди, с национальными флагом, распевающую гимн и кричащую «ура». Гул толпы был слышен издалека. Впереди шел довольно высокий мужчина, по виду приказчик, и за ним вели какую-то женщину, прилично одетую, которую держали за руки, вид ее был растерянный, даже несколько растерзанный. Увидав меня, мне стали кричать, что они поймали самую главную виновницу и ведут ее ко мне на суд и расправу. Сказано это было с такой злобой и ненавистью, что можно было ожидать от толпы любой дикой выходки. Я поспешил взять эту особу под свою охрану и впихнул ее в швейцарскую губернаторского дома, куда сошлись в испуге моя жена и чуть ли не вся семья. Толпу я стал успокаивать и на ее просьбу выразить государю их верноподданнические чувства я сказал, что с удовольствием это исполню, но требую полной тишины в городе и прекращения всех этих шумных выступлений. «Если вы хотите угодить государю, — окончил я свою речь, — то только мирным трудом и спокойствием». На возражение некоторых, «как же всем это объяснить?», я им предложил от каждой части города выбрать несколько делегатов и прислать их ко мне для прочтения и уяснения Манифеста 17-го октября. Понятно, это было сказано мною сгоряча, так как практически осуществить такой выбор было невозможно. Но тогда я задался целью лишь отвести как-нибудь толпу, боясь, что вспомнят о той особе, которую я скрыл у себя в швейцарской. В это время к моему дому подходил вице-губернатор Хвостов. Толпа, увидав его, начала его качать. Возбуждение толпы росло. Один из толпы бросился ко мне и, стараясь поцеловать края моей одежды, истерически кричал: «Ваше превосходительство, мы разойдемся только когда вы поклянетесь, что ни одного жида не останется в городе».
Видя такое настроение, я решил во что бы то ни стало удалить толпу и сам во главе ее пошел вниз по Николаевской улице; затем, сказав, что я вернусь писать телеграмму государю, я вернулся домой, а Хвостову шепнул по-французски: «Добейтесь, чтобы они разошлись по участкам города, будто бы для выборов делегатов».
В швейцарской я застал задержанную толпой особу и просил поскорее провести ее во внутренние комнаты, чтобы никто не мог увидать ее с улицы. Настроение у всех было тревожное. Жена мне потом рассказывала, как камердинер мой, Доколин, бледный, смотрел в окно на эту толпу, по его лицу текли крупные слезы и он только приговаривал: «Господи! Как страшно, Елизавета Николаевна! Сейчас кричат “ура”, качают, а потом того и гляди — разорвут».
В это время собрались и правитель канцелярии, и чиновники особых поручений, и в их присутствии я стал допрашивать задержанную девушку, что было причиной возмущения толпы против нее. Она оказалась не то учительницей, не то надзирательницей профессиональной школы, подведомственной моей жене. Манифестанты, шедшие по улице, грубо требовали, чтобы все снимали шапки, и были случаи насильственных действий по этому поводу. Один гимназистик зазевался, не снял фуражки, и его стали, бить, она за него вступилась — это и вызвало негодование толпы. Я поручил одному из чиновников особых поручений вывести ее задворками и довести до квартиры, где и проверить ее личность. Пока я беседовал с ней, приехал ко мне командир Красноярского полка, а затем мне
733
принесли письмо от протоиерея Иванова, о котором я упоминал выше; в письме просто старец поздравлял меня с тем высоким патриотическим подъемом, который охватил население Тулы; он выражал надежду, что я не только этим удовлетворен, но и сумею воспользоваться этим настроением, чтобы подавить дурные элементы города. Бедный старик по своей слепоте и неразвитости принял безобразное, стихийное, погромное движение за здоровое национальное чувство. Я ему довольно резко ответил по телефону, что я, наоборот, в отчаянии от всего того, что вижу, и жалею, что духовенство не понимает, насколько антихристиански все эти страстные эксцессы, питающие в народе лишь дух ненависти; государь же в своем Манифесте требует прежде всего примирения и успокоения. С командиром полка мы вели беседу о том, что необходимо переменить место расквартирования казаков. Местом их расквартирования был дом на Посольской улице, в самом центре города, и последние дни митингов революционеров их дневальный у ворот часто подвергался насмешкам и оскорблениям прохожих. Наметили мы с полковником в этот же вечер перевести их на край города в одну из свободных казарм. Наша беседа еще не была окончена, как мне сообщили по телефону из Полицейского управления, что по главной Киевской улице двигается толпа с красными флагами и, по-видимому, направляется к губернаторскому дому. Я вспомнил только что прочитанное известие в газетах, как в одной из губерний, если не ошибаюсь в Перми, с губернатором Наумовым произошел такой инцидент: к нему ворвались в кабинет революционеры, выволокли его на улицу, заткнули ему за борт форменного сюртука красный флаг, держа его за руки заставили в таком виде пройтись с их манифестацией по улицам города. Мне пришло в голову, что в отместку патриотической манифестации они хотят заставить меня отдать честь их красному знамени. Во избежание такого требования я, без фуражки, в одном платье, решился их встретить на улице и поспешил в швейцарскую. Но навстречу мне из парадной двери вошли четверо в кожаных куртках, с браунингами в руках. И швейцар, и вестовой, и постовой городовой совершенно растерялись. Не поднимая голоса, я спросил их, что им нужно. Один из них, с ясно выраженным еврейским акцентом, начал говорить. Во-первых, он заявил мне, что он уполномочен мне заявить, что революционные и либеральные элементы города до сих пор вполне довольны моим корректным и лояльным образом действий по отношению к ним (благодарю покорно за комплимент, нечего сказать — удружили!) События же нынешнего дня вызывают в них опасения возможности погрома, с которым я не в силах буду справиться, а потому они требуют от меня двух распоряжений: первое — увода из города казаков, а второе — передачи охраны города в руки народной милиции, которую они обязуются организовать. Окончил свою речь оратор тем, что он с собой привел боевую дружину, вооруженную, которая хоть сейчас может принять на себя дело полиции; оставил он ее за несколько домов отсюда, чтобы не казалось, что он пришел мне угрожать. На это выступление я очень спокойно ответил, что я только что обсуждал вопрос о перемене квартиры казаков и что они будут переведены из центра города на окраину, но отнюдь не как последствие высказанного мне требования, а вследствие бестактности их единомышленников, постоянно оскорбляющих казаков. Нужна сила военной дисциплины, чтобы сдержать тот
734
порыв негодований, который бурлит в душе каждого казака, слыша глумления и насмешки по их адресу, раздающиеся на улице. Перевожу я казаков на окраину города, чтобы им было бы там лучше; страшны они только тем, которые хотят нарушить законный порядок. Учреждение народной милиции не может быть местным распоряжением и может быть разрешено лишь центральной властью, к которой пусть они и обратятся со своей просьбой. Что же касается событий нынешнего дня, то есть этой тысячной манифестации, требующей, между прочим, удаления евреев из города, то это есть только последствие нарушения ими, революционерами, моего приказания прекратить всякие митинги. «Вы, — сказал я, — пожинаете лишь плоды своих же бестактных и, больше скажу, нахальных действий. И, действительно, если вы не поймете, что, получив по монаршей воле целый ряд облегчений гражданской жизни, вам, ныне признанным легальными, надо мирно и спокойно использовать эти права, не оскорбляя поминутно лиц других верований, то может произойти столкновение, для вас пагубное. Вчера еще я с трудом предотвратил стычку, запретил вашей боевой дружине появляться, а вы сегодня опять ее приводите, зная, что по городу манифестирует тысячная, враждебная вам толпа. Ну, не безумие ли это? Ведь встреть вас эта толпа, она сотрет вас в порошок!».
Говорил я так горячо, что, по-видимому, они опешили и спросили: «Что же нам делать?» — «Что?, — ответил я, — разойтись немедленно, и чтобы ваши товарищи поодиночке разбрелись бы и вернулись бы домой». Тот, который говорил со мной, сказал: «Передам Ваши слова товарищам и постараюсь их уговорить». После этого они удалились. Вдогонку я им крикнул: «Помните, расходитесь по окраинам города и поодиночке».
Вернулся я в кабинет и отпустил командира полка. Не прошло пяти минут, как он отъехал, как мне по телефону сообщил кто-то из гостиницы Чайкина, находившейся на Киевской улице, что сейчас появилась какая-то вооруженная толпа с красным флагом, а навстречу ей другая, с царским портретом, и столкновение неизбежно. Велел я подать экипаж, оказалось, что он не запряжен. Новый телефон: «На Киевской стреляют». Я послал за извозчиком, а сам, чтобы не терять времени, пошел пешком, приказав или экипажу или извозчику меня нагнать. На счастье, недалеко от дома встретил командира полка, который, услыхав стрельбу в городе, возвращался ко мне за распоряжениями. Вскочил к нему в коляску и поскакал на Киевскую. Я думаю, что не прошло более десяти минут после второго телефона, как я был уже на улице — на Киевской; улица была пуста, но слышались одиночные выстрелы, откуда неизвестно одна пуля даже просвистела. Кое-где валялись трупы убитых, особенно их много было на углу Киевской и Посольской. Проехал я в ближайшие казармы и через командира полка вызвал в помощь полиции роту солдат. Казармы были расположены в одном глухом переулке вблизи пересечения Киевской и Посольской улиц. Уже смеркалось, а электричество еще не зажглось на улицах. Стоял я один в воротах двора, вдруг слышу скачущих лошадей; вообразил я себе, что это казаки летят по собственному почину, как мстители, и я, став посреди переулка, не своим голосом крикнул, чтобы быть услышанным несмотря на топот коней, командные слова: «Стой — слезай!». Все смолкло, слышен был лишь шум от усиленного дыхания
735
лошадей и падение, не меняю слова, именно падение каких-то тел человеческих и палок на мостовую. В эту минуту как бы по волшебству зажглись электрические фонари на улице, и моим глазам представилась неожиданная картина. Передо мной стояла спешившаяся толпа мужиков, человек 30, в лаптях, с дубинами; они держали за веревки невзнузданные свои клячонки. На мой вопрос: «Кто вы такие?» они назвали одну подгороднюю деревню. — «Зачем вы прискакали и куда вы едете?» Они с заминкой ответили: «Нам сказали, что наших бьют, и мы прискакали на подмогу». — «Ну и отправляйтесь немедленно домой, не верьте глупым словам. Марш сейчас же назад», — крикнул я на них довольно грозно. И поплелись эти глупые, смущенные какими-то зловредными агитаторами мужики домой. Рота была готова, и я сам лично отправился с ней по улицам. Подъехавшему Хвостову я дал поручение вызвать пожарных, свезти трупы убитых в мертвецкую до опознания их родственниками и навести в больницах точные справки о числе раненых. По Киевской кое-где стояли кучки народа; уличное освещение пошаливало и часто весь город опять погружался в мрак. В такие минуты почти полной темноты всякая кучка людей, на которую натыкался я, казалась чем-то грозным. Шел я впереди солдат и первый подходил к собравшимся, требуя от них немедленно разойтись. Не скажу, что делал бы это всегда спокойно, бывало и жутко, и даже очень жутко, не зная, как тебя встретят, и не придется ли тут же приказать стрельбу против ослушников моих приказаний. Таким образом, я прошел всю Киевскую, нигде не встретив малейшего противодействия моим требованиям разойтись. Эти кучки народа преимущественно собирались около убитых на улице. Полиция совершенно отсутствовала. Не могу ее в этом винить. Полицмейстер Воронцов-Вельяминов был сбит с толку моими распоряжениями предшествующих дней — не вмешиваться во время митинга и только прекращать насилия. Сам я слишком играл на улице накануне роль полиции, предотвращая столкновение манифестантов с боевой дружиной. Александр Александрович (так звали полицмейстера) был не храброго десятка, совершенно штатский чиновник и к тому же очень недалекий человек, и потому не мог разобраться, где наступала граница его невмешательства и где он обязан был начать действовать. Дойдя до Полицейского управления, я остановил роту и сам пошел разыскивать чинов полиции. На мой вопрос дежурному, где же вся полиция, получил ответ, что сам полицмейстер с большим нарядом городовых, снятых с постов по распоряжению вице-губернатора, охраняет губернаторский дом, на который будто бы ожидается нападение боевой дружины революционеров, а помощник его где-то здесь, в рабочих комнатах Управления. Вызвал я этого субъекта, пристыдил его и поручил ему с той ротой, которая была при мне, еще по несколько раз пройтись по улицам, где произошли эти кровавые события, и отпустить солдат, когда все успокоится и полиция вновь займет свои посты, для чего я сам сейчас поеду отменить распоряжение вице-губернатора.
Вернувшись домой, я застал жену и всю семью в большой тревоге. Дом был окружен городовыми и в саду был скрыт еще большой наряд полиции. Немедленно я их всех отослал с приказанием вновь занять посты на улицах. Меня уже ждали прокурор, начальник гарнизона и правитель канцелярии с чиновниками особых поручений. Успокоив, как мог, жену, прошел к себе в кабинет обсудить все
736
события. Жена моя в эти дни проявила всю силу своего характера. Она не только не поддавалась панике, которую усиленно разводили ее окружающие, но все время казалась спокойной и ни разу не отговаривала меня от выездов, которые, несомненно, были всегда опасны. Приехал Хвостов с докладом о числе раненых и убитых. Не помню теперь точно число тех и других, но, кажется, убитых, подобранных на улице, оказалось 23 человека, раненых — значительно больше. Состав пострадавших доказывал, что это было случайное, неожиданное столкновение. Ожидалось и подготовлялось что-то другое, неудавшееся, потому что встретились силы более или менее равные, парализовавшие друг друга и разбежавшиеся, как только увидали, что натворили. Были убитые и черносотенцы (как их тогда стали называть), и революционеры, но еще более — случайные прохожие. Версии были самые разнообразные.
История, если бы только занялась этим событием, потонувшим среди всего того, что совершилось в эти дни по лицу всей России, одна могла бы беспристрастно и правдиво не только осветить, но и описать весь сумбур этого дня. Я лично до сих пор не берусь точно сказать, как все это случилось и по какому наущению. У меня были лишь догадки и я мог ощупью разыскивать виновных. Первым виновным был я сам, допустив безобразно нахальное поведение на первом митинге революционеров и этим дав почву для страстей разнородных элементов города. Одни говорили, что стреляли казаки, самовольно покинувшие свои казармы, когда узнали, что патриотической манифестации грозила опасность от боевой дружины, неожиданно появившейся на Киевской; другие говорили, что стрельбу начала эта пресловутая боевая дружина, делегаты коей беседовали со мной. Ясно было одно, что представители того и другого течения политического движения столкнулись, сошлись, и от первой встречи вместо единения разгорелась вражда, да еще такая, которую не скоро потушить. Правые, или черносотенцы, как их стали тогда называть, не могли переварить, что отныне нет нелегальных людей по их образу мыслей. Государь в своем Манифесте признал законным всякое течение мысли, лишь бы эта мысль не претворялась бы в насильственные действия. Правым казалось, что это потворствование власти, слабость ее не преследовать отныне левые элементы, что такое бездействие власти — лишь измена своему государю, и сами считали нужным стать на сторону престола. Левые, то есть революционеры, красные, не учитывали, что действия правых — их самовольные действия, и думали, что это нарушение администрации. Результатом того и другого суждения было одно — полная непопулярность власти и потеря к ней доверия. Для укрепления своего положения представлялись две альтернативы — либо опереться всецело на правых и стать пешкой в их руках, либо сделать то же по отношению левых. Многие губернаторы тогда пошли по этому пути и, опираясь на реальную силу того или иного мнения, могли, быть может, принести более пользы для сохранения порядка в своей губернии, или, вернее сказать, для подавления вспыхнувших беспорядков. На этот путь теперь уже открыто меня склонял мой вице-губернатор, понимая, что опереться я могу по сродности своих убеждений лишь на правые элементы. Но я не пошел по этому пути: принципиально я смотрел на силу власти в ее беспартийности. Кровавые события
737
этого дня меня давили, как кошмар наяву, но все же я понимал, что не я вызвал эту кровь, но я ее пролил; быть может, я был виновен в непредусмотрительности и в этом я себя не оправдывал, но я не пользовался как орудием чувством ненависти и мести одной партии против другой. Колебаний долгих у меня не было — все нравственное мое нутро, моя совесть повелительно требовали от меня полной беспартийности, не считаясь с моими вкусами и симпатиями. Часто я потом испытывал раздвоенность. Беседуя и совещаясь с левыми элементами, я чувствовал сходство с ними во многих их взглядах, в их стремлениях к чему-то, стоящему выше обыденного, обывательского благополучия; но как только вопрос переходил на почву реальную, их желания, их язык совершенно меня отталкивали; то, что они считали белым, для меня было не столько черное, сколько грозное, и я с трудом сдерживал свое негодование. При совещании с чиновным миром, сплошь архиправым, мне становилось легче, свободнее было с ними договориться, но узость, шкурность их суждений, клонящихся к сохранению не принципа, а своего собственного личного или семейного благополучия, меня коробили. Проникнувшись по нравственному чутью и по рассуждению мыслью, что мой долг — остаться беспартийным и стараться благодаря этому достигнуть возможной беспристрастности, я просил прокурора как можно скорее двинуть следствие, и следствие самое строгое, беспощадное, если нужно, для администрации до меня включительно, а до того командировать одного из своих товарищей присутствовать при первом дознании, которое я поручил сделать правителю канцелярии моей Пивоварову. Он по старой своей службе был причислен к Министерству внутренних дел и откомандирован лишь в мое распоряжение для управления канцелярией. Такое его звание давало ему больше весу и могло внушить публике, что расследование ведется членом Центрального управления и потому не покроет промаха местных властей. Начальник гарнизона просил командировать при производстве этого дознания представителя военных. Тут же я выпустил правительственное сообщение о совершившемся (все черновики этих распоряжений и объявлений у меня пропали во время настоящей революции, почему не могу точно их воспроизвести) с указанием о начатом дознании и с просьбой ко всем сообщать Пивоварову все, что известно и чему был каждый свидетелем.
По иронии судьбы мне чуть ли не в этот вечер принесли письмо от управляющего Министерства внутренних дел И. Н. Дурново в ответ на мое письмо к Витте, о котором я писал выше. Дурново писал мне, что в настоящее смутное время именно и нужны старые опытные администраторы, почему убедительно просит меня не настаивать на своей отставке. Я тут же продиктовал ответ, в котором подробно излагал все факты настоящего дня и просил о назначении сенаторской ревизии моих действий. Кончил я письмо уверением, что я готов остаться на своем посту, пока я считаюсь государю полезным, и, во всяком случае, не предполагал уходить во время такого сумбурного и неспокойного времени; возобновлю свое ходатайство, когда все более или менее успокоится. Просьба моя о сенаторской ревизии была более чем наивна. Я тогда не понимал, что вся Россия охвачена пожаром, и смотрел на события тульские как на единичные, выходящие из ряду вон. Если бы послать повсюду, где были такие беспорядки, сенаторов для ревизии, то
738
сенаторов бы не хватило. Надо было тушить пожар, а не добиваться, отчего он загорелся и кто исправно его тушит, и кто неумело действует.
Этим и кончился мой служебный день и я всех отпустил. Хвостов негодовал на меня за то, что я отменил наряд полиции, уверяя, что нет сомнения, что нынче же ночью будет нападение на губернаторский дом. Он с начальником гарнизона наседали не столько на меня, сколько на мою жену, так что, наконец, чтобы отделаться от них я сказал Хвостову, что не буду препятствовать ему принять меры к охране губернаторского дома, но с улыбкой добавил, что категорично запрещаю для этого брать городовых с постов. Он поймал меня на слове и, сговорившись с начальником гарнизона, поставил не то роту, не то полуроту солдат во дворе и в саду нашего дома. Наряд этот продежурил дня два и ровно ничего не было. Потом уж жена мне рассказывала, что Хвостов так ее напугал, что она приказала уложить детей так, чтобы можно было их одеть в одну минуту. Няня же и горничные спали около них одетые. Я был очень тронут графиней Орловой-Денисовой: когда мы расходились на покой, взволнованные от всего пережитого, со взвинченными нервами, она, прощаясь со мной, с застенчивой улыбкой просила разрешения меня перекрестить на ночь. Все же события, пережитые в таком тесном единении, очень нас сплотили, и графиня, до того совершенно нам чужая, теперь казалась одной из самых близких.
На следующий день, 22-го октября, после утреннего доклада полицмейстера, который рапортовал, что ночь прошла совершенно спокойно, настроение в населении какое-то подавленное, большинство убитых уже опознано и тела их взяты родственниками, я вызвал к себе жандармского полковника узнать о настроении и намерениях в левых кругах. Делал я это для очистки совести; я уже не верил осведомленности Жандармского управления. Все же на этот раз разговор мой с полковником имел и практические результаты, совершенно неожиданные. Он не имел никаких сведений от своих внутренних агентов и впечатлений вчерашнего дня в революционных кругах, да имел ли он вообще внутренних агентов — большой вопрос. Зато он мне рассказал нижеследующее: казалось, маловажный инцидент, для меня же имевший серьезное значение. Когда манифестация с царским портретом ушла от губернаторского дома, она направилась вниз по Николаевской, а потом свернула на Киевскую; по его словам, среди нее был бывший жандарм, уволенный за что-то со службы. Там они и столкнулись с боевой дружиной, не разошедшейся, как я им приказал, а двинувшейся от моего дома прямо на Киевскую. Все это полковник узнал от своих агентов, сам же он был дома. В это приблизительно время его подозвал к телефону тот Михайлов, который, как я писал выше, прислан был Департаментом полиции. Михайлов ему говорит с радостным оттенком в голосе: «Что, полковник, а наши хорошо действуют». На удивленный вопрос озадаченного полковника: «Какие наши и что хорошее они делают?» Михайлов оборвал разговор и положил трубку. Насколько можно ручаться за чужого человека, настолько я готов ручаться, что начальник Тульского Жандармского управления не только был далек от какой-нибудь провокационной деятельности, но оную и осуждал. Передавал он мне этот разговор с Михайловым даже с каким-то возмущением и недвусмысленно указывал, что кто знает, что делал и делает этот Михайлов. Ввиду этого я тут же при
739
жандармском полковнике написал шифрованную телеграмму директору Департамента полиции, где я излагал сомнения мои о лояльности поведения чиновника Михайлова, просил точно мне сообщить цель его присылки в Тулу и предел его полномочий. Покончив это, поехал я в губернскую больницу посетить раненых, там находившихся. Старый врач Чекан провел меня по палатам, объяснив, что во избежание споров между пострадавшими он разместил всех левых, так называемых «красных», в отдельную палату. В этой палате все же были люди совершенно разных направлений, как-то социал-демократы преимущественно из среды рабочих, и социал-революционеры, из учеников школы при оружейном заводе (какой конфуз для начальника оружейного завода генерала Куна). Общее несчастье их соединило и лежали они дружно. Особенно тяжело раненных не было. Я вполне одобрил распоряжения доктора Чекана и, уезжая, оставил ему 100 рублей, прося тратить их по своему усмотрению на разные экстра [для] пострадавших независимо их [от] убеждений и партии и не говоря, откуда у него эти деньги.

Чаепитие в Сергиевском. Рисунок М. М. Осоргиной.
Начало XX века. Частное собрание, Париж
Днем, когда кончились у меня не только доклады, но и все заседания, мне доложили, что приехал присяжный поверенный Рязанов и просит принять по неотложному делу. Вошел он ко мне в кабинет с каким-то особенно деланно важным видом и после обычных приветствий сказал: «Я приехал к Вам по неприятному для Вас поводу»; на мой удивленный вопрос: «По какому же?» он
740
продолжал: «Рабочие социал-демократы винят Вас всецело в том избиении, которое произошло вчера на Киевской улице, негодуют, что Вы нашли возможным, как бы в уплату за пролитую кровь, передать их раненым сто рублей, которые они поручили мне вернуть Вам»; и тут он театральным жестом швырнул на мой письменный стол сторублевую бумажку. Я, признаюсь, и опешил, и вспылил внутренне от его выходки, но сдержался и ответил ему довольно спокойно: «Тут несомненно какое-то недоразумение, так как я никогда и не думал передавать сто рублей раненым рабочим из Вашей партии, и Вы введены в заблуждение. Недоразумение это может выяснить доктор Чекан, которого я и вызову сейчас сюда. Вас же попрошу остаться до его приезда здесь со мной, чтобы Вы могли удостовериться, что никакого сговора с доктором Чеканом у меня нет и его ответ не внушен мною». Позвонил я по телефону Чекану, прося его немедленно ко мне приехать. Рязанов сначала отговаривался, что это не нужно, что для него дело ясно, но я настаивал и серьезно ему заметил, что я ничуть не желаю перед ним оправдываться, ибо за мои служебные дела я ответственен только перед моим государем, а вообще за свои поступки отвечаю лишь перед своею совестью, и мнения не только его, но и всей его партии для меня вполне безразличны; все же хочу его, Рязанова, убедить, что таких легкомысленных поручений серьезному человеку брать на себя не следует. Видя мою настойчивость, Рязанов подчинился. Сразу из нахального демагога он обратился в трусливого революционера, стал он с тревогой оглядываться и спрашивать, не подслушивают ли наш разговор, причем с особой тревогой оглядывался на угол кабинета, где драпировками был отгорожен проход из коридора в комнату моего отца. Я с насмешливой улыбкой сам поднял эту драпировку и так ее закинул на перегородку, что весь проход стал виден. Он даже сконфузился. Ждать пришлось довольно долго, Чекан жил довольно далеко от губернаторского дома. Наконец он приехал. Как только он вошел в кабинет, я его попросил рассказать при Рязанове, на какой предмет я ему дал 100 рублей. Он подтвердил, что для разных экстра раненым. Я просил разъяснить, для каких именно, и тогда он принужден был добавить — для всех без различия партий. Я еще просил его точнее сказать, просил ли я его упоминать мое имя — он объяснил, что именно нет и что настаивал скрыть источник этой помощи. Когда он, таким образом, правдиво осветил весь этот инцидент, я ему с укоризной рассказал выходку Рязанова и спросил его, почему он так нарушил мои указания. Чекан сконфуженно оправдывался, что остальные раненые получали помощь от своих, одни рабочие были как бы забыты, почему он им и передал все деньги и назвал меня, думая этим привлечь ко мне их симпатии. Рязанов был не менее сконфужен, прослушав объяснения Чекана, извинялся предо мной. Я ему очень серьезно заметил, что это ему хороший урок, ему, развитому, воспитанному человеку, брать, не проверив, на себя поручение простых некультурных людей. Кончил я требованием взять ему брошенные на стол сто рублей и при мне передать Чекану, которому я уже начальственным тоном внушил поручения губернатора исполнять точно. Чекан никогда не мог мне этого простить, и когда встречался со мной по выходе моем в отставку, перестал мне кланяться. Рязанов же, наоборот, после данной ему отповеди как-то зауважал меня. Отпуская его, я просил
741
его приехать на следующий день как представителя социал-демократов на совещание, чтобы всем вместе обсудить, какие меры принять, чтобы день похорон жертв столкновения 21-го октября прошел бы без инцидентов. Спросил я его совета, кого пригласить из других бывших до того нелегальных партий, чтобы через них повлиять на их единомышленников на предмет предотвращения нового столкновения. Он мне назвал некоторые фамилии, теперь я их не помню; в числе их был тоже присяжный поверенный, еврей, видный член родительского комитета классической гимназии. Фамилии его тоже не помню, хотя с ним я и впоследствии имел частые сношения и всегда был вполне доволен его корректными действиями. Утром следующего дня я получил ответную телеграмму из Департамента полиции насчет Михайлова. В ней кратко сообщалось, что Михайлов откомандирован в непосредственное распоряжение начальника Тульского Жандармского управления, который и отвечает за его действия. Вызвал я начальника Управления и, когда он вошел ко мне в кабинет, я ему сказал, что получил, наконец, ответ от директора Департамента. Он мне радостно ответил: «И я тоже!» и дал мне прочесть свою телеграмму. Не помню ее слово в слово, но смысл ее был таков: Михайлов провалился (термин, означающий, что секретная деятельность обнаружена), его деятельность в Туле не может более быть полезна, откомандируйте его обратно в Петербург.
Я раскрыл удивленные глаза и сказал: «А мне директор Департамента телеграфирует совершенно другое. Прочтите», и дал ему телеграмму. Полковник, увидав, что он сделал гафу, страшно сконфузился. Я его стал успокаивать, что это останется между нами, но зато потребовал от него, чтобы он немедленно отослал Михайлова, так как иначе, согласно полученной мною телеграмме, я буду считать его ответственным за все, что натворит Михайлов. Полковник удалился, обещая в точности исполнить мое требование.
Днем у меня было продолжительное совещание по поводу ожидаемых на следующий день похорон жертв 21-го октября. Выпустил я воззвание к населению города, призывая его к спокойствию, к молчаливому почтению перед гробами почивших, невзирая на принадлежность их к какой бы то ни было партии. А на совещании я категорично заявил, что безусловно воспрещаю всякое политическое оказательство, как-то флаги, венки с особыми надписями. Начальник школы при оружейном заводе артиллерийский полковник (фамилию не помню) спросил меня, разрешаю ли я воспитанникам его школы в полном составе проводить гроб своего товарища; а я уже знал, что этот товарищ был социал-революционер. Я ответил, что безусловно это возможно, но я требую, чтобы процессия была церковная, то есть с духовенством. Запрещаю безусловно всякие речи до вступления процессии в ограду кладбища; там же разрешение будет зависеть от духовенства при опускании гроба в могилу. Споров на совещании не было никаких; все сознавали опасность завтрашнего дня и, проученные опытом, готовы были всемерно содействовать предотвращению повторения столкновения.
Трудность, главное, была вот в чем: в Туле было только одно кладбище на окраине города, и притом на противоположном конце от рабочих кварталов, откуда должны были выступать похоронные процессии; все эти процессии, хотя из разных мест, силою обстоятельств должны были стекаться, как в одну общую
742
артерию, на Посольской улице и оттуда по двум улицам — Киевской и параллельной ей — двигаться на кладбище; надо было так рассчитать, во избежание новых эксцессов, чтобы процессии не столкнулись бы, шли бы не на слишком близком расстоянии друг от друга, и вместе с тем все было бы кончено не позднее часа дня. В этом мне очень помогли члены совещания, взявшись уговорить своих единомышленников назначить похороны на точно определенные часы, здесь же намеченные. Я, со своей стороны, для полицейских мер разделил город по районам, назначив в каждом одного старого полицейского чина с полномочием полицмейстера, для чего привлек на этот день к этому делу и двух исправников, служивших раньше в городской полиции. Каждому такому временному полицмейстеру я назначил в помощь полиции роту пехоты и несколько казаков. Полицмейстеру Воронцову-Вельяминову я поручил самый серьезный район, где было скрещение Посольской и Киевской улиц; в том районе церкви, где [могло бы быть] отпевание, не было, но зато могла и произойти встреча двух процессий, почему Воронцову-Вельяминову я дал отдельную инструкцию находиться самому на этом перекрестке и не допускать соединение двух процессий в одну, для чего, если будет необходимо, тут же на месте менять маршрут вступившей в его районе процессии. Совещание, распоряжения, отдельные инструкции разным лицам заняли весь день.
На следующее утро, я еще не был одет, как мне доложили, что полицмейстер приехал по экстренному делу. Вышел я к нему еще в халате, настолько торопился узнать, в чем дело. На мой вопрос, что случилось, он молча мне подал бумагу.
Я его спрашиваю: «Что такое, расскажите на словах?!» — «Мое прошение об отставке», — отвечает полицмейстер. Я ему сказал с сердцем: «Послушайте, для этого не стоило приезжать так рано и притом в такой день, когда Вам прежде всего нужно думать об исполнении Ваших обязанностей». «В том то и дело, — отвечает мне полицмейстер, — что я хочу сдать сейчас должность. Если я займу пост, назначенный Вами, я несомненно буду убит». Тогда, уже не помня себя, я закричал на него: «Вы боитесь быть убитым и потому не хотите занять вверенный Вам пост? Так я Вам даю слово как губернатор, как представитель царя здесь, что если Вы сейчас не займете назначенный Вам район, не станете на том посту, который я Вам вверил, на углу Киевской и Посольской, я сегодня же донесу на Вас его величеству, расскажу, что меня к этому побудило».
Теперь, описывая эту сцену, я вспоминаю то состояние, в котором я был в ту минуту. Ведь осуществи полицмейстер свое намерение, это был бы явный крах власти и полная сдача ее перед революцией. Я весь дрожал во время этого объяснения и под конец, забыв даже, что я в халате, подступил к нему чуть ли не с кулаками. Он побледнел как полотно и сказал: «Слушаюсь, иду на верную смерть. Стану на углу Киевской и Посольской, и знайте, Ваше превосходительство, что я буду только лишней жертвой, но исполню свой долг до конца». Повернулся и вышел из кабинета.
Редко, кому я рассказывал это впоследствии, не желая бросать тень на Воронцова-Вельяминова, который все же был прекрасный человек. Этот поступок его можно было объяснить только расшатанными нервами от всего пережитого.
743
День прошел совершенно благополучно, и когда полицмейстер явился ко мне с докладом, я тут же, в кабинете, заставил его написать мне прошение об отпуске, в тот же день отпустил его, возложив исполнение его обязанностей на исправника Аристова, снесся телеграммой с гродненским земским начальником Валерьяном Николаевичем Ушаковым и предложил ему место тульского полицмейстера. Получив его согласие, телеграфировал министру о необходимости немедленно переместить ко мне Ушакова, и через какие-нибудь две недели после этого события Валерьян Николаевич был уже тем бесстрашным распорядительным тульским полицмейстером, каковым остался до конца на этом посту. А Воронцов-Вельяминов был назначен исправником в Белев, где в это время открылась вакансия.
День этот окончился благополучно, я думаю, все-таки потому, что я случайно обуздал Михайлова. В этот день я не отлучался из кабинета и почти не отходил от телефона, получая почти что каждые пять минут донесения из разных районов.
Вдруг мне докладывают: «Чиновник Департамента полиции Михайлов». Как только он вошел ко мне, я чуть не крикнул на него: «Как! Вы еще не уехали? Несмотря на распоряжение Департамента и мое приказание?». «Нет, — отвечает Михайлов с каким-то таинственным видом, — у меня особенное секретное поручение от Департамента, которое и местный жандармский полковник не знает». «Какое?» — спрашиваю я. — «Не могу сказать, это секрет и тайна», — отвечает Михайлов. Тогда я ему сказал, что от меня, начальника губернии, вообще, и в такое неспокойное время в особенности, не может быть что-нибудь скрыто, и мне одному надлежит на месте оценивать, что можно делать и чего нельзя, потому что я один всецело ответственен за свою губернию; если же он настаивает на тайне, то я его все же вышлю из губернии, сообщив Департаменту, что принужден был принять эту меру ввиду неповиновения Михайлова распоряжениям Департамента и моим приказаниям выехать из Тулы. Тогда Михайлов нагнулся ко мне и таинственным шепотком сказал: «Если так, я объясню Вам, для чего я приехал, — и он остановился на минутку для большего эффекта. — Я приехал охранять Вашу особу, на которую готовится покушение». Я на эти слова просто расхохотался: «Не сочиняйте, пожалуйста! Неужели моя персона столь значительна, что Департаменту пришлось отделить своего чиновника с миссией сохранить мою драгоценную жизнь; думаю, что у Департамента дела поважнее этого. Что касается меня, я никого не просил меня охранять, считаю это излишним и теперь, узнав цель Вашего пребывания в Туле, категорично это Вам запрещаю, еще настойчивее требую Вашего выезда. Впрочем, подождите минутку в приемной, я кончу разговор с Вами при начальнике Жандармского управления, Вашем прямом начальнике, как мне телеграфировал директор Департамента». Вызвал я жандармского полковника, и когда он приехал, в присутствии Михайлова рассказал ему весь наш разговор с последним. Кончил я приблизительно следующими словами: «Железнодорожное движение по Курской дороге восстанавливается, почему предлагаю Вам, полковник, сегодня же с жандармским унтер-офицером доставить чиновника Михайлова на границу губернии в Серпухове и об исполнении сего мне донести по возвращении унтер-офицера
744
в Тулу». И обоих отпустил. Этот Михайлов не появлялся больше в Тульской губернии; слышал потом, что он оперировал в Крыму, на каком поприще и как — не знаю, и там же будто был убит.
С этого дня в самом городе Туле все более или менее успокоилось — движение и разгул перешли в уезды. В Туле же только долго не удавалось наладить правильные занятия в учебных заведениях. Железнодорожное сообщение кое-как наладилось, и графиня Орлова-Денисова с детьми уехала от нас, провожаемая всеми нами, как самая близкая нам родственница.
Из уездов чуть ли не ежедневно поступали донесения о неспокойном настроении: прямых явных погромов усадеб не было, но были порубки леса скопом, открыто, и постоянные угрозы то здесь, то там нападения на помещичьи усадьбы. Трудно было успокоить напуганных владельцев, не имея достаточной реальной силы для подкрепления уездной полиции, и измотавшейся и не понимавшей, что творится и какой линии отныне держится правительство. В Москве в это время заседал открыто Крестьянский союз, и на нем совершенно безнаказанно раздавались зажигательные речи о необходимости сейчас же сжечь все господские усадьбы, выжить этих господ из своих насиженных гнезд и землю крестьян разделить между собою. Эти речи невозбранно печатались в газетах, особенно отличалось этим «Русское слово», наиболее распространенная в то время газета. В ней тенденциозно освещались все события. Тульский корреспондент «Русского слова» после только что описанных мною событий послал телеграфную корреспонденцию о них. Он так описывал мои действия: «Губернатор стравил революционные партии (понятно, назвал он эти партии тем здоровым элементом, который призван возродить Россию) с черносотенцами и потом выпустил на обеих спрятанных им в засаде казаков, которые перестреляли и тех и других в большом количестве»; кончал он сообщением, что город в панике, необходимо немедленно обуздать расходившихся казаков. Это была такая наглая ложь, что многие возмутились и от себя послали по собственному почину опровержение. Одно было послано городским головой Волковым, которое почему-то не было напечатано; другое — членами губернской Земской управы; последнее не было подписано председателем князем Львовым, несмотря на то, что его коллеги просили его о том. Отговаривался он тем, что не был свидетелем всего происшедшего, так как отсутствовал из города. А я думаю, что побудительной причиной его отказа явилось желание прослыть среди левых сторонником администрации. Я ждал, как отзовется на эту лживую телеграмму прокурор Киселев. Его даже служебная обязанность была опровергнуть инсинуации, дискредитировавшие власть, тем более что он, направляя следствие, мог компетентно опровергнуть всю сообщенную ложь. При первом свидании со мной он как-то сконфуженно и неуверенно смотрел мне в глаза, но ничего не сказал. За завтраком жена моя не сдержалась и прямо его спросила, что он намерен сделать по поводу этой газетной клеветы. Он почему-то достал газету, вновь перечел всю эту мерзость, сказанную про меня, потом как-то деланно засмеялся: «Да ничего, что же я могу написать? Собаки лают — ветер носит, вот и все. Тайны следственного производства я разоблачать не могу». С тех пор Киселев стал как-то особенно неприятен моей семье, которая страдала, видя, какими помоями меня обливает
745

М. М. и Е. Н. Осоргины с детьми Льяной, Георгием, Антониной, Михаилом, Марией,
Софьей и Сергеем. Сергиевское. Не ранее 1908. Частное собрание, Париж
печать. Говорили, что даже товарищи прокурора требовали от Киселева послать официальное опровержение, но тщетно — он так и остался в стороне. Потом его поведение со мной было довольно странное; то он мне сообщал, что следствие подтверждает мою неустрашимость и кипучую деятельность по удержанию порядка в городе; то на следующий день он недвусмысленно намекал, что получил новые, неблагоприятные для меня показания. Я видел, что он просто флюгер, и перестал считаться с ним. Вспоминая моих сослуживцев по Харькову и Гродно — прокурора Палаты Давыдова, прокурора Суда Кузьмина — вот это были настоящие стражи закона. Они бы и поддержали в нужную минуту, и не постеснялись бы открыто сказать свое мнение, без боязни не угодить той или другой партии. Что касается Волкова, городского головы, то он как-то был неустойчив. Опровержение в газеты он послал первый и по собственному почину, а вместе с тем собирался расклеить по улицам воззвание к населению, в котором призывал оное к спокойствию и доверии к своему муниципалитету. Между строчек читалось, что городское Управление зорко следит за действиями администрации и не допустит незаконных со стороны губернатора распоряжений. Узнав про такое намерение, я серьезно восстал против такой роли городской управы, будто бы надзирающей за мной, и категорично воспретил расклейку городским Управлением каких бы то ни было воззваний к населению, не просмотренных мною. Я растолковал Волкову, что таким способом действий он только дискредитирует
746
меня, а моя власть должна быть в такие минуты особенно сильна. В моей силе залог для них возможного спокойствия в городе.
В уездах резко разыгрались беспорядки в одном [только] городе Веневе. Получил я однажды телеграмму из Венева от членов уездного Съезда, сообщавшую мне, что в городе погром. Я немедленно командировал туда вице-губернатора Хвостова с полусотней казаков, походным порядком; давая это поручение Хвостову, мне в первый раз пришлось резко с ним поговорить, так как он более или менее открыл свои карты, которым я совершенно не сочувствовал. Хвостов, выслушав мое предложение ехать в Венев, стал возражать, что не следует торопиться, пускай хорошенько друг друга пощипают, и тогда легче будет справиться — и полюбят, и поверят власти. Я возразил ему, что я далек от мысли укреплять власть на борьбе разных партий, что здесь, в Веневе, для меня важно не кто начал, не кто производит беспорядок, а меня заботит только одно: кто-то производит насилие над другими и это насилие должно быть немедленно прекращено. А потому, если он, Хвостов, не желает исполнить в точности мое предложение немедленно отправиться в Венев и прекратить там беспорядки, то я сам лично туда поеду и министру телеграфирую, что мой вице-губетнатор отказался исполнить возложенное мною на него поручение. Хвостов сдался и тут же ночью выехал в Венев с казаками. Порядок там был немедленно восстановлен, ограничилось разгромом двух магазинов и разбитием стекол в квартирах наиболее видных левых деятелей.
Рано утром следующего дня еще до начала приема ко мне в приемную явился забрызганный, испачканный, всклокоченный некто Пигулевский, занимавший должность не то податного инспектора, не то акцизного надзирателя в Веневе. Пигулевский бежал из Венева ночью, пешком добрался до Тулы, прямо ко мне. По его словам, дело происходило так: по получении Манифеста 17-го октября, в первый свободный день собралась теплая компания друзей отпраздновать это первое торжество русской свободы. В числе этой компании был и он, Пигулевский, известный земский деятель левого крыла Черносвитов и еще несколько человек одного направления. Для этой пирушки они заняли чистую горницу во втором этаже одного из веневских трактиров; пили они шампанское с криками «ура», и на эти крики пришли к ним снизу, с черной половины трактира, человека два не то мастеровых, не то рабочих. Пришли эти мастеровые с определенной целью: «Просить господ сойти вниз и растолковать, в чем заключается Манифест, о котором они слышат, а понять не могут». Пигулевский рассказывал мне, что они пытали даже этих мастеровых, нет ли тут обмана и не кончится ли это каким-нибудь побоищем; присланные с черной половины трактира даже рассмеялись и обещали беречь их пуще глаз. Пошли вниз объяснять Манифест он, Пигулевский, и Черносвитов. Им устроили даже что-то вроде маленькой эстрады, слушатели окружили их тесным кольцом. Все шло благополучно до того пункта, где говорили о свободе союзов; публика никак не могла понять, в чем заключаются эти союзы. Черносвитов, желая получше объяснить, стал толковать, что этим дается возможность сплачиваться — отдельно плотникам, отдельно столярам, и тогда уже эти мастеровые, сговорившись, могут сами устанавливать цену за свою работу; хозяева должны будут подчиниться, так как
747
нигде дешевле не найдут рабочего. Среди слушателей как раз была артель плотников, к тому же подвыпившая; один из нее своеобразно высказал свое сочувствие словам Черносвитова: «Как, барин, не понять пользу от этого! Если мы не пойдем в союзы, так просто дураки; как будто топорами, вместо того, чтобы тесать бревна, себе животы ими распороли». Другой его товарищ, совсем уж пьяненький, ничего не разобрав, только заорал: «Что, они хотят животы нам распороть? Ax, они анафемы, сами мы им кишки выпустим», и полез с кулаками на импровизированную эстраду. Пошла потасовка. Разъяснители Манифеста с позором бежали, в трактире началась свалка. Первым делом толпа бросилась грабить вино, и пьяная орда с гиком пошла разыскивать по городу смутьянов. Разграбили, между прочим, единственный часовой магазин одного еврея, винную лавку и перебили окна в квартире отца Черносвитова, если не ошибаюсь, крупного мукомола. Мне было ясно, что не обратись в постыдное бегство Пигулевский и Черносвитов, недоразумение тут же и разъяснилось бы, но революционеры такого рода в большинстве храбры лишь на словах, а потому и предпочли скрыться; дальнейшие приключения Пигулевского были трагикомичны: он бежал в соседнюю деревню и укрылся у одной знакомой сельской учительницы, но к ней явился ее приятель, местный крестьянин, с советом его выпроводить, а то ее школу разгромят. И Пигулевский, без пальто, без фуражки добежал до Тулы. С Черносвитовым дело вышло еще хуже: после нападения толпы на квартиру его отца он ночью с женой и ребенком хотел укрыться на одной из мельниц отца, недалеко от города. Пробираясь через плотину, жена его оступилась, упала в воду и утонула, а он, желая ее спасти, бросился в воду, отчего сильно простудился и долго был болен при смерти. Хвостову в Веневе и делать ничего не пришлось: к утру к его приезду все уже улеглось. Оставалось только судебным властям производить следствие, а полиции разыскивать награбленное имущество часового магазина.
Когда ко мне стали поступать все чаще и чаще сведения об ожидаемых погромах помещичьих усадеб, я написал в Министерство, что с имеющимися у меня силами я совершенно не в состоянии сохранить порядок в губернии; при этом я очень резко выразился, что мое положение тульского губернатора совершенно невозможное: правительство допускает собрание Крестьянского союза в Москве; представитель Тульской губернии на этом съезде, крестьянин Богородицкого уезда, фамилии не помню, говорит на заседаниях зажигательные речи, требуя «иллюминации» помещичьих усадеб, то есть попросту их поджога. Ни московский генерал-губернатор, ни центральное правительство никак не реагируют на эти призывы к погромам. Среди населения складывается убеждение, что правительство не только потворствует, но и сочувствует этому течению. Как же я могу ему на месте противодействовать? Прежде всего для успокоения требуется разогнать этот Крестьянский союз и подвергнуть ответственности погромных агитаторов, в нем заседающих. Тогда мои действия к подавлению и предупреждению беспорядков будут поняты населением как согласованные с директивами центрального правительства.
Не получая никакого ответа от Министерства и читая в газетах отчеты продолжавшегося заседания в Москве Крестьянского союза, все более и более
748
разжигавшего массы, я решил обратиться с двумя секретными циркулярами к земским начальникам и уездным исправникам, в которых разъяснял последствия Манифеста 17-го октября и в чем ныне гуманность отношения власти к различным политическим течениям. К сожалению, и эти циркуляры у меня пропали, так что не могу их приложить текстуально, но так как я их писал сам, для меня и до сих пор совершенно сохранились в памяти их сущность и даже некоторые отдельные выражения. До сих пор не могу себе простить, что я их издал, и не потому, что они были неправильные по мысли, нет, они были совершенно лояльны и искренны и вполне совпадали с духом Манифеста, но я забыл мудрое давнишнее изречение: «Не мечите бисера и т. д.», а бисером в них была честная уверенность, что Манифест государя должен быть проведен в жизнь; это самодержавная воля монарха и оной надо не только подчиниться, но и всемерно содействовать. На деле же все правительство по воле того же государя только и стремилось урезать всю ту свободу, которую даровал государь, и свело действие Манифеста на возможный минимум. За короткий промежуток времени меня в Туле посетили два моих beaux-frères: Гриша Трубецкой и Федя Самарин — совершенно различного направления. Обоим я показал эти циркуляры, и отзывы обоих мне не были приятны. Первый пришел в восторг, всемерно их одобрял и взял с собою их, чтобы показать, как он говорил, Струве, который ими будет вполне доволен. А для меня имя Струве было синонимом красноты, и ух какой красноты!, которая меня лично коробила и от которой я уже никак не намерен и не желал получить одобрение. Второй сильно поморщился и стал объяснять, что то, что я пишу, совсем не то, что нужно. Надо, наоборот, разъяснить, что то, что дано Манифестом, и то уж слишком много, и потому роль губернатора — властно заявить: «Довольно! Ни шагу, ни пяди больше не получите!» Одним словом, один стремился к развитию, другой — к заторможению начал, провозглашенных с высоты престола.
Директивы, изложенные в циркулярах, сводились к тому, что я рекомендовал своим подчиненным проникнуться духом Манифеста и понять, что отныне нет нелегальных мыслей, а лишь незаконные действия. Никто не может преследоваться за образ мыслей, и перед выборами в Государственную Думу всякий не только может, но и обязан выявить свою личность и свое credo, дабы судя по этому избиратели могли бы такого человека либо выбрать в Думу, либо отвергнуть его кандидатуру. Полиции я подчеркивал, что отныне она свободна от обязанности следить за образом мыслей населения и, освободившись, имеет более возможности посвятить все свои силы на охрану общественного спокойствия. Одно они должны по-прежнему преследовать — это призыв к насильственным действиям, от кого бы и против кого бы они ни исходили. Земских начальников я просил обратить внимание и не допустить развития среди сельского населения ненависти ко всякого рода интеллигенции, примером чего мог отчасти служить веневский инцидент. Кончал я оба циркуляра разъяснением трудности этой задачи и необычностью ее в сравнении с прежними требованиями службы; но задача эта поставлена самим государем, который требует от нас всемерного содействия к спокойному проведению выборов в Государственную Думу и к выяснению действительными представителями мнения населения.
749
Циркуляры эти произвели целую бурю в уездах, как я узнал об этом впоследствии. Один из уездных предводителей, как мне рассказали потом, а именно граф Бобринский, поехал на меня жаловаться министру; последствием этого было то, что когда я вновь возобновил ходатайство об увольнении меня в отставку, управляющий Министерства внутренних дел Дурново не только не возражал, а немедленно дал ход моему ходатайству.
Ходатайство это я возобновил по следующему поводу: Крестьянский союз, наговорившись досыта в Москве, взбудоражив все умы и разжегши все дурные страсти, наконец, закрылся. Спустя несколько дней по его закрытии приезжает ко мне из Петербурга специальный курьер с шифрованной телеграммой. Да не удивится читатель и не подумает, что я оговорился. Телеграмма была послана не обычным путем по телеграфу, а с особым курьером. Телеграмма была циркулярная ко всем губернаторам, и как она была доставлена другим моим коллегам — не знаю, но к моей была особенная приписка, по которой можно было судить об отношении ко мне министра. Незадолго перед этим у меня вышло с ним некоторое столкновение. После железнодорожной забастовки Россия была охвачена телеграфной забастовкой; умелыми действиями начальника тульской конторы Тульская губерния не примкнула к этой забастовке; по сведениям, почтово-телеграфные чины Тамбовской губернии остались также верны служебному делу. И вот однажды начальник тульской конторы приходит ко мне с докладом, что только что прошла через Тулу телеграмма тамбовского губернатора фон дер Лауница министру внутренних дел, в которой, свидетельствуя о примерной службе почтово-телеграфных чинов своей губернии, он, губернатор, просит министра поощрить этих чинов. Начальник тульской конторы просил меня, не найду ли я возможным сделать то же и по отношению к своей губернии. Я немедленно согласился и тут же записал и вручил ему для отправки нешифрованную телеграмму, составленную в этом духе. В ответ я получил в тот же день шифрованную телеграмму Дурново, в которой он резко высказывал, что посылка такой телеграммы, как моя, и притом нешифрованная, способствует лишь к поддержке смуты; возбуждать ходатайство о поощрении совершенно несвоевременно, так как исполнение служебного долга не требует поощрения, а лишь нарушение его должно преследоваться; но раз, кончал он, я допустил такую бестактность, он уполномочивает меня объявить почтово-телеграфным чинам моей губернии, что по водворении порядка в России будет приступлено к выработке мер для улучшения служебных условий и быта чинов Почтово-телеграфного ведомства, а пока он, министр, ограничивается тем, что выражает свое удовольствие, что среди общей разрухи остались чины, верные своему долгу и присяге. Этот ответ меня так взорвал, что я тут же написал Дурново письмо, и, сознаюсь, довольно резкое. Писал я ему, что я совершенно не согласен с тем, что надо было скрывать здоровое проявление государственной жизни, почему и послал телеграмму нешифрованную, сознательно рассчитывая, что таким способом широко узнается достойное поведение чинов вверенной мне губернии. Просил я поощрения этих чинов не за исполнение ими своего долга, но за их успешные труды, так как благодаря тому, что они не бастовали, все сообщения шли через Тулу, и труд их удесятерился за это время. Сделал я это отступление, чтобы осветить
750
создавшееся отношение между мной и Дурново. Возвращаюсь к шифрованной телеграмме, полученной мною с нарочным. Смысл ее был таков: Крестьянский союз закрылся, участники его разъехались по домам, личность этих участников, а также их политическое credo достаточно выявились в речах их на заседаниях, почему губернаторам предлагается по возвращении этих лиц на место немедленно их арестовать, сделать краткое, поверхностное дознание и передать их в руки следственных властей. Телеграмма, присланная мне, кончалась такой необычной припиской: «Если Ваше превосходительство согласны исполнить настоящее распоряжение, благоволите уведомить о том директора Департамента полиции условной телеграммой: на номер такой-то — исполню».
Понятно, я всеми силами души восстал против такого распоряжения, но желая себя проверить с точки зрения возможности на практике исполнить требование министра, я призвал на совещание прокурора, которому показал не только эту телеграмму, но и предшествующую мою переписку о Крестьянском союзе, о котором упоминал выше.
Забыл отметить, что в телеграмме была оговорка: «Если судебные власти откажутся производить следствие, содержать задержанных в порядке об охране впредь до распоряжения министра». Киселев на этот раз вполне категорично и определенно высказался, что если в деяниях и речах членов Крестьянского союза есть признаки преступления, то возбуждать преследование должна Московская прокуратура, а передай ему дело я, он немедленно направит его к прекращению. Прокурор Киселев в это время был в периоде большей солидарности со мной; причиной этого было то, что незадолго перед тем я намеревался созвать совещание представителей всех партий с широким доступом общественных деятелей, желавших высказать свое мнение, с тем чтобы обсудить необходимые меры для успокоения населения и, главное, для прекращения неурядиц в учебных заведениях, воспитанники которых, посещавшие занятия, рассматривались как штрейкбрехеры. Я даже разослал приглашение на это совещание, но затем, убедившись доводами прокурора, что при настоящем состоянии умов получится лишь больший сумбур, я совещание отменил, и Киселев преданно меня зауважал.
Возвращаюсь к прерванному рассказу.
Получив категоричный отказ Киселева возбудить следствие, я написал министру конфиденциальное письмо и послал это письмо в тот же день с жандармом в Петербург для вручения министру в собственные руки. В письме этом я высказывал министру, что принципиально я с ним совершенно не согласен, считаю, что если исполнить то, что он требует, общество вправе осудить нас в провокаторских действиях. С точки зрения практической, считаю долгом ему сообщить ответ здешнего прокурора; содержать же под охраной кого бы то ни было после состоявшегося освобождения в силу Манифеста 17-го октября противоречит духу Манифеста и к тому же едва ли осуществимо: такое задержание лица, только что бывшего чуть ли не кумиром Крестьянского союза в Москве, вызовет не только протест, но, быть может, и открытое выступление революционеров. В губернии же моей сил недостаточно для подавления и существующих беспорядков, тем более что все мое внимание обращено на охрану Арсенала, дабы
751
он не попал к революционерам и не вооружил бы их. Кончал я письмо тем, что видя, поскольку наши взгляды все более расходятся, считаю своевременным вновь просить его дать ход моему давнишнему прошению об отставке.
Недели через две был у меня князь Львов, только что вернувшийся из Петербурга, и рассказал мне, что моя отставка принята.
Не могу не отметить странности поведения графа Бобринского. Прежде он был завсегдатай у нас, а после моих циркуляров, которые он будто бы повез в Петербург, не только перестал бывать у меня, но однажды, подъехав к моему дому, демонстративно не вошел, а вызвал в переднюю бывшего у меня Хвостова, переговорил с ним в передней и тут же уехал. Он тогда уже стал организовывать партию под названием «За царя и порядок», в которой Колоколин играл не последнюю роль.
Таким образом, отставка моя была решена. Оставалось мне только ждать получения официального уведомления от министра. Известно было даже, кто будет моим преемником, а именно Арцимович, бывший до того губернатором в одной из губерний Варшавского генерал-губернаторства. Сначала предполагали мы задержаться в Туле до праздников, чтобы взять с собою и мальчиков, но директор гимназии Радецкий посоветовал взять их раньше, так как учение все не налаживалось. Оставил я за собой тот маленький домик, который я принанял для Нюнички, Розали и Марии Григорьевны, с тем чтобы в нем поселились по возвращении в Тулу сыновья до окончания гимназии.
Я отнесся к своей отставке с некоторым удовлетворением. По совести я сознавал, что не справился с вновь поставленными задачами, блуждал как в потемках и не имел надежды найти правильный курс. Все же мне трудно было сжиться с мыслью, что я совершенно не у дел, а отношение ко мне тульского общества стало если не совсем враждебно, то как-то пренебрежительно, что очень оскорбило мое самолюбие. Может быть, это был плод воображения, так как в это время я стал страдать болезнью печени. Все же помню прощальный визит, сделанный мною городскому голове Волкову. Он довольно бестактно стал выговаривать мне, что я слишком ослабил вожжи и что новому губернатору придется туго; я поспешил от него уехать, чтобы не наговорить ему неприятностей, и вообще с этой минуты прекратил прощальные визиты. Хвостов до моего отъезда держался совершенно безупречно, более того — предупредительно, и когда я ему сдал губернию, ежедневно приезжал ко мне советоваться. Время же было особенно беспокойное, так как московское вооруженное восстание было в полном разгаре.
Отец мой и жена моя, каждый по своему, болезненно реагировали на мою отставку. Лиза с ужасом думала, как мне, привыкшему к кипучей деятельности, трудно дастся положение простого обывателя. Отец мой вторично переживал, как и после Харькова, обиду при мысли, что моя карьера кончена. Но что же было делать! Применяться я не мог, а идти против совести — тем более. Наше материальное положение благодаря выходу моему в отставку, совершенно менялось, и надо было думать о сокращении бюджета. Часть лошадей я продал, дорогого повара отпустил, но, главное, что было трудно, это необходимость расстаться с нашей англичанкой Miss Culling, которая была для нас теперь уже слишком дорога; она была в то время больна, и, уезжая, мы оставили ее на попечении
752
семьи Бодиско, моего чиновника особых поручений, который взялся схлопотать ей отъезд на родину.
Говоря об отношении тульского общества ко мне, должен отметить, что выражено мне было сочувствие с совершенно для меня неожиданной стороны, а именно со стороны евреев. Как только распространился слух о принятии моей отставки, ко мне позвонил по телефону тот присяжный поверенный еврей, член родительского комитета гимназии, о котором я писал выше; он спрашивал, справедлив ли этот слух, и когда я его подтвердил, в ужасе заявил: «Значит, будет еврейский погром! Вы одни, своим авторитетом и неутомимой деятельностью, были в состоянии удержать от этого. За Вами, веря Вашему слову, мы были покойны. Теперь я сам первый посоветую своим единоверцам уезжать из Тулы». Я его успокоил, как мог. Надо сказать, что он только что был проучен, не послушавшись меня, и потому с тех пор особенно верил мне.
После тульских октябрьских событий евреи были особенно нервно настроены, и этот присяжный поверенный ежедневно вечером вел со мной нескончаемые телефонные беседы на тему: нельзя ли ожидать погрома. Я всегда успокаивал его и словом своим заверял его, что пока я жив, я этого не допущу. Однажды, чуть ли не после веневского инцидента, он мне вечером телефонировал, что сейчас уезжает в Калугу, так как достоверно знает, что погром назначен на завтра. Как я его ни убеждал, что все это вздор, он меня не послушался и уехал. И что же? В Туле все было спокойно, а в Калуге он попал как раз на погром. Целые сутки громили не евреев, а жилища и имущество либеральных деятелей, и туляк мой, продрожав два дня у «Кулона» в запертом номере, спешно возвратился в спокойную Тулу и до сих пор беззаветно в меня уверовал. Не только в его словах, но и вообще чувствовалось, что все ожидали от Хвостова, во время междуцарствия, нового курса, отличного от моего, основанного главным образом на беспартийности. Хвостов к этому времени был слишком ярко правый, правел ежедневно, чтобы остаться вне борьбы партий. Я помню, что когда он уже правил губернией, он будто бы получил сведения, что вооруженные революционные тульские силы, иначе сказать тульская боевая дружина, отбыла в Москву для принятия участия в восстании. Тогда он возымел мысль вооружить правые элементы города в лице черносотенных мастеровых, «молодцов» Колоколина и тому подобных людей. Пытался он со мной советоваться по этому поводу, но я избежал этого разговора, боясь, что я не сдержусь и выскажу ему все, что накипело у меня по поводу сомнительного его поведения в злополучные тульские дни. Портить с ним отношений я не хотел, убедить же его, я знал, что не сумею.
Уехали мы все в первой половине декабря. При отъезде Хвостов опять старался навести панику, таинственно совещался он с полицмейстером Ушаковым и заявил, что ручается за безопасный наш отъезд, только если я уеду без всяких проводов с тульского вокзала Сызранско-Вяземской линии, где на запасных путях меня будет ждать отдельный вагон для меня и моей жены. Я был уже просто обыватель, мне приходилось только подчиняться требованиям хотя бы, кажется, на час, но все же временного начальника губернии.
Ввиду этого мы и уехали с вокзала Сызранско-Вяземской железной дороги, расположенного на окраине города, крайне неприветливого и скромного по
753
размерам. Очень тяжелое впечатление произвел на меня этот отъезд; похож он был на какое-то бегство, и невольно напрашивалось сравнение с отъездом нашим из Гродно, где нас провожали толпы народа с любовью и уважением.

Сенокос в Сергиевском. Рисунок М. М. Осоргиной. 1918.
Частное собрание, Париж
Вагон был нам подан, по распоряжению того же Хвостова, вечером, в сумерки; приехали мы всей семьей in согроге. На вокзале нас ожидали Хвостов, полицмейстер Ушаков, правитель канцелярии Пивоваров и чиновники особых поручений Бодиско и Свентицкий. Перед выходом моим в отставку я назначил секретарем губернского Правления того самого Снесского, который когда-то готовил моих детей для поступления в гродненскую гимназию; и он нас провожал и, пожалуй, был единственный, который провожал нас с горем. В лице нашем он терял семью, действительно, совершенно ему родную.
Предосторожности Хвостова были совершенно напрасны; поезд, к которому прицепили наш вагон, так же как и в обычное время, сделал заезд на Курский вокзал, где оказалось, что по распоряжению местного жандармского ротмистра парадные комнаты были освещены, так как ожидали, что именно отсюда состоится мой отъезд. Съехалось даже несколько человек меня проводить, в том числе начальник почтовой конторы, желавший демонстративно выразить мне свое уважение после той неприятной переписки с министром, о которой я писал выше, и виновником которой был он сам. Я, утомленный всем пережитым, уже спал в вагоне, когда меня разбудили для приема этих последних лиц, желавших
754
со мной проститься. Сознаюсь, что мне невыносимо было тяжело! Не прощаться с Тулой — отнюдь нет, а порывать свою служебную деятельность с видом какого-то оплеванного человека.
Мороз был жесточайший. Все как-то было неуютно и способствовало неприятному настроению. В Ферзиково приехали мы поздно ночью, с большим опозданием. Нас ждал целый поезд саней, так как и ехало нас много. Помню, что мы с женой ехали вдвоем; вез нас помощник старосты Дмитрий Глебов и недалеко от дома вывалил нас. Новое неприятное как бы предзнаменование. Дома все было готово, освещено, но все же, так как зимой никто не жил в доме, чувствовалась необжитость помещения. Управляющий Корчагин со своей женой не удосужились даже нас встретить. На следующий день он оправдывался: спать захотелось. Мне как-то совестно было и перед моим отцом, и перед женой и детьми, что отныне они лишаются всех тех удобств жизни, к которым за последние годы привыкли.
755
Глава XI
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ (1907—1918)
Итак, служебная моя деятельность кончилась, страница эта в моей жизни окончательно перевернута и начинается новая, семейная жизнь в деревне с детьми всех возрастов: старшему Мише было 18 лет, младшей Тоне — 4 года. Этот период жизни не пестрит яркими фактами, но вместе с этим — один из самых интересных периодов нашей семейной жизни, оказавший наибольшее влияние на уклад нашей семьи, сроднив нас более с Сергиевским и теснее сблизив нас с крестьянами, не говоря уже о служащих в имении.
Переезжал я в Сергиевское с сознанием, что революционная волна, которую я наблюдал в Туле, не в силах была еще захлестнуть и уничтожить те патриархальные отношения, которые издавна установились у нас с нашими крестьянами. Но все же я понимал, что многое должно измениться, и будут и столкновения, и неприятности, с которыми придется считаться. Кругом Сергиевского была паника. Многие помещики покидали свои деревни и переезжали в города, и я немножко гордился, что, пренебрегая этими страхами, я, наоборот, в эти минуты вновь поселился в своем имении. Дня два после нашего приезда рабочие целыми обозами возили со станции наши вещи. Мне передавали, что между крестьянами шел говор: «Ишь ты, все господа бегут, а наши-то возвращаются назад». Думаю, что это способствовало во многом укреплению доброго, доверчивого отношения к нам крестьян. Тут же было начато мною дело продажи почти всего Сергиевского за исключением усадьбы и 300 десятин земли Крестьянскому банку для распродажи потом земли своим крестьянам. Это дело дало мне много хлопот, но о нем я буду писать подробно впоследствии. Одновременно я решил без остатка продать имение в Тульской губернии, которым владела моя жена вместе с детьми покойного брата Сережи. Отец мой окончательно продал свои симбирские имения бывшему нашему управляющему Остроуху. И вот пришлось мне вести эти три дела одновременно, так что не могу пожаловаться на недостаток занятий. Но приходилось уже самому действовать, самому просить, хлопотать, а то и приказывать, поручать, командировать. Часто приходилось наталкиваться на людей, принадлежащих к категории осла из басни Крылова. Помню наивное замечание, сказанное калужским исправником в виде размышления aparte; этот исправник, Мантейфель, мой сослуживец, когда я был земским начальником, а потом предводителем дворянства, несомненно меня искренне любил. Скоро после моего водворения в деревне он приехал ко мне, выражал свое горе, что я больше
756
не у дел и все пытался узнать, как это случилось. Я ему подробно все рассказал постольку, поскольку считал возможным, не нарушая служебной тайны конфиденциальных писем по поводу Крестьянского союза. И в доказательство, что я добровольно ушел, показал ему черновик моего первого письма к Витте после Манифеста 17-го октября и ответ на него Дурново, который хранился у меня в копии. Мантейфель, ознакомившись с ними, как бы вскользь заметил: «Такое письмо министра надобно иметь в подлиннике, а не в копии». Я долго помнил это замечание, сказанное им вскользь; преследовала меня мысль, что меня сочтут уволенным со службы губернатором как оказавшимся революционером. Мне более, чем когда-либо, хотелось отмежеваться не только от ныне действующих сил, потрясающих основы, но и тех, которые своей критикой, своими нападениями на существующий строй содействовали его расшатыванию. Спустя год или больше, не помню, это во мне улеглось, и я стал относиться более уравновешенно к тем и другим явлениям, но никогда не мог примкнуть совершенно сознательно к ясно выраженному тому или иному течению, почему, как увидим впоследствии, я никакой политической роли не сыграл.
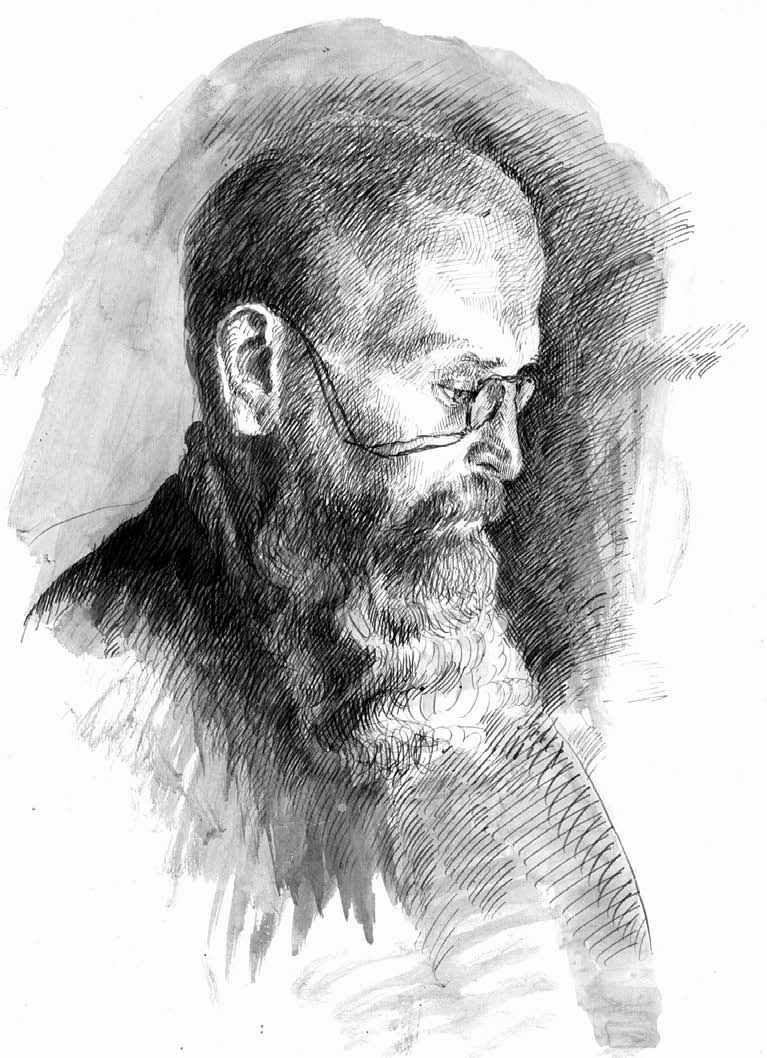
Михаил Михайлович Осоргин.
Рисунок М. М. Осоргиной. 1921.
Частное собрание, Москва
По делам продажи тульского имения мне приходилось часто ездить в Тулу, и давалось мне это нелегко, хотя от властей, а в особенности от моего заместителя Арцимовича, я встречал более чем предупредительное отношение. После праздников мальчики уехали в Тулу. Лиза просила свою сестру Ольгу Трубецкую
757
поселиться с ними, дабы нам возможно было обоим остаться в Сергиевском, где приходилось налаживать уроки детей с нашим участием.

Елизавета Николаевна Осоргина.
Рисунок М. М. Осоргиной. 1921.
Частное собрание, Москва
Этот период моей жизни мне легче описывать не в хронологическом порядке, а по отделам, вспоминая связно все те намерения, предприятия и интересы, которые захватывали меня за это время. Как я уже писал выше, я затеял продажу земли Крестьянскому банку. Это был плод того настроения, которое я вынес при виде тех крестьянских волнений, которые при мне разыгрались в Туле. Я пришел к убеждению, что отныне без трений не могут ужиться рядом крупное землевладение с мелким крестьянством, не имеющим возможности развиться. Я далек был от мысли, что в действительности существует земельный голод. Я видел, как пустовали загоны, и потому не это меня побуждало увеличить землепользование крестьян; но не делая, как Столыпин впоследствии, государственным принципом ставку на сильных, я вместе с тем считал необходимым дать возможность настоящим крестьянам, любящим землю, расширить свое хозяйство. Для этого, по моему мнению, необходим был переход на подворные владения, с увеличением земельной площади в каждом обществе. Говорило во мне также некоторое чувство самосохранения, так как большие площади в несколько сот десятин запольных моих полей под названием «степь» давали право крестьянам меня укорять в неиспользовании того, что для них было существенно необходимо. Так как все это было последствием пережитого в Туле, и все мои злоключения
758
по этому делу отчасти рисуют бюрократический строй, тормозивший все те мероприятия, которые одни могли предотвратить надвигающуюся разруху, я подробно опишу все стадии этого дела.
Первое мое решение было продать Крестьянскому банку все Сергиевское, за исключением 300 десятин с усадьбой вдоль реки, с тем чтобы купленная Банком земля была бы впоследствии распродана всем обществам моих крестьян при условии перехода их на подворные владения. С этим проектом я обратился и в Калужское отделение Крестьянского банка, и в Центральный банк в Петербурге. Покупка земли крестьянами было дело новое и, по-видимому, недостаточно прожеванное его деятелями; видно было, что они не поняли государственного значения этого закона, а смотрели на него как на коммерческое дело. В Петербурге я натолкнулся на полное безразличие и желание всех чинов только отсидеть определенное число часов за столом. Все переговоры, беседы с лицами, от которых зависело это дело, обставлены были такими формальностями, непроизводительными ожиданиями в приемных, что прямо руки опускались. На месте, в Калуге, дело обстояло не лучше, но по другой причине. Банк усвоил тот взгляд, что раз помещик, и притом дворянин, предлагает свое имение в продажу, значит он на краю разорения и хочет воспользоваться лакомым казенным куском. Соединение обоих отделений Крестьянского и Дворянского банков воедино способствовало такому взгляду, так как Дворянский банк действительно был завален ходатайствами об отсрочке платежей и дарования всяких льгот. Помню, как когда, наконец приехал член-оценщик Крестьянского банка Жанчасев и начал осмотр и оценку имения, длившиеся чуть ли не месяц, он мне двусмысленно после всякого объезда замечал: «Леса видел, но ценных пока не встречал».
Я, наконец, объяснился с ним начистоту; мне это было тем более легко, что малая задолженность имения и отсутствие всяких отсрочек платежей по нему доказывали, что я не по нужде продаю землю. Объяснил я ему мою точку зрения и жертву, которую я приношу для устроения крестьян, и указал ему, что такое его отношение к делу, которое он не скрывает, тем или иным путем делается известным крестьянам и не способствует тому умиротворению, которое я поставил себе целью. Жанчасев, человек неглупый, понял меня и переменил свое отношение. После беглого осмотра имения, сделав приблизительный подсчет, он вывел такую сумму, которая не могла меня удовлетворить. В моих заботах о крестьянах я не мог забыть в первую голову интересы детей. Эти интересы повелительно требовали поддержания добрососедских отношений с крестьянами, но с наименьшими материальными жертвами. Сергиевское, после продажи моим отцом симбирских имений и тульского имения жены, было последним земельным имуществом семьи из тех многочисленных имений, которые я в начале своих записок перечислял. Ввиду этого я придумал другую комбинацию. Вызвал я к себе уполномоченного от каждой деревни, на плане и на месте определил границы того участка, который каждое общество должно и в силах приобрести для перехода на подворные владения и, главное, для обеспечения себя пастбищами настолько, чтобы не нуждаться более в найме их в экономии за обработку. Не обошлось при этом и без курьезов; в малом повторялся рассказ Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно». Хотелось и то, и это прихватить
759
каждому обществу, но все эти домогательства умерялись и урезывались аппетитом соседей, а главное, договорами с моей конторой, по которым можно было с освобождения крестьян проверить из года в год, каким участком земли каждое общество пользовалось у меня. Установив точные границы, я заставил каждое общество составить и дать мне приговор, что если эта земля будет куплена у меня Крестьянским банком, они просят перепродать ее им и купленную землю вместе с надельной размежевать на подворные участки.
При такой комбинации требовалось продать всего 2000 десятин земли из Сергиевского, почему, передав эти приговоры в отделение Банка, я просил параллельно с первым делом, как самостоятельный вариант, оценить и тот участок, который был необходим всем моим крестьянам. По-видимому, приговоры общества произвели эффект, и дело пошло быстрее. Все же мне приходилось не раз ездить в Петербург, где оценку, и то очень маленькую, еще значительно сократили. В то время управлял Банком временно, по особому высочайшему повелению, член Государственного Совета Кривошеин, мой старый знакомый. Он очень сочувственно отнесся, верил полному бескорыстию моих стремлений и приказал Центральному банку пересмотреть мое дело, что имело последствием утверждение калужской оценки в полном размере. Надо сказать, что действия Кривошеина преследовали определенную цель: он усиленно звал меня на службу к себе в Банк; я и сам этого хотел, но определенно хотел быть управляющим Московским отделением. Место это было бессменно занято Филиппом Николаевичем Шиповым, а потому Кривошеин предлагал мне занять соответствующее место в Киеве. Я на его предложение туго поддавался и, между прочим, указывал ему, что если я не продам большую часть имения, как я предполагал вначале, мне необходимо оставаться либо в имении, либо поблизости его, так как в такое неспокойное время полагаться на одного управляющего невозможно. Понижение оценки, сделанное в Центральном банке, заставляет меня отказаться от продажи имения. Соображения эти побудили Кривошеина авторитетно вмешаться и повысить оценку. Я его очень благодарил, оставив за собой свободу действий в дальнейшем.
Мой отец был крайне против такой продажи Сергиевского. Я действовал лишь по его доверенности, имение он мне перевел только впоследствии, и хотя я знал, что он не дезавуирует мои действия, все же хотел действовать с ним в согласии и убедить его. Он не понимал серьезности аграрного вопроса, поднятого этой революционной волной; ему казалось это лишь слабостью власти, а потому он не понимал необходимости этой продажи. Все же было более шансов склонить его на частичную продажу, почему я и оставил за собой свободу действий. От места же в Киеве я тогда же решил бесповоротно отказаться, что и написал Кривошеину, как только вернулся в Сергиевское.
Частичная продажа все-таки была большой жертвой: в участок, облюбованный крестьянами, входило десятин 200 спелого леса и часть заливного луга, а между этим все было оценено вкруг в 100 рублей, тогда как цена десятины леса на сводку была тогда от 200 до 300 рублей. После долгих разговоров, обсуждений решено было продать Крестьянскому банку именно этот участок, приблизительно в 1200 десятин.
760
Помню, с каким тяжелым чувством я приехал в Калужское отделение заключать купчую крепость. Для Банка как покупателя все формальности были упрощены; нотариус привозил свою книгу, где уже по определенному шаблону была записана купчая. Сердце у меня дрогнуло, когда попросили меня расписаться в этой книге. И до того приходилось делать частичные продажи маленьких участков, но это было не то. С этой продажи, как я предполагал, в корне ломался весь строй сергиевского хозяйства, о котором я писал в моих юношеских воспоминаниях. Крестьяне совершенно раскрепощались от экономического влияния на их быт моей конторы и должны были установиться лишь соседские отношения, как и с соседними помещиками. Мне казалось, что порывается последняя нитка той цепи, которая, как образно сказал Некрасов, «порвавшись, ударила одним концом по барину, другим по мужику». С этим чувством и с сознанием важности совершающегося я широко перекрестился и подписал купчую крепость. Возвращался я домой с мыслью, что жертва принесена и дело мною кончено: остальное зависит от самого Банка.
Дальнейшее показало, как я жестоко ошибался. Ничего еще не было достигнуто, и много пришлось мне бороться с косностью Банка и его деятелей, чтобы принесенная мною материальная жертва была бы на пользу крестьянам.
Купчая была подписана, кажется, в феврале или марте 1907 года. Банк принял купленный участок в свое управление и прислал отдельного управляющего. Доказательством, что все мои расчеты верны, служило то, что в этом году у меня в экономии мои крестьяне не взяли ни одного угодья, наняв их все у Банка, в купленном участке. Но на первых же порах начались недовольства. У меня крестьяне за угодья отрабатывали, а так как все полевые работы в Калужской губернии исполнялись бабами, весь денежный заработок мужиков на стороне оставался чистою прибылью. Банк требовал за угодья денежную плату, и притом довольно высокую, по какому-то Положению, бюрократически разработанному в Петербурге для разных полос в России. Крестьяне зароптали, бросились ко мне, и пришлось мне, пользуясь своими личными отношениями и влиянием, добиться уменьшения арендной платы. Важно было, кого назначат ликвидатором имения; на ликвидаторе лежит обязанность распродать эту землю; он подбирает покупателей сообразно с их требованиями, разделяет на участки и оценивает каждый. Понятно, все это контролировалось и утверждалось коллегией отделения Банка, но все же душой этого дела был ликвидатор. К этому времени мой заместитель по должности земского начальника Митя Полторацкий как раз перешел на службу в Крестьянский банк, почему я столь усиленно просил назначить именно его ликвидатором, на что управление Банка согласилось. Что же, казалось, лучше? Полторацкий, старый друг, настоящий коренной помещик, с некоторым оттенком народничества, да еще бывший земский начальник этого же участка, а потому знающий всех крестьян поголовно. Но как я ошибся и сколько мне было неприятностей и забот, пока наконец не передали этого дела другому лицу! На первых порах Полторацкий не был виноват; он был только исполнителем новой политики Банка, спутавшей все мои расчеты и в корне подорвавшей ту стройную систему быта моих крестьян, которая была мною намечена. В Петербурге возобладало новое направление, именно насаждение хуторского хозяйства, почему
761
запрещено было продавать землю обществам или товариществам, кроме самых исключительных случаев. Все приговоры моих крестьян, о которых я упоминал, все их домогательства не привели ни к чему. Только одному обществу деревни Зиново, начавшему дело первым, удалось купить землю и перейти на подворные владения, и еще обществу деревни Кашурки согласились продать незначительный участок под названием Масенки, непригодный ни для какой культуры, но необходимый им для водопоя скота.
Остальным обществам всем было отказано. Я в Петербург ездил и докладные записки подавал, объяснял, что насаждение хуторов не только не успокоит страсти, но возбудит еще новые, что для безболезненного перехода на эту новую форму землепользования надо пройти через подворное владение, в котором сама жизнь дифференцирует сильных от слабых. Меня не слушали. Кривошеина уже не было; везде я получал двусмысленные намеки: «Вам что за дело? Земля уже не Ваша, Вы ее продали и деньги получили».
Началась беспощадная сводка леса на купленной земле, для того чтобы выручить как можно больше денег. Никогда я так дешево не продавал свой лес, как сделал это Банк, испортив и мне надолго цену. После этой хищнической сводки началась разбивка на хутора. У меня в конторе можно было проследить историю каждой полевой десятины не только в смысле севооборота и времени удобрения, но и ежегодной урожайности. Говорил я об этом Полторацкому, но он пренебрег моими указаниями, так как это требовало кропотливого труда; и получилась оценка совершенно фантастичная. Как яркий пример могу указать на Красную Гору, где хуторяне, купившие там участок, по продаже оставшихся дубов от прежней сводки не только выкупили свои участки, но и приобрели маленький оборотный капитал. По нарезке хуторов выяснилось, что местные крестьяне, обиженные отказом продать им землю, как я сказал выше, разуверились в благодетельности всей этой меры и не соглашались покупать эти хутора; более же сильные и здравомыслящие не решались на эту покупку, боясь мести своих однообщественников. Этой заминкой и воспользовались разные нежелательные элементы, ничего общего с землею не имевшие, чтобы осесть на земле и как пауки вытягивать соки из крестьян. Мне особенно упорно пришлось бороться с одним из таких людей, а именно с Сергеем Трофимовым Кузнецовым. Много горечи принесла мне эта борьба и много сил унесла, но все же я добился своего, сделка с ним была аннулирована, а ликвидатором вместо Полторацкого был назначен другой.
Сергей Трофимов, по профессии кузнец, уволенный со службы в моей экономии за упразднением места кузнеца, по моему совету снял кузницу на участке Злынке, подаренном моим отцом своему камердинеру (см. детские воспоминания). Попутно с кузнечной работой он занялся шинкарством, неоднократно был судим за беспатентную продажу водки и, кроме того, имел репутацию притонодержателя конокрадов. Вот этому-то лицу Полторацкий и запродал хутор, притом такой хутор, который был на перекрестке двух больших дорог и граничил с околицей деревни Поливаново. Вызванный мною Сергей на мой вопрос, что побуждает его купить хутор, когда он никогда землей не занимался и работать не умеет, не стесняясь, мне ответил: «Да я, Михаил Михайлович, собираюсь там
762
трактир и постоялый двор открыть». «Ну, этого не будет, — закричал я, — на то я еще жив, чтобы не допустить такого безобразия». После долгих хлопот я, наконец, добился расторжения этой сделки, Полторацкий запродал ему другой хутор в более глухой местности. Опять я поскакал в Калугу, грозил ехать в Петербург. Сделка была нарушена и ликвидатором был назначен другой. (Во время революции Сергей-кузнец отплатил мне за это дело, но таким добром, что дай Бог всякому так сделать. Опишу это в свое время).
Этот Сергей Кузнецов, известный под именем Сергея-кузнеца, представлял из себя такой тип, над которым стоит несколько остановиться, тем более что мне, помимо вышеописанного случая, еще несколько раз приходилось с ним сталкиваться.
Летом 1906-го года в Сергиевском бурлил остаток революционной волны, и рабочая пора была не из легких. Работы крестьянскими обществами исполнялись небрежно, часто при повышенном настроении, а при использовании угодьев крестьяне позволяли себе разные нарушения условий. Управляющий Корчагин совершенно спасовал, избегал показываться на работах, и вся тягота лежала на старосте Михаиле Глебове и уже известном Николае Шутове, бывшем тогда старшим объездчиком лесов; эти двое не за страх, а за совесть отстаивали мои интересы, и только благодаря им пора всех полевых работ прошла более или менее благополучно. Сознаюсь, что и я сам неохотно посещал работы. Во мне все-таки таилось всегдашнее мое чувство какого-то страха перед стадностью толпы; а перемена почтительного, не лишенного все-таки некоторой патриархальности тона крестьян на какой-то вызывающий, нахальный, меня сильно коробила. Как-то раз после какой-то экономической работы толпа дмитровских баб, возвращавшихся с этой работы, не добившись управляющего, который куда-то скрылся, ворвалась к нам в гостиную, требуя от меня водки. Когда я стал их выпроваживать, одна из них, уже немолодая, заявила мне: «Да, Михаил Михайлович, теперь свобода». На что я ответил: «Да, почему я и имею право вас свободно выгнать отсюда!» Остальные бабы рассмеялись: «Что, тетка, поняла, что такое свобода?» и ушли. Инцидент был исчерпан. Это был самый яркий пример у меня наступившей разнузданности.
С Сергеем-кузнецом обошлось не так благополучно. Он хоть и не был помещиком, все же принадлежал к категории тех лиц, которых поднявшаяся волна пыталась снести. Как сейчас помню: Шаховское общество косило у меня по условию окоп. Окончив эту работу, они добились у управляющего, несмотря на неоднократные мои запрещения, водки и, распивши ее, возвращались домой в веселом, но уже повышенном настроении. Косцов было человек 20, из них более половины молодых. Путь их лежал мимо Злынки — кузницы Сергея. Он, собственно, не имел никакого касательства к этому обществу, но одному из шаховских крестьян пришло в голову подбить своих односельчан требовать от кузнеца водки. Пример малодушия моего управляющего, уступившего по чувству страха их домогательствам, придал им смелости. Стали они вспоминать разные старые случаи, как чуть ли не год тому назад не то лошадь, не то корова Сергея забрела на их поле. Кузнец отнекивался, что у него и водки нет, но этот аргумент не действовал: каждый крестьянин знал, что в чайной Сергея за известную мзду
763
в чайнике подавался не кипяток, а нечто другое. Стали они напирать, возбуждение росло. Сергей держал при чайной мелочную лавку; добрались они и до нее, бесцеремонно забирая табак, махорку и тому подобное. Поднялся шум, крик, немногочисленные посетители чайной разбежались, и пошла повсюду молва, что шаховские грабят Сергея-кузнеца. В это время, я помню, мы катались всей семьей в линейке в другой стороне имения. Когда я вернулся, конторщик таинственно доложил мне, что в конторе скрывается Сергей-кузнец, которого крестьяне хотят убить. Велел я его к себе позвать, и предстал он предо мной жалкий, трясущийся, совершенно утративший свой обычный самодовольно-нахальный тон. Протрясся он у меня в конторе до утра, когда приехала полиция, сделала дознание и настолько нашумела, что крестьяне присмирели. Дело это кончилось какими-то пустяками, и сам Сергей в своих показаниях придал ему характер скорее пьяного дебоша, чем грабежа. Он сам мне говорил, что боялся мести крестьян. Прошел год с небольшим, и этот самый Сергей вновь набрался храбрости и, как я писал выше, стремился прочно и законно осесть между крестьянами и их эксплуатировать. Он за это время свел знакомство и дружбу со всем тем отбросом нашей помещичьей среды, который, постепенно разоряясь, совершенно опустился, но все же своим образованием, прежними знакомствами мог оказать услугу такому дельцу, как Сергей-кузнец. Он рисковал давать таким лицам, в случае нужды, взаймы, зная, что они помогут ему нажить если не с них, то с других вдвое больше. Среди таких его приятелей особенно выделялся некто Дмитрий Дмитриевич Карпов, соседний помещик сельца Тибекина. Профессия его была своеобразная. Он, по-видимому, был когда-то шулером и оперировал, главным образом, на волжских пароходах во время ярмарки. Неоднократно уличенный и, как говорят, даже битый, Карпов свое искусство стал эксплуатировать иначе, а именно предпринял целый ряд лекций-сеансов по клубам, где разъяснял и демонстрировал все шулерские приемы. Карповых было три брата; при дележе усадьбы братья поссорились, и Дмитрий так исколотил одного из них, что тот Богу душу отдал; его судили, лишили всех прав состояния и сослали. К описываемому мною времени он уже отбыл свой срок, сокращенный целым рядом манифестов, вернулся, записался в число крестьян сельца Тибекина и завел дружбу с Сергеем-кузнецом. Я думаю, что влияние Карпова и советы Карпова побудили Сергея попытаться приобрести хутор.
Потерпев в этом полную неудачу благодаря моему вмешательству, он почему-то не озлобился на меня, хотя я всегда становился поперек его дороги. Одно время он стал в особенно враждебное отношение к причту нашему, и в особенности к священнику. Священник наш в то время не был особенно популярен и поэтому я стал внимательно присматриваться к действиям Сергея; он и против нашего Братства ратовал, называя его «поповской выдумкой для обдирания крестьян». Я вызывал Сергея, отчитывал его, и кончилось тем, что он сам записался в члены Братства, но против священника продолжал злобствовать. Этому способствовала близость их участков и частый загон скота тем или другим. Священник переплатил много штрафов кузнецу, ему же постоянно прощал, но однажды, выведенный из терпения, не выдал загнанную лошадь, пока тот не внес законного штрафа. Лошадь простояла на дворе у священника дня два, и когда кузнец взял
764
ее к себе домой, через день пала у него на дворе. Мой Николай мне говорил, что это неудивительно, так как лошадь была так стара, что давно пора было ей околеть. Приходит ко мне как-то вечером расстроенный священник и показывает повестку от земского начальника, вызывающую его в качестве ответчика по иску к нему Сергеем суммы павшей лошади чуть ли [не] на 300 рублей. Я его успокоил, обещался написать земскому начальнику всю правду и посоветовал ему просить вызвать свидетелей, могущих удостоверить, что лошадь была выдана владельцу в исправности, но что она сама по старости ничего не стоила; я указал на Николая. На следующее утро прибегает сам Сергей: «Михаил Михайлович, к Вам уже приходил священник? Пожалуйста, не вникайте в это дело, и я прощу раз [и] навсегда попа». Я ему очень сердито возражал: «Понятно, дал совет священнику, как отвечать на твой бессовестный иск и даже нашему земскому начальнику всю правду». Он со вздохом ответил: «Что же, Вы всегда будете против меня? И всегда будете поперек моей дороги становиться? Так научите же меня, что же мне с Вами делать, как мне поступать?» Я ему сказал: «Во-первых, живи по-хорошему, не занимайся шинкарством и дурными делами; и не заводи кляуз, тогда и я тебе мешать не буду, а то всегда буду расстраивать все твои козни. А если хочешь от меня отделаться, вот тебе способ: ты знаешь, как я часто езжу в свои леса, еду я всегда один, потихоньку, в руках один кнут и больше ничего; вот ты меня подстереги и пристрели; никто не узнает, а тебе простор, никто уж тебе мешать не будет». Сергей на меня даже руками замахал: «Что Вы, что Вы, Михаил Михайлович, разве я Вам зла желаю?» И так он и ушел весь взволнованный. Иск он, понятно, проиграл. Вот каков был этот человек и вот какие у меня с ним были отношения; а во время настоящей революции, в 1918-м году, когда приехавшие из Калуги комиссары арестовали меня в волостном Правлении за отказ мой платить какую-то революционную контрибуцию, этот Сергей-кузнец чуть ли не первый прибежал и принес денег, чтобы меня выкупить, а когда меня выпустили из волости, горячо, со слезами меня обнимал. Яркий пример того, как в русском простом человеке есть чувство справедливости, и когда он сознает, что в поступке другого нет корыстной цели, он все же этого человека уважает, даже если приходится ему от него страдать. Но Сергей, кроме того, был добр, потому что высвободивши меня, он тут же стал хлопотать об уплате за наших соседей Мамоновых, арестованных по той же причине, как и я, хотя с ними он никаких отношений прежде не имел.
Но я отвлекся от описания распродажи хуторов. Если с Сергеем-кузнецом мне удалось расстроить дело, то зато многие другие чужестранцы прочно закупили хутора, и я с ужасом увидал, что усадьбу мою окружают хутора совершенно чужих людей; мои же крестьяне, по своей непростительной косности, не сумеют использовать этот счастливый момент для расширения своего землепользования. Принялся я за своих ближних, как-то Николая Шутова, Глебовых, кучера Павла, буфетчика Евмения, Филиппа-повара, буфетного мужика Ивана, Синицыных; обругал их, разъяснил им, что они упускают, и просто приказал им, за мой страх и риск, покупать хутора. Стоило первому, Николаю, подать заявление на два хутора, как сразу все зашевелилось; крестьяне мои опомнились, и посыпались покупатели из своих крестьян. Через какие-нибудь две недели все было
765
расписано, и уже многим пришлось отказать, так как хуторов не хватало. В результате семей 20 или 30 значительно поправилось, даже разбогатело; крестьяне деревни Зиново перешли на подворные владения и заметно стали богатеть. В остальном остались все крестьяне по-прежнему и вновь стали домогаться принанять угодья и луга за отработку. А распродав 1200 десятин Банку, я далеко не мог, как прежде, удовлетворять нужды крестьян. Все же наиболее нуждавшемуся обществу (Поливановскому) я угодья давал под отработку, но луга раздавал лишь за деньги, разбив их на более мелкие участки, чтобы удовлетворить большее число хозяйств.

Серебряная свадьба Михаила Михайловича и Елизаветы Николавны Осоргиных.
Сергиевское. 1911. Частное собрание, Париж
Так неудачно кончилась моя затея улучшения землепользования крестьян. Но старания мои и хлопоты были оценены крестьянами, и отношения установились еще более тесные, чем прежде. А хуторяне, за исключением очень немногих, стали исключительно преданными людьми.
Упомянув о том, как Кривошеин звал меня к себе на службу, я тут же опишу, какие были еще тому подобные случаи, все не увенчавшиеся успехом, так что до конца жизни я остался простым обывателем
Уехал я из Тулы, как я писал выше, в декабре 1905-го года, а в марте 1906-го года получаю телеграмму от князя А. Д. Оболенского, бывшего в то время обер-прокурором Святейшего Синода, приглашавшую меня приехать немедленно в Петербург. Мы все всполошились. В то время то и дело слышно было,
766
как вызывались люди, не бывшие у дел, или общественные деятели и предлагали им министерские посты. В нашей семье было таких два случая: брату жены Жене Трубецкому и дяде ее Сергею Алексеевичу Лопухину предложены были министерские портфели; первому — народного просвещения, а второму — юстиции. Воображали, что и меня ожидает что-то такое, но вышло гораздо скромнее. Оболенский предложил мне пост прокурора Московской Синодальной конторы. Прочил он на это место моего beau-frère’a Федю Самарина, но тот наотрез отказался, почему выбор Оболенского остановился на мне. Я совершенно не был приготовлен, почему просил дать мне время посоветоваться с семьей, но поставил два личных условия: первое — ежегодный двухмесячный отпуск, а второе — если казенная квартира неподходящая, отпуск квартирных денег, достаточных для моего многочисленного семейства. Вернувшись, я очень скоро телеграфировал Оболенскому о своем согласии и стал ждать назначения. Не могу не отметить характерный факт для нашего духовенства, или, скорее, епископата. Сережа мой был в это время болен скарлатиной, и я остался при нем один в Туле на Пасху. Появилась в тульской газете заметка о предполагаемом моем назначении, и в тот же день подкатила к моему домику, где мы жили с Сережей, карета преосвященного. Я его не принял ввиду карантина, но нельзя не сказать, что этот визит очень характерен.
Ждал я этого назначения долго и так и не дождался. Не состоялось оно по следующей причине: Оболенский, прощаясь со мной, между прочим, сказал такую фразу: «Если ты примешь это место, ты мне окажешь величайшую услугу. Мне нужно в Москве своего человека, а для тебя, временно находящегося не у дел, такое место — находка, как место интересное, а вместе с тем по классу должности равнозначащее губернатору». На последнее замечание я рассмеялся и сказал, что для меня это соображение значения не имеет, так как я на табель о рангах внимания не обращаю. Потом, как я узнал, это последнее замечание Оболенского и было причиной того, что я этого места не получил. Произошло это так. Когда Алексей Дмитриевич получил мою телеграмму о согласии, он приказал своей канцелярии заготовить проект высочайшего указа о моем назначении. Ему доложили, что назначение должно состояться не указом, а приказом, так как это место 5-го класса, то есть равнозначащее вице-губернатору. Оболенский почел себя обязанным добиться повышения класса должности до моего назначения. Повел он это дело через Государственный Совет, и в последнем заседании Государственного Совета старого состава представление Оболенского было уважено и место прокурора Московской Синодальной конторы переведено в 4-й класс. Но тут же был составлен новый кабинет с Горемыкиным во главе, и Оболенский в него не попал. Назначенный на его место Ширинский-Шихматов имел своего кандидата — Степанова, который благополучно досидел на этом месте вплоть до последней революции, которая все смела.
Перед 2-й Государственной Думой при составлении кабинета Столыпина я чуть не был опять призван к власти. Об этом рассказал мне мой beau-frère Самарин. Не только Столыпин, но и сам государь прочили Федю на пост обер-прокурора Святейшего Синода. Государь его два раза вызывал и вел с ним продолжительные беседы. Но Федя был непреклонен и безусловно отказался, ссылаясь на болезнь
767
глаз. После чего Столыпин просил его хотя бы рекомендовать кандидата. Федя указал на меня. Столыпин возразил, что он меня мало знает, но подумает. При следующем свидании Столыпин сказал Феде, что намечается кандидатом некто Извольский, брат министра иностранных дел, и спрашивал мнение Феди. Последний вполне одобрил этот выбор, но вновь заговорил о моей кандидатуре, хотя бы в товарищи обер-прокурора, на что Столыпин вполне согласился. При этом он заметил, что боится отказа с моей стороны, почему уполномочивает Федю самому вести со мною об этом переговоры и уполномочивает он их начать, как только он, Столыпин, пришлет ему телеграмму. Сам же он считает себя обязанным предварительно переговорить с Извольским. Телеграмму эту он никогда не прислал, почему и предложение его никогда до меня не дошло. Что было тому причиной, я никогда не узнал.
Спустя год с небольшим я сам написал Столыпину, предоставляя себя в его распоряжение, если он найдет нужным вновь призвать меня к государственной деятельности. Писал я ему в бытность его уже премьер-министром после одной из его лучших речей в Государственной Думе, где он, обращаясь к левым, сказал свою знаменитую фразу: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия». Это было время, когда многие, благодаря его выступлению, почувствовали вновь бодрость, и не только в надежде на какое-то наступающее умиротворение, а главное, ввиду яркого исповедания им значения принципа власти. Все эти ходячие либеральные веяния, коими заражены были общественные деятели, что власть есть насилие, отошли в тень после талантливой речи Столыпина, которую он осуществил и на деле при взрыве на Аптекарском острове, о том, что власть есть долг, бремя и подвиг и что от нее тем, которым суждено быть ее носителями, отказаться нельзя. Его фраза, обращенная к тем же левым: «Руки прочь!», придала, я думаю, много энергии многим провинциальным администраторам. Во мне совокупность его выступлений вызвала угрызения совести; я понял, что главным побуждением моим при выходе в отставку было не запачкаться при той борьбе, которую власть должна была поднять против революционеров. Вместе с тем я не скрывал от себя, что постоянное осмеивание людьми, которых я уважал и любил, всех носителей власти и во мне подорвало энергию и веру в свое дело. Теперь же, отойдя в сторону, оставаясь простым зрителем той напряженной борьбы власти, которая остановила тогда Россию на краю гибели, куда бессознательно влекли ее либеральные элементы, я понял заслугу этой самой власти, понял и великий подвиг тех, которые продолжали ее носить, и мне горько стало, что я добровольно отказался от участия в этом великом деле.
Вот что побудило меня написать Столыпину. Писал я ему кратко, что предоставляю себя в полное его распоряжение и что рад буду, если мне удастся быть участником той гигантской работы, которой он руководит для умиротворения России. Я забыл даже ему дать свой адрес. Через несколько времени приехал ко мне исправник и торжественно вручил мне собственноручное письмо Столыпина. Только премьер-министр мог позволить себе такой туманный адрес: «Его превосходительству М. М. Осоргину, Калужская губерния». Он мне писал, что получив мое письмо, он потребовал все дело о моей отставке и, ознакомившись с ним, пришел к убеждению, что назначение меня вновь губернатором могло бы быть
768
растолковано как перемена им, Столыпиным, курса политики; но, ценя мою служебную деятельность и неутомимую энергию, он рад был бы видеть меня вновь у дела, но в другом ведомстве. Письмо это, при только что описанном мною настроении, было для меня не только стаканом холодной воды, но показалось мне и обидным, так как имело характер обещания помочь мне вновь устроиться. Я ему ответил обиженным тоном. В письме высказал ему, что был и есть все тот же; меняться не собираюсь и поэтому прошу мое первое письмо считать как non avenu. Его опасения, что приглашение меня на службу может быть истолковано изменением им своих взглядов тем более для меня неожиданно, что я от моего beau-frère’a Самарина знал, как он, Петр Аркадьевич, предполагал предложить мне пост товарища обер-прокурора Святейшего Синода. Последнее обстоятельство и вселило в меня решимость отдать себя в полное его распоряжение. После этого Столыпин мне вновь написал, уже в совсем другом тоне. Начинал он с извинения, что он как будто меня обидел, и заверением, что отнюдь он этого не хотел и надеется в недалеком будущем иметь меня в числе своих сотрудников. Пожелание это только и осталось пожеланием, и переписка наша на этом и прекратилась.
Виделся я с ним еще раз лично по следующему поводу. Мой beau-frère Григорий Трубецкой, по наущению князя Георгия Львова, стал усиленно звать меня принять участие в получении концессии на проведение одной железной дороги в Сибири. Не помню фамилию того крупного коммерсанта-сибиряка, который был душою этого дела; интересы его защищали два присяжных поверенных, из них один, Гольдовский, с которым и впоследствии судьба меня сталкивала. Устроено было свидание этих присяжных поверенных со мною; они вручили мне целую кипу бумаг, описывающих историю этого дела. Целый вечер я посвятил на ознакомление с этим делом. Выяснилось, что проведение железной дороги было предрешено как вторая сибирская магистраль, в необходимости какой убедила последняя Японская война. Проектировано было два направления, даже с маленьким третьим вариантом, и от меня ожидали, как от человека, имеющего связи в Петербурге, добиться принятия того направления, которое соответствовало интересам этого сибиряка. Судя по описанию, переданному мне этими присяжными поверенными, облюбованный ими проект и был тот, который наиболее соответствовал государственным интересам. Но одно было — писать, а другое — быть убежденным, что это правда; при свидании с ними на следующий день я совершенно откровенно высказал им свои сомнения и намерение выяснить со всех сторон обстоятельства этого дела. Хотя решение дела зависело от Министерства путей сообщения, где у меня никаких связей и знакомств не было, но заинтересованы были в том или ином направлении дороги Министерство Военное и Министерство Двора в лице кабинета его величества. И там, и здесь у меня были друзья, которые могли дать мне правильную оценку. Гольдовский со своим коллегой не знали даже, в каком положении дело и где главный тормоз. Просили они меня повидаться с их доверителем, который в это время был в Петербурге. Он большую часть своего многомиллионного состояния затратил на изыскания, на приобретение земли и приисков близ проектированной им линии; начал он это дело еще до Японской войны и с радостью ухватился
769
за мысль о второй магистрали, которая придавала его первоначальному проекту государственное значение. Но второе изыскание и вариант оставляли в стороне ту местность, которую он надеялся развить, почему если последние были бы приняты, ему грозило полное разорение.
Все, что я сейчас рассказал, было мне рассказано им в Петербурге без утайки. Его же поверенные были более скрытны и, главное, напирали на выгоду для государства их проекта. Непривычное это было для меня дело, и трудно мне было разговаривать с этими господами о материальной стороне. Все же я должен был их спросить, в чем же проявится мое участие дальнейшее, если проект этот будет принят.
Гольдовский был типичный еврей; второго не помню, но по настроению и аппетиту достойный его собрат. Оба они предложили мне в случае успеха гарантировать за мной какое-то мелкое место в будущем Правлении дороги. Тут уж я, как ни был неопытен, все же возмутился и заявил, что считаю вполне справедливым, чтобы их доверитель имел бы львиную долю участия и влияния в Правлении будущей железной дороги, но затем второе место должно принадлежать мне, дабы я мог осуществить в действительности ту мысль, которую я провел в правительственных кругах. Со стороны моих собеседников начался самый невообразимый и неприятный торг; они уже теперь делили шкуру того медведя, которого я должен был им раздобыть. Я прекратил этот коробивший меня разговор тем, что сказал, что пока я не вернусь из Петербурга, я не могу обещать, что приму участие в их деле; если же соглашусь, то сам укажу, на каких условиях. В Петербурге я посоветовался и с Кривошеиным, бывшим тогда министром земледелия, и со Столыпиным. Последний очень внимательно выслушал меня и сказал: «Я понимаю, что Вы, главным образом, ищете государственного дела, так или иначе посвятить свои силы на строительство новой России. Но откровенно Вам сказать, думаю, что область, избираемая Вами, Вам неподходяща. Вы не делец, а прикрываясь Вашим именем, как ширмой, будут домогаться не только пользы государственной, но чаще одной грубой наживы. Пример Вам дело Нератова, которого я знаю как высоко порядочного человека».
Этот Нератов, брат товарища министра иностранных дел, крупный земский деятель, кажется, Саратовской губернии, был инициатором какой-то местной железной дороги и состоял, если не ошибаюсь, председателем Правления этой железной дороги. Понятно, верховодил в этом деле не он, совершенно неопытный в финансовых делах, а другие члены Правления, примазавшиеся специально для наживы к этому делу. В результате начались за спиной Нератова злоупотребления, и все Правление было отдано под суд. Этот дружеский совет Столыпина меня остановил, и я отказался от этого дела. Но до своего отказа мне случайно удалось оказать Гольдовскому и его коллеге большую услугу. Остановился я, как всегда, у моей сестры и за завтраком рассказал моему beau-frère’a цель моего приезда. Яша в то время занимал пост начальника Генерального штаба. Он вспомнил, что как раз требовалось заключение Генерального штаба о наиболее соответствующих интересам Военного ведомства того или другого направления этой железной дороги. Потребовал он всю переписку и дал ее мне для ознакомления. Я обнаружил, что уже был готов проект ответа, совершенно топящий интересы моего
770
сибиряка. Попросил я Яшу лично вникнуть в это дело и представил ему все доводы в пользу моего проекта, которые высказывались Гольдовским. Теперь я уже совсем не помню их, но они были, во всяком случае, не пустячные и настолько заинтересовали Яшу, а его уже никогда нельзя было упрекнуть в каком-нибудь лицеприятии, что последний обещал лично подробно изучить дело и даже высказал предположение, что его отзыв будет моему сибиряку благоприятен. Когда я на следующий день в Москве рассказал Гольдовскому это обстоятельство, он изменил свое отношение. Мои присяжные поверенные, которые месяцами не могли добиться аудиенции, не говоря уже о министре, но у какого-нибудь директора департамента, совершенно ошеломлены были быстротой получения мною сведений и, главное, моими связями. Тут роли изменились. Я отказался от дальнейшего участия в этих хлопотах, а они упрашивали не покидать столь удачно начатое дело. Не только не было помину о торге, как в первые свидания, а наоборот, они все больше и больше набавляли и сулили мне выгод и преимуществ. Но я был тверд и, распростившись с ними по хорошему, совершенно уклонился от какого бы то ни было дальнейшего участия в этом предприятии. Благодарю Бога, что дружеский совет Столыпина вовремя меня облагоразумил. Какой я делец, когда и в моих личных делах все аферы никогда мне ничего не приносили, кроме убытка? Моя сфера деятельности была совсем другая, а именно правовая и просветительная, и к ней я и направил свои усилия.
В первые же земские выборы в 1907-м году я был выбран в уездные гласные, а спустя год и в губернские вместо одного отказавшегося. Мне все-таки было обидно, что я не сразу попал в губернские гласные, и сначала хотя и не был забаллотирован, все же остался за флагом; но за промежуток времени с назначения меня вице-губернатором, когда я отклонился от земской деятельности, прошло столько лет, что все места заняли новые личности, приобретшие уже вес и значение, а меня, понятно, забыли, и кроме того каждый губернский гласный слишком цепко держался за свой мандат. В уездном Собрании я нашел большие перемены и к ужасу своему понял, что я по годам чуть ли не старший. Предводителем был все тот же Н. Н. Яновский и кандидатом его А. М. Желябужский, занимавший одно время должность члена Губернской Земской управы. Большую роль играл в собрании Д. Д. Полторацкий, опиравшийся для сего и на крестьян, и отчасти на купцов. Дворян-помещиков не хватило для пополнения всего состава 1-го Избирательного собрания; многие поразорились, продали свои имения, другие же поступили на службу и покинули уезд, как и я в былое время; ввиду этого с трудом набралось положенное законом число, для чего выбирались и такие, которые совершенно не интересовались уездными делами и потому не посещали собрание. Таким образом, большинство голосов уже не принадлежало нашему сословию. Со мной, кажется, одновременно попал в гласные и Женя Трубецкой, с ним же мы потом и бессменно до последней революции и заседали в Губернском Земском собрании, и эта совместная деятельность, продолжавшаяся почти 10 лет, нас еще более сблизила.
Без излишней скромности скажу, что в делах уездного Земства я сразу начал играть первенствующую роль. Не мои способности либо особое знание дела тому способствовали, а просто некому было работать; и я, привыкший к кипучей
771
деятельности, рад был хотя бы в краткое время очередных сессий весь окунуться в работу. У нас было принято выбирать перед началом сессии сметную комиссию, которая и подготовляла для Собрания все постановления по докладам Управы; я по старой памяти был в оную выбран и по старшинству лет как-то незаметно занял в ней роль и председателя, и докладчика. Таким образом, и создалось и упрочилось мое влияние на уездные дела. Со временем оно было настолько общепризнанным, что всякий, заинтересованный в проведении того или иного постановления Собрания, долгом считал предварительно посоветоваться со мной. Дорожа этим положением, я всячески избегал случаев, где могли бы заподозрить меня в особом пристрастии к своей местности. Ввиду этого я и не настаивал на устройстве больницы у себя в имении, хотя это была моя давнишняя мечта, и поддержал проект устройства таковой в Ферзикове. По тем же причинам и телефонная уездная сеть до последнего времени миновала наше Сергиевское. Одного я добился — это шоссирования дороги от Ферзикова до Городца; но и то дело это подвигалось столь медленно, что к началу революции, прекратившей и всю земскую деятельность, были сделаны лишь отдельные кусочки этого шоссе в самых непроездных местах. Хотя мое имение от шоссе значительно выигрывало, но не это меня подвигнуло, а трудное положение Поливановского и Никольского обществ, которым становился не под силу ежегодный ремонт дороги и мостов на их земле по этому тракту. В 1913-м году я провел в гласные и затем и в члены управы моего старшего сына Мишу. Я не скрывал, что моя мечта — это видеть его со временем председателем Управы, а еще позже и уездным предводителем. Я откровенно говорил всем и каждому, что надо готовить деятелей из новых молодых сил; если мы ими в самом начале будем пренебрегать, они уйдут из уезда на более широкую и благородную деятельность и тогда для Земства будут потеряны. Когда я возобновил свою земскую деятельность председателем уездной Управы был Николай Владимирович Шумовский, но он скоро умер и его заменил Михаил Николаевич фон Ренне, бессменно остававшийся на этом посту до революции. Из членов управы я застал, между прочим, того же Василия Степановича Розанова, о котором писал в начале записок, и еще был выбран вторым членом Управы один совершенно безличный крестьянин — вот до чего оскудела дворянская среда! Сознаюсь, я не был сторонником Ренне, но единственным его заместителем намечался Дмитрий Дмитриевич Полторацкий, к которому я, после всего описанного мною выше, относился еще более отрицательно, а потом Полторацкий и ценз свой утратил. Когда Миша мой по годам получил право участия в Земстве, выделил я ему ценз и договорился и с предводителем, и с Ренне, что буду поддерживать последнего при одном условии — пусть членами Управы при нем будут наши дворяне, а именно мой сын и князь Д. С. Урусов, сын известного С. Д. Урусова, бывшего когда-то председателем Губернской Земской управы: хороший председатель и под конец получивший несчастную известность как участник Выборгского воззвания. Сына своего я на первое трехлетие не прочу еще в председатели, пусть осмотрится и приучится, а там, что Бог даст. На этом сговорились, и без сучка и задоринки прошли выборы. Розанов, наконец, был забаллотирован. Вышла одна бестактность, которую предводитель Желябужский не предупредил, почему у меня было с ним бурное объяснение, и я
772
уехал до конца Собрания. Яновский к этому времени уже ушел из предводителей ввиду выбора его членом Государственной Думы. Одно время он совмещал и звание члена Думы, и должность предводителя, но, наконец, сдался на доводы нас, старших дворян, что уезд страдает от этого, и ушел. Вступил его кандидат Желябужский, оставаясь членом Губернской управы, на что было испрошено особенное высочайшее соизволение. Меня это совмещение коробило, и когда я узнал, что на первых дворянских выборах Желябужский предполагает ставить свою кандидатуру, оставаясь членом Управы, я на выборы не поехал, не желая идти против него за неимением подходящего кандидата (мой сын был еще студент) и вместе с тем не желая быть участником комбинации, не соответствующей моим взглядам. Будущность показала, что постоянное участие Желябужского в чисто коммерческих земских делах понемногу заставило его утратить самую тонкость дворянских бескорыстных традиций, и среда его окружающих разных земских поставщиков постепенно его затягивала и влияла на него. Так и случилось на вышеописанном Земском собрании после того, что Розанова забаллотировали. Какой-то гласный из купцов, вечно околачивавшийся у Желябужского, после выборов внес предложение: ввиду оставления Розановым земской службы почтить его за многолетнюю деятельность адресом и каким-нибудь подарком. Понятно, главная цель была хороший обед, которого лишались главные купцы и крестьяне, потому что после выборов это была традиция — обед у Розанова этих господ. Но об обеде купчик не решился сказать. Желябужский, вместо того чтобы осадить этого гласного, тут же поставил предложение на баллотировку, и оно прошло. Сознаюсь, что я не имел достаточного гражданского мужества, чтобы открыто восстать против этого и даже открыто не голосовать против, а просто удалился в соседний кабинет председателя, дабы не участвовать в баллотировке. Когда же она кончилась, и кончилась в пользу чествования, воспользовался первым перерывом, чтобы бурно объясниться с предводителем и укорить ему всю несообразность чествования лица, только что забаллотированного значительным большинством; после чего, не дожидаясь конца занятий, уехал.
Эта сессия была вообще для меня неприятна: впервые я натолкнулся на явное и дерзкое ко мне недружелюбное отношение, и от лица, от которого я всего менее этого ждал. Может быть, это вначале меня же избаловало и испортило; допускаю, что временами я принимал тон слишком властный, иногда пренебрежительно поучительный — это мой недостаток. В общем, я наблюдал впоследствии, что мои доводы, как бы они ни были справедливы, всегда вызывали в оппонентах — не только среди общественных деятелей, но даже среди знакомых, семьи — раздражение. Отношу я это к моему темпераменту — не умею я примирительно объясниться и всегда слишком резко нападаю на то, что считаю неправильным, несправедливым. Я больше стараюсь опорочить первое, чем быть защитником самой правды. Говорят, «горбатого могила исправит»; вероятно, эта поговорка осуществится на мне. Недаром псалмопевец Давид сказал: «Не ревнуй до злобы»; такая ревность, как бы она ни стремилась к правильной цели, пользы не приносит.
Но на этот раз неприятность, выпавшая на меня, была незаслуженна и потому казалась с житейской точки зрения особенно обидной. Среди гласных [в]
773

Свадьба Софии Михайловны Осоргиной с Николаем Сергеевичем Лопухиным.
Сергиевское. 1913. Частное собрание, Париж
последние годы появилась новая личность — некто Виктор Яковлевич Бедлинский, заика, очень скромный молодой человек, занимавший какой-то незначительный пост в одном из губернских Присутствий; революция застала его уже земским начальником, и притом, по совести скажу, порядочным, добросовестным земским начальником. Вот с ним же и произошла у меня неожиданная неприятность; во время моей первой земской деятельности, еще до моего вице-губернаторства, гласным был его отец, почтенный купец, уволившийся от коммерческих дел и осевший на земле в небольшом имении Калужского уезда. Происхождения он был польского, фигурой и длинными усами, опущенными книзу, напоминал участника польского из оперы «Жизнь за царя», носил на указательном пальце и обручальное кольцо, и еще какой-то перстень массивный, считал себя шляхтичем, но в душе и на деле был русским. С ним мы были совсем в хороших отношениях. Сын его даже и облик имел вполне русский, и по памяти отца и по чиновничьей этике относился ко мне не подобострастно, но исключительно почтительно. И вдруг стал на дыбы, и почему? При выборах губернских гласных мой beau-frère Трубецкой по числу поданных за него записок баллотировался третьим или четвертым. Баллотировавшиеся до него, и в том числе я, прошли обычно совершенно благополучно, значительным большинством, а Женя вдруг совершенно неожиданно был забаллотирован. Все как-то опешили и сконфузились, и он, и я были просто огорчены. Все перепуталось, все как-то
774
не стали неприятелями, но насторожились, и следующие за ним были забаллотированы, так что настроение стало какое-то не мирное. Сделали перерыв, чтобы сговориться и выяснить положение; надо было для комплекта доизбрать еще двух гласных. Я и тогда, и теперь не могу разобраться, что было причиной такого афронта Трубецкому, всеми уважаемому.
Правда, что отношения его с Желябужским были натянутыми по предыдущим выборам в Государственную Думу, о которых буду писать в свое время; и с Ренне у него были мелкие контры из-за бегичевского фельдшерского пункта, содержавшегося совместно Земством и на личные средства Верочки, жены Жени. Но это была недостаточная причина для такого выступления. Одно время казалось мне, что под влиянием 4-й Думы провинция в лице помещиков, купцов, состоятельных классов праве́ла — кадеты не были в фаворе, и Женя, хотя не кадет, а мирный обновленец, был все же того поля ягодка. Но само Собрание было настолько серо, мало развито политически, что едва ли способно было разобраться. Скорее, произошла путаница; люди, желавшие попасть в губернские гласные, и, как мне помнится, по запискам намечено было кандидатов больше, чем требовалось, спешили сами и через своих близких и сторонников устроить лиц, баллотировавшихся до них, чтобы самим не остаться за флагом. Как бы то ни было, Женя, уважаемый всеми не только в уезде, в губернии, но и по всей России, определенная, положительная величина среди мыслящих людей, оказался, по мнению уезда, недостойным отныне представлять его интересы в губернии — полный абсурд, и абсурд обидный и конфузный для самого уезда. Надо было выпутываться из этого глупого положения. Начали совещаться, сгруппировавшись около меня (ведь все же я был старший по годам, по прежнему служебному положению и, так сказать, могикан если не первых, то, во всяком случае, прежних Земских собраний). Было предложено отложить выборы до экстренного Собрания, которое собрать по какому-нибудь иному поводу, и тогда и выбрать Трубецкого. Этот самый Бедлинский (вспомнил: он был помощником секретаря губернского по земским и городским делам Присутствия), как вполне компетентный в этом деле, с Земским положением в руках доказал нам, что такое избрание будет незаконно и опротестовано губернатором; потому что Сенат неоднократно разъяснял, что лицо забаллотированное не может даже и в другую сессию баллотироваться на ту же должность, если она после его забаллотирования не была еще замещена. Тогда я предложил такую комбинацию: теперь же произвести недоконченные выборы, но наметить и избрать таких двух гласных, которые разделяют наше возмущение и потому согласятся, после утверждения губернатором постановления Собрания этой сессии, подать заявление о том, что по домашним обстоятельствам слагают с себя звание губернских гласных, и тогда уже на законном основании в экстренную сессию избрать на их место новых, причем, несомненно, к тому времени гласные поймут свою ошибку и Трубецкого по-прежнему изберут, так что в очередную сессию Губернского Земского собрания он уже будет вновь губернским гласным. Так и порешили, причем не могу утверждать, присутствовал ли при конце обсуждения Бедлинский или нет; во всяком случае, это решение было руководящее для остальных действий Собрания, так как принято было большинством и всеми вожаками, хотя и в частном совещании, а
775
потому не могло не быть известным Бедлинскому, самому своими объяснениями подсказавшему такой способ действий. Самое естественное это было заявить Мише, сыну, что он первый согласен идти в такие губернские гласные — «калифы на час»; он так и сделал. Вторым вызвался Сергей Николаевич Блистинов, бывший калужский городской голова, почтенный купец, представитель одной из самых старинных местных фирм; деятель он, по своей лени и малой образованности, был плохой, но человек высоко порядочный и имевший притязания на либеральный образ мыслей. На том и остановились. Вновь подали записку кандидатов, и оказались намеченными первым Бедлинский, потом Блистинов и мой сын. Кандидатура Бедлинского меня удивила, и я к нему подошел и прямо спросил: «Что же, в случае Вашего избрания, Вы также откажетесь, чтобы очистить в будущем место Трубецкому?» Он мне на это, заикаясь и как-то смущенно, ответил: «Почему отказываться от чести, предложенной мне Собранием?» Я отошел от него, не сказав ему ни слова, и всем подошедшим ко мне с вопросом, что сие значит и что мне сказал Бедлинский, я рассказал мой с ним краткий разговор, добавив, что мое мнение такое, что в силу принятого нами частного решения Бедлинского надо забаллотировать. Так и сделали, а Блистинова и моего сына выбрали. Поздно вечером, когда я вернулся к себе в гостиницу, швейцар подает мне письмо. Открываю и читаю прямо дерзкое мне послание от Бедлинского. Не помню, да и не хочу вспоминать всех его дерзостей, но они были такого рода, что будь я помоложе и другого образа мыслей, я должен был бы ответить на них по житейскому кодексу вызовом на дуэль. Смысл его письма был тот, что он до сих пор меня уважал, считая за порядочного, честного человека, теперь же убедился в противном; что я виновник той позорной забаллотировки, которой он подвергся, что он, мелкий чиновник, имеет одно достояние — свою честь, которую я сегодня своими низкими интригами затоптал в грязь, почему он меня презирает и т. д. Получив в первый раз в жизни такое дерзкое оскорбление, я совершенно растерялся и долго не мог сообразить, как на это реагировать; потом взял себя в руки и ответил ему очень сдержанно: что он мальчишка передо мной, почему в память его отца, которого я уважаю и который, несомненно, ужаснулся бы поступку сына, готов простить ему настоящее его письмо, которое я возвращаю при сем; но считаю его главным виновником своей неудачи, потому что нельзя вопреки всем идти напролом, что я, несомненно, положил ему налево и то же советовал сделать и другим, а он, если был бы более прозорлив, не мог другого ожидать после моего вопроса и его ответа, и сам он виновен, что не отказался. Позднее я от него получил вторичное письмо, в котором он меня благодарил за добрую память об его отце, но считал обязанностью совести вновь подтвердить, что мой поступок с ним он все же считает поступком непорядочным. Я ему ответил кратко, что совершенно не дорожу его мнением, но видя из его писем, что он совершенно невоспитан, прошу его впредь не считать меня в числе своих знакомых, так как предупреждаю его, что если его встречу, руки ему не подам, так же как и мой сын, который просит его это знать. Писал я из Москвы, где тогда жил с семьей, и письмо свое показал Жене, обедавшему у нас в это время. Он приписал: «Так как я причина всего этого недоразумения, и притом вполне солидарен с Михаилом Михайловичем, знайте, что и я считаю лишним впредь подавать вам
776
руку». Жалок мне был впоследствии Бедлинский при частых встречах в Собрании или Комиссиях, до того он всякий раз терялся и был сконфужен, но ни разу не сделал попытки извиниться. В первые дни революции, когда все затрещало и завертелось в вихре поднявшегося разрушения, мне показались столь мелкими все эти счеты и недоразумения, что встретив его с Яновским на улице, первый подал ему руку со словами: «Теперь не до того, чтобы пожать руки нельзя». Он безмолвно, с влажными глазами, стал двумя руками пожимать мою. Бедный! Скоро он и умер, и я рад, что своевременно помирился с ним.
Чтобы покончить с выборами Жени, добавлю, что все было разыграно как по нотам. После утверждения и Блистинов, и Миша отказались, и в экстренное собрание Женя был блестяще выбран, так что своевременно попал на Губернское Земское собрание. Губернатором в то время был уже не Офросимов, а князь Горчаков, но он отсутствовал, и управлял губернией вице-губернатор Оленин, который не[о]протестовал этих выборов. Зато когда Горчаков вернулся, он, говорят, обрушился на Оленина: как он мог опять допустить Трубецкого в губернские гласные? Горчаков, надо заметить, считал себя правым из правых и своего предшественника, архиправого Офросимова аттестовал если не красным, то, во всяком случае, розовым. С Офросимовым я лично прослужил довольно долго. Назначен он был калужским вице-губернатором, когда я был земским начальником; затем почти одновременно он был назначен калужским губернатором, а я занял пост уездного предводителя. Когда я покинул Тулу, застал его все еще губернатором калужским и так же дружески встретились. Аттестация, данная ему Горчаковым, была далеко несправедлива. Он не был тем правым, как считал себя Горчаков, то есть нетерпимым ни к какой общественной деятельности, считавшим всякие личные мнения недопустимым вольнодумством, но убеждения его были строго консервативные, даже, быть может, несколько ретроградные. От своих подчиненных он требовал солидарности и к ним был неумолим, если бы кто из них стал проявлять самостоятельные взгляды; с лицами же, служащими по выбору дворянства или земства, отношения его были корректны, и там он держался лишь законных рамок, не вводя в эти сношения какого-нибудь политиканства. Со мной, после того как я покинул Тулу, у него была переписка, характеризующая его как администратора, не допускающего осуждения действий должностных лиц, сумевших благоразумно сочетать эту тактику со справедливостью.
Остановлюсь на этом случае поподробнее, потому что вместе с тем он и характерен для существовавшей тогда административной тактики, созданной все тем же уродливым Положением об охране, против которого я еще и в Гродно спорил с князем Мирским. В Сергиевском в крепостное время жил в Пышкове старик-мельник Левон; при освобождении крестьян мой отец продал ему небольшой участок земли десятин в восемь на самом краю имения с бывшей барской водяной мельницей. Старик этот, которого я в детстве хорошо помню, имел трех сыновей; одному он дал свой надел и дом в деревне Пышково, другому, по имени Василий, — водяную мельницу и половину земельного участка при этой мельнице, и младшему, Михаилу, остальную часть земельного участка, присоединив к нему большую ветряную мельницу, построенную стариком близ деревни Шахово на самом возвышенном месте имения, на земле, арендованной им
777
у крестьян деревни Шахово. Помню детское жуткое чувство, проезжая мимо этой единственной в нашем округе ветрянки; нам всегда казалось, что там и колдун, и ведьма, и tutti quanti из сказок. Пока старик был жив, вся семья его жила хорошо и зажиточно. С его смертью дело пошло хуже: удержался пышковский, севший на земле сын; остальные двое, избалованные легким тогда мельничьим заработком, опустились, запили, а Михаил, говорили, даже дурными делами занимался — держал притон конокрадства, покупал краденые вещи и вообще имел дурную славу. Михаил и Василий друг с другом не ладили и только сходились на одном — торговали водкой, отчего их хуторок стал местом пьянства и всей округи. Отношения с нами оставались по-прежнему почтительные. Каждое 1-е августа (первый Спас) Михаил после обедни появлялся у нас на крыльце с традиционным сотом меда в деревянной крашеной миске, покрытой старым полотном, за что получал рубль и угощался чаем в буфете. Естественно, что при таких отношениях они при всех своих спорах, ссорах и невзгодах обращались ко мне за советом и как к авторитетному арбитру. Однажды мне пришлось спасать жену Василия, почтенную женщину, от неистовых оскорблений пьяного мужа. Но в том случае, который дал повод моей переписке с Офросимовым, пострадавшим лицом явился сам Василий. Как я говорил выше, их хуторок имел дурную славу, почему полиция всегда за ними следила, а он, то есть Василий, потому что Михаил в это время куда-то бесследно исчез или даже, быть может, умер, старался ладить с урядником по мере сил. Надо добавить, что с открытием моей мельницы, где строго соблюдалась честность, помольщиков у Василия стало значительно меньше, и преимущественно из крестьян, мечтавших лишь попить водки. Дела Василия в смысле заработков мельницы пошатнулись, и так как он кроме денег брал еще традиционный совок муки, чем питался, с уменьшением помола и его личный мучной закром стал пустовать. Однажды рано утром прибегает ко мне жена Василия в распущенных чувствах и с разными длиннотами, ненужными прибавлениями рассказывает мне, что мужа ее увез ночью урядник в Калугу, где по распоряжению исправника он должен отсидеть месячный арест. С трудом добился я толку от нее, хотя она была рассудительная женщина, но все же из ее несвязной, запутанной речи понял, что Василий подвергнут аресту в административном порядке за хранение у себя запрещенного оружия. На мой вопрос, какое было у него оружие отобрано, оказалось, старый допотопный кинжал, полученный им от отца и доставшийся последнему из Управления барской охоты, когда она уничтожалась. Кинжал, по ее описаниям, был какой-то совсем особенный по величине и спокон веков служил ему для прикалывания свиней, потому и хранился у нее. Из дальнейших расспросов ее выяснилось, что за несколько дней урядник был у них на мельнице и просил у Василия муки. Василий, за неимением помольщиков, а потому ввиду пустоты своего собственного амбара отказал, на что урядник будто бы пригрозил ему, что он это ему не забудет. Спустя два дня после этого разговора урядник делал у него обыск и отобрал этот знаменитый кинжал. «А в резлитации, — добавила с плачем эта женщина, — мой Вася сидит в тюрьме голодный, холодный; вызвольте его, ради Бога, Михаил Михайлович». Мой Николай, управляющий, factotum, всезнайка, о котором я уже неоднократно писал, подтвердил мне достоверность рассказа мельничихи в части,
778
что урядник действительно просил муки и, получив отказ, грозился отомстить, и, главное, в значении отобранного оружия, которое было даже не кинжал, а старинный охотничий нож. Убедившись, таким образом, в явной несправедливости ареста Василия Левонова, я немедленно написал исправнику Мантейфелю, изложив ему откровенно все дело и мои подозрения в неблаговидном поступке урядника. Мантейфель мне ответил, что, увы, он ничего сделать не может, потому что рапорт станового, основанный на протоколе урядника, он представил, к сожалению, не проверяя, губернатору, и Василий Левонов сидит в арестном доме по постановлению губернатора на основании Положения об охране. Je ne suis pas tenu pour battu и написал столь же откровенно Офросимову и, как бывший губернатор, добавил, что такие действия урядника, если это правда, совершенно дискредитируют в глазах крестьян полицию, почему желая ему, Офросимову, по-товарищески оказать услугу, и сообщаю ему здешние слухи, которые, как мне известно, вполне правдоподобны. Долго ответа не было, но спустя дня три-четыре Василий Левонов был уже дома и валялся в приливе благодарности у меня в ногах. Наконец и ответ Офросимова пришел. Он писал, что мои сведения не вполне точные, действия урядника были вполне законные, но сам Василий Левонов не имел никакого злого умысла, храня этот кинжал, а сделал это по недомыслию, почему ввиду его полного раскаяния он, Офросимов, нашел возможным теперь же его освободить. Прошла неделя, и этот урядник был уволен по какому-то другому пустячному поводу. Вот как умел Офросимов не допускать вмешательства посторонних и, главное, осуждения ими его подчиненных, а вместе с тем доискивался справедливости и ей служил.
В Губернском Земском собрании я нашел много нового. Председательствовал новый губернский предводитель Булычев, совершенно не знающий дел и к тому же склонный обижаться на всякое возражение. Из старых гласных был тот же Николай Сергеевич Кашкин, но уже совсем старенький, потерявший всякое значение. Прежние гласные, имевшие влияние в Собрании, как-то Булгаков, Домогацкий, Нефедьев, Тетеревенков уже умерли, появились новые и, к их чести скажу, дельные и способные люди. Да, забыл упомянуть о старом гласном князе Алексее Дмитриевиче Оболенском; он был уже членом Государственного Совета, налетал дня на два, местными делами не интересовался и, хотя непременно участвовал в прениях, но более по привычке перорировать, чем с целью защитить или провести какое-нибудь дело. Про него рассказывали, что все же в 1905-м году он оказал большую услугу Земству. Собрание тогда, как и вся Россия, бурлило и более политиканствовало, чем занималось своим делом. Благодаря этому не удавалось сконструировать Управу, так как силы правых и левых были почти одинаковы. Вожаки того и другого направления собирались со своими единомышленниками по вечерам за ужином, где и намечали козни противникам. От ужинов и вечерних попоек даже страх революции не отучил. Оболенский выступил примирителем; у него были друзья-приятели в том и в другом лагере; он сумел добиться соглашения, и Управа была выбрана смешанная, а также и во всех постоянных комиссиях были представители того и другого лагеря. Председателем Управы был выбран К. А. Шумовский, а членами Желябужский, Аксаков и Челищев. Вожаком левых считался присяжный поверенный Л. Н. Новосильцев, и его,
779
по соглашению, избрали представителем Земского собрания в Губернское по земским делам Присутствие. Вожака правых, собственно говоря, не было; таковым считался лихвинский предводитель С. А. Попов, beau-frère моего тульского вице-губернатора Хвостова; правда, он был архиправый, но и по лени, и по безалаберной жизни не мог руководить партией. Я застал Губернское Земское собрание уже в периоде успокоения, политика всплывала редко, а потому и работалось легко. Среди правых особенно выделялся К. Н. Пасхалов; он был грубоват, в суждениях резок, но, надо отдать ему справедливость, был самый добросовестный гласный. Приезжал он, ознакомившись заранее со всеми докладами, материалами, и выступал en connaissance de cause; его деловитость и добросовестность поневоле заставляли даже его противников его уважать. В политике у него не было ни одной точки соприкосновения с Женей, а между тем все свободные вечера мы проводили с ним втроем, хотя и в спорах, но вполне мирно.
Среди гласных выделялся еще председатель Мещовской управы Куборский; врач по образованию, он был знатоком земского дела и несомненно приносил большую пользу. Но и у Пасхалова, и у Куборского были свои marottes, которыми они часто надоедали Собранию. Пасхалов был враг вообще Губернского Земства, считая, что это учреждение вредное, парализующее и стесняющее уездную земскую деятельность. У Куборского были какие-то личные счеты со Страховым отделом Управы, и все ее мероприятия в этой отрасли вызывали его резкую критику, а так как он говорить умел, он часто наносил Управе серьезные удары. Деловит был председатель Боровской управы Курносов, примыкавший к левым. И Женя, не только примыкавший, но и считавшийся левым, по вопросам сельского хозяйства и агрономии работал усердно и выделялся. В Жиздринском уезде верховодил председатель Управы Каньшин, человек очень остроумный, ловкий, но не устойчивый. Жиздринским предводителем вместо покойника Булгакова, который, несмотря на свои недостатки, все же был определенной величиной, избран был полная бездарность, чтобы не сказать более, граф Орлов-Давыдов. Процесс его с той, которая должна была стать его второй женой, нашумел на всю Россию и заставил всех порядочных людей от него отвернуться. К сожалению, должен сознаться, что выбран он был лишь за свое богатство. Земство же, рассчитывая на его щедрость, выбрало его попечителем моего детища — Сиротского земского дома — и ошиблось, так как он не только ничего не пожертвовал на это заведение, но даже ни разу его не посетил.
Когда я в первый раз явился в Земское собрание и в течение сессии осмотрелся и освоился, я откровенно поговорил с Орловым-Давыдовым, прося его сложить не интересующее его попечительство над Сиротским домом и вновь уступить его мне. Так он и сделал, и Собрание меня вновь выбрало на старую должность; вскоре, за отказом Н. С. Кашкина, я был избран тем же Собранием попечителем Реального училища, но в ту комиссию, которая ведала учебным делом, я не попал; там строго распределены были места между правыми и левыми, и я, неопределенная политическая величина, так туда и не попал и если принимал участие в решениях разных вопросов, то просто забегал к ним во время совещаний и вмешиваясь в их прения. Несмотря на все мои отказы, мне было поручено дорожное дело, к которому никогда у меня душа не лежала; я органически
780
никогда не доверял инженерам, а тут именно их доклады приходилось штудировать. В состав моей Дорожной комиссии, коей я был председателем, входили представители всех уездов, и из них, опять скажу, самый дельный — Пасхалов. Дело это не захватывало интереса Собрания, редко вызывало даже частичные прения, а потому доклады мои проходили в одни из первых дней сессии, и я был по вечерам свободен.
Для меня Губернские Земские собрания представляли интерес уже потому, что на время вновь вводили меня в серьезную, крупную работу — работу губернскую, которой я когда-то руководил в качестве губернатора. Деятельность моя по Сиротскому дому захватила меня по-прежнему, и ему я уделял много времени. Смотрителем был тот же С. А. Вознесенский, но уже вполне оперившийся и поставивший свое дело на правильную ногу. Деятельность моя по Реальному училищу не оставила во мне никакого воспоминания, да и следа от моей деятельности никакого не было. Директор училища, видимо, боялся вмешательства постороннего лица и держался того мнения, что моя роль, вне Педагогического совета, не существует. На выраженное мною желание посещать экзамены и учебные занятия он выразил сомнение в законности такого моего присутствия; я заявил, что в таком случае я обращусь за разъяснениями к попечителю округа. Но к этому прибегнуть не пришлось, так как директор сдался и прислал мне подробное расписание экзаменов. К сожалению, своей победой мне не удалось воспользоваться — не помню, почему; кажется, во время экзаменов я уехал за границу, а потом еще что-то помешало; в общем, ни на одном экзамене я не присутствовал. Дорожил я этим попечительством, главным образом, из-за Сиротского дома, так как почти все воспитанники были реалисты.
С Земским собранием тесно связаны и разные перипетии в возможности мне попасть то в члены Государственного Совета, то в члены Государственной Думы. В кандидаты в члены Государственного Совета от дворянства неизменно выбирались губернский предводитель Булычев и медынский крупный помещик Иван Петрович Мятлев; последний — как постоянный петербургский житель. Понятно, ни тот, ни другой при второй стадии выборов в комплект не попадали; а потому на выборы в Дворянском собрании смотрели как на простую формальность. Земское собрание выбирало своего представителя непосредственно в Государственный Совет, а потому эти выборы представляли большой интерес. Застал я членом Государственного Совета от Калужского Земского собрания Николая Николаевича Яновского, бывшего губернского предводителя. Если не ошибаюсь, после двух трехлетий, то есть в 1917-м году, он безусловно отказался, по старости лет, от дальнейшего участия, и тогда у меня появились большие шансы быть избранным на его место. Но судьба в лице калужского вице-губернатора Оленина сыграла со мной злую штуку. Должен разъяснить, что Оленин считался человеком мне искренно преданным, и я знаю, что он не только меня любил, но и искренно меня уважал. В трудные минуты его служебной деятельности, а таковые с такими губернаторами, как Офросимов и князь Горчаков, бывали нередко, он часто обращался ко мне за советом, а раз, после какого-то недоразумения с Офросимовым, просил даже моего дружеского вмешательства. Вместе с этим такое его отношение ко мне из боязни осуждения в лицеприятии побуждало его относиться
781
к моим просьбам как-то особенно осмотрительно и большей частью их не исполнять. Я на это не сердился, понимая, что поступает он так из излишней щепетильности и откровенно в этом сознается; но наедине я ему за это дружески выговаривал. Так и случилось при этих выборах. Оленин управлял губернией. Недели за две до Собрания я узнаю, что по ошибке меня губернаторская канцелярия не включила в распубликованный список лиц, имеющих право по цензу, годам и образованию быть выбираемыми. Поехал я в Калугу, представил Оленину все доказательства и попросил его дополнительно меня внести; он сказал, что это сейчас же будет им сделано, потом в тот же день прислал мне записку с сообщением, что это невозможно без подачи с моей стороны жалобы. Пришлось вновь с ним объясняться; доказывая, что фактически это ни к чему не приведет, потому что рассмотрение жалобы запоздает, и в установленный законом срок я в список не буду внесен, я с законами в руках ему доказал, что внести меня дополнительно не только его право, но и его обязанность. Он обещался посоветоваться и подумать, а затем, приехав проводить меня на вокзал, сказал мне, что я совершенно прав, и ошибка будет исправлена. Уехал я вполне успокоенный, а когда я приехал на Собрание, оказалось, что Оленин ничего не сделал, и я в список не внесен, почему и не мог ставить своей кандидатуры. На Собрании выяснился еще больший курьез: в список было включено лицо, не достигшее установленного законом возраста для выборов в Государственный Совет; это вызвало справедливое замечание одного из гласных: «Какой же это список, когда имеющие право на выборы не внесены, а зато внесены такие, которые сами заявляют, что не достигли установленного законом возраста!?» Как-никак дело было сделано, и я в члены Государственного Совета не попал. В последние выборы перед революцией упорно называли мою кандидатуру. Против нее восстал Каньшин, который, как увидим впоследствии, был мне во многом обязан. Я даже имел с ним объяснение по этому поводу и выразил ему свое удивление, что он, мне столь обязанный во время других выборов в Государственную Думу, вместе с тем сродный мне по политическим взглядам, ныне выступает моим противником. Каньшин на это ответил, что — что же делать — сам он хочет занять это место. Но это ему все же не удалось. Записками намечены были: первым — мой beau-frère Женя Трубецкой, и хотя он положительно этих выборов не хотел и только мечтал совершенно отстраниться от активной политической деятельности, он все же подчинился общему желанию и был блестяще избран. Таким образом, он невольно преградил и мне дорогу, но, во всяком случае, это было сделано им неумышленно. Я же при первых выборах в Государственную Думу, в которых я участвовал, выступил намеренно его противником, хотя по моим личным с ним отношениям мне это было крайне тяжело.
Вот как это случилось: в первой стадии выборов, происходивших под председательством уездного предводителя Желябужского, я откровенно высказал Трубецкому, что не могу класть ему направо, совершенно не разделяя его политических взглядов. В это время во мне происходил крутой перелом. Обычно сановники, удаленные от дел, левеют и переходят в партию недовольных; со мной вышло совершенно обратно. Напуганный всем тем, что я видел в Туле, [о]сознав целый ряд своих собственных административных ошибок, ясно поняв, что
782
только в твердой власти спасение России, я за эти годы, поселившись в деревне, значительно поправе́л. Кадетская партия стала мне прямо ненавистна; мне казалось, что ее политика — неискренний демократизм — и была главной причиной разрухи. Впоследствии взгляды мои сгладились, и шкурная политика октябристов побудила меня и от них откреститься. Но в эти первые выборы, в которых я участвовал, сдвиг этот во мне еще не начался, и я только руководствовался мыслью противодействовать левому течению. Хотя Евгений Трубецкой и не был кадетом, разойдясь с лидером этой партии Милюковым, он вышел из партии и пытался образовать новую, под названием «мирных обновленцев». Все же расхождение его с кадетами было недостаточно существенное, чтобы я мог ему сочувствовать. Я имел с ним перед выборами откровенное объяснение и сказал ему, что как мне ни тяжело, все же я положу ему налево, но добавил, что был бы очень рад, если бы мой шаг не оказался решающим.
Чтобы объяснить, что произошло дальше, надо отметить, что партия мирных обновленцев с графом Гейденом и Трубецким во главе была в совершенно зачаточном состоянии; все же была попытка организовать губернские ячейки. Для организации таковой в Калужской губернии Женя Трубецкой пригласил Желябужского, который заявил себя одних с ним взглядов. Сколько примкнуло к Желябужскому и были ли такие — не знаю; все же Желябужский считался председателем Губернского комитета мирных обновленцев, а Трубецкой — одним из лидеров Центрального комитета. Когда Женя баллотировался, я, как и предупредил его, положил ему налево, и очень был рад, когда оказалось, что он все-таки выбран. Но тут произошел совершенно непредвиденный инцидент: оказалось избранных одним больше требуемого числа, причем наименьшее число голосов, и притом равное число голосов, получили двое, а именно Женя и Желябужский. Никто не сомневался, что Желябужский немедленно откажется, добровольно уступая место лидеру своей партии. Но, к великому удивлению всех и негодованию Жени, Желябужский потребовал бросания жребия, и жребий пал на него. Таким образом, Трубецкой был отстранен. Он был намечен всей губернией в члены Государственной Думы и потому провал его в первой стадии выборов всех огорчил. Я еще чувствовал себя каким-то без вины виноватым, потому что вышло, что мой шар оказался решающим. Положи я ему направо, у него было бы против Желябужского одним шаром больше, и никакого метания жребия не нужно было бы. В тот же вечер я написал его жене Верочке, высказывая надежду, что проклятая политика не испортит наших отношений, и получил от нее самый сердечный ответ!
Провал Жени вызвал переполох среди всех. Помню, как ко мне в номер вечером ворвался мало еще тогда мне знакомый граф Илья Львович Толстой допрашивать меня, на основании каких полномочий я участвовал в избирательном собрании: все надеялись найти повод кассации этих выборов, но такого повода так и не нашли. Через три года, в следующие выборы, молва называла уже меня одним из членов Государственной Думы. Я был беспартийный, но изо всех партий наиболее мне симпатичная была октябристская. Председателем Губернского комитета этой партии был в то время Ильин. Он неоднократно со мной заговаривал и просил меня, хотя беспартийного, приехать в Калугу на предвыборное
783
собрание, устраиваемое при участие лидера партии А. И. Гучкова. Когда я приехал, Ильин позвал меня ужинать с Гучковым, и тут впервые я познакомился с этим человеком, сыгравшим впоследствии столь плачевную роль. Виделся я с ним три раза за этот его приезд в Калугу, а именно за этим ужином en petit comite — нас всего было четыре человека; в большой зале Дворянского дома на предвыборном собрании, где Гучков выступал с программной речью как лидер партии, и в третий раз — на частном совещании всех выборщиков-октябристов; из не принадлежавших к партии приглашен был я один. Цель этого совещания была наметить тех выборщиков от октябристов, которых следует проводить в члены Государственной Думы. На этих выборах в Калуге был заключен блок между правыми и октябристами, и места в Думу были поделены между ними. Партий левее октябристов ожидал полный провал.

Лазарет в Сергиевском. Рисунок М. М. Осоргиной. 1916.
Частное собрание, Париж
Личность Гучкова, я думаю, достаточно обрисована; все же не могу не поделиться моим личным впечатлением о нем. При первом знакомстве с ним меня неприятно поразила его какая-то купеческая повадка. Ильин как-то перед ним лебезил, а Гучков обращался с ним как купец со своим молодцом. Кроме меня был еще Н. Н. Яновский, и с нами он был совсем вежлив, причем со мной как-то особенно, и это я отношу к его купеческой повадке. Яновский был октябрист, записанный в партию, меня же надо было еще приручить; когда на последнем совещании выяснилось, что ввиду острого разногласия с партией по вопросу о смертной
784
казни я категорично отказываюсь, в случае выбора, подчиняться партийной дисциплине, он стал меня совершенно игнорировать. Но роль его на этом совещании была очень ловко сыграна. Руководил всем совещанием Ильин как председатель губернского комитета, но незаметно направлял его Гучков. Наиболее симпатичное впечатление он произвел на меня в Дворянском собрании. В своей речи там он коснулся всех сторон государственного строительства. Говорил он хорошо, с большим подъемом, нападения его на правительство не только не были резки, но, скорее, были высказаны с осуждением обществу, столь мало интересующемуся судьбой своего отечества. Прослушав до того только речи губернских деятелей, впервые услыхав настоящую крупную политическую программную речь, я в этот вечер был под шармом Гучкова, и не будь вопроса о смертной казни, думаю, охотно пошел бы за ним. На последнем совещании нашем был, между прочим, Яновский, который, как я узнал и слышал от других, вполне рассчитывал на мой голос. В самый день собрания я просил его честно мне высказать свой взгляд на смертную казнь, и когда узнал, что он ее сторонник, заявил ему, что положу ему налево. Ильин не был в числе выборщиков: он был забаллотирован еще в первой стадии в Медынском уезде, но как местный лидер терся в кулуарах и оттуда давал указания членам своей партии. И ему я заявил, чтобы на мой голос для Яновского не рассчитывали. Он был крайне озадачен такой непрошенной откровенностью, но тут же дал какие-то свои директивы, и в конечном результате Яновский был выбран. На этот раз мой голос не сыграл такой роли, как при выборах Трубецкого.
В течение этих выборов со мной произошел курьезный казус, характеризующий ту атмосферу, которую разные проходимцы устраивали около Государственной Думы. В Калуге вообще было очень мало евреев, и те, которые там проживали, были большей частью мелкие ремесленники, мало кому известные. Во времена губернаторства князя Горчакова поселился в Калуге и как-то сумел к нему подладиться еврей Шпринцензон; занимался он посредничеством для нахождения крестьян, желающих купить землю и поселиться на хуторе. Примазался он и к Крестьянскому банку и даже открыл контору с вывеской. Зная правое направление Горчакова, все этому очень удивлялись. Еще более удивились все, когда в Калуге вдруг построена была синагога с разрешения того же Горчакова. Сам князь был настолько вне всяких подозрений некрасивых денежных сделок, что никому и в голову не приходило обвинять его с этой точки зрения; все это понимали как последствие его полного безделья и что распоряжались делами губернии разные чины его канцелярии, которые далеко не были безупречны. У меня лично в это время была заминка в продаже леса; уж года два как не находилось покупателя на очередные лесосеки. Незадолго перед выборами в Государственную Думу приехал ко мне этот Шпринцензон как покупатель на лес. Осмотрев несколько лесосек и узнав мои условия, он мне сказал, что на днях даст свой ответ, причем добавил, что «так как Вы поедете на выборы в Государственную Думу, позвольте тогда к Вам заехать в гостиницу и окончательно переговорить; это дело для меня вполне подходящее». Я тогда не обратил внимания на его слова и назначил ему день, когда ко мне приехать в гостиницу. Приехав в Калугу, я, как сказал выше, узнал, что моя кандидатура выставляется довольно прочно и,
785
главным образом, зависит от последствий знакомства с Гучковым и от его мнения. В назначенный вечер явился ко мне Шпринцензон и объяснил, что лес мой покупает не он, а другой минский еврей, причем Шпринцензон совершенно необычно заявил, что цена, мною назначенная, по совести, слишком низка и поэтому он своему клиенту назначил другую, более высокую, и даже показал мне набросанный им проект контракта. На мой вопрос, выступает ли он здесь в качестве посредника, ожидающего комиссионного вознаграждения, он даже замахал руками и заявил, что тот еврей — его компаньон — будет подписывать контракт только потому, что сам Шпринцензон не купец первой гильдии и потому не имеет права вести коммерческие дела вне черты оседлости. На мое предложение подписать теперь предварительные условия и внести какой-нибудь задаток, раз дело уже решено, он все же просил отложить на несколько дней, показав мне телеграмму компаньона, что он уже выехал. Сроком для подписания условий он просил меня назначить определенный день. Потом уже я сообразил, что назначенный им день был кануном выборов и что к этому дню было уже выяснено на частных совещаниях, кто намечается кандидатом. Как я уже сказал выше, кандидатура моя очень скоро отпала. В назначенный день Шпринцензон ко мне не приехал, и когда я послал за ним извозчика, он велел мне передать, что дело расстроилось. Я и до сих пор убежден, что это была еврейская попытка войти в деловые сношения с будущим членом Государственной Думы. И другие, которым я рассказывал этот случай, были того же мнения.
При выборах в 4-ю Думу моя роль была более значительная, и если я в нее не попал, то только по собственной вине. К этим выборам произошел раскол между октябристами и правыми; они не столковались о числе мандатов каждой партии, и октябристы заключили блок с кадетами, но при условии, что представители последних были бы, во всяком случае, из правого крыла и чтобы кадеты под своим флагом не пропустили бы социалиста. Лидером кадетов в Калуге был Новосильцев, о котором я писал как о гласном в Губернском Земском собрании. Он, между прочим, предложил мою кандидатуру. После последних выборов я совершенно отшатнулся от октябристов и даже написал в журнале «Московский еженедельник» довольно резкую статью против них, осуждая их ненормальный, если не сказать уродливый, блок с правыми. Отойдя от октябристов влево, я все же до кадетов не докатился и объявил себя беспартийным прогрессистом. Таким образом, мое политическое credo было приемлемо обеим партиям, и моя кандидатура оказалась вполне прочной. На первой стадии уездных выборов я прошел блестяще благодаря голосам духовенства, которое всегда на меня посматривало с уважением и за спиной в шутку называло «негласным уездным викарием». Из других кандидатов со стороны октябристов намечались Каньшин и Дмитрюков, бывший секретарем 3-й Думы. Со стороны левых намечался один земский начальник Жиздринского уезда (не помню его фамилию) как представитель городов. Крестьянской курии решено было предоставить самой наметить своего кандидата, но желательно было отклонить кандидатуру мещовского Фомина, числившегося в партии социал-демократов и успевшего всем надоесть и насолить своими бестактными выступлениями как на Губернском Земском собрании, где он в течение трех лет был членом революционной комиссии,
786
так и на Епархиальном съезде, куда он попал в качестве церковного старосты. Все же, по соглашению обеих партий, Крестьянской курии предоставлено было избрать кого она хотела, невзирая на партийность кандидата. За неделю до выборов оказалось, что Горчаков опротестовал жиздринские выборы, чтобы устранить кандидатуру и Каньшина, и того земского начальника, фамилию которого я забыл. Поводы для протеста были такие незаконные, что, несомненно, при дальнейшем рассмотрении Сенат восстановил бы в своих правах устраненных лиц. Такие действия губернатора всеми были признаны за намеренную подтасовку выборов, тем более что Горчаков, боясь, что его протест не будет уважен, добился перед самым заседанием комиссии удалить из нее тех членов, которые были более самостоятельны во взглядах, для чего им даны были спешные служебные командировки. Когда мы, выборщики, съехались в Калугу, мы, узнав это, были в негодовании, а я, с моим темпераментом, негодовал более других и негодовал громко. Я, хотя и покинул губернаторский пост до начала выборов вообще в России, все же понимал и даже говорил о том, что правительство не только может, но и должно поддерживать кандидатов той партии, которая, по его мнению, наиболее способствует государственному строительству. Поддержка эта может выражаться либо указанием и рекомендованием определенных кандидатов, либо даже субсидированием газет известного направления. Но совершенно недопустимо устранение неугодных кандидатов в надежде, что жалоба на такие действия не будет рассмотрена до выборов, и тем самым неугодный кандидат лишится возможности баллотироваться. Такую тактику губернаторскую я считал недостойной и деморализующей само население. В этом духе я говорил всем и каждому открыто и считал необходимым нам, выборщикам, на это реагировать. Предвыборное собрание было устроено на квартире Новосильцева; в нем не принимали участие только одни правые. Когда все собрались и начали обсуждать действия Горчакова, я предложил реагировать на это следующим образом: обязаться нам всем, тем участникам, которые будут избраны в Государственную Думу, доложить Думе о неправильных действиях губернатора и добиться от Думы кассации всех выборов в губернии, дабы при новых выборах могли бы принять участие уже те, кто опротестованы были губернатором и которые к тому времени, несомненно, по их жалобам будут восстановлены Сенатом в своих правах. Бывшие члены Думы Новосильцев, Яновский, опытные уже в процессуальных действиях Думы, мне на это возразили, что как бы ни были вопиющими действия Горчакова, самый факт устранения им каких-то двух-трех выборщиков для Думы покажется малозначительным и, во всяком случае, не вызовет достаточного возмущения, чтобы собрать требуемые по закону две трети голосов для отмены выборов. Я не менее горячо продолжал настаивать, что этот факт важен не только для данной местности, а вопиющ как неблаговидный поступок агента правительственной власти, и если общественные избранники на него не реагируют по достоинству, то это будет как бы доказательством неуважения их к правительственной власти и как бы подтверждение, что такая недобросовестная тактика есть обычное явление и ничего другого они от власти и не ожидали. «Простите меня, — кончил я, — за такую резкую речь, но сам я только недавно еще был носителем этой власти, а потому отношусь к ее достоинству с бережливостью.
787
Если же Государственной Думе не дорога честь и чистота власти, то это развал, от которого упаси Боже наше отечество».
«Хорошо, — отвечали мне, — но что же делать членам Государственной Думы от Калужской губернии, если две трети голосов не соберется в Думе для отмены выборов?» — «Сложить тогда всем свои полномочия, — отвечал я, — чтобы были назначены новые выборы. И нам всем, участникам настоящего совещания, теперь же дать честное слово, что кто будет избран, это исполнит».
Мне это было тем более легко заявить, что мой выбор, из предварительных разговоров, казался вне всяких сомнений, и потому я как бы первый давал обещание сложить свои полномочия. Все как-то поневоле на это согласились и приступили к писанию записок. Прежде всего предложено было наметить кандидатов от землевладельцев. Места эти были, по соглашению, предоставлены октябристам, и без сучка и задоринки, громадным большинством, как и было намечено, были предложены Н. Н. Яновский и Дмитрюков. Так как все остальные места предоставлялись другим партиям, октябристы заявили, что подчинятся дальнейшим указаниям, и уехали, чем оказали плохую услугу. С крестьянской курией вышло недоразумение: мы предлагали им одним писать записки себе, а что мы будем проводить того, который получит между ними большинство голосов. Когда крестьяне стали писать записки, каждый из них получил только одну — свою собственную. Пришлось нам принять участие и писать того, которого нам рекомендовал Новосильцев (к слову сказать, оказался впоследствии страшнейшим мерзавцем: пройдя на выборах под кадетским флагом, как попал в Думу, записался в трудовики и единственный не сдержал данного слова сложить с себя полномочия). Затем приступили к писанию записок для представителей от городов; но перед этим Новосильцев заявил, что крестьяне могут удалиться, так же как сделали октябристы. Фомин на это возразил, что и они желают участвовать в этом. Я имел неосмотрительность заявить, что считаю такое желание вполне справедливым: раз мы намечали кандидата Крестьянской курии, пусть они намечают с нами вместе кандидатов других курий. Новосильцев, как председатель, решился их оставить. Представителем от городов намечен был в предварительных разговорах один из инспекторов народных училищ Калужской губернии, кадет, фамилию не помню, но знал его потому, что он был дружен с нашим соседом Александром Дмитриевичем Раевским. Получил он чуть ли не все записки. Оставалось наметить еще двух, тех именно членов Государственной Думы, которые выбирались просто от губернии, а не от курии, и потому всякий выборщик мог претендовать на это место. При предварительном обмене мнений указаны были на это место Новосильцев и я. По запискам же большинство получили Новосильцев и Фомин. Получился общий конфуз. Мы, отделившись от крестьян, удалились в кабинет хозяина, и там Новосильцев накинулся на меня со словами: «Вы, Вы во всем виноваты с Вашим предложением допустить крестьян! Я не могу пропускать Фомина: он социалист, и это будет нарушение нашего соглашения с октябристами. Они только и соглашались на Вас как беспартийного прогрессиста. И Вы же с Вашими идеями справедливости нас и подвели. Понятно, это Фомин устроил, сбив крестьян».
788
Я был очень сконфужен, считая себя действительно невольным виновником, и только оправдывался тем, что неопытен и неискушен в тайнах выборной кухни.
«Вот, что мы сделаем, — сказал Новосильцев, — отпустим крестьян, как будто все кончено, и, оставшись одни, вновь наметим кандидата, которого я берусь провести с помощью октябристов, а Фомину завтра заявлю, что мы не можем поддерживать его кандидатуру ввиду отказа октябристов».
«Как хотите, — отвечал я Новосильцеву, — но при таких условиях, как-никак не совсем корректных по отношению Фомина, я свою кандидатуру снимаю, тем более что Вы правы — я виновник всей этой путаницы».
«Посмотрим», — на бегу ответил Новосильцев и вышел прощаться с крестьянами.
Когда мы остались одни в своем составе, он и другие вновь стали приставать ко мне, но я был тверд и безусловно отказался выступать. Новосильцев, между прочим, приводил тот довод, что я как беспартийный-прогрессист удовлетворял октябристов, возражавших против слишком большого засилья кадетов, а таких уже намечено трое. Опираясь на этот довод Новосильцева, я указал ему, что среди нас есть еще один такой же, именующий себя беспартийным-прогрессистом, а именно граф Орлов-Давыдов. Это была моя вторая ошибка, и не только ошибка, но прямо преступление, потому что зная Орлова-Давыдова по губернским собраниям, я мог понять, что не ему приличествовало быть законодателем земли Русской. Но слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Большинство ухватилось за эту мысль. Новосильцев не мог возражать, и по запискам Орлов-Давыдов был намечен. На следующий день на выборах у Новосильцева было резкое объяснение при мне с Фоминым, где он наотрез отказался проводить его, и выбраны были все намеченные лица. Так как и я получил достаточное число записок, чтобы подвергнуться баллотировке, Орлов-Давыдов, получивший более моего, предлагал отказаться, чтобы уступить мне дорогу; но я остался тверд в своем решении, почему Орлов-Давыдов и должен был идти в члены Государственной Думы, хотя совсем этого не желал. Но это было только начало всего, потому что, как я указывал раньше, все обязались честным словом добиться отмены выборов или сложить свои полномочия. Я с интересом следил за отчетами заседаний Государственной Думы, чтобы увидать, как наши избранники поступят. В начале декабря мне пришлось по какому-то делу быть в Петербурге. Заехал я к Яновскому и, не застав его дома, оставил ему записку, прося прислать мне билет для входа в Государственную Думу. Вечером я уже имел билет в так называемую ложу председателя Государственной Думы. Это название мне показалось столь важным, что я сейчас же возомнил, что председатель Думы Родзянко, мой старый товарищ и приятель, узнав о моем желании быть в Думе, сам позаботился обо мне. Каково же было мое удивление на следующий день увидать, что эта ложа председателя Государственной Думы — отгороженный закоулок на хорах с простыми нумерованными скамейками даже без спинок, притом набитая битком, так как в ней дают места члены Думы своим знакомым. Правда, из нее отлично был виден и президиум, и правительственная ложа, и трибуна, но слышно было очень плохо. Председательствовал товарищ Родзянко, кажется, князь
789
Волконский, а грузная фигура Родзянко изредка появлялась в дверях своего кабинета, когда, казалось, шум в зале выходил за пределы возможного, но, убедившись, что и без него обойдутся, уходил обратно. Из известных ораторов говорили двое: Шингарев и Марков 2-й; первый — так тихо, что я так ничего и не слыхал, а второй — надо сознаться, настолько остроумно отпарировал возгласы левых с мест, что нередко слышны были возгласы негодования и смеха. Не помню даже, что было предметом обсуждения Думы. Ко мне в ложу пришли и Яновский и Новосильцев. Из нашего разговора выяснилось, что дело о выборах в нашей губернии еще не слушалось и только готовится к докладу.
В январе я заболел и более месяца пролежал в санатории Гриневского в Москве. Получаю там письмо от Новосильцева, который сообщает мне нижеследующее: все действия Губернской комиссии по выборам Сенатом отменены, и выборщики, опротестованные губернатором, восстановлены в своих правах. В Государственную Думу доклад о выборах в Калужской губернии вносится на этих днях, и можно с уверенностью сказать, что выборы не будут отменены, почему среди некоторых выборщиков поднялся вопрос, не освободить ли настоящих членов Государственной Думы от данного им под честным словом обещания сложить свои полномочия. Он, Новосильцев, считает, что это было бы возможно только в случае общего согласия. Пишет он всем калужским выборщикам, и так как он долго не мог узнать мой адрес, письмо мое последнее; от всех же остальных он уже получил согласия освободить нынешний состав членов Государственной Думы от Калужской губернии от данного ими обещания. Нет только ответа от Фомина и от двух-трех крестьян. Долго я раздумывал над тем, что я должен ответить. Освободить их от слова навязывала мысль о практическом решении, но в душе у меня восторжествовал принцип, и я ответил Новосильцеву, что если бы даже мое мнение было бы единичное, я все же считаю себя не вправе освобождать кого бы то ни было от данного честного слова. Рассуждал я так: это обещание дано было под влиянием негодования на допущенную несправедливость и искусственную фальсификацию мнения Жиздринского уезда, где двое, называемые сей губернией будущими членами Думы, были устранены неблаговидным образом. Что же изменилось теперь? Одно только: Сенат, высший блюститель закона в империи, признал, что эти лица действительно были незаконно устранены и должны участвовать в выборах; а мы, тогда нашумев и понегодовав и обещав им дать с своей стороны возможность осуществить свои права, ныне от этого откажемся!
Прошло несколько дней после этого моего ответа, и вдруг ко мне в мой номер санатории уже в полные сумерки входит Новосильцев во фраке, с портфелем под мышкой, прямо из Судебной палаты, где он защищал какое-то дело. Приехал он убеждать меня изменить мое мнение. Выставлял он трудность новых выборов и возможность на них всяких случайностей. В нем говорило чувство искания полезности, почему убеждал он меня дать свое согласие; кажется, он даже указал, что я остаюсь единственным, настаивающим на этом решении, почему от меня и зависит тот или иной поворот дела. Все они, члены Думы от Калужской губернии, решили сложить свои полномочия, если бы даже один только выборщик не даст своего согласия и не освободит их от честного слова.
790
«Несомненно, — добавил он, — надуют крестьяне и не сложат своих полномочий. Для него, крестьянина, ежегодное содержание в 3000 рублей — такая сказка из 1001 ночи, что он от нее добровольно не откажется, да к тому же совсем от нас откололся, заняв место на самом левом крыле». Личное объяснение с Новосильцевым для меня было еще труднее. Все же я остался при прежнем мнении, но добавил, что во избежание недоразумений и кривотолков, что я этим добиваюсь каких-нибудь личных целей, я в этих повторных выборах участвовать не буду, на что имею законным поводом состояние моего здоровья. Так мы и расстались с Новосильцевым. Спустя несколько времени все члены Думы, калужские, за исключением крестьянина, сложили свои полномочия.
На новых выборах Яновский должен был уступить место Каньшину, и если память мне не изменяет, и Новосильцев добровольно отказался вновь избираться и был заменен другим кадетом. Как-никак Каньшин попал в Думу исключительно благодаря мне, почему, как я писал выше, я имел право быть удивленным, когда на первых выборах в члены Государственного Совета от Земского собрания Каньшин выступил моим противником; впрочем, и сам успеха не имел. Эти выборы имели еще дальнейшие последствия. Я оказался без вины виноватым перед Яновским и почел себя обязанным по мере моих сил и возможностей помочь ему вернуться к общественной деятельности. Ушел он из предводителей после выборов в 3-ю Думу, между прочим, и по моему совету, а теперь раз попрекнул меня этим. Тогда я посоветовал ему вновь баллотироваться в уездные предводители, благо и выборы были близки. Никогда не забуду этих выборов, тем более что это были последние дворянские выборы не только в моей жизни, но и вообще в истории. Состоялись они в январе 1914-го года; через три года они не возобновились по особому высочайшему повелению, так как все, способные носить оружие, были на фронте, а затем революция смела все, и дворянские выборы отошли в область преданий. Дав совет Яновскому вновь идти в предводители, я вместе с тем высказал надежду со временем увидать моего сына достойным его преемником, а пока просил провести его в помощники предводителя (вновь учрежденная должность) и в кандидаты, что давало бы Мише возможность серьезно подготовиться к дальнейшей деятельности. Под влиянием моих нападений и упреков Жене [Трубецкому], что он с семьей совершенно игнорирует местную жизнь и далек от ее интересов, они семейно решили, что Сережа, их сын, должен стать уездным деятелем и по моему совету он должен был впервые выступать как уездный депутат дворянства, чтобы не становиться поперек дороги Мише. Об этом решении я тоже поговорил с Яновским, прося его содействия.
К открытию Дворянского собрания приехал один Сережа Трубецкой, Миша же задержался в Москве, тоже на дворянских выборах, где он выступил по моей доверенности. Ритуал, описанный мною раньше, на этот раз не был соблюден. К уездному предводителю Желябужскому никто не поехал, а прямо отправились к губернскому, Булычеву, а оттуда уже к губернатору Горчакову и т. д. К сожалению, кафедральный собор ремонтировался, и обедня с архиерейским служением, а также и присяга устроены были в домовой семинарской церкви, что было гораздо менее торжественно. Архиереем был преосвященный Георгий, бывший ректором Тульской семинарии, когда я там был губернатором; служил он и не
791

Елена Николаевна Осоргина, жена Михаила Осоргина.
Рисунок М. М. Осоргиной. 1919. Частное собрание, Москва
торжественно, и без всякого благолепия, а маленькая домовая церковь, напоминавшая более зал, чем храм, совершенно не соответствовала той торжественности, которую ожидала молодежь по моим рассказам; на этих выборах молодежи и новых дворян появилось много. Выступал совершенно новый кандидат в предводители, некий Местергази. Мать его, дочь врачебного инспектора еще первых времен после освобождения крестьян, получила от отца значительное земельное имущество; и вот теперь это имение, разделенное между тремя братьями, давало в Собрании новых три голоса; один из братьев мечтал быть предводителем, к нему примкнул еще новый голос земского начальника Грузевича-Нечая, недавно купившего имение. Компания эта была несимпатичная, покучивавшая, но с ней, во всяком случае, приходилось считаться. Впервые на моей памяти в Калужском уезде образовались партии, конкурирующие друг с другом. Появился и граф И. Л. Толстой и, по любви к кутежам, если не примкнул, то, во всяком случае, водил компанию с Местергази. Пришлось и нам мобилизовать свои силы. Я настоял на приезде обоих братьев Раевских. Яновский достал доверенности для своего брата (Ивана Николаевича) и еще для одного коренного премышльского дворянина Корляинова. Корляинов был земским начальником первого призыва, то есть мой старший коллега; хотя годами был гораздо старше и среди нас оказался самым старым, но по скромности не захотел играть какую бы то ни было роль, и мне пришлось исполнять обязанности doyen de la compagnie. На первых порах
792
у нас с Яновским вышло недоразумение: на первый или второй день Собрания застаю его в одной из боковых зал, сидящего в одиночестве, мрачного, насупленного; я его спросил: «В чем дело? Кажется, все идет хорошо, как по маслу, и Местергази ожидает полный провал». — «Да, — говорит он мне, — Местергази мало шансов, но и у меня также. Прибывают все новые голоса, Вами же выписанные. Вот приехали два брата Раевские, сторонники Вашего сына».
Я даже вскипел: «Да что Вы, Николай Николаевич, с ума сошли! Неужели Вы подозреваете, что я веду интригу против Вас в пользу сына? Да, я их выписал поддержать моего сына, значит, и Вас. Я Вас веду в предводители, а сына своего в кандидаты Ваши и в Ваши помощники, племянника же в депутаты. На Вашей же обязанности добиться, чтобы настоящий депутат Гене отказался ставить свою кандидатуру».
Повеселел мой Николай Николаевич: «Простите меня, а я не понял». — «Грешно Вам, — ответил я ему, — пора бы Вам меня узнать. Я Вас провел первый раз в предводители 15 лет тому назад даже заглазно, лишь по одному уважению к Вашему отцу, когда Вы только сошли со школьной скамьи. Я же Вас уговорил теперь ставить свою кандидатуру, и Вы должны знать, что я свои слова и обещание попусту не трачу».
Все же у Яновского, по-видимому, сомнения не прекращались, но сам уж он не решался со мной заговаривать, подослал брата Ивана. Тот дипломатически стал меня спрашивать, удобно ли вести моего сына одновременно и в кандидаты, и в помощники? Не покажется ли это сомнительным.
«Ну, Иван Николаевич, давайте говорить начистоту, — сказал я ему, — Вы и Ваш брат просто боитесь, что моему сыну переложат? Так чтобы успокоить Вас — идите Вы в кандидаты к Вашему брату, а сына моего на должность помощника дублируйте одним из братьев Раевских, а Трубецкого на должность депутата — другим братом Раевским. Это уж Ваше дело устроить всю эту стряпню, но при такой комбинации, если кандидату переложат, он откажется и будет утвержден тот, кого мы наметили. Сын мой приедет к самому дню выборов; теперь он участвует в Московском Дворянском собрании. И пора Вам понять с братом, что ни он, ни я никаких козней против Вас не строим». Так все и прошло, как по писаному. Выбраны были все намеченные нами, и Местергази позорно ретировался.
В губернских выборах прошло далеко не так гладко. Против Булычева составилась к этому времени внушительная партия. Но слабость его противников заключалась в том, что у них не было кандидата на его место. Булычев, хотя и не блестяще, но все же прошел первым кандидатом в губернские предводители. Противники его решили отыграться на втором кандидате, забаллотировывать каждого и тогда добиться этим аннулирования выбора Булычева. При дружных выборах выбор второго кандидата простая формальность: точно подсчитываются голоса, и один или два уезда, по соглашению, кладут налево, с таким расчетом, чтобы лицо было выбрано, но получило бы голосов меньше избранного первым. На этих выборах наш уезд, по соглашению, должен был класть всем налево, но какой-то уезд, из клавших направо, плутовал, и все были забаллотированы. После того, что трое или четверо были так забаллотированы и баллотировался некто Храповицкий, человек не особенно уважаемый среди дворян, ко
793
мне подбегает К. А. Шумовский и шепчет: «Я понял их тактику! Кладите направо, они попадутся, и Храповицкий будет избран». Я ему холодно ответил: «Обратитесь с этим к предводителю дворянства; он только может дать указание своим дворянам, как поступить в этом деле». Но, может быть, Шумовский был прав; другие калужские дворяне его послушались, и Храповицкий, получивший голосов меньше Корляинова, все же был избран.
Дворянские выборы, затянувшиеся далеко за полночь, наконец, кончились. На следующий день вновь избранные на должности дворяне приводились к присяге. Я присутствовал и смотрел, как в числе присягавших стояли с поднятой правой рукой Миша, в чистом, новеньком с иголочки дворянском мундире, и Сережа Трубецкой — увы! во фраке (в Калуге это считалось признаком либерализма). Они присягнули, и началась новая служба по выборам. К сожалению, служба их была очень кратковременной; в этом же году началась война, и они оба были оторваны от своей местности.
Но период войны составит особый отдел моих воспоминаний, а потому, описав мою общественную деятельность за время ухода моего из Тулы до начала войны, перейду к описанию моей деятельности по школе за этот же период времени.
Когда мы поселились в Сергиевском, там были только две школы: земская в самом селе и второклассная с образцовой школой при храме. В первой попечительствовала с нашего переезда в Харьков Софья Эммануиловна Мамонова, а во второй, по желанию архиерея, с самого основания — моя жена. Вопрос о всеобщем обучении и приближении школы к населению, а также и мое влияние в уездном Земстве дало мне возможность в ближайшие годы нашего пребывания в Сергиевском открыть для нашего прихода еще несколько школ: большую двухкомплектную в Кашурах, такую же в Караваинках, обслуживавшую Тимофеевку, Дмитровку и Михайловку, и однокомплектные в Пышкове и Поливанове. Последняя была открыта позже всех, когда Мария была уже взрослой; она и была в ней первой попечительницей. В Кашурах и Пышкове были избраны попечительницами Соня и Льяна. Софью Эммануиловну я уговорил отказаться от сергиевской земской школы, уступить эту школу жене, а самой принять попечительство над караваинской, в район которой входило ее имение. Так и было сделано. Жена же моя отказалась от попечительства во второклассной школе, которое я принял на себя. Последнее было необходимо, так как эта школа — для мальчиков, из которых старшие бывали лет 18-ти. Педагогами были только учителя, и требовалась мужская рука для управления этим сложным заведением. По закону заведующим школы был местный священник, но его громадный приход, отвлекавший его постоянно от школьных занятий, его довольно слабый характер сделали то, что кто взял палку, тот и был капрал, и школа сильно расшаталась. Взявшись за ее попечительство, я всей душой пристрастился к этому делу, и кончилось тем, что совершенно ей отдался, то есть в семье меня дразнили, что я как-то ухитряюсь все дни там проводить и даже скрывать это. Правда, что я бывал в школе два-три раза в день, то заменяя отсутствующих учителей, то посещая уроки, то беседуя с учениками, по воскресеньям же читая им вслух цикл классических произведений. За период
794
времени от моей отставки до начала войны состав учителей менялся, но наиболее продолжительно пришлось мне поработать с таким составом: старший учитель Афанасий Матвеевич Попов, из заводских крестьян Жиздринского уезда, окончивший Учительскую семинарию в Смоленской губернии, разогнанную после 1905-го года как местный очаг революционных вспышек, почему Попов, хотя и окончивший к тому времени эту семинарию, все же был под подозрением начальства; он преподавал группу математических предметов и, вначале, пение и регентство, пока, по моему настоянию, из-за его полной неспособности и, главное, самомнения это не было передано второму учителю. Вторым учителем был Николай Никанорович Беляев, окончивший Духовную семинарию; он был сын покойного священника соседнего прихода Лосенки; его предметами были: славянский язык, история, гигиена, педагогика, а потом церковное пение и регентство церковным хором. Третий — Петр Михайлович Щегалев, сын почтенного дьячка города Козельска; отец его был тип благочестивого клирика добрых старых времен, в косичке и подряснике. Щегалев преподавал только русский язык. Вначале он был учителем образцовой школы, но там учителя недолго засиживались, не более года, и переходили на открывшуюся вакансию какой-нибудь второклассной школы в губернии. Щегалеву посчастливилось остаться у нас. В образцовой школе последним и наиболее продолжительно учительствовавшим [был] некто Горшков, из крестьян, окончивший церковную Учительскую школу. Прежние учителя менялись довольно быстро и мало оставляли следа в жизни школьной. Вспоминаю их то по хорошему голосу, то по особому умению регентствовать, то даже с отрицательной стороны — и только. Впрочем, о двух сохранилась и хорошая, и благодарная память. Первый — Павел Михайлович Малинин, начавший службу у нас младшим учителем и дослужившийся до старшего учителя. У него был такой задушевный мягкий голос, низкий баритон, что он все время был и основой, и украшением церковного хора. В «Тебе поем» Виноградова, где он солировал, слова «и молимтися» до сих пор звучат у меня. Павел Михайлович отличался исключительной мягкостью, и добросердечностью, и смирением; от нас он прямо ушел в монахи Троице-Сергиевой лавры, где долгое время был архидиаконом Лавры. Кончил он там свою жизнь уже иеромонахом и благочинным Лавры. Постоянно присылал он нам привет и благословение, и я убежден, что он был усердным за нас молитвенником. Таким же благочестивым был и Соколов Егор Васильевич. Этот прошел все стадии от учителя школы грамоты до старшего учителя включительно. Часто говорил он проповеди в церкви, которые отличались сжатостью и выразительностью. Крестьяне его очень любили, но в школьном обиходе он бывал иногда сух. Воспитан он был матерью-вдовой, по-видимому, не особенно развитой женщиной. От нее он приобрел косный, узкий взгляд на вещи и нетерпимость из боязни впасть в грех и плотские искушения. Все, что не сходилось с обычаями предков, он считал вредным новшеством; так, например, он восставал против елок в школе, считая это неправославным, греховным обычаем. Свою нетерпимость в этом вопросе он довел до того, что когда елки устраивались, он уезжал совсем из школы. От нас он ушел в священники и последнее время занимал должность духовника Духовной
795
семинарии, что доказывает, как епархиальное начальство высоко его ценило. С нашей школой он не порывал связи и иногда приезжал к нам.
Но, повторяю, мне больше всего пришлось поработать с тем составом учителей, которых я перечислил вначале. Любимое мое время было время экзаменов. Помимо попечительства над школой я был, по избранию архиерея, почетным членом Калужского отделения Епархиального училищного совета, и как таковой назначался председателем экзаменационной комиссии нашей школы. Из других школ уезда я принимал на себя производство экзамена в тех школах, где попечительницами были жена, дочери и С. Э. Мамонова, а также в нескольких ближайших, чтобы не отрываться от своей второклассной школы, где экзамены в 3-х отделениях растягивались почти на месяц. Хотя не только ученики, но и малейшие оттенки их успехов и их характеров мне были хорошо известны, а они сами ко мне вполне привыкли, все же они боялись экзаменов, а учителя — еще больше. Помню, как на одном экзамене кончающий ученик, служивший потом у меня конторщиком, Петр Хохлов, горько плакал, не сумев объяснить явление грозы, и в коридоре приставал к моему Георгию, прося узнать, будет ли он выпущен или оставлен на второй год. Обыкновенно кто-нибудь из моих детей приходил послушать экзамены, и я это очень любил, потому что потом за обедом в их оценке и с их точки зрения переживал ответы, полученные за этот день, и иногда это влияло на мои дальнейшие оценки. В экзаменационный период, совпадавший с маем и началом июня, сад наш кишмя кишел учениками, гуляющими, лежащими на траве и зубрящими уроки. Проходя по саду, я всегда был осаждаем ими, спрашивающими какое-нибудь разъяснение. Перед экзаменом русского языка я с голоса учил каждого произносить с выражением какие-нибудь выбранные ими стихотворения. Были и тупицы, но встречались и мальчики с декламаторским дарованием. После каждого экзамена — это была уже традиция — отэкзаменовавшийся класс провожал меня до дома. Я требовал, чтобы они для этого разулись, по дороге делал свои замечания каждому по поводу его ответов, кого хвалил, кого бранил, а дойдя до ворот из сада на двор, выстраивал их шеренгой спиной ко мне и дому, и по команде: «Кто скорей! Марш домой!» они с визгом и топотом убегали назад в школу. В выпускном классе бывали юноши лет 18-ти, но в эту минуту они были такие же дети, как и все остальные. Пусто и скучно делалось, когда после экзаменов вся школа разъезжалась, но связь с учениками все же не терялась. Окончившие навещали меня летом, и не раз советуясь, что им дальше делать. Большинство из них не удовлетворялось одной нашей школой, дававшей лишь диплом на учителя школы грамоты, к тому же везде в это время упразднявшейся. Вот тут и приходилось везде хлопотать о них, а иногда и подготовлять к конкурсным экзаменам. В последнем случае нуждающийся в таком репетиторстве поселялся либо в школе, либо у меня в доме. Из наших учеников поступали дальше в фельдшерскую земскую школу, в Учительские семинарии, один даже в Учительский институт сибирский в Иркутске, многие определялись в Архиерейский дом в послушники, а дальше получали причетнические и даже диаконские места. В последнее же время все стремились в среднее техническое Строительное училище, открытое в Калуге, и многие пошли дальше и достигли звания инженеров. Но все же наибольший контингент пошел в учителя. Школа
796
наша приобретала все большую славу, но не скажу, чтобы по знаниям: учителя, в общем, были неважные. Только Щегалев преподавал хорошо русский язык, а Беляев — славянский, остальные предметы были очень слабы. Но школа получила свою славу за свой религиозный нравственный дух и настроение. Увы, это все-таки оказалось зданием, построенным на песке. Во время революции я мало, чтобы не сказать совсем, не слышал о таких своих питомцах, которые остались истинными верными сынами Церкви и долга христианского, больше же слышал о таких, которые если не стали большевиками, все же примазались к ним и без зазрения совести извлекали пользу из создавшейся разрухи.
Но не буду забегать вперед, а вернусь к тому мирному времени, когда школа развивалась, укреплялась и была сосредоточением моих забот. Вспоминаю, как, бывало, Великим постом иду я к преждеосвященной обедне; вся школа, как церковная, должна на ней присутствовать и, отделав первые два ранние урока, входит в церковь к концу изобразительных часов попарно, со своими учителями. Отделяется хор, становится на клирос со всеми учителями, которые обязательно должны участвовать в хоре. Весь центр храма между приделами занят рядами школьников, старшие назади наблюдают за порядком. Придел, где идет богослужение, полон говельщиков, а в другом приделе стоит та земская школа, которая эту неделю говеет. К пению блаженств хор уже в сборе и вступает в службу. Я стою в алтаре на своем обычном месте у окошка; уже весна, и солнце ярко пригревает место, где я стою. Не могу передать, какое мирное, благостное настроение. Хор поет нестройно, но эти детские и юношеские голоса так мне близки, так мне родны, что приятно слиться в одной молитве с ними. Трое мальчиков входят в алтарь за благословением на стихарь для пения трио «Да исправится», а двое — дабы прислуживать в алтаре. Знаю, кто войдет, я же их выбрал, я же и присутствовал накануне на спевке, и так приятно видеть их серьезные лица пред ожидаемым служением. Кончилась обедня, и я с ними же иду в школу заменить священника, который Великим постом не имеет времени давать уроки. Затем присутствую на обеде, пробую пищу и расхаживаю с дежурным учителем по столовой, делаю свои замечания: кого постричь, кого послать на врачебный пункт, кому дать какую-нибудь книгу для чтения. Но вот обед кончен, встали, пропели молитву; запевает всегда один, более смелый и с верным голосом, и все они спешат одеться на прогулку, а я тороплюсь домой, опаздываю к завтраку и бываю неизменно осмеян семьей за мою неаккуратность.
Но вот подходит дело к сумеркам — время моего ежедневного обхода хозяйства. Последнее время любила меня сопровождать на это Мария. По дороге прихватываем управляющего Шутова, конторщика, ключника. Первое посещение — конный двор. Конюха загоняют молодых лошадей с водопоя. Старые, приехавшие с обозом, отпрягаются. Присоединяется к нам староста. Идем дальше в амбар, где производились какие-нибудь работы по очистке семян или по насыпке для продажи. Через калитку попадаем на материальный двор. Там разговор более продолжительный. Работают либо продольные пильщики, либо гонтовщики, либо гнут ободы и дуги, либо готовят полозья под сани. Тут приходится и указания свои дать, а иногда и поспорить с администрацией, которая в чем-нибудь меня не послушалась и под шумок настояла на своем. Оттуда прямой ход уже
797
на мельницу, или, как это здание называлась по-старинному, «на машину». На мельнице встречают и мельник, и машинисты, и весовщик. Там особенно уютно, когда уже лампы зажжены. Проверив ход двигателя, мягкость помола и справедливость очередей, а когда был машинистом Василий (очень дельный, но невозможного характера), услыхав какую-нибудь грубость от него, идем дальше. Если этот обход совершался осенью или в начале зимы, то молотьба в полном разгаре, и тогда я знал — задержки надолго, а то спешим к скотному двору, где идет последняя пойка скота и задача корма. Здесь встречает нас экономка или эконом. Очень я любил этот последний водопой скота. Скот последнее время был исключительно красивый, какой-то благородный. Молодой скот играет, коровы степенно пьют и только изредка между собой бодаются, за что получают сейчас же должный окрик. И понимают они и окрик, и кличку свою. Отпивши, коровы важно, обнюхивая все встречающееся на пути, возвращаются назад и сами занимают свои места, ожидая, когда их привяжут. Пройдя через помещение коров, заглянешь в телятник, полюбуешься на какой-нибудь новый приплод, зайдешь с экономкой в молочную, блистающую чистотой. Остается посетить только садовника в теплице. Проходя мимо кухни в подвале, спросишь меню обеда, но тут уж, если нет урока с детьми, отпустишь всю администрацию и бежишь, бывало, опять в школу. Там все а giorno освещено. В каждом классе идут приготовления уроков. Дежурный учитель, понятно, отсутствует. Я прохожу прямо в учительскую, раздеваюсь там и иду по классам. В каждом классе есть предлог беседы; обойдешь, бывало, классы и шагаешь взад и вперед по рекреационной, подходит мальчик с каким-нибудь вопросом или за разъяснением чего-нибудь непонятого в заданном уроке. Я дорожил этими простыми с ними отношениями, не лишенными особенной почтительности, но и отличавшимися отсутствием всякого страха. Потом многие мне рассказывали, как, бывало, они ждут моего прихода и как только завидят меня проходящим перед окнами здания, и учителя менялись, подтягивались. Щегалев, отличавшийся очень вспыльчивым характером, накажет, бывало, многих, и кто наказан, сидит на своем месте, кто стоит сконфуженный у стены, а появись я, он спешит их всех простить. Часто я с ним беседовал по сему поводу, дорожил им как хорошим учителем и очень нравственным, религиозно настроенным педагогом. Он не отрицал своей вспыльчивости, но никак не мог с ней совладать. В помощь ему я особенно часто сидел у него на уроках. Все эти беседы с учителями происходили у нас в учительской, где я старался с каждым уединиться. Я было им предложил каждому взять на себя на правах классного наставника по одному классу, что в Положениях о второклассных школах не предусмотрено, но мне казалось вполне целесообразным. Все они на это мне резонно ответили: оставьте нас учительствовать, в сущности, Вы — воспитатель всей школы, и того влияния, какое у Вас над учениками, мы не сумеем приобрести. Так, по молчаливому согласию, и была признана за мной роль воспитателя, почему все поступки учеников разбирались мною часто единолично, по секрету, у себя в кабинете или уборной, для чего виноватый присылался ко мне. Думаю, что многие из моих бывших учеников помнят эти беседы со мной. Только в исключительных случаях, ставших достоянием многих лиц, обсуждались в Педагогическом совете.
798
С самого моего вступления на должность попечителя я сказал священнику и учителям, что в хозяйстве мало смыслю и там я вмешиваться не буду, зато учебно-воспитательная часть будет предметом моих особых забот. Так мы и поделили нашу сферу деятельности. Хозяйством ведали священник и старший учитель Попов, я же вмешивался, лишь когда надо было чего-нибудь добиться в смысле <…>, или ремонта от начальства. Зато в воспитательной части я руководил всем, хотя и не без трения с учителями. Я особенно настаивал, чтобы великопостное говение 1-й недели ученики проделали бы в школе, Попов же и Башмаков вводили экономию, настаивая на роспуске по домам, в чем поддерживали их старшие учителя в целях продления ваканта. Попов в таком соображении не был причастен, потому что он единственный жил в школе с женой и ребенком и полным хозяйством и никуда не стремился уезжать на ваканты. Раза два-три они настояли на своем, и на 1-ю неделю школа была распущена; один раз они даже заручились на то указанием письменным Епархиального Училищного совета. Ну уж и вскипел я тогда; написал в Епархиальный совет резкую бумагу, что школа должна быть не по названию, а по духу церковной, а потому не может добровольно отказаться от своего влияния и руководительства своих питомцев в самые острые моменты их духовной жизни, а именно во время их говенья. Такой отказ, основанный на желании сберечь какие-нибудь гроши, чтобы не выйти из сметы, недостойный для церковной школы, и я, светский человек, не получивший специального образования в духовной школе, по-видимому, более тонко чувствую значение церковности в школе, чем ее деятели. Моя бумага, по-видимому, там, в Епархиальном совете, сделала переполох, впрочем, оговаривая это, была неофициальная бумага от <…>, написанная также председателю Епархиального совета, он же и ректор Духовной семинарии, и имела результатом, что на будущее время по таким вопросам Совет больше не вмешивался в нашу жизнь и в случае необходимости довольствовался указаниями священника о направлении их ко мне.
Это говенье школы на первой неделе Великого поста совпадало и с моим личным говеньем. Помню желание иметь школьников под своим влиянием, и в эти минуты у меня были и другие побуждения, а именно обставить всю неделю и великопостными службами, мефимонами, как можно благолепнее, а для этого необходимы были и хорошие чтецы, и хор, и прислуживающие в алтаре. Уроков на первой неделе не было. Время распределялось между церковными службами, спевками с детьми и чтениями Священного Писания. Со старшими, у которых были какие-нибудь особые проступки на душе, известные мне, я старался по одиночке побеседовать; уверен, что в эти времена для них говенье не было простой обрядностью, а имело особый смысл. Говельщиков на первой неделе всегда было много, почему образцовая школа исповедовалась в четверг, а причащалась в пятницу за преждеосвященной литургией. Второклассная же школа исповедовалась отдельно по окончании исповеди прихожан. Я же с учителями обычно исповедовался в субботу утром во время утрени. Накануне один из учеников по моему поручению составлял список поименно всех воспитанников второклассной школы, просвирня по числу их заготовляла мне просвиры, и в день причастия их подавали. Я причащался обыкновенно первый, после сего
799
подходили школы; старшие — впереди, и каждый из них, причастившись, входил ко мне в алтарь меня поздравить и получить просвиру. В эти минуты положительно казалось, что это не школа, а прочная большая семья, и я уверен, что чувствовал это не я один, но и большинство из мальчиков.
Понятно, такое отношение и давало особую окраску нашей школе, почему число учеников в ней все увеличивалось и увеличивалось. Прием происходил в конце августа, о чем заранее оповещались все соседние школы и ближайшие уезды. В нашем уезде были две второклассные школы кроме нашей, другая — при монастыре Тихоновской пустыни и в верстах в 12-ти от нас, в Тарусском уезде, школа, устроенная на средства покойного духовника их величеств о. Янышева. Но тяготенье было к нам, хотя и помещение, и оборудование самой школы было значительно беднее, чем там. Последнее время поступали к нам ученики из дальних уездов, например, из Мещовского и даже из Жиздринского. Сестра моей жены прислала мне одного даже из Воронежской губернии. Поступающие подавали прошение заранее с документами и собирались к приемным экзаменам, и тут иногда приходилось некоторым отказывать по их малолетству. Я ввел такое правило, что тех, которым не хватало полугода до законного возраста, допускать до экзамена, но затем испрашивать разрешения архиерея для зачисления в комплект, в чем редко получался отказ. Еще более молодым предлагалось зачисляться в образцовую школу с предупреждением, что их примут в интернат только если будут свободные места. Помню такой случай, как одному мальчику было отказано в допущении к экзаменам, как ни просила его мать; он был из дальних, в образцовую школу не мог быть зачислен, так как интернат и так был переполнен. Экзамены производились в разных классах, у каждого учителя отдельно, я же переходил из класса в класс и вдруг обнаружил в классе, где писалось изложение, этого самого мальчика, который под шумок уже сдал все экзамены благополучно у других учителей, а к учителю русского языка заявился с объяснением, что опоздал, почему тот ему дал отдельную работу. К тому же выяснилось, что мать его уехала, оставив в передней сундучок с его вещами. Волей-неволей пришлось принять этого ученика и еще более стеснить интернат. Потом он оказался довольно даровитым и был одним из постоянных участников спектаклей, которые устраивались в школе. Организатором этих спектаклей был всегда учитель Попов. Он очень ловко смастерил маленькую сцену с декорациями, занавесью; спектакли ставились обыкновенно 14-го ноября, в день рождения императрицы Марии Федоровны, и на Рождество. Одно было только неприятно: сам Попов мнил себя великим актером, в сущности же играл из рук вон плохо; но, имея такое ложное представление о своих способностях, он всегда выбирал какую-нибудь пьесу, где у него была бы выигрышная роль, которую неизменно карикатурно проваливал. Он же мнил себя хорошим скрипачом, почему в программу вечера всегда входил какой-нибудь скрипичный номер, и нам суждено было прослушать немилосердное его пиликанье. Но Попов так много труда клал на организацию вечера, что совестно было его огорчать; все же, когда он раз задумал поставить сцену из «Феодора Иоанновича», намереваясь сам исполнить роль царя Феодора, которую, по его словам, он так исполнял в Учительской семинарии, что приезжали любители его смотреть из Москвы, я просто
800
запротестовал и под благовидным предлогом отклонил этот план. Совсем удачно ставились иногда или Чеховские рассказы в лицах, или Горбуновские. Помню как сейчас одного из учеников, фамилию его забыл, который талантливо изображал мастерового в рассказе «Пушка» Горбунова; это было так хорошо исполнено, что единодушно потребовали повторения. На эти спектакли собиралось очень много крестьян, и тут сказывалась теснота помещения нашей школы; особенно же она ощущалась во время елок, где положительно приходилось принимать меры для удаления непрошеных гостей. Во время елок выступал Попов, организуя хоровые елочные песни; но детей, главное, заманивали ожидаемые подарки. На покупку сего был особенный мастер Попов. Я обыкновенно давал рублей 15—20 на елку, да с учителей и из школьных сумм набиралось столько же. И вот на эти 30 рублей Попов ухитрялся каждому ученику купить подарок согласно его вкусу и угощение на всех. Елочные украшения обыкновенно давала мне жена, и они переходили из школы в школу, а свечи, огарки, я давал как церковный староста из церкви. Я с семьей, приглашенные учителя и учительницы соседних школ, а иногда и соседние священники приглашались Афанасием Матвеевичем к себе на чай, но этот чай начинался лишь тогда, когда уже елка догорела и ученики разошлись по спальням.
Вспоминая, таким образом, в общих чертах школьную жизнь и обстановку моей школы, остановлюсь более подробно на том классе, с которым мне особенно пришлось поработать и к которому вследствие этого я особенно привязался. Осенью 1913-го года по окончании приемных экзаменов, когда началось учение после торжественного молебна, отслуженного в храме, пришел я в младший класс. Младшему классу отводилось всегда самое большое помещение для занятий, потому что он всегда был самый многочисленный. С течением времени некоторые уходили сами, другие оставались на второй год в классе, почему второе отделение было всегда менее укомплектовано, а третье — еще меньше, и для них классы отводились менее просторные. Но этому составу младшего класса 1913-го года суждено было остаться в своем помещении до конца школы, потому что он не только не уменьшился, а напротив, увеличился с вступлением в него со стороны на второй год новых учеников и благодаря отсталым из предыдущего класса. Не берусь переименовать всех учеников, но почти всех помню. Одним из моих любимцев был Георгий Грачев, сын урядника, очень смышленый красивый мальчик и, действительно, на редкость способный. Болотов, мальчик, обещавший многое, но потом свихнувшийся, очень самолюбивый, вспыхивавший как маков цвет от всякого замечания. Толстенький крепыш Толмачев, над которым все товарищи постоянно смеялись, дав ему прозвище «Одесский градоначальник». На самой задней парте в темном углу сидят двое неразлучных — Павел Хохлов и Дмитрий Маланычев, последний с большими оттопыренными ушами и каким-то детским удивленным выражением, страстный любитель и ценитель моего чтения вслух. Некоторые мои выражения и интонации из трилогии А. Толстого запомнил даже наизусть и старался мне подражать. Отец его, десятник Московской городской управы, держал его невыразимо строго, и, по его собственным словам, он с нагайкой отца близко знаком. Учился Маланычев неважно, но поведения был примерного. Насколько Грачев был любознателен,
801

Георгий Михайлович Осоргин. Рисунок М. М. Осоргиной. 1921.
Частное собрание, Москва
настолько Маланычев ничем не интересовался, кроме как чтением драматических произведений. Сосед его, Хохлов, брат того, который расплакался когда-то на экзамене, мальчик шустрый, но пальца в рот ему не клади. Этот учится хорошо, когда хочет. На противоположной стороне сидел Лавров, один из тех неудачников городских жителей, которых я всегда боялся принимать в нашу школу. Исключен он был из приходского училища за какие-то шалости и попал к нам. Мальчик он был недурной, но сонный и совершенная тупица. Перед Лавровым на предпоследней парте сидит Тимарев, застрявший на второй год. Этот особый мой любимец, хотя почему — сам не знаю. Характер у него не открытый, исподтишка он может много нашалить, учится не особенно важно; но меня в нем подкупает его исключительная любовь к природе. Он еще совсем мальчик, лет 14-ти или 15-ти, способен удрать из дому, из школы, невзирая ни на какие наказания, чтобы побродить с ружьем по лесам. Его страсть к охоте напоминает «Детство Багрова внука», которым Тимарев зачитывался до самозабвения. Одно лето по окончании школы он прожил у меня, готовясь в железнодорожное училище. Как-то раз, в разговоре со мной высказал мне сожаление, что крепостное право отменено. На мой удивленный вопрос, почему это, он мне стал доказывать, что будь крепостное право, он, наверное, был бы или доезжачим, ловчим, или каким-нибудь охотником. На первой скамейке сидел малоспособный Заботин, племянник моего кучера, но зато самый скромный из всего класса. Всех не перечтешь.
802
Каждый из них имел свои особенности, и с каждым приходилось по особенному действовать. Помню, как когда они уже были в старшем отделении, захожу я как-то вечером в школу, дежурного учителя, понятно, нет! Войдя в класс, вижу, что мальчики сконфужены и многих нет. Потом уже собрались по одиночке и на мой вопрос: «Что они делали?» мнутся. Я их оставил в покое, но выразил свое неудовольствие тому, что они, по-видимому, от меня что-то скрывают. Сам пошел по другим классам. Вернувшись опять к старшим, заслышал какой-то шум из их класса, слышу, что Лавров говорит: «Ну, так я скажу!», и едва я успел войти, как он ко мне подскакивает со словами: «Простите, Михаил Михайлович, мы Вам наврали, мы играли в дортуаре в карты». Из дальнейших расспросов выяснилось, что практикуется это давно, несмотря на мое строжайшее запрещение днем быть в дортуарах. В эту карточную игру вовлечено чуть ли не полкласса, и даже есть ученики и из младших. Среди последних отличался Морозов, тоже из калужских пригородских неудачников. Попал он в школу нашу только благодаря тому, что был уволен из приходского училища, где он тоже неоднократно попадался в картежной игре. Он был сирота, на попечении старшего брата-офицера, который часто его немилосердно наказывал, но, по-видимому, это не помогало. Думаю, что, быть может, он и занес эту заразу в нашу школу, а дело было нешуточное, игра велась не детская, а азартная, и на деньги. На признание Лаврова, подтвержденное и остальным классом, я сказал мальчикам, что подумаю, как с ними поступить. Долго я мучился сомнениями. Если передать этот проступок на обсуждение Педагогического совета, дошло бы и до епархиального начальства, и тут уже без исключения многих учеников не обошлось бы. Я даже боялся говорить об этом частным образом с учителями, предполагая, что они могут проболтаться, и этот случай получит широкую огласку. А школе нашей завидовали, и найти в ней темное пятно было бы на радость ее противникам. Обдумав дома на досуге, я решил совершенно затушить это дело, вызвал всех виновных к себе по одиночке, имел с ними продолжительные беседы, которые они, вероятно, помнят до сих пор; Грачев и Болотов принесли мне карты, которые я тут же сжег, и дело дальнейшей огласки не получило. Учителя было всполошились, что я в один день вызываю к себе стольких учеников из разных классов, и тогда я решил с ними поделиться моими сведениями и сообщить о том, как я уже распорядился. При этом я предупредил их, что одной из побудительных причин затушить это дело, есть желание не подводить самих их, учителей, так как только при полном невнимании их к своим обязанностям во время дежурства возможен такой случай игры в карты целым классом в дортуаре. Таким объяснением я заручился полным молчанием учителей, но сам лично я все же был неспокоен — пресек ли я в корне это зло, или нет? Класс этот кончал школу уже во время войны, и к моему большому удовольствию я потом из разговоров с встречавшимися бывшими учениками, из коих некоторые, как Лавров, Морозов, пошли в вольноопределяющиеся, я узнал, что не только в школе это никогда больше не повторялось, но многие даже и совсем отвратились от карт и никогда более к ним не прикасаются. Чтобы покончить с воспоминаниями о школе до войны, упомяну еще о вечерней молитве, которую я особенно любил и часто посещал; время же после Пасхи, когда за вечерней молитвой пелись все пасхальные стихиры,
803
и моя семья любила приходить послушать под окнами школы. После ужина собираются все в рекреационный зал, где стоит аналой перед образами. Все учителя, которые дома, тут же присутствуют. Мальчики строятся не рядами, а располагаются полукругом около аналоя, самые высокие сзади, так что здесь играет роль не принадлежность к классу, а лишь рост.
Последнее время самыми высокими были два двоюродных брата, Худяков и Денисов; первый из младшего, последний из 2-го класса. Они были сыновья помещиков Перемышльского уезда и по росту стояли сзади за Томановским, первым учеником старшего класса, тогда как Лазарев, маленький сосед, был сзади маленьких, (впоследствии поступивший в монахи, товарищ Томановского) и стоял в самых первых рядах. Я настаивал, чтобы при молитвах не было бы никакой официальности, чтобы дети не чувствовали никакой казенщины. Попы собрались все, лампадка у образов зажжена; подходит очередной мальчик и начинает читать по Часослову сокращенное последование очередных молитв. Некоторые молитвы поются всем хором, поются в унисон и мощно разливаются слова молитвы далеко за окна училища. Всегда это пение на меня производило особое потрясающее впечатление. После Пасхи же, когда все вечернее правило заключается в одной поэзии пасхального тропаря 9-й песни и стихир, причем дети особенно радостно подхватывают «Да воскреснет Бог», а на словах «Тако возопием» согласно задерживаются и потом торжественно восклицают «Христос воскресе» — действительно переживаем и сознаем значение этого праздника. Но вот молитва кончилась (Великим постом молитвой «Господи и владыко живота моего» с поклонами), дети крестятся еще в последний раз. Я так по <…> к школе из <…> стоящих позади с поклоном и со словами: «Покойной ночи», и довольные и жизнерадостные бегут наверх в дортуар. Там во время раздевания дежурный ученик старшего класса читает на весь дортуар вслух Житие святого того дня, и под этим впечатлением все мирно укладываются и засыпают. Дортуар у нас не был благоустроен. В последние времена было такое переполнение, что вместо одиночных коек пришлось местами устроить двухэтажные нары, и если бы не война, а потом революция, здание школы должно было быть перестроено и значительно увеличено. Как война и революция отозвались на жизни в школе, опишу впоследствии, когда коснусь именно этого периода.
В тесной связи с моей деятельностью по церковной школе была деятельность моя по церкви как церковный староста, так как и там и здесь я постоянно был в сношениях со священником. Личность его я уже обрисовал раньше. Благодаря его неискреннему характеру и моей вспыльчивости часто происходили между нами трения, но совместная работа нас все больше сближала, и под конец установились более чем дружеские отношения. Я его высоко ценил за его неутомимое, истовое служение, за всегдашнюю его готовность на всякий труд, лишь бы служба была благолепнее и торжественнее. А он со своим мелким нехрабрым характером чувствовал себя за мной, как за каменной стеной. Наш приход понес крупную потерю со смертью двух его членов: умер скоропостижно диакон Ратмиров, а старый псаломщик Семен Песоченский сдал свое место внучке и потом скончался. Диакона Ратмирова весь приход оплакивал. В чем заключалась его болезнь — доктора не определили. Он терял память, минутами — речь, а
804
потом опять был совсем здоров. Я помню тот ужас, когда во время чтения Евангелия за обедней он вдруг потерял способность говорить. Минуты две длилось молчание, а он стоял перед аналоем бледный, весь в слезах. Моя старшая дочь Соня, крестившая у него одного сына, особенно приняла к сердцу его болезнь. У нее, как у всех наших детей, лежали в сберегательной кассе все те деньги, которые они с рожденья получали в подарок. И вот она решила, с согласия нашего, все эти деньги дать диакону, чтобы он поехал бы в Москву основательно полечиться. Семья диакона была бесконечно ей благодарна, но решено было отправиться ему после Пасхи. От обхода прихода священник его освободил ввиду его болезненного состояния, но все службы Страстной недели и первых двух дней Пасхи он справил без упущения. На третий день образа были в Пышкове. Вдруг прибегает ко мне церковный староста от имени диакониссы сказать, что мужу ее очень плохо, что он лежит без памяти. Когда я побежал к ним, меня еще по дороге встретили с известием, что он скончался. Оставалось мне только поклониться его телу и распорядиться ударить в колокол три раза, оповестить приход о его кончине. Помню впечатление этих мерных, гулких ударов вместо обычного пасхального трезвона. Священник, услыхав их в Пышкове, сразу понял и поспешил домой служить панихиду по тому, который столько времени был его сослужащим. Когда мы объявили о его кончине Соне, она долго не могла утешиться и так плакала, что нам с женой было особенно грустно на нее смотреть. Похороны диакона вышли особенно торжественны при пении пасхального канона. Народу было очень много. Съехалось и соседнее духовенство; все его любили и постоянно приглашали на торжественные службы, теперь все съехались отдать последний долг почившему.
Мне сейчас же пришлось обдумывать и решать вопрос, кем его заменить, и вместе с тем — как устроить судьбу его осиротевшей семьи. Детей было много и старший только еще кончал семинарию. Решили на общем совете со священником и наиболее видными прихожанами просить архиерея определить этого мальчика в диакона. Для прихода это было бы вполне приемлемо, потому что он обладал прекрасным голосом, а для его семьи это было прямо счастье, так как вся диаконская земля оставалась, таким образом, в их пользовании. По окончании похорон снабдили мы нашего юного кандидата нужными бумагами от прихода и причта и дали ему еще частное письмо к архиерею, и он отправился в Калугу. Как я потом узнал, владыка на все согласился, но сам Сергей Ратмиров испугался брать на себя обузу содержать всю семью, и дело расстроилось. Семью все-таки кое-как поддержали, две дочери, не в пример прочим, были назначены в кашурскую школу учительницами, остальные учащиеся члены семьи были взяты на казенный счет, а вдове я устроил место просвирни при нашей и при соседних церквах. Кандидатов на диаконское место появилось много. Не помню точно, кто был тогда архиереем, но он, вопреки прежде установленному обычаю в нашем приходе, определил к нам диакона Изумрудского, которого никто из нас не знал и который к тому же оказался из рук вон плох. Больше года я с ним воевал, пока, увидав его совершенно неподатливый характер, [не] настоял, чтобы его от нас взяли. Долго никто не просился к нам ввиду моей репутации неуживчивого церковного старосты. Я писал архиерею, которым был тогда преосвященный Вениамин, что
805
положение и значение нашего прихода требуют скорейшего назначения диакона, и притом очень хорошего. На моей памяти их в приходе, не считая последнего, Изумрудского, сменилось трое: Дмитрий Воскресенский, Петр Чупров и Дмитрий Ратмиров, и все трое как по голосу, так и по службе своей достойны были бы быть кафедральными соборянами; надеюсь, что нам такого же и пришлет владыка, я же, не имея никакого кандидата, ни о ком отдельно не прошу. И надо сказать, что Вениамин постарался. Однажды является ко мне штатский красивый брюнет в сюртуке и рекомендуется псаломщиком не помню какого села, уже приуказанного диаконом к нам с обязательством жениться в месячный срок. Сказано все это было красивой бархатной октавой, и сама наружность молодого человека располагала в его пользу, так что я прямо очень обрадовался. Это оказался Петр Тимофеевич Крылов, прослуживший у нас довольно долгое время. Характер у него был нелегкий, со священником он часто пререкался, да и с прихожанами держался довольно гордо, но ему все прощалось за дивный голос и великолепное служение. По моей просьбе протодиакон Песоченский многому его научил — как в манере произносить ектеньи, так и в походке, в каждении и т. д. Псаломщиком у нас в это время был уже не Песоченский, а муж его внучки Илья Покровский. Он был громадного роста, октава еще ниже диаконской, но фальшивил немилосердно и читал довольно плохо. Зато характера был прямо ангельского, все ему за это прощалось и все его любили. Со стороны смотреть на наш причт — выходила лесенка: крошечный священник, большой диакон и гигант псаломщик. По церковному хозяйству у меня переменился мой помощник. По положению я, как церковный староста из дворян-помещиков, имел право взять по своему выбору себе помощника, но, уезжая в Харьков на службу и оставшись тогда по настоянию прихожан и церковным старостой, я потребовал, чтобы и помощник мой был бы избран приходом. Такое избрание помощника и вошло в обычай в нашем приходе, и таковым всегда избирался Петр Иванов Дементьев из деревни Горяиново. Порядок этот, который я завел, сыграл мне же неприятную штуку. Прихожане, недовольные тем, что Петр Иванов давал работу по церкви, как-то подвоз дров, материала и т. п., всегда своим горяиновским крестьянам, на первых или вторых выборах по моем возвращении из Тулы забаллотировали его и выбрали на его место поливановского Дмитрия Евсеева Кузмичева. Предлогом было выставлено то, что раз я вернулся и поселился в Сергиевском, полезно и другому крестьянину под моим руководством научиться церковным порядкам. Вначале я был очень огорчен расстаться с моим старым помощником, знающим все мои требования, но потом, увидав усердие Дмитрия Евсеева, вполне помирился, тем более что в последнее время Петр Иванов стал запивать, что, главное, проявлялось, когда он обходил с кружкой приход на Пасхе. Чтобы отметить продолжительную службу Петра Иванова, я возбудил ходатайство о награждении его почетным кафтаном, но сразу получил отказ от архиерея со ссылкой на закон, что эта награда дается только церковным старостам, а Петр Иванов был лишь помощником. Тогда я поехал к архиерею и в личной беседе просил его только об одном: представить ходатайство нашего прихода в Синод, а что я уже ручаюсь, что там мою просьбу уважат. Архиерей улыбнулся и сказал: «Что же, у Вас там такая рука, что Вы все можете?» — «Все — не знаю, Ваше преосвященство, — отвечал я ему, — но такой
806
пустяк — наверное, тем более что я, служа на должности церковного старосты уже около 20 лет, все награды себе отклонил; мой же помощник Дементьев последние годы моей службы губернатором и вице-губернатором вел дело совершенно самостоятельно». Архиерей обещал и, действительно, направил дело в Петербург, а там моя сестра позвала к себе обедать Саблера, и дело было улажено в два слова. В Калуге это произвело громадный эффект, особенно среди сельских батюшек окружных сел. Указ о награждении пришел под Троицын день; спешно заказал я по секрету от Петра Иванова жалованный кафтан; старший его сын Игорь был портной и под каким-то предлогом снял с него мерку, так что старик ничего не знал и ни о чем не догадывался; он в это время болел и даже не ходил в церковь. Надо сказать, что устранение его от должности очень его огорчило. На Троицын день сыновья привезли его в церковь. По окончании обедни и вечерни я сказал ему подойти первому к кресту. Когда он бывал у обедни, по моему приказанию мальчик, служащий в алтаре, во время причастного стиха выносил ему на блюде просвиру. На этот раз это было опущено. Зато когда он подошел к кресту первый, священник поздравил его с монаршей милостью, диакон громогласно прочел указ о его награждении, я подошел с почетными прихожанами с кафтаном, а мой помощник — с большой просвирой. Петр Иванов даже расплакался и тут же в церкви с помощью сыновей облекся в свой почетный кафтан, который с этого дня надевал всегда, чтобы ходить в церковь.
Из нововведений церковного хозяйства я ввел одно: все жалованья служащим в церкви лицам, как-то моему помощнику, церковным старостам, я перевел на церковный ящик. Сельские же старосты вносили по мере возможности то, что они собирали со своих обществ на этот предмет. Цель моя была вытравить из сознания крестьян, что сбор на церковь есть обязательный вынужденный расход. Я все время вселял убеждение в прихожанах, что это есть доброхотное даяние, которое угодно Богу, только если оно добровольно и вносится от чистого сердца, а не по принуждению. Доходы церковные настолько увеличивались, что все эти расходы были для храма вполне возможны и не затруднительны. Валовой доход, когда я принял церковное хозяйство, не тот, который показывался в книгах, а действительный, был менее тысячи рублей в год, а к этому времени он возрос уже до пяти тысяч. Каждая церковь в епархии обязана была для поддержания епархиального свечного завода выбирать ежегодно определенное количество пудов свечей невзирая на то, продадутся ли они у них или нет. Раскладка эта делалась на епархиальном съезде, и наш храм был обложен, если не ошибаюсь, шестью пудами. Это было большое обложение, но все же оно всегда расходилось, особенно ввиду обычая к Пасхе покупать новые местные свечи ко всем образам. Со временем я местные свечи заменил металлическими и лампадками вместо налепков, и все же выбиралось свечей в течение года до 28-ми пудов. Вот до чего расширилось церковное хозяйство, благодаря усердию прихожан.
В церковном хозяйстве время моего староства оставило след, который, не будь революции, мог бы принести большую пользу. За все 33 года моей службы велись подсобные книги, в которых подробно записывались, помимо всех расходов, ежедневный приход в дни церковных служб; каждый месяц подводились итоги и в конце года составлялась сравнительная таблица дохода настоящего года
807
с предыдущим. Это дало мне возможность, когда я уехал в Харьков и возложил на своего помощника самостоятельное ведение хозяйства, проверять его действия. Эти подсобные книги необходимы, потому что официальные приходо-расходные книги совершенно не соответствуют действительности. По рутине епархиальное начальство придерживается старых правил, на основании которых сельские церкви обязаны испрашивать разрешение архиерея на всякую трату, превышающую 50 рублей. Получение такого разрешения сопряжено было с длинной перепиской и требовало много времени, а потому, чтобы не задерживать церковного хозяйства, приходилось часть расходов скрывать и соответственно не показывать всего дохода. Ведение этих официальных книг лежало всегда на священнике, который для этого делал выборки из моих записей.
Говоря о моей деятельности по церковным делам и, главным образом, в своем храме, необходимо упомянуть, как обставлялся у нас привоз чудотворной иконы Калужской Божией Матери. Начали привозить ее к нам еще в те времена, когда поездка ее по губернии была запрещена Святейшим Синодом, и приносилась она торжественно только три раза в год в Калугу из села Калужки. Не помню, по чьему почину и по чьему совету, я обратился в Синод с ходатайством поднять икону в наш приход на три дня. Вероятнее всего, что побудила меня к этому моя мать, которая была особенно благочестива. Сестра моя поддержала мое ходатайство в Петербурге, и получилось разрешение даже сверх ожидания, а именно, нашему приходу разрешалось принимать икону ежегодно во второй половине февраля в течение трех дней. Обставил я это торжество наивозможно благолепно. Накануне мои лошади с кучером ехали в Калужку в сопровождении старшины для предотвращения задержек в пути; кучеру давалась надлежащая инструкция, чтобы привести икону в определенный час к волости в 10 часов утра. После утрени в этот день из нашей церкви выступал крестный ход на встречу святыни и располагался полукругом против здания волостного Правления. Как только вдали показывался возок с чудотворной иконой, через особых махальщиков давалось знать на колокольню, и начинался красный звон до приноса иконы в самый храм. Длилось это довольно долго, потому что сначала был всенародный молебен на площади против волости, затем вносили икону для краткого молебна в самое здание волостного Правления и в близстоящую земскую школу, после чего уже двигался крестный ход. Впереди шли земские школы прихода попарно со своими учительницами, затем в том же порядке образцовая и второклассная со своими учителями, второклассная школа все время пела Богородичные тропари; вслед за школами шли хоругви иконы и последней — чудотворная икона, несомая попеременно двумя мальчиками в стихарях и со свечами по бокам; из возка икону принимали я и волостной старшина; за духовенством шла толпа народа. Пока несли икону через село, крестьянки и дети ложились на дорогу, дабы святыню пронесли над их головами. Церковь к приносу иконы была освещена вовсю, а место, предназначенное для нее, украшено семисвечником и жертвованными полотенцами; таких полотенец и холста бабы жертвовали ежегодно во время пребывания иконы двести-триста аршин; в дверях храма икону принимал я со своим помощником. Сейчас же начиналась литургия, после которой опять молебен. По окончании службы священник устанавливал очередь между деревнями для
808
приема иконы; общества принимали икону сначала для общественного молебна среди деревни, а затем желающие принимали ее у себя на дому; под конец редкий дом не принимал иконы, так что приходилось, чтобы удовлетворить всех, начинать обход часов с пяти утра. В первый день сейчас же после литургии из храма мои служащие приносили икону к нам на дом, где причтом калужкинской церкви служился молебен с акафистом, после чего икону носили по всему дому, вносили в каждую комнату; няня, экономка, некоторые горничные служили молебны в своих комнатах. Окончив этот обход, калужкинский причт у нас завтракал, а икона в сопровождении уже нашего причта обносилась по усадьбе к служащим и затем на село. В течение всех трех дней были торжественные обедни и всенощные, последние с чтением акафиста. Икону всегда приносили и к литургии, и ко всенощной. Часто причт калужкинской церкви участвовал в богослужении, и тогда это выходило особенно торжественно. Проводы иконы шли по тому же церемониалу: крестным ходом провожали мы икону до волости. Я особенно любил придти рано утром в день проводов, когда еще никого нет в храме. В храме темно, только теплится лампада перед чудотворной иконой, перед мощами праведной Иулиании и перед Нерукотворным Спасом; никого нет, кроме сторожей, которые убирают церковь и топят печи. Станешь, бывало, на колени перед иконой, читаешь свои молитвы, изливаешь ей все свои нужды, и так сладостно умиленно на душе. Понятно после этого, как грустно было провожать святыню.
Не помню, когда именно и по какой причине, но раз во второй половине февраля нельзя было нашему приходу принять икону, почему я обратился к архиерею с просьбой разрешить нам принять икону 23-го апреля (к тому времени Святейший Синод передал свои заключения по этому роду дел калужскому епархиальному архиерею). Разрешение было получено, и с этого года мы всегда уже праздновали в этот день принос иконы. 23-го апреля в нашей местности весна уже вступила в свои права. По народной пословице: «На Егорья и лист в полушку». Дороги пообсохли, луга зазеленели; разлив реки уже кончен, но Ока только вошла в свои берега и поражала своей многоводностью. Пароходы ходят не только аккуратно, но даже особенно быстро. Пользуюсь этим, чтоб сговориться с владельцем парохода купцом Иваном Ивановичем Ципулиным о привозе и отвозе иконы на его пароходе. Он богобоязненный человек, хотя и не старый, но по традициям — русский, и верованиям — старой закваски. Для него перевести на своем пароходе чудотворную икону есть радость, удовлетворение, и он обыкновенно сам ее сопровождает, сам ее выносит на берег. Пароход по сему случаю особенно прибран, украшен флагами. Высадка происходит у нашей остановки парохода, который прямо причаливает к берегу. Это от церкви под горой, версты в полуторы.
Таким же порядком прибыл спозаранку наш крестный ход на берег; на ярком весеннем солнце золотые оклады икон и хоругви ослепительно блестят. Весь берег и пригорок усеяны народом в красивых праздничных одеждах. Народу еще больше, чем бывало зимой, и то там, то здесь по спуску и лесным тропинкам видны вереницы поспешавших баб и детишек, опоздавших и торопящихся поспеть к причалу парохода. Но вот слышен продолжительный свист под Жоркской пристанью, версты четыре от нас, все встрепенулись, подтянулись и замерли
809

Георгий Михайлович Осоргин и Варвара Федоровна Комаровская.
Рисунок М. М. Осоргиной. 1921. Частное собрание, Москва
в ожидании. Не прошло и десяти минут, как толпа с пригорка ринулась книзу, к берегу, увидали сверху дымок парохода, огибающего луг и землю воронинск <…> появился и весь корпус парохода, и он быстро пошел по прямому как стрела в этом месте руслу Оки. Виден вдруг пар свистка, и спустя несколько секунд долетает протяжный свисток парохода. По этому свистку начинался трезвон нашими колоколами. На противоположном берегу тоже церковь — висляевская, где в этот день храмовой праздник, часто и у нас совпадает с трезвоном к обедне, и тогда колокольный звон еще сильнее, еще торжественнее, еще более захватывающ. Вот пароход приблизился, вся публика на нем переходит на левый борт и крестится на наш крестный ход, а мы, стоящие на берегу, зная, что на этом пароходе в каюте чудотворная икона, крестимся со своей стороны. Все замерло, только стук пароходных колес и дальние перезвоны нарушают тишину. Слышна ясно команда слов в рупор капитана: «Малый ход!» и «Стоп машина», и плавно причаливает пароход, бросают сходни, и наш хор, поддержанный всем народом, поет пасхальные песни, так как этот день обыкновенно совпадал с первым днем после Пасхи. Пение такой толпы даже на открытом воздухе слышно как ночью — сильнее, могучее. Ципулин с кем-нибудь выносит икону на берег, и начинается еще молебен. Но пароход не может долго стоять, все же он медлит, каждому хочется намолиться, каждый проникнут той красоты праздника и духовной красоты совершающегося. Но вот Ципулин пробирается с несколькими пассажирами,
810
прикладывается к святыне и мчится на пароход; последний медленно отчаливает и на прощание подает свисток за свистком. Дальнейшее пребывание иконы следует раз навсегда уже установившемуся у нас порядку.
Прежде чем покончить с выдающимися событиями в нашем храме, хочу описать два события нашей приходской жизни, выделявшиеся из обычного ряда, а именно празднование в 1910 году столетия нашей церкви, а затем привоз в октябре 1913 года к нам, для поклонения и хранения, частицы мощей праведной Иулиании, нашей прародительницы. К сожалению, моя жена со старшими дочерьми не могли быть во время празднования столетия церкви. В этот год скончался мой отец в июне; его продолжительная болезнь и мучительный конец так повлияли на жену, усердно за ним ухаживавшую, что в сентябре она с дочерьми поехали полечиться, отдохнуть и переменить впечатления за границу.
К церковному торжеству столетия церкви я пригласил нашего архиерея епископа Вениамина. Только перед этим у нас произошла с ним маленькая размолвка, и я хотел после этого недоразумения подчеркнуть, что вновь установил мир и согласие. Такое же редкое церковное торжество необходимо было ознаменовать епископским служением. Размолвка же с епископом Вениамином возникла у нас по следующему поводу. Получил я как церковный староста и как попечитель второклассной школы бумагу от епархиального Училищного совета, сообщавшую мне, что постановлением Совета решено все здания второклассных школ непременно страховать и, за неимением свободных училищных сумм по смете, возложить этот расход на церковные суммы, что и сообщалось мне к исполнению. Я вполне был согласен с горьким положением и чуть ли не сам готов был возбудить о сем вопрос; мне самому страшно было подумать, что все затраты, сделанные на здание второклассной школы, могут от несчастного случая в какой-нибудь час времени безвозвратно погибнуть. Но я далек был от мысли затрачивать на это приходские суммы, тем более что школа была не приходская, а обслуживала район того уезда, если не более. Ввиду этого я написал архиерею очень резкую жалобу на постановление епархиального Училищного совета, отрицая справедливость его претензий на церковные суммы. Кончал я свою жалобу просьбой, обращенной к нему, защитить приход и не допустить затраты приходских средств на предметы и учреждения, не входящие в круг церковного хозяйства. Не без ехидства я добавил, что убежден в его помощи, так как он есть первый блюститель точного исполнения церковных законов. В ответ я получил от него письмо, в котором он мне сообщал, что ни одно постановление епархиального Училищного совета не может приводиться в исполнение до утверждения его епархиальной властью, а этот журнал им утвержден, и удивляется он моему протесту, так как всегда видел во мне сторонника и пособника церковной школы; заставить меня уплатить эти деньги он не может, но это столь незначительная сумма, что принести ущерба церковному хозяйству она не может, и он, архиерей, предоставляет это дело суду моей совести! Я прицепился к последней фразе и ответил, что именно совесть моя запрещает мне тратить деньги, вверенные мне прихожанами для церкви, на другой предмет, но чтобы прекратить все это недоразумение, согласен на этот год уплатить страховую премию из моих месячных средств, хотя, указывал я, что такое разыскание церковным
811
ведомством посторонних средств крайне нежелательно; оно роняет значение церковной школы, придает ей характер какой-то неустойчивости и потому подрывает к нему доверие населения. Ни в одном ведомстве такое отношение к своему учреждению не было бы допущено. На этом и кончилась наша переписка, и вот владыка, в ознаменование сохранения прежних дружеских со мной отношений, приехал на столетие нашей церкви. Приехал он накануне с целым сонмом духовенства, необходимым для архиерейского служения. Только хора он не привез, должен был петь наш хор под регентством Беляева. Службы шли по строгому уставу: сначала малая вечерня, отслуженная нашим бывшим учителем Е. В. Соколовым, затем — всенощная, которую служил сам владыка, он же и читал акафист. Обедня на следующий день была особенно торжественная.
День столетия церкви совпадал с днем нашего храмового праздника, 1-го октября. Народу было много. Архиерей назначил два посвящения: во диакона и в священника, так что многие прихожане впервые увидели это таинство. Я был очень тронут, когда во время молебна при возглашении многолетия была добавлена «вечная память» не только храмостроительнице, но, по желанию архиерея, и моим родителям. Это было особенно трогательно, и я потом глубоко благодарил за это архиерея. Возвращались мы с ним вдвоем в карете, и когда я захотел заплатить ему, он с негодованием отвел мою руку и сказал, что это не только его обязанность, но и сердечное желание провести в тесном молитвенном общении с нами этот знаменательный день в нашей приходской жизни. Пригласил я к себе обедать в этот день, кроме причта, всех учителей и учительниц прихода. Это очень понравилось архиерею, и он мне сказал, как он ценит это общение около церкви всех педагогов прихода. «Это — верный залог, — выразился он, — правильного воспитания народа. Помоги Вам Господь и впредь это поддержать». Кроме старших дочерей все остальные мои дети были налицо, и даже младшие, Мария и Тоня, помогали мне в моих хозяйских обязанностях. Во время обеда я произнес тост за здравие архиерея; в нем я высказал ему мысль, что участие владыки в нашем приходском торжестве — верный залог, что наши приходские радости и горести близки его сердцу, а потому, бодрые этим чувством, мы просим, помоги нам Господь, нам, деятелям приходским, преуспевать в нашей деятельности на пользу церкви и во славу Божию. Кончил я провозглашением «многая лета» владыке, и весь стол запел «многая лета»; раскатистая октава протодиакона Песоченского покрывала все голоса. Когда уехали архиерей со всей свитой, много было разговору; все делились впечатлениями, все по-настоящему ощущали праздник.
Совершенной противоположностью было другое церковное событие, которое по своему значению для приходской жизни должно было пройти еще торжественнее, еще знаменательнее, а между тем прошло совершенно бледно и незаметно. Причиной этого было то, что архиереем калужским был уже не епископ Вениамин, переведенный к тому времени в Симбирск, а епископ Георгий, бывший в бытность мою тульским губернатором ректором тамошней семинарии. Не берусь судить о нем как об архипастыре, тем более что он уже покойник, погиб в Варшаве от руки убийцы уже после выделения Царства Польского в отдельное государство, и история со временем произнесет над ним свой справедливый
812
суд. Все же не могу не отметить мои личные впечатления о нем. В доказательство того, что они основаны не на какой-нибудь личной неприязни, должен отметить, что ко мне он был всегда исключительно любезен, примером чему служит, что по моей просьбе он, вопреки всяким правилам, наградил нашего настоятеля отца Сергия Ватолина званием протоиерея, желая этим подчеркнуть значение нашего прихода. Он был, если не ошибаюсь, даже доктором Академии, довольно редкий случай среди епископов, но духовные вопросы, несмотря на это, его совершенно не интересовали. Он был карьерист в душе, и невидная калужская кафедра его не удовлетворяла. Я помню один мой разговор с ним, оставивший на мне самое неприятное впечатление. По своему настроению он был юдофоб, и вот на эту тему у нас и зашел разговор. Я высказывал тот взгляд, что еврейский народ, как богоизбранный, все же сохранит до конца веков свое преимущество богоизбрания, и ссылался да главу одиннадцатую «Послания к римлянам» апостола Павла, на что получил неожиданный ответ (и от кого же? — от епископа!): «Мало ли что апостол Павел пишет!» После этого, понятно, я никогда более не вел с ним никаких духовных разговоров, его именно я и виню в том, что то событие в нашей приходской жизни, о котором я поминал выше, прошло так незаметно. Вот как было дело.
Летом 1913-го года нашему Братству святой праведной Иулиании было сообщено епископом Георгием, что Святейший Синод уважил ходатайство Братства и разрешил нам принять из рязанского кафедрального собора частицу мощей святой праведной Иулиании для вечного хранения в нашем храме, с тем чтобы о времени перенесения этой святыни состоялось бы соглашение между епархиальными архиереями — калужским и рязанским. Сообщая об этом, епископ Георгий требовал указать день, когда мы предполагали принять мощи. Я в личной беседе с ним просил его временно отсрочить, чтобы успеть, с одной стороны, изготовить ковчежец для хранения мощей и приспособить для этого существующий киот Братства, а с другой стороны, дать пройти периоду спешных полевых работ, дабы побольше народа приняло участие в этом торжестве.
Он на это согласился и мы наметили с ним 5-е октября для принятия мощей в Рязани и 6-е — для перенесения их к нам в храм. По его указаниям отец Сергий Ватолин приехал к нему для получения нужных полномочий на всех тех лиц, которые ехали за мощами. Первым ехал, понятно, сам настоятель прихода, представителем Братства — казначей Александр Захаров Фомичев, представителем прихожан — мой помощник по должности церковного старосты Дмитрий Евсеев Кузмичев и представителем рода Осоргиных, потомков праведной Иулиании, — мой младший сын Георгий. Архиерей благословил нашего священника и дал ему соответствующую бумагу. Ввиду того, что он не указал порядок встречи мощей у нас в приходе, я написал благочинному. Спрашивал его, кто и когда приедет из духовенства к нам и как оповестить население о порядке церковных служб. Ответ был для меня крайне неожиданный: архиерей не приедет, встретить мощи поручено ему, благочинному, для чего он приедет накануне ко всенощной и лично сделает нужные распоряжения.
Наши депутаты своевременно уехали. Накануне их возвращения получаю телеграмму от благочинного: «Приехать не могу, пригласить соседнего висляевского
813
священника встретить мощи крестным ходом». И вот мы убогим крестным ходом пошли встречать святыню в деревню Поливаново. Погода была ужасная: осенний мелкий дождь, непролазная грязь. Администрация отнеслась совершенно иначе к этому событию: полиция встречала на станции и провожала, что было особенно кстати, потому что высланная мной карета по дороге завязла и сломалась. Народу собралось в Поливанове много; толпа встретила мощи коленопреклоненно; после краткого молебствия двинулись к храму.
В противовес невниманию нашего епархиального духовенства наши представители рассказывали с волнением о торжественных проводах, устроенных в Рязани мощам. Как только они приехали, рязанский архиерей пригласил их присутствовать на всенощной, а нашему священнику поручил сослужить ему. На следующий день после торжественной литургии, совершенной двумя епископами, и прочувственного слова о житии праведной Иулиании, частица мощей, вложенная в наш ковчежец, была передана нашему священнику.
Но архиерей этим не ограничился: он предложил всему городскому духовенству проводить святыню до вокзала и сам со своим викарным стал во главе крестного хода. Наши представители рассказывали, что картина получилась торжественная, незабываемая. При прохождении крестного хода мимо церквей служились короткие литии и везде раздавался торжественный звон. Провожавшего народа было очень много. В последнем напутственном слове преосвященный обратился непосредственно к Георгию, как к потомку святой праведной Иулиании, и еще раз осенил его крестным знамением, поручая нашему роду хранить и беречь эту святыню. На вокзале нашему священнику пришлось непрерывно служить молебны до отхода поезда, в котором было отдельное помещение для святыни и ее сопровождающих. В Ряжске, где предстояла пересадка, городское духовенство встречало мощи и устроило перенос их в поезд, ожидавший на нашей дороге. Всю дорогу, по словам нашего священника, приходили прикладываться к мощам. Пережив такие волнительные и благолепные проводы, они ждали здесь, на месте, еще большего религиозного подъема. И как обидно всем стало при сознании, что наша епархия не захотела и не сумела отметить это знаменательное событие в церковной жизни! У нас в то время гостил младший брат моей жены, князь Григорий Николаевич Трубецкой; он тут же набросал статью, описывавшую в ярких чертах торжество в Рязани и невнимание калужской епархиальной власти. Послана была эта статья в «Русские ведомости» и никогда не появилась.
На этом кончу свои воспоминания о приходской жизни за этот период. Перейду к более последовательному изложению событий в нашей семейной жизни за это время.
Покинув Тулу в декабре 1905-го года и поселившись в деревне, мы должны были расстаться со старшими сыновьями, которые остались в Туле для окончания 8-го класса гимназии. Тяжела была эта разлука. С ними начало 1906-го года жила сестра моей жены Ольга. Сережа мой заболел скарлатиной; пришлось отделить Мишу, его приютил милейший Василий Николаевич Свинтицкий с женой, который, как писал выше, служил у меня в Туле чиновником особых поручений. Жена моя все начало болезни Сережи была при нем. К Пасхе Ольга уехала,
814
и я сменил жену при уже выздоравливающем сыне. К концу Пасхальной недели удалось и Сережу перевезти в Сергиевское, а их маленькую квартирку спешно дезинфицировать, чтобы иметь возможность вернуться в нее ко времени экзаменов. При самом начале экзаменов был убит директор гимназии Радецкий. Убит он был своим гимназистом, успевшим бесследно скрыться. Этот юноша вошел к нему в служебный кабинет для какого-то объяснения по поводу неудовлетворительной отметки и, не получив желаемого удовлетворения, выстрелил в директора и удалился. Выстрел никто не слышал, и только узнали о случившемся, когда раненый Сергей Александрович Радецкий дополз до двери приемной, приотворил ее и тут же упал без сознания. Скончался он почти тотчас же, не придя в себя и не назвав убийцы. Какая-то дама, находившаяся в приемной, заявила следственной власти, что она берется опознать того гимназиста, который последний вышел из кабинета. Жена моя, понятно, пережила немало волнений, боясь, что эта особа по ошибке, недоразумению или по чувству мести ко мне как к бывшему губернатору укажет на одного из моих сыновей. Не помню точно, состоялись ли эти очные ставки, но в результате убийца не был разыскан. Вся эта история осталась для меня до сих пор крайне туманной и невыясненной. Ходили слухи, что на бульваре был подслушан разговор, по которому стало известно, будто причиной убийства была неудовлетворительная отметка. Говорили, что в этом разговоре была названа даже фамилия убийцы, и почему-то дело замяли. Но я был уже не у дел и поэтому точных сведений не имел. Можно себе представить, как убийство Радецкого, любимого директора, потрясло всю гимназию — и в какое время! В период выпускных экзаменов.
Моя жена, боясь всегда за меня и, главное, чувствуя мое неловкое положение в Туле, где меня считали чуть ли не революционером, удаленным со службы, сама поехала в Тулу к сыновьям, пробыла с ними и тот день, когда состоялись похороны Радецкого. По ее рассказам, впечатление этого события на детей было сильно. Я у них побывал раньше этого события, именно 1-го мая. Этого числа я как бывший губернатор побаивался, думая, что не обойдется без беспорядков. Беспорядков не было, но все же мне пришлось пережить un mauvais quart d’heure. Заместитель мой Арцимович относился ко мне с большой предупредительностью и нередко высказывал мне свое искреннее уважение. По-видимому, он меня не считал революционером, а во многом сочувствовал моим взглядам. Первого мая он мне телефонирует, что сейчас ему донесли, что в общественном саду близ Кремля собрался митинг и что он думает разогнать его. Я ответил, что я поступил бы так же. Не прошло 10-ти минут после этого разговора, как он меня вновь подзывает к телефону и говорит, что послал полицмейстера со взводом казаков; потом, в виде вопроса или замечания в сторону, добавил: «А Вы бы сами поехали?» Я замялся. Тогда он стал настойчиво добиваться: «Нет, скажите. Вы бы как поступили?» Не мог я врать и ответил, что думаю, что поехал бы. На этом наш разговор прекратился. Сидел я в своей гостиной, выходившей на улицу прямо против подъезда губернаторского дома; вижу, что подают коляску, и Арцимович в форменном пальто отъезжает от дома, а жена в окне провожает его и крестит. Скверно было у меня на душе при мысли, что если с ним что-нибудь случится, отчасти буду виновен я. Долго он не возвращался, а я все по телефону
815
разузнавал — что он? Только поздно вечером раздался знакомый топот пары лошадей. Вернулся он благополучно, и я успокоился. Арцимович так никогда и не узнал, сколько в тот вечер он причинил мне тревог и мучений.
Жена моя была права: бывать в Туле мне было трудно; всякие клеветы и сплетни обо мне, понятно, мне были неприятны. В местной газете появилось даже сообщение, что по распоряжению из Петербурга я арестован и увезен из деревни. Все же я хотел непременно последние дни экзаменов провести с сыновьями, но и это мне не удалось. В Петербурге заболела моя сестра, и племянница Муся вызвала меня телеграммой. Друзья сестры мне тоже писали, вызывая меня немедленно. Вот почему я пренебрег даже последними экзаменами сыновей. Обстоятельства сестры были тяжелые: муж в Варшаве, она, больная, с дочерью в Петербурге, срок ее квартиры кончился; ввиду ее болезни переехать в деревню было немыслимо, и поместили ее временно в гостиницу армии и флота. Прожил я с ними несколько дней и поехал домой, рассчитав свое возвращение так, чтобы проехать через Тулу в день последнего экзамена детей и чтобы они ко мне присоединились для возвращения в Сергиевское. Все время я знал, как идут их экзамены; неизвестен мне был только результат последнего дня. Подъезжаю к Туле, вышел на площадку и вижу на платформе Мишу и Сережу в штатских платьях, с папиросками в зубах как явное доказательство, что они больше не гимназисты. С ними же вышел меня встречать верный «Микола» (Николай Алексеевич Снесский), когда-то их репетитор, а теперь чиновник особых поручений Арцимовича.
В тот же вечер мы были уже в Сергиевском и с Тулой, в смысле жительства в ней, окончательно покончили. Потом, в течение зимы, мне приходилось еще неоднократно бывать там по делу продажи Крестьянскому банку имения моей жены в Екатерининском уезде. Это первое лето 1906-го года в смысле семейных событий ничего особенного не представляет. Дети наслаждались жизнью в Сергиевском. Мы с женой обдумывали, как устроить зимой двух старших сыновей в Москве в университете. Брат жены Евгений, переведенный к тому времени из Киевского университета профессором в Московский, предложил, чтобы они жили у него. На этом и порешили.
Первая зима, проведенная в Сергиевском, прошла и в волнениях, и в тревогах. Начались уже с осени всякие осложнения. Помню, как я поехал в Светлое, где Катя Евреинова серьезно заболела. Вернувшись домой, я был встречен на подъезде женой своей, опиравшейся на палку; объяснила она это какой-то странной болью в ноге. Потом оказалось, что это был первый приступ флебита, который впоследствии неоднократно повторялся. Принуждена она была слечь в постель, и потянулось невеселое время. А тут скоро мальчикам-студентам настало время ехать в Москву. Я должен был проводить их, устроить и дождаться их окончательного зачисления в университет. Накануне отъезда я получил телеграмму о кончине Ольги Михайловны Полторацкой с сообщением, что похороны будут в Авчурине. Пришлось отложить отъезд и сыновей отправить одних. Только проводив тело покойной и повидав всю осиротевшую семью, я, уже не заезжая в Сергиевское, прямо проехал в Москву. Застал я Мишу и Сережу уже водворившимися у Трубецких. Надо было спешно решать вопрос о выборе для них факультета. У Сережи не было сомнений: он уже давно, в гимназии,
816
облюбовал естественный факультет, и поступить туда было легко, ваканций было достаточно.
Миша же мечтал о медицинском факультете, но было столько желающих, что явилось опасение того, что он останется за флагами ввиду не особенно блестящего аттестата зрелости. Я ему посоветовал записаться на юридический факультет, с тем чтобы через год, если он не переменит намерения, перейти на медицинский. Может быть, мой совет был пагубным для него: по складу его ума и по его характеру юридический факультет совсем ему не подходил, медицинский же, как практическое прикладное знание, наверное, его заинтересовал и увлек бы. Переход впоследствии, может быть, и был возможен, но казался обидным, так как курс на этом факультете был более продолжительный. Так Миша и остался на факультете, который его совершенно не интересовал. Неуютно мне было оставлять мальчиков в Москве, да и они меня с грустью провожали.
Когда жена поправилась, она поехала их навестить, с тем чтобы повозить их по родственникам, так как это было в первый раз, что они юношами попадали в Москву. Когда она вернулась, начались новые тревоги: заболела Мария, и заболела серьезно — дифтеритом. Остальных детей от нее отделили, а жена с ней изолировалась на нашей половине. В день, когда Мария вышла из карантина, заболела Тоня, также дифтеритом, а дня через два и сама Лиза слегла; как определил доктор, вызванный по этому случаю, у нее был выкидыш — как последствие начинавшейся женской болезни. Доктор Дубенский настоял на том, чтобы жена моя была совершенно изолирована от Тони и чтобы остальным детям была сделана предохранительная прививка. Потянулись тяжелые дни. При Тоне неотступно была няня, а я с ней проводил ночи; днем же, приняв предварительно ванну и переодевшись, навещал жену и остальных детей. В это же время сыновья старшие должны были уехать от Трубецких, у которых кто-то заболел скарлатиной. Приютила их Паша Трубецкая. Она их приняла с такой лаской и заботой, что они особенно к ней привязались и всегда любили вспоминать эту зиму.
В это время тетя Лидия Небольсина уже скончалась, и мой отец среди всех этих волнений оставался очень одиноким. Тетя Лидия скончалась от рака; хотели ей сделать операцию, но при самом начале ее выяснилось, что рак принял уже такие размеры, что оперативная помощь немыслима; так она и скончалась под наркозом в операционной.
За всю эту унылую зиму я помню только одно радостное обстоятельство. Напуганный предположениями доктора Дубенского [о] начинавшейся у жены серьезной женской болезни, я просил профессора Снегирева, отдыхавшего часть зимы у себя в имении недалеко от нас, приехать посмотреть жену. С каким страхом мы ждали его приезда, можно себе представить! Был он крайне внимателен, и когда убедился, что предположения нашего доктора были ошибочны, как ободряюще он это нам объявил! Вообще Снегирев был человек замечательной доброты; то время, которое он провел у нас, он большей частью уделил больным, которые сразу привалили, узнав о приезде доктора.
Не стану хронологически передавать все мелкие события, буду останавливаться и подробно описывать более выдающиеся за этот период. В эту зиму, когда старшие сыновья уехали в университет, жизнь наша как бы утрясалась,
817
вливалась в новые рамки. Фон ее был приблизительно тот же, как тот, который я описывал в период моего земского начальничества, но были и большие видоизменения. Моей матери уже не было в живых, мой отец, одинокий, не мог уже расточать то тепло, которым так окутывалось ранее детство детей; он сам уже нуждался и в моей ласке, и в том, чтобы им занялись. Тогда все дети были если не одновозрастные, то, во всяком случае, составляли одну детскую компанию; теперь же старшие сыновья были студенты, старшие дочери, хотя и учащиеся, но были уже в том возрасте, когда ищешь молодой компании, молодого общества, а не только общества одной семьи. Георгий, как бы их подголосок, занимается уже серьезно, но ищет удовольствий не домашних; его влекут и охота, и дальние вольные катания, а еще больше — сверстники, товарищи. Маленьких только две — Мария и Тоня. Тоня только теперь зажила сознательной жизнью в деревне, до того все зимы в ее памяти соединялись с городом. Разнородность этих интересов и создала ту новую атмосферу, в которой складывалась наша жизнь. Я помню, как в той части моих воспоминаний я употребил такую фразу: «Меня спросят, почему я все описываю праздники? Когда же были будни?», и я на это сам себе ответил: «Да в то время жизнь детей была один сплошной праздник».
Теперь же скажу, что в этом периоде нашей жизни будни от праздников резко отличались. Праздником было то время, когда вся семья была в сборе, когда студенты наши приезжали домой. Наиболее интенсивно это ощущалось во время рождественских вакаций. Тогда не только вся семья была в сборе, но приезжали двоюродные братья и сестры поотдохнуть от зимней городской жизни и набраться здоровых деревенских впечатлений. Буднями, и сильно ощутительными буднями, было то время, когда не только сыновья были в Москве, но и жена со старшими дочерьми туда ездила повеселить их. Тогда мы оставались в совсем маленьком составе. Мария и Тоня теперь еще меня упрекают, что я недостаточно понимал их детскую психологию, слишком резко отделял их от старших детей, а они от этого съеживались и часто страдали. Георгий уверяет, что он в то время ужасно меня боялся, и потому не было той близости, как со старшими сыновьями. Может быть, они и правы: не было у меня той чуткости, чтобы понять все возрасты. Мне казалось это продолжением прежнего, и я не понимал, что для Марии и Тони это было не продолжение, а лишь начало. Не умел я, как моя жена, переживать с ними сначала всю гамму впечатлений; маленькие, главное, Мария, которая собственно была пристегнута к Тоне, особенно ощущала неудовлетворенность в дни больших съездов молодежи. Съезды эти отличались не только одним весельем, но в них уже было настроение влюбленности — «cousinage — dangereux voisinage» — возраст был такой. Кажется, все близкие двоюродные перебывали у нас, и по несколько раз. Приезжали и дети Сережи Трубецкого — Котя, Владимир и Маня, и сыновья Жени — Сережа и Саша, и Варя и Соня Самарины, и, наконец, дети Гагарины и Лермонтовы. Когда эти последние две семьи приезжали, и маленьким была лафа: это были их подруги, их однолетки, и все тогда сливалось в общую, веселую, юную компанию.
Старше всех в этой компании и неизменный ее участник был Дмитрий Капнист, двоюродный брат жены; но он ухаживал за Соней и потому все время держался
818
с юной компанией. Моя племянница Муся в собраниях на святках не участвовала, но каждую осень проводила месяца два в Сергиевском с моей сестрой.
Господи, какое веселье царило на Святках! К этому времени особенно тщательно отделывалась ледяная гора в саду, а ею пользовались одни маленькие: старшая молодежь презирала такие наивные удовольствия и выдумывала какие-нибудь головокружительные катания на салазках или дровнях по всей горе Заразе — от церкви до самой реки. Наскучит катание на салазках, и затевают новое удовольствие — дальнее катание на лошадях в санях с каким-нибудь новым добавлением, и непременно опасным: привяжут к большим саням на длинной веревке салазки, посадят в них кого-нибудь посмелее, мчатся по ухабам и хохочут над плачевной фигурой в салазках, которые бросает из стороны в сторону. Вечером же разыгрывались шарады. Сочинителями их бывали всегда Котя Трубецкой с моим Сережей, а главным исполнителем — Владимир Трубецкой. Помню две таких шарады, особенно удачные: «Министрель» и «Бухара» Последнюю, по просьбе Мамоновых, повторили в Тимофеевке для Ольги Александровны. Обе были в трех действиях.
В первом действии «Министреля» главным действующим лицом был министр, потерявший свой портфель, не au figuré, a à la lettre; между тем он должен ехать на доклад; вся семья в тревоге, в поисках, и происходит несколько забавных и веселых сцен, пока портфель не находится. Второе действие: слово «ель» было поставлено в новейшем декадентском стиле. Действующими лицами были «он», «она», «оно», «некто в сером», «цифра 26», «ночь», «тю», «женщина в желтом» и духи в виде мышат. Действие, полное таинственности и бессмыслицы, происходило кругом большой ели. Настроение создавалось полумраком, отрывочными, как бы символическими фразами и музыкой, очень удачно импровизированной Котей. Он же под конец выходит как представитель реализма и объявляет, что все это бессмыслица и плод болезненного воображения. Последнее действие было из средневековой эпохи. Три рыцаря, претенденты на руку принцессы, оспаривали ее друг у друга, и наконец один из них, министрель, покорил ее сердце своим пением.
«Бухара» была поставлена еще замысловатее. В первом действии разыгрывался «Кубок» Шиллера, в окраске Летучей Мыши. Паж, бросавшийся за кубком (конечно, Владимир Трубецкой), вскрикивал, падая: «Бух!» Второе действие — «ара» — была целая картина, талантливо разыгранная Владимиром. Он изображал глубокого старика, одиноко встречающего Рождество, устроившего par reminiscence du passe елку. Сидит он около нее, любуется ею и читает газету; елка догорает, и он засыпает. Во сне перед ним проходят в образах все те объявления, которые он, засыпая, прочел в газете. Первое: идут навстречу друг другу два молодца (мой Миша и Котя Трубецкой): «Ба! Ты куда?» — «Понятно, в ресторан Бар!» Второе: проскакивает по сцене со спеленутыми руками Георгий, изображая гильзу — «совершенно без рук, одними машинами приготовляются гильзы Катыка!» Третье: проходит по сцене, жеманясь, Маня Трубецкая, с заявлением, что она хочет выйти замуж. Затем проходили один за другим Льяна, изображавшая пилюли «Ара», Дмитрий Капнист со словами: «Я был лысый, отец мой был лысый и дед мой был лысый...» — реклама средства для волос Djon Craven Barley,
819
и, наконец, Соня, рекламировавшая мыло «Секрет молодости и красоты». Третье действие, комическое, изображало путешествие английской четы в Бухарской пустыне. Английская леди, Маня Трубецкая, всему удивлялась, но все находила shocking. Часто, даже после шарад, если была хорошая лунная ночь, вся молодежь отправлялась на ночную прогулку. В этом она всегда встречала поддержку со стороны моей жены, которая особенно поддавалась их веселому настроению и всеми силами его поддерживала.
Летом 1907-го года, как раз под 30-е июля, день рождения Миши, приехали к нам вся семья Гагариных и Лермонтовы. Последние прожили недели две, а Гагарины остались до конца ноября. Благодаря этому вся осень этого года прошла особенно весело и для младших, для которых девочки Гагарины были сверстницами. Ввиду такого продолжительного пребывания их жизнь была налажена правильно в смысле уроков. С того времени, как мы поселились в Сергиевском, на зиму ежегодно приглашалась педагогичка из Фишеровской гимназии; первые года она обучала старших дочерей и Георгия, потом старшие окончили свое учение, для Георгия брали студента, а фишерка занималась с младшими. Учительницами перебывали у нас Л. П. Матасова, Н. Н. Орлина и Л. Н. Горшкова. Только последняя была специально для Марии и Тони, причем по математике занимался с ними либо я, либо студент Георгия. Студенты у Георгия часто менялись; первый, очень симпатичный, должен был скоро уехать по случаю кончины отца. Его заменил очень основательный Шемиот-Полачанский, прозанимавшийся полтора учебных года; потеряв надежду его вновь заполучить к себе, я поехал сам в Москву подыскать подходящего студента. Остановил я свой выбор на молодом, на вид очень воспитанном и хорошо рекомендованном одним профессором университета студенте-юристе А. В. Энгельгардте. Первый год занятия с ним Георгия были очень успешны. Математику и Закон Божий я оставил за собой. Энгельгардт отличался большой любовью к разным спортам. Только потом уж я узнал, что эти спорты обыкновенно кончались выпивкой, для чего он свел дружбу с разными рыбаками. На второй год его пребывания, когда Георгий проходил уже курс 7-го класса, я стал подыскивать студента специалиста-математика в помощь Энгельгардту, и Энгельгардт рекомендовал товарища по университету, который приехал с нами знакомиться во время рождественских вакаций. Помню, как он меня поразил своим костюмом: черной рубашкой, подпоясанной широким ремнем. Роста он был небольшого, немного сутуловат, но с приятным, умным лицом. Назвался он Владимир Азарьевич Кувшинский и заявил, что и он хотел ознакомиться, чтобы дать себе понятие, в состоянии ли он будет сам продолжать свои занятия: ему предстояло сдавать трудные государственные экзамены в Петербургском университете. Впечатление обоюдное было благоприятное, и мы покончили с ним на том, что он приедет 6-го января, чтобы начать уроки не только с Георгием, но и с Марией. Сознаюсь, что передавать эти уроки детей мне было жаль; оставались мне с ними только уроки по Закону Божьему и со старшими дочерьми субботние беседы по нравственному богословию; но я понимал, что для Георгия я уже недостаточен как преподаватель, а упустить для Марии возможность заниматься со специалистом было бы нехорошо. На следующий год, когда мы близко познакомились с Владимиром
820
Азарьевичем, [и] он стал своим человеком, и Тоня после возвращения из Крыма перешла к нему. Ввиду того, что экзамен на аттестат зрелости включает и поверку знаний за 7-й класс, Георгий в этом году не держал переходного экзамена. К следующему учебному году Энгельгардт отказался вернуться, да я и не жалел, так как мне уже стали известны его охотничьи похождения. Обратился я к Николаю Васильевичу Давыдову, считавшемуся в московском обществе близко знающим студенческую молодежь; прислал он мне студента для словесных наук. Я был один в Сергиевском с Георгием и Владимиром Азарьевичем, остальные были в Крыму. Первым моим разочарованием при знакомстве с этим субъектом было то, что он оказался студентом-математиком и никак не ожидал, что ему придется заниматься не по своей специальности. Потом дело пошло еще хуже: он не только не сумел себя поставить с Георгием, но и восстановил его против себя, и я, не дождавшись возвращения жены, с ним расстался. Трудное настало время. Год был особенно серьезный для Георгия. Поделили мы с Кувшинским, как могли, занятия между собой, а между тем списался я с московскими родственниками, прося подыскать мне кого-нибудь. Как только семья вернулась, поехал я в Москву. Выбор мне предстоял между одним крайне начитанным, но нахальным еврейчиком и только что блестяще окончившим филологический факультет по историческому отделению скромным русским, попавшим в университет из семинарии. Остановился я на последнем, но, увы, он недолго прожил у нас. Он был так конфузлив, так скромен, так стеснялся новой среды, в которой никогда до того не вращался, что совершенно не мог проявить своих талантов, и сам, с большой добросовестностью, просил его отпустить. На рождественских вакациях он и уехал, а я просил Кувшинского воспользоваться свободным временем и разыскать того юркого еврейчика, которого я сначала забраковал, и привезти его с собой. Оказалось, что он уже пристроился к какому-то адвокату, но Владимир Азарьевич нашел другого, очень симпатичного и опытного — П. М. Клинчина. Одно его условие было неприятное: он просил позволения привезти и свою жену. Жена его была караимка, и так как караимы не допускают браков с евреями-талмудистами, Павел Маркович принял протестантство, но в сущности остался тем же евреем. Насколько жена его была невоспитанная и неприятная, настолько он был симпатичный, покладистый и прекрасный учитель.
К благословению Сони, предположенному на 16-е апреля, должны были приехать многие родные Коли Лопухина во главе с его матерью. Трудность положения заключалась в том, что все это было предположением, так как, хотя казалось все между ними договорено, все же женихами они себя не считали и таковыми еще и нами не были объявлены. Произошло это от того, что, как я писал выше, Лиза и Георгий лежали больными в Москве, и только в начале Страстной их обоих со всякими предосторожностями наш милейший земский врач Аркевич перевез в Сергиевское. Коля и Соня хотели свое благословение подогнать к 16-му — дню помолвки моих родителей и моего рождения — <…> воспоминаний счастливым предзнаменованием. В этом 1910-м году день этот приходился на Пасхальную неделю; Коля приехал в Великую Пятницу, и тут произошло у них окончательное объяснение. Соня его встретила в Заразе близ пароходной
821
пристани и, не заходя домой, они пошли в дальнюю прогулку. Уже поздно вечером, когда братья пошли за ними, они вернулись, но с совершенно неожиданным решением: Соня, испугавшись разлуки с семьей, не сказала ожидаемого слова «да». Недоразумение продолжалось на следующий день. Коля был невыразимо жалок, так как кроме жгучих личных переживаний страшился за свою мать: как она, уже вызванная к 16-му апреля, со своим больным сердцем отнесется и переживет этот отказ Сони; поэтому он решил сам немедленно уехать, чтобы сам все ей рассказать; но был вечер уже Великой Субботы, и вырастало новое затруднение: как его доставить на вокзал в самую пасхальную ночь; обратился он с просьбой к Мише, который обещал лично его свезти на вокзал.

София Евгеньевна Трубецкая.
Рисунок М. М. Осоргиной. 1921.
Частное собрание, Москва
Узнав про такое решение Коли и понимая, что ответ Сони, скорее, вызван особой впечатлительностью, мы с Лизой решили посоветовать им вновь объясниться, для чего я пошел успокоить Колю к нему в комнату, а Лиза позвала Соню к себе. Мы были правы — объяснение было необходимо, да и сама Соня его желала; состоялось это у меня в кабинете, и на этот раз совершенно в другом духе. Все же, так как оно затягивалось, я попросил жену пойти к ним в кабинет et у mettre fin. Через минуту она меня позвала; застал я их хотя плачущими, но сияющими, и мы тут же их перекрестили и поздравили. Сейчас же пришлось торопиться в церковь к пасхальной заутрене, по окончании которой и христосования все и нас, и их поздравляли с жениховством. Соня была особенно любима
822
как крестьянами, так и всеми домашними, почему ей было высказано много сочувствия.
Благословение состоялось, как и хотели, 16-го апреля в полном семейном кругу, тем более полном, что родные жениха с отцовской стороны были и родными моей жены. Коля служил в это время мировым судьей в Москве, и как кончился пасхальный вакант, уехал к месту своего служения. Летом они виделись не часто, раз Лиза ездила с Соней к Лопухиным в их имение Хилково; он приезжал в течение лета раза три, наконец Соня со мной ездила в Москву его повидать, когда я поехал искать нам квартиру.
Ввиду свадьбы Сони, первого вылета птенца из семьи, Лиза настояла на переезде всей семьи на зиму в Москву; и ей не представлялось возможным быть далеко от Сони, да и для остальных, особенно для Льяны, она боялась тяжести разлуки и одиночества. В поисках квартиры помогала мне Льяна; наконец, после тщетных шатаний по Москве, наш выбор остановился на квартире в большом квартирном доме на Патриарших прудах; достоинство ее было то, что она вся была на солнце и в нижнем этаже, так что воздуха и света было большое обилие.
Свадьба состоялась в Сергиевском 28 августа 1913-го года. Хотя были только самые близкие родные с той и другой стороны, все же народу было много, и наш обширный дом не мог вместить всех на ночь: некоторые ночевали у Мамоновых в Тимофеевке, а для других я нанял специальный пароход от Калуги и обратно, так что приезжие из Москвы и Калуги могли приехать на свадьбу обыденкой. Сыновья мои разделили между собой все хлопоты этого торжества: Миша взял на себя все, что касалось приема, размещения и кормления гостей, Сережа — украшение церкви, устроение хора и вообще наблюдение за благолепием службы; наш сельский причт впервые венчал свадьбу в нашей среде и не был знаком с теми требованиями, обычаями, которые сопровождают у нас это церковное торжество. Георгий взял на себя хлопотливую часть привоза и отвоза в течение нескольких дней в разные часы, в разные направления, то на железнодорожную станцию, то на пароходную пристань, всех приезжающих и отъезжающих; он себе осложнил работу еще тем, что поставил себе за гонор не нанимать почтовых лошадей и не занимать таковых, а также и экипажей у соседей, и в самый день свадьбы он к тому же еще неожиданно предложил всем желающим ехать провожать молодых на станцию, что не входило в расписание. Благо было сыновьям взять все эти хлопоты на себя; нам, родителям, так безумно трудно было расставание с Соней, видеть, ощущать начало распадения семейного гнезда, что, право, трудно было бы обдумывать и следить за всеми мелочами в такой день.
Для меня лично день прошел как бы в тумане. Помню отдельные эпизоды, помню благословение Сони в гостиной перед венцом, заплаканные лица всей семьи, помню, как я ввел Соню в храм, поразивший меня почему то своей обширностью, помню, как ступив лишь несколько шагов по ковровой дорожке, растянутой через весь храм, к нам подошли священник с диаконом, столь нам знакомые, а тут показавшиеся мне какими-то чужими; подвел отец Сергий Колю, отнял у меня Соню и повел их обоих к месту обручения. Помню приезд молодых от венца; встречали их на подъезде с образом и хлебом-солью мать Коли и Гриша
823
Трубецкой, его посаженый отец; помню, наконец, самый отъезд молодых; они в тот же вечер уезжали в Хилково недели на две, а потом за границу. Вечер темный, в августе день значительно сократился, факелы, которые держат конные, фонари на подъезде освещают экипаж, маленькое ландо, куда садятся молодые. Соня, высовываясь из окна, смотрит на нас, и мы ее и она нас крестит, но лошади рванули, и сразу ее дорогой облик исчез в темноте, а мы с Лизой стараемся уединиться в нашей спальне и еще из ее окна следим за светом факелов, освещающих по Поливановской дороге путь, по которому увозят нашу старшую дочь, нас покинувшую для самостоятельной жизни. Да, трудно, очень трудно дочь замуж выдавать первую. Ко времени проезда молодых через Москву за границу мы все приехали в Москву с ними проститься; одновременно Лиза сделала последние распоряжения и указания по устройству нашей новой зимней квартиры, после чего мы все вернулись доживать осень в Сергиевское. К нам приехали на всю осень Гриша, брат жены, со своей семьей; благодаря их присутствию осень прошла оживленно, и частые письма от Сони и Коли скрашивали разлуку.
В течение этой осени произошли два события, о которых я уже писал выше, а именно: в сентябре избрание Миши членом уездной Земской управы и в октябре перенесение частицы мощей святой праведной Иулиании из Рязанского собора в наш храм.
Осенью Сережа должен был держать государственные экзамены, но оказалось, что он, по забывчивости и неаккуратности, забыл сдать какие-то зачеты, почему его к экзамену не допустили. Долго он это скрывал от нас, надеясь выхлопотать себе разрешение сдать эти зачеты дополнительно, но ему во всем отказали, и пришлось ему еще на год отсрочить свои государственные экзамены, что было тем более досадно, что оставление его при университете по кафедре профессора Кожевникова была вещь, по-видимому, решенная. Сережа обратил на себя внимание своими работами с гидрами; может быть, эти работы и отвлекли его от подготовки к текущим зачетам, что и было причиной недопущения его к государственным экзаменам.
Приехали мы все в середине октября; очень скоро Лиза наладила уроки Марии и Тони, и жизнь потекла своим чередом. Миша ждал утверждения своих выборов, что несколько затягивалось, благодаря тому что, состоя в должности кандидата земского начальника, предварительно он должен был быть уволен от этой должности приказом министра; до утверждения его членом Управы жил он у нас в Москве. К концу месяца приехали и Соня с мужем и поселились на своей новой квартире в Мало-Успенском переулке, уже отделанной и обдуманной обеими матерями.
Квартира наша оказалась неподходящей для той именно цели, которой мы задавались с женой при переезде в Москву — повеселить и поразвлечь детей. Я лично надеялся, что наш дом будет тем центром, где по вечерам собираются без зова все родные, желающие друг друга повидать; так некогда был дом родителей моей жены на Пресне и потом home Сережи и Паши [Трубецких]. У нас ничего не вышло; я это объясняю, главное, тем, что не было комнаты уютной посидеть, поработать у лампы и мирно побеседовать; к тому располагал мой кабинет, но это была щелка, где более как двум и поместиться нельзя было. Все же
824
дети часто виделись со своими двоюродными братьями и сестрами, в особенности с Гагариными, и в театрах и концертах им удалось побывать. В общем, зима была все-таки невеселая, благодаря болезни то одного, то другого; сначала болела Льяна, потом Мария и завершилось все это болезнью Тони, очень серьезной болезнью; мне лично часто приходилось ездить в Сергиевское, а когда Миша был утвержден и переехал в Калугу, то и его я часто посещал, желая ему помочь разобраться на первых порах новой земской службы.
Ничто не предвещало, что это последний год мирной жизни в России, что скоро наступит война, а затем катаклизм революции смел весь прежний уклад жизни. Настолько никто этого не ожидал в смысле быстроты развернувшихся событий, что когда выяснилась необходимость везти Тоню за границу, мы ни одной минуты не сомневались в возможности это сделать; впрочем, вспоминаю, что я, по какому-то предчувствию, говорил Лизе, как жаль не проводить это лето в Сергиевском, быть может, последнее, окруженными всеми детьми, но Лиза по совету докторов настаивала на поездке в Киссинген для Тони, и мы оба, родители, должны были ее везти. Действительно, состояние Тони после стрептококковой жабы, осложнившейся суставным ревматизмом и эндокардитом, было угрожающее; ей было запрещено всякое движение и она лежала как пласт.
Выехали мы на Варшаву — Берлин в самый день Вознесения. Провожали нас на вокзал все дети, кроме Марии, которая, бедная, должна была ехать в этот же день в Тулу держать последний экзамен. После нашего отъезда решено было, что все дети переедут в Сергиевское и заживут там республикой под главенством Миши и Льяны; хозяйство в имении должен был вести Георгий под руководством Миши, наезжавшего для этого из Калуги.
Весной этого года мой beau-frère Жилинский неожиданно получил высокое назначение варшавского генерал-губернатора и командующего войсками этого округа; к Пасхе они уже с моей сестрой переехали туда и во время нашего проезда уже жили в обжитом ими помещении Лазенковского дворца — того самого дворца, где когда-то жил наместник цесаревич Константин Павлович и бежал оттуда при начале восстания. В его комнате и поселился мой зять, сестра моя заняла внизу целый апартамент для себя и Муси, нам был устроен такой же роскошный апартамент на запасной половине дворца; все комнаты утопали в цветах и почти из каждой была porte-fenêtre в дворцовый сад с роскошным цветником, фонтанами и всякими ухищрениями садового искусства. Мы у них прожили дня три, окружены были комфортом, лаской и заботой; Тоня положительно даже отдохнула там, пребывая весь день в саду на кушетке. Мы с Лизой осмотрели и некоторые достопримечательности Варшавы, и я в театре побывал — последний раз, что я был в театре в жизни. Неприятно было только то, что всюду с нами ездил Яша, мой beau-frère, а он по своей должности всегда был окружен свитой и декорумом, очень нас стеснявшим. Все же благодаря ему наш отъезд был обставлен всяким удобством; на границе нас не тревожили, все хлопоты по таможне взял на себя проводник вагона — толстый, налитый пивом немец.
Подъезжая к Берлину, уже в черте города я предупредил этого проводника о необходимости для Тони на центральном вокзале chaise à porteur; не знаю,
825
когда и как успел он сделать это распоряжение, но когда наш поезд остановился, у нашего вагона стояли два носильщика с креслом, на котором Тоню и перенесли прямо в гостиницу, расположенную на вокзальной площади. В Берлине мы пробыли только сутки и уже на следующий день в десять часов утра поехали в вагоне прямого сообщения в Киссинген, куда мы и прибыли часов в шесть вечера.
По рекомендации сестры моей жены Глебовой я задержал по телефону в указанном ею пансионе помещение из двух комнат, но оно оказалось столь неприглядным, что на следующий день я отправился на поиски нового. Так же, как когда-то в Крыму, мне посчастливилось занять в Fürstenhoff в последнем доме в черте города отличный апартамент из трех комнат с балконом, с полным пансионом за пятнадцать марок в день. До того пытался я поместиться в какой-нибудь санатории, дабы иметь под рукой постоянную врачебную помощь, но нигде не нашел удобного помещения нам по средствам. В сущности это вышло и лучше, потому что обратились мы, благодаря жене, к доктору Мадраковскому, который оказался и опытный врач, и сердечный человек. Он был австрийский поляк, женатый на русской — графине Татищевой, почему особенно благоволил к русским и, как я потом узнал, оказал тем нашим соотечественникам, которых война застала в этом курорте, существенные услуги.
По его указанию мы начали все трое свое лечение: нам с Лизой прописано было питье «Рагоцци» (мне с добавлением карлсбадской соли) и через день углекислые ванны и грязевые припарки; Тоне же только одни ванны в строго определенной градации, причем ей разрешено было и катанье на кресле, для чего подговорен был очень милый старик, неутомимый ходок, но с каким-то скошенным на одну сторону лицом; иногда он заменял себя своим помощником, которой любил и поболтать с Тоней.
День наш, как на всех курортах, распределился очень аккуратно, похожий друг на друга. Раньше всех вставал я, часа в четыре, редко в пять, и шел на источник пить свои воды; когда я уже кончал питье, приходила Лиза, и первый ее стакан и мой последний мы пили вместе; затем вкусы наши нас разъединяли — она шла в дальнюю прогулку за город, а я больше по городу за поручениями, которых, как всегда, ежедневно мне давалось много, и непременно в библиотеку, где мы были абонированы, для перемены кому-нибудь из нас уже прочтенной книги. По возвращении домой заставали Тоню уже вставшей и ожидавшей нас с кофе; обыкновенно в это время приносили почту из России или же писались письма. В час был table d’hôte, на который все живущие сзывались каким-то особым инструментом, переливчатыми звонками, наигрывающими какую-то своеобразную мелодию; помощник швейцара с этим инструментом обходил коридоры во всех этажах. В столовой у нас был отдельный свой столик на четверых, и Лиза и Тоня расположились так, что во время обеда могли наблюдать за всеми остальными. Обе они с присущей им наблюдательностью дали характеристики и даже прозвища всем обитателям гостиницы. Помню двух братьев (далеко не уверен, что они были братья, но мы так определили их родство), кровных немцев: один из них очень высокий, другой маленький и притом хромой; друг с другом они были как-то особенно предупредительны, и прежде чем занять свой стол, войдя в комнату, делали всем присутствующим общий поклон. Помню одну
826
польскую графиню, с которой мы через мою сестру потом и познакомились; она носилась со своим знакомством с княгиней Юсуповой, проводившей этот сезон тоже в Киссингене; я помню, как она постоянно давала указания maître d’hotel’ю к такому часу подать un thé servi в ее номер для приема княгини Юсуповой, но, кажется, она так этого визита и не дождалась, потому что приказание это слишком часто повторялось. Этот maître d’hotel был предметом особых наблюдений и насмешек Тони; действительно, он был смешон — немец, говорящий на всех языках хотя правильно, но с акцентом; он считал своим долгом встречать и усаживать каждую семью, с нами он разговаривал по-французски, подробно докладывал о меню и справлялся о вкусах; все это было так приторно любезно и как-то напыщенно что было только смешно.
После обеда был общий отдых, потом обыкновенно поездка в ванное заведение и после вечерний чай у себя на балконе; это было самое приятное время. Мы свели знакомство, опять через сестру, с очень милой семьей Стаховича, и тот или другой член их семьи часто приходил к этому five o’clock, и тогда разговоры были интересны и веселы; в этом чаепитии всегда принимала участие и моя сестра, которая недели через две после нас приехала в Киссинген и поместилась в той же гостинице, только этажом ниже. После чая иногда мы отправлялись на музыку, а в восемь часов ужин опять за table d’hôte, и затем уже к девяти вся гостиница засыпала.
Разнообразилось это времяпрепровождение в праздники и воскресенья, когда бывала обедня в русской церкви; а иногда по случаю какого-нибудь увеселения, устраивавшегося курортной администрацией для увеселения больных. Одно такое увеселение было очень оригинально и интересно; это был дневной фейерверк: пускались ракеты, которых, понятно, при дневном свете никто не видел, а только слышал; они лопались где-то высоко в воздухе и из них падали фантастические бумажные фигуры, которые, опускаясь на землю, в виде парашюта надувались воздухом и обращались в гигантские комические фигуры; толпа за ними гонялась, так как их ветром относило в разные места, и счастливчик был тот, кому доставалась такая фигура. Другой раз устроен был фейерверк, причем все развалины на соседних горах были иллюминированы, что составляло прямо фантастическое зрелище. Мирная жизнь курорта была нарушена телеграммой об убийстве эрцгерцога австрийского. Известие это так взбудоражило всех, что даже незнакомые делились своими впечатлениями. Я узнал о нем случайно на улице от толстого немца, шедшего ко мне навстречу с газетой и остановившего меня, чтобы прочесть мне эту телеграмму. Никто не думал, что это убийство будет причиной мировой войны, и затем, как последствие, и революции в России. Все же вначале жизнь не изменилась, и я даже уехал из Киссингена, оставив своих одних, и сделал маленькое путешествие по Швейцарии, где в Сан-Морице посетил Гагариных. Обыкновенно все едущие туда останавливаются на полпути, чтобы приучиться к постепенному подъему и разреженному воздуху; я этим пренебрег и ничего плохого не ощутил, но зато на обратном пути, когда я так же, без остановки, спустился вниз, я стал совсем задыхаться и около часа страдал. В Сан-Морице этот разреженный воздух делает то, что все чувствуют себя как бы бодрее и полными сил. У Гагариных была прекрасная вилла с балконом
827
прямо на озеро, вокруг которого вилась пешеходная дорога; вилла эта стояла как бы особняком вдали от всех караван-сараев, pulvo-hotels, в которых битком набивались разные туристы. Помню с Гагариными одну особенно интересную прогулку на вечный ледник: жутко и страшно было думать, что находишься на таком месте, которое чуть не с сотворения мира неизменно.
Вообще я особенно люблю Швейцарию; обилие в ней озер, окаймленных местами громадными скалами, местами живописными домиками, на меня всегда производит какое-то особое впечатление. Может быть, это воспоминание раннего детства, но на этот раз я себя почувствовал как будто бы дома, в родных местах. Немецкий язык Киссингена мне так надоел, что я избрал маршрут на Schaffhouse, уже город швейцарский, там я осмотрел Рейнский водопад и спустился на пароходе до Бодена. Чувствуя себя на швейцарской земле, я говорил только по-французски. Велико же было мое разочарование, когда оказалось, что конечная пароходная пристань опять на немецкой земле. Это до того меня рассердило, что я в тот же день продолжил свое путешествие. Успел я только переговорить по телефону с Киссингеном, но, увы, Лизы не было дома, и только швейцар сообщил мне, что все было благополучно. В общем, я проездил не больше недели, и как только я вернулся, мы стали собираться домой.
В эти последние дни, проведенные в Киссингене, мы были свидетелями необычайной грозы. Началась она в то время, когда жена моя с Тоней были в ванном заведении. Надвигавшиеся тучи были столь грозны, что я сам поехал их оттуда вызволять. Им удалось благополучно добраться домой на извозчике, я же, следовавший за ними пешком, немного запоздал и уже испытал на себе начало грозы. Идя по набережной реки Saal, перед самым нашим Fürstenhoff’ом надо пересечь русло горного ручейка, по которому в обыкновенное время течет едва заметная струйка воды. Тут уже этот ручеек оказался столь широким, что нельзя было его перешагнуть, а пришлось перепрыгнуть. Когда же я на лифте поднялся к моим и посмотрел в окно, из которого этот ручеек был виден, он представлял из себя уже бурный поток, разбивавший все преграды по пути и ломавший с силою каменный забор сада; по нем неслись обломки разрушенных строений в горах, разбитая мебель и даже не только мелкие животные, но и крупные, как корова, смытая, по-видимому, течением воды с какого-нибудь горного пастбища. Дождя уже не было, он весь выливался в горах, но молнии и удары грома были столь ослепительны и оглушительны, что даже мне, любящему грозу, было жутко. На следующий день выяснилось, что эта гроза причинила столько бедствий и разорила стольких горных обитателей, что была открыта подписка в пользу пострадавших. Итак, через несколько дней мы двинулись в обратный путь.
Перед отъездом по нашей просьбе доктор Мадраковский устроил у себя на дому консультацию с одним профессором Вюрцбургского университета, специалиста по сердечным болезням. Замечательно просто и легко все это делается в Германии. Доктор при нас телефонировал в Вюрцбург этому профессору, который тут же по телефону ответил, назначив день и час своего приезда. Очень мы были удивлены, когда, подходя все трое в назначенное время к подъезду Мадраковского, мы обогнали какого-то старика, скромно шествовавшего с дождевым зонтиком под мышкой, который спросил нас адрес доктора. Это и оказался
828
наш профессор, европейская знаменитость. Мы так привыкли к нашим русским консультантам, изображающим из себя недоступных Юпитеров, что никак не могли думать встретить такую скромность. Это удивление еще более возросло, когда после консультации я его спросил, что я ему должен, и он назвал такую маленькую цифру, что я даже еще раз переспросил, думая, не ослышался ли я. На консультации лечение Мадраковского было им одобрено и разрешено нам было вместо Nachkur’а ехать просто в деревню на отдых. Слава Богу, что мы не задержались на Nachkur’е, а то мы не выбрались бы своевременно из Германии, как это случилось с Гагариными, застрявшими в Сан-Морице на обратном пути, растерявшими все свои вещи и с неимоверными усилиями, вразброд, достигнувшими русской границы.
Мы проехали благополучно на Галле и Калиш. В последнем городе нас встретили, по распоряжению Яши, со всякими любезностями, никаких препятствий не чинили на таможне и устроили нам удобное купе до Варшавы. Моя сестра Варя, покинувшая Киссинген раньше нас, встретила нас на вокзале; Яши не было, он был в какой-то инспекторской поездке по краю, и так мы его не дождались, пробыв в Варшаве всего одни сутки.
11-го июля мы были уже у себя в Сергиевском; в Калуге на вокзале нас встретил Миша, присоединившийся к нам, а в Ферзикове все остальные дети; не было только Сони, но и она приехала на следующий день с Колей, предполагая провести у нас всю осень, ожидая этой осенью рождения своего первого ребенка.
Трудно описать, какое наслаждение было очутиться всем вместе в дорогом Сергиевском, видеть воочию, какую пользу это лечение принесло Тоне и Лизе; правда, что все это омрачено было известиями, привезенными Колей, что политический горизонт сгущается и можно бояться серьезных осложнений; все же как-то не верилось в возможность войны. В нее должен был быть вовлечен в первую очередь Миша как офицер запаса, почему тем интенсивнее мы отталкивали эту мысль. Чуть ли не на следующий день и Миша, и Коля нас покинули, возвращаясь каждый к своему месту служения.
Никогда не забуду возвращения Коли. В его отсутствие я, понятно, с лихорадочным нетерпением следил за газетами, но, увы, вести были запоздалые, а обстановка менялась не по дням, а по часам. Коля приехал с вечернего поезда; не помню почему с ним приехал и Николай Шутов, и расстроенное лицо последнего запечатлелось в моей памяти. Все мы встречали Колю на подъезде; он, вылезая из экипажа, первое, что крикнул нам: «Германия объявила нам войну». Николай Шутов, вместо того, чтобы идти к себе в контору, зашел на подъезд и стал рассказывать, как в Калуге уже объявлена мобилизация. Необычность вмешательства Николая в общий разговор меня как-то больно удивила как сознание, что события столь важны, что обыденные рамки сами собой падают. У меня, сознаюсь, ноги подкосились от этих известий, и, главное, от неожиданности их. У меня все перепуталось: политическая обстановка, мне казалось по газетам, страшилась одного — объявления Россией войны Австрии, и все державы хотели этому воспрепятствовать, а тут вдруг не мы объявляем войну, а нам ее объявляют, и кто же? Германия, ни чуть не замешанная в белградский инцидент. Я с горем смотрел на жену: понимает ли она, что и судьба нашего Миши
829
предрешена. Я знал из секретного разговора с Яшей, что по мобилизационному расписанию Мише надлежит как офицеру запаса поступить в состав санитарного поезда заведующим хозяйством, но где и как будет формироваться этот поезд, я не знал. Весь вечер, понятно, прошел в разговорах и ожиданиях. Миша как член Воинского присутствия мог быть освобожден от призыва, но я знал, что он этим не воспользуется, и в душе симпатизировал такому его настроению. На следующий день я был дома, когда Миша неожиданно приехал из Калуги с известием о получении им мобилизационной карточки для отправления в Рославль Смоленской губернии, во вновь формируемой двадцать седьмой полевой санитарный поезд, то есть в такой поезд, который курсирует в сфере военных действий и принимает раненых в тылу позиций. Миша был бодр, воодушевлен, заехал к нам по пути в Москву, куда направлялся заказать себе военную форму; пошли мы с ним разыскивать Лизу и детей, гулявших где-то за садом. Как сейчас вижу, как Лиза, слегка прищурив глаза и слегка склонив голову набок, чтобы лучше видеть, нас рассматривает, и узнав Мишу, переменилась в лице и как-то сразу стала жалкая — она поняла, что Миша призван. В тот же вечер и он, и Коля уехали в Москву; последний хотел быть в центре событий, и хотя его должность мирового судьи освобождала его от призыва, все же он хотел принять активное непосредственное участие в делах войны. Помог ему в этом князь Львов. Последний к этому времени еще не отчитался от расходов земской организации за время Японской кампании и как представитель этой организации предложил оставшиеся деньги вновь обратить на оборудование, по примеру прошлой кампании помощи раненым воинам. Все губернские Земские собрания приглашались им к посильным пожертвованиям, а также к избранию двух уполномоченных для составления исполнительного органа этой организации. Как сконструировался Центральный комитет и как попал председателем оного сам князь Львов — не знаю, но многих удивило то обстоятельство, что ни он, ни Коля Лопухин, ни Каньшин не были избраны Земством. О Каньшине я это знаю достоверно: он ставил свою кандидатуру как калужанин на том Земском собрании, на котором я участвовал, и, когда был избран, все же остался за флагом, так как два других — Женя Трубецкой и Д. Н. Челищев — получили больше голосов; когда же оба последние приехали в Москву, центральный орган из пяти членов был уже образован, и в числе их заседал Каньшин.
Вся организация Земского союза была осуществлена захватным правом, и хотя она принесла много пользы, она столько же принесла и вреда, объединив вокруг себя общественные силы, отделив их от правительства и тем самым внеся рознь и недоверие в том деле, которое должно было быть едино.
Рознь эта дала трещину и в самих силах: возникли Городской союз, затем дворянские организации, каждая работавшая под своим флагом. Надо отдать справедливость князю Львову, что благодаря своей энергии и организаторским способностям, он очень скоро выдвинул Земский союз. Ему в этом способствовало и само правительство, обильно снабжая его деньгами в ущерб прямым ассигновкам интендантству. Последнее оказалось пасынком у правительства и потому неудивительно, что оно не поспевало за размахом Земского союза. Интендантство, как правительственное учреждение, было связано и сметами и строгой отчетностью;
830
Земский же союз ни с чем не считался, и не будь революции, не знаю, как бы он отчитался перед контролем.
Помню один факт из деятельности князя Львова, уже не на первых порах войны, который приводили в особую ему похвалу, а я лично считал выдающимся неправильным. Дело был так: брат моей жены Григорий Трубецкой в это время был нашим посланником при сербском правительстве, но еще не покидал Петербурга; сербское правительство просило его помощи добиться от России необходимого обмундирования и снаряжения своей армии, крайне нуждающейся и бедствующей. Трубецкой с этим ходатайством обратился к нашему военному министру, от которого получил отказ, мотивированный тем, что и наша армия в таком же бедственном положении — никто не предвидел такой длящейся войны и притом требующей непредвиденного усиления численности армии; в приемной, не выходя от министра, Гриша встретился с князем Львовым, которому рассказал только что происшедший разговор; князь Львов пришел в возмущение, записал в крупных цифрах, что требуется, и тут же, на глазах Гриши, написал телеграммы разным своим подведомственным органам то-то и то-то выслать в сербскую армию. Le geste était grand et plutôt théatral que beau, а если разобраться, то выходило, что благодаря своеволию Львова русские казенные деньги, вопреки мнению единственного ответственного в этом деле русского военного министра, пошли не на нужды своей армии, а на нужды хотя и союзной, но все же иностранной армии. Мне лично не пришлось жаловаться на видную роль Коли Лопухина в Земском союзе, так как, как увидим впоследствии, он мне во многом помог. Когда я вспоминаю про Земский союз, я не могу совершенно беспристрастно о нем писать: все в нем, хотя и с благими намерениями, было основано на захватном праве, а потому приучало к ложному отношению к законности — единственной твердой опоре нормальной государственной жизни. Сделав настоящее краткое отступление, вернусь к прерванному рассказу.
Проводив Мишу в Москву, я, с его согласия, тотчас телеграфировал моему beau-frère’у Жилинскому просьбу взять Мишу к себе в ординарцы. Мише не улыбалась во время военных действий служба в санитарном поезде, а ординарчество у главнокомандующего давало возможность ему быть ближе к центру действий, если не участником, то наблюдателем всех двигателей войны, и, быть может, при каком-нибудь поручении и принять активное участие. Жилинский, как командующий войсками Варшавского округа, по должности механически делался главнокомандующим Северного фронта; нам с женой улыбалось, что, удовлетворив желание сына, мы все же вверяли его человеку близкому, который будет о нем заботиться.
На обратном пути из Москвы Миша заехал к нам, и мы с Лизой поехали с ним в Калугу проводить его окончательно. Во время этих последних двух дней, проведенных с ним в Калуге, я пережил два сильных впечатления, как-то особенно на меня повлиявших в смысле того неизбежного, что надвигается, что остановить больше нельзя и что как ненасытная машина все крушит и раздавливает; не было более отдельных личностей, а только грозный призрак, именуемый войной, требующий все новых и новых жертв. Если бы я был художник слова,
831
я сумел бы эти два незначительные факта передать так, чтобы читатель понял их впечатление; все же попытаюсь.
Первый случай был на вокзале калужском; поехали мы туда поздно вечером с Мишей узнать, в котором часу на следующий день отходит тот поезд, с которым должен был он отбыть. Вокзал был довольно пуст, отходящих поездов не было, калужские части уже отбыли; вышли мы на платформу, разыскивая начальника станции или коменданта; на третьем или четвертом пути стоял длинный воинский поезд проходящего эшелона Александрийского Гусарского полка (впоследствии в этом полку служил мой второй сын); только что мы вышли, раздался кавалерийский сигнал; одиночные солдаты, стоявшие еще на путях, быстро побежали в вагоны; запоздавший офицер, дожевывая бутерброд, пробежал мимо нас, гремя шпорами, в офицерский вагон; паровоз протяжно свистнул, и медленно начал катиться этот поезд туда, на запад, на театр военных действий; слышно было только, как в вагоне лошадь топочет, переступая с ноги на ногу; и эти бедные животные, послушные воле человеческой, по капризу и воле германского императора, зажегшего весь пожар, велись на бойню. Миша схватил меня за руку, его рука была холодная, как лед, и он прошептал: «Вот она война», а я ему в ответ: «Да, но если будет такая же дисциплина, то и победительная».
Второй случай был в тот же вечер. Вернулись мы домой, он с матерью укладывался в своей спальне, а я остался сидеть у раскрытого окна гостиной, выходящего на улицу; окна были столь низки, что можно было разговаривать с проходящими по тротуару; сидел я задумавшись, на улице было темно, вдруг с середины улицы вынырнула из темноты какая-то высокая военная фигура и подошла вплотную к окошку с вопросом: «Когда Ваш сын Михаил Михайлович уезжает?» Всмотревшись, я узнал нашего милого постоянного доктора Алексея Ивановича Орлова, которого я привык видеть всегда в штатском немного распущенном костюме, всегда добродушным; а тут стоит он передо мной в форме военного врача, подтянутый и как-то, по совести, чужой. Спросил он меня, можно ли захватить и его вещи с вещами моего сына, которого сопровождал его камердинер, верный Петр Жуков до вагона и помогал Мише пристроиться. Такая просьба в эту минуту <…> и его, как маленькую шестерню, захватил и преобразил этот грозный ветер, этот двигатель «война», который взбудоражил всю Европу.
На следующий день вечером провожать Мишу на вокзал поехал я один; Лиза держалась молодцом, но все же не решилась продолжать испытаний на людях при отъезде поезда. И хорошо она сделала: уезжали последние запасные офицеры и доктора из Калуги; провожавших было много, слез еще больше, а с матерью доктора Орлова и форменная истерика, потребовавшая вмешательства и врачебной помощи после отъезда поезда. Я прощался с Мишей ненадолго, твердо решив навестить его в Рославле, пока будет там формироваться его поезд, надеясь, что в это время и назначение его в ординарцы состоится, и прощусь я с ним там, зная, что он едет и поступает в ведение любящего его родного человека.
Возвращение на следующий день в Сергиевское было невеселое; ехали мы на лошадях, избегая сутолоки железной дороги, усилившейся благодаря движению военных, по той самой дороге, по которой за два дня перед тем мы ехали с нашим Мишей; каждый поворот дороги, каждый кустик напоминал какой-нибудь
832
разговор с ним. Понятно, все оставшиеся требовали от нас самых подробных рассказов; я уже видел по настроению других сыновей, как у них загорелось желание последовать примеру старшего брата; но что было для меня совершенно неожиданно, это настроение Льяны; и для нее, по-видимому, ввиду событий семья казалась слишком тесным кругом. Я был озадачен, во мне не было чувств матери Гракхов, но я успокаивал себя тем, что, во всяком случае, до окончания университета сыновья будут сидеть спокойно, а Льяна ничего не предпримет до родов Сони.
Пробыл я в Сергиевском неделю и поехал в Рославль; там застал Мишу уже захваченным своей новой деятельностью, познакомил он меня с целым рядом своих сослуживцев, каждого охарактеризовал по-своему и уже вполне освоился. С его назначением в ординарцы происходила задержка: Яша все исполнил, определив его предварительно в один из полков, ему подчиненных, Мариупольских гусар, и взял его к себе в ординарцы, о чем его начальник штаба телеграфировал в Рославль Мише, но местное, главное, начальство Миши не согласилось его отпускать впредь до назначения и прибытия его заместителя, так что я вновь телеграфировал Яше, сообщая ему о происшедшей заминке, а сам задержался в Рославле, что соответствовало желанию Миши. Хотя он был очень занят, но я неотступно за ним следил и, познакомившись со всем составом его поезда, был среди них своим человеком. Наблюдали мы 7-го августа затмение солнца, которое там удалось наблюсти при безоблачном небе. Слышались разговоры в публике, что это плохое предзнаменование, но на дух наших военных это не произвело впечатления. Уехал я, не дождавшись перевода Миши к Яше, за несколько часов до отбытия его поезда на фронт; не хотел я оставаться один в Рославле. И на этот раз прощание было не столь тяжелым, потому что перевод его к Жилинскому был обеспечен. Но все же на этот раз казалось, что разлука продолжительная; не ожидал я, что через месяц я с ним свижусь в Петербурге, но при другой обстановке и при тяжелых условиях.
По возвращении домой я недолго пробыл в Сергиевском, меня сестра вызывала в Петербург крестить родившуюся вторую дочь у Муси. Со мной поехал и Сережа, у которого вновь произошли какие-то недоразумения по поводу государственных экзаменов, и недоразумение это могло быть устранено только властью министра народного просвещения, которым в то время был Кассо.
Сестру я застал в тяжелом настроении. Муж потребовал от нее немедленно уехать из Варшавы, мотивируя это ожидаемыми родами Муси, и Варя, подчинившись этому требованию, мучилась и беспокоилась за него. Она как женщина не хотела понять и усвоить, что главнокомандующий всегда в полной безопасности, а что для такого человека как Яша, посвятившего всю жизнь военному делу, самая война есть цель его работы, поверка таковой, и потому участие в ней может быть только ему удовлетворением. Варя остановилась у одних знакомых, уступивших ей всю свою квартиру; понятно, эта квартира после варшавских дворцов казалась им и мизерной, и неудобной, а сама жизнь на биваках неприглядной; подыскивали они себе что-нибудь более удобное для зимнего сезона, рассчитывая, что с ними будет жить и Муся со своим мужем, а последний, по должности вице-губернатор Радомской губернии, был недалеко от театра военных действий и ввиду быстрого
833
наступления немцев мог очутиться в действительной, а не кажущейся опасности. Понятно, что и это не способствовало их хорошему настроению.

Владимир Сергеевич Трубецкой
Рисунок М. М. Осоргиной. 1921.
Частное собрание, Москва
Пробыл я у них недолго, окрестил свою внучатную племянницу Елену и вернулся в Сергиевское. Не помню, именно в это ли мое путешествие или в другое, я, едучи в вагоне, в городе Малоярославце купил газету и прочел, о ужас!, телеграмму о несчастном Сольдаусском деле. Как ни кратка была телеграмма, как ни старались в ней скрасить совершившийся ужас, я понял, что эта катастрофа как-никак большая и что это тяжкий удар для моего beau-frère’a, создавая ему репутацию если не неспособного генерала, то, во всяком случае, неудачника. В особенности это ярче выдвигалось по сравнению с победоносным шествием войск Южного фронта, разбивавших наголову австрийскую армию и далеко уже продвинувшихся в глубь неприятельской земли.
Потом только выяснилось, что движение Северного фронта, еще не подготовленного и обреченного поэтому на неуспех, было вызвано необходимостью ослабить натиск немцев на Париж и спасло тем Францию от полного разгрома. Но всякому военному неуспеху для поддержания настроения войск надо найти виновного и сделать его козлом отпущения; таковым и был избран Жилинский. Об этом я узнал в то самое время, когда мы переживали тоже большие волнения, а именно первые роды Сони. Они были очень тяжелые и очень затянулись, так что наш доктор и друг Иван Иванович Дубенский, когда-то присутствовавший
834
при рождении самой Сони, говорил о необходимости наложения щипцов. В то время как именно это дебатировалось, нам принесли телеграмму от Муси; не помню дословного ее содержания, но смысл ее был таков: «Папа́ уволен от должности главнокомандующего, Мама́ в ужасном состоянии, умоляю приехать немедленно ее поддержать». Спустя несколько времени получил я телеграмму и от Миши из действующей армии: «Дядя Яша уволен, будем с ним Петербург шестое сентября, непременно его встреть, его состояние очень удрученное, необходимо поддержать».
Разрываемый волнениями и за Соню, и за Варю, и, наконец, за дальнейшую судьбу моего сына, эта ночь с четвертого на пятое сентября была ужасной, даже и теперь вспомнить жутко. Часа в два ночи Дубенский приступил к наложению щипцов, Лиза хлороформировала Соню, я держал ей пульс, но как неопытный, не умел за ним правильно следить, так что одну минуту я вскрикнул: «Пульс слабый», и Дубенский приказал бросить хлороформ, хотя операция была далеко еще не кончена. Лиза проверила, увидала, что я ошибся, что пульс хорош, и вновь наложила хлороформовую повязку, и Дубенский продолжал спокойно свои действия. Все было окончено, я думаю, минут через десять, не больше, и появился на свет Божий к самому рассвету наш первый внук Сережа Лопухин, а в девять часов утра, перекрестив Соню, поздравив мою жену с именинами, когда весь дом еще спал после пережитой кошмарной ночи, я уже катил в Петербург не на радостное свидание с сестрой и зятем.
Тогда было удобное сообщение с Петербургом; попадал я в Туле на прямой севастопольский поезд, идущий в полном составе без пересадок до Петербурга, куда я попал уже в десять часов утра, а поезд Миши из действующей армии прибывал на Варшавский вокзал в Петербург только поздно вечером, так что я имел возможность повидать сестру еще до приезда ее мужа.
Свидание было тяжелое; она мне напомнила по своему настроению мою мать после моей невольной отставки из Харькова и, как еще менее сдержанная, она еще больше рвала и метала. Оскорбление за мужа сплеталось у нее со страхом, что будет с ее мужем, какой это для него крах, не только карьеры, но и всех его интересов. Трудно было ее успокоить, одно, что мне удалось, это повлиять на нее в том смысле, что главное — надо беречь Яшу, что все преходяще и что ему необходимы теперь ласка и уют семейный, а не постоянное растравление и напоминание, и разговоры о происшедшем. Муся к тому же ужасно беспокоилась за судьбу мужа, теперь оставшегося совершенно одиноким в Радоме без поддержки beau-pere’а, по-видимому, уволенного и от должности генерал-губернатора.
Встречать Яшу на вокзал поехал я с сестрой. Меня уже на вокзале поразила разительная перемена в отношении к Жилинским. Когда Яша был начальником Генерального штаба, а потом варшавским генерал губернатором, везде перед ними расстилались, станционное военное начальство всегда встречало не только его, но и мою сестру, открывало парадные комнаты для их приема, а тут — полная пустыня; прошли мы в общий зал, откуда не пускали даже ввиду военного положения на платформу; и только к самому приходу поезда заведующий передвижением войск на этом вокзале сжалился и, удостоверившись, что с поездом
835
следует вагон бывшего главнокомандующего Северного фронта, выпустил нас на платформу. Вагон был прицеплен к самому хвосту поезда, так что когда мы подошли, Яша и Миша уже вышли из салон-вагона. Первого я нашел очень похудевшим и с каким-то осунувшимся лицом; Миша же мой для меня был какой-то совсем новый в новой своей форме.
Весь вечер прошел в разговорах и рассказах; по пути на извозчике Миша рассказал мне, как Яша получил свое отчисление: понятно, это было последствием Сольдаусского дела. Во время всей этой военной операции в течение трех дней или больше Яша, не раздеваясь, проводил дни и ночи в чтении донесений, полученных от его трех армий, и диктуя телеграммы со своими распоряжениями. Миша рассказывал, что тут он только понял, как главнокомандующий есть действительно мозг всего фронта, и удивлялся выдержке Жилинского, не выказывавшего не только никакой паники, но даже удивления при получении самых плачевных вестей. Только когда все войска, оставшиеся, были выведены из трудного положения, и контрнаступление немцев было остановлено, он, наконец, после стольких бессонных ночей, впервые лег. Когда Миша утром, вступив на дежурство, явился к нему в кабинет, он застал его сидящим за письменным столом, читающим какую-то бумагу и горько над ней плачущим. Это было столь необычно для человека с железной волей, скрытного, никогда не выдававшего своих внутренних ощущений, что Миша как-то оцепенел, отступил и хотел незаметно удалиться, но Яша подозвал его рукой и протянул ему для прочтения бумагу, лежавшую перед ним: это оказалось отчисление его от должности главнокомандующего и уведомление о назначении таковым генерала Рузского, который немедленно приедет для принятия от него командования над фронтом. Понятно, что этот момент сблизил дядю с племянником и вызвал в Мише неизмеримое чувство жалости к Яше.
Когда наступило время завтрака, к которому собирались все старшие чины штаба и состоящие при главнокомандующем, Миша, как дежурный ординарец, пошел доложить Жилинскому, что все собрались, и застал его уже совершенно взявшим себя в руки, с бесстрастным холодным лицом и опять тем же невозмутимым генералом, каким он был все время. О назначении нового главнокомандующего, казалось, никто еще и не знал, а потому завтрак шел обычным порядком. В середине завтрака Мишу вызвали в приемную для встречи какого-то важного генерала, приехавшего, как он говорил, по высочайшему повелению. Это оказался генерал Рузский. Бумага об отчислении Яши опередила прибытие нового главнокомандующего всего на несколько часов. Когда Миша вернулся в столовую доложить о сем Яше, последний побледнел, как полотно, встал, попросив своего начальника штаба заменить его как хозяина, и немедленно вышел. Понятно, тотчас же языки развязались, и все стало известно. Через какие-нибудь два часа уже собраны были все чины штаба, представлены новому главнокомандующему, и Яша чуть ли не в тот же вечер отбыл в Петербург. Когда Миша попросил генерала Рузского разрешение сопровождать своего дядю, последний крайне любезно на это согласился и выразил надежду, что Миша останется и при нем, новом главнокомандующем. Мой сын поблагодарил, но сказал, что считал бы это неудобным, почему будет устраиваться иначе, но просил остаться при Рузском до
836
нового назначения, добавив, что в ординарцы он был назначен из санитарного поезд и предполагал теперь туда же вернуться.
Это рассказ Миши, рисующий интимное впечатление; передам теперь то, что мне поведал сам Яша вечером, за чаем, в семейном кругу, когда он немного успокоился и отдохнул среди своих от жгучих пережитых событий. Я не историк и, может быть, во многое погрешу, так как не проверял все рассказанное мне моим beau-frère’ом. У него свято хранились все документы (копии с его распоряжений, с распоряжений верховного главнокомандующего и с получаемых им донесений), на основании которых он и составил историю всего этого дела, но, увы, во время революции это все было сожжено его другом, которому это отдано было на сохранение. Понятно, что вся Сольдаусская операция будет когда-нибудь правильно исторически освещена, и тогда, надеюсь, имя моего зятя выйдет незапятнанным, а его личность как высоко образованного военного, выдающегося по уму и неутомимого работника, будет оценена по достоинству.
Итак, вот что он мне рассказал. Еще в должность его начальником Генерального штаба у него были нелады с великим князем Николаем Николаевичем [младшим], почему когда последний был назначен верховным главнокомандующим, Яша насторожился, не предвидя для себя ничего доброго. Очень скоро после прибытия великого князя в ставку его начальник штаба генерал Янушкевич, когда-то подчиненный Яше, написал ему частное письмо, смысл которого был тот, что он советовал ему держаться осторожнее с великим князем, так как его высочество его, Жилинского, недолюбливает, и был даже разговор при первой оплошности заместить его другим генералом. Когда по соображениям высшей политики решено было верховным главнокомандующим наступление в пределы Германии Северным фронтом для облегчения Франции, Яша, не возражая против самой операции, настаивал на ее отсрочке впредь до прибытия всех частей его фронта и приведения их в боевую готовность. Великий князь не убедился его доводами и даже ослабил его силы, изъяв из его распоряжения части Первого армейского корпуса, с которым, как говорили сплетники, Николай Николаевич мнил войти в Берлин. Все же впоследствии великий князь уступил и разрешил, с известными ограничениями, двинуть и Первый армейский корпус. При наступлении всего фронта и выхода его на боевую линию для вторжения в Германию, благодаря этим спорам произошла заминка, и одна армия подалась слишком влево, благодаря чему получился разрыв, которым немцы воспользовались для нанесения нам поражения. Могло спасти положение действие армии генерала Ренненкампфа, но тот поддался панике, сам лично со своим штабом так быстро отступил назад, что потерял связь со своими войсками, и Яша из своей ставки уже сам непосредственно ими распоряжался. Когда он это донес по прямому проводу верховному главнокомандующему, последний в резкой форме ответил, что это, несомненно, ошибка и что он Ренненкампфа лично знает как опытного боевого генерала, и что тот, наверное, в передовой линии для поднятия духа своих войск. В это же время было получено телеграфное донесение из крепости Ковно, находящейся, как известно, в глубоком тылу, что в крепости генерал Ренненкампф со своим штабом, который настолько деморализован, что сеет тревогу
837
в самой крепости, советуя ее эвакуировать под стремительным натиском немцев. Яша в ответ на резкую телеграмму великого князя просто телеграфировал, что генерал Ренненкампф нашелся, что он не на передовой линии, как предполагает его высочество, а бросив свою армию, находится в крепости Ковно, почему он, Жилинский, временно устранив генерала Ренненкампфа от командования армией, ходатайствует о предании его суду. Последствием всех этих столкновений было увольнение Яши от должности главнокомандующего Северным фронтом и оказание полного доверия генералу Ренненкампфу. История рассудит, кто был прав, кто был виноват.
На приеме через несколько дней Яши государем государь был особенно с ним предупредительным и обласкал его. Было назначено расследование всего этого дела, порученное генерал-адъютанту Пантелееву. Чтобы покончить с этой печальной служебной страницей моего beau-frère’a добавлю, что в глазах государя он вполне был обелен впоследствии, и даже было предложение его величества пожаловать Жилинского званием генерал-адъютанта, но, как государь высказал министру Двора графу Фредериксу, он этого не делает, боясь обиды великого князя Николая Николаевича.
Пробыл я в Петербурге несколько дней. Яша взялся через военного министра устроить дальнейшую судьбу Миши опять на санитарном поезде, и поехал я к себе обратно в сопровождении Миши, который сделал крюк, возвращаясь к себе в ставку, чтобы повидать свою мать, братьев и сестер и первого своего племянника.
Пробыл мой сын недолго в Сергиевском и поспешил обратно в ставку главнокомандующего Северным фронтом генерала Рузского, рассчитывая вскорости, по обещанию моего зятя, получить вновь назначение на санитарный поезд. Его, хотя и короткое, пребывание дома в связи с деятельностью Коли Лопухина, принимавшего живое участие в деятельности Земского союза, взбудоражило остальных детей. И Льяна, и Сережа, и Георгий не могли мириться с мыслью продолжать обыденную жизнь, когда все кругом кипело и только и слышно было о подвигах самопожертвования.
Я понимал, что мне не удастся удержать их, и хотя и успокаивал жену, но сознавал, что они правы и ставить им препятствия было бы и нецелесообразно, и в корне неправильно. Одно, что для меня было ясно, это что отпустить Льяну на фронт было бы безрассудно: слишком она нужна была жене, и до сих пор с трудом переживавшей разлуку со старшей дочерью. Ввиду этого я задался целью устроить Льяне занятие на месте и открыть для сего в самом Сергиевском лазарет имени нашей святой, то есть как бы учреждение нашего Братства святой праведной Иулиании. Думал я десять коек содержать на местные средства, остальное на средства Земского союза, установив штат в двадцать пять коек. На деле развились совершенно иначе мои предложения, никто не понимал грандиозности войны и [того], что требовалось, так что и малые начинания претворялись в большие учреждения: и наш маленький лазарет развернулся впоследствии больше чем вдвое и большей частью содержался на средства Земского союза. Я давал безвозмездно помещение, отопление, освещение, местные продукты, то есть муку, овощи, молоко, остальное оплачивал Земский союз, и я же заведовал
838
всем этим делом. Льяна ухватилась за мое предложение, решила на этих условиях остаться дома и сейчас же ретиво принялась за подготовление себя к званию сестры милосердия, для чего на некоторое время переехала в Калугу в опустелую квартиру старшего брата, усердно посещала курсы при Красном кресте и через несколько недель блестяще выдержала экзамен.
Не так просто было дело с сыновьями: Сереже оставалось держать государственный экзамен, после чего профессор Кожевников предполагал оставить его при университете для подготовления его к ученой степени. Георгию же надлежало еще пробыть год в университете, после чего он мог располагать собой. Я думал, что они благоразумно докончат свое образование и затем весной или ранним летом отдадут себя на служение родине уже не на военном поприще. Но не так-то было, их юношеский пыл взял верх; все разговоры, что война не может быть при существующих условиях продолжительной, заставили их поспешить. Уже в октябре они оба покинули университет, причем Георгий сдал в короткий срок все зачеты за четырехлетний курс и получил разрешение со временем держать государственные экзамены с добавлением к ним лишь не сданного им зачета по церковному праву. Поступили они на сокращенные офицерские курсы при Николаевском Кавалерийском училище и из свободных студентов обратились в юнкеров, управляемых строгой дисциплиной!
Итак, первый же год войны рассеял всю нашу семью: Соня с мужем жила в Москве, где Коля бросил деятельность мирового судьи и весь отдался работе по Земскому союзу, ставши правой рукой его организатора князя Львова; Миша получил назначение на санитарный поезд и постоянно курсировал между фронтом и Москвой; Сережа и Георгий были в Петербурге в своем училище.
Весь строй и уклад семейной жизни оставшихся изменился, благодаря открытому лазарету, под который отведена была половина дома; Льяна и Мария несли при нем обязанности сестер милосердия, Тоня, хотя и продолжала учиться, помогала при лазарете, заведуя записью вновь поступающих и приемом их вещей в цейхаус. Жена моя ведала хозяйством лазарета; врачебной частью заведовала женщина-врач Надежда Федоровна Чарторижская, не имевшая еще степени врача за несдачею последних экзаменов. Я ведал общим направлением всего дела, вел переписку с учреждениями, Земским союзом, военными властями, Земскими управами и держал дисциплину всего заведения. Часто приходилось мне ездить в Калугу по делам лазарета и на разные собрания, связанные с делом войны.
Вспоминаю, как все не понимали грандиозности этой войны и каких она потребует жертв и средств, и как это непонимание проявлялось постоянно. Как курьез расскажу один случай: калужским властям было предложено озаботиться приготовлением помещения для приема раненых, и наше дворянство пожелало принять участие, для чего оборудовало образцово под лазарет все Дворянское собрание с койками числом, кажется, до двухсот. Власти калужские, видя такое щедрое пожертвование, успокоились, думая, что такое увеличение коек к штатным койкам в военном госпитале и земской больнице вполне обеспечивает ожидаемый прилив раненых. И что же? Первый транспорт, присланный в Калугу, был 2200 раненых; спешно пришлось их размещать где только было возможно,
839
реквизируя даже частные помещения. Потом уже в Калуге было открыто до десяти больших лазаретов, не считая таких мелких филиальных, как мой.
Помню первый привоз раненых — это было целое событие для местности. Везли их с последним пароходом, который шел уже становиться на зимовку. Состоялся этот привоз раненых и открытие лазарета 18-го октября. Накануне все помещение было освящено, крестным ходом принесены были из церкви мощи праведной Иулиании, обнесли их по всем палатам, окропили все помещение. Оповестил я население, не пожелает ли кто-нибудь выехать на пристань, чтобы довезти раненых до лазарета. В самый день обедня, по случаю дня рождения Марии, служилась порану, и уже в десятом часу мы все были на пристани. Приехал из Ферзикова участковый врач Масленников, который числился консультантом лазарета; подвод съехалось столько, что, рассадив по одному раненому в сани, многим пришлось возвращаться порожняком. В первой присланной нам партии особенно тяжелораненых не было, все же каждый из них требовал ежедневно перевязки, а некоторые и не поднимались с постели. Помню фамилии всех первых раненых. Из них выделялся Кубасов своим рассудительным видом, красивым обликом и почтительной речью. Очень жалок был поляк Заводский, не покидающий койки от слабости; общим баловнем был Воробьев, молодой малый из глухой местности Костромской губернии на границе с Вологодской, не видавший до войны даже своего уездного города. Он был наивен до крайности, всему удивлялся, но и за все безмерно был благодарен. Рана его на спине от разрыва шрапнели требовала мучительных перевязок. Были и два еврея в этой партии, очень скромные и какие-то забитые. Работа сразу закипела вовсю. Исполняющая должность врача Чарторижская проявила талант организаторский, поставила дело на серьезную ногу, ввела образцовую чистоту в перевязочной, но, увы, не обладала самым существенным качеством для такой деятельности — мягкостью и человеколюбием. Для нее каждый раненый был только тот или иной хирургический случай, а не человек. Зато Льяна и Мария восполняли ее недостаток, обласкивая каждого. Верхними палатами заведовала Мария, нижними — Льяна. Во время же перевязок Мария наблюдала за дезинфекцией инструментов и подавала их, перевязки же делала Льяна под наблюдением и руководством Чарторижской. Низший персонал был тоже удачно подобран, он состоял из санитара Семена Попова, двух сиделок, пожелавших посвятить себя уходу за ранеными, и кухарки. Впоследствии сиделки были заменены тремя монашенками из соседней обители «Утоли моя печали», приглашена была еще сестра милосердия, уже платная; санитару и кухарке были приданы помощники; конторщик мой Иван Шутов взял на себя хранение и выдачу продуктов; и взят был окончивший второклассную школу мальчик Дмитрий Маланичев, так как переписка значительно увеличилась. День в лазарете протекал по правильному расписанию: с раннего утра Мария и Льяна обходили свои палаты, ставили градусники и готовили всех к докторскому обходу, часов в девять я обходил лазарет, здоровался с больными. К этому времени уже утренняя уборка была окончена, и я только делал замечания, если находил какую неисправность. В десять часов начинались перевязки; в перевязочную никто не мог войти без врачебного халата, и если и я присутствовал, что обыкновенно бывало при приезде новых больных, надевал
840
халат и сидел в отдалении, просматривая историю болезни. В час — обед, в котором принимала участие и Тоня, разливая и распределяя порции; обед начинался и кончался общим пением и общей молитвой. После обеда жизнь затихала, а часов с четырех жена моя приходила в столовую лазарета и читала больным вслух; Мария же пользовалась этим временем, чтобы рисовать портреты с раненых — таких портретов набралось у нее целый альбом. После чая начинались вечерние специальные лечения, как-то ванны, ингаляции, электризации и тому подобные. Ужин в восемь часов был в том же порядке, как и обед, затем врачебный обход для осмотра тех, которые требовали особенного внимания; огни тушились, зажигались ночники и укладывались спать. Были, впрочем, случаи, что приходилось и ночи проводить в лазарете при трудно больных, что, понятно, охотно исполняли Льяна и сиделки-монашенки, которые признавали этот подвиг труда соответствующим своему монашескому званию. Канцелярия лазарета помещалась в бильярдной, и там я постоянно щунял Маланичева, который как ребенок, был легкомыслен, требовал постоянного надзора, но обладал замечательным почерком и феноменальной памятью. Через наш лазарет с 18-го октября 1914-го года по август 1917-го года, когда он был окончательно закрыт и имущество передано в Земский союз, прошло более 500 человек, и Маланичев помнил фамилию и историю чуть ли не каждого раненого.
Самый симпатичный состав персонала был последние два года, когда врачом был серб Арсений Георгиевич Джуверович, сестра милосердия — его жена Елизавета Константиновна, сиделки — три монашенки, из коих одна, Люба, была при перевязочной, где царила идеальная чистота, и санитаром — наш крестьянин Попов, лежавший до того в лазарете как раненый и уволенный в чистую отставку. За этот период времени работа была особенно дружная, не было никаких трений и все жили как бы одной семьей. Каждую субботу для раненых служилась всенощная в гостиной, в остальные дни они приходили по вечерам туда же слушать музыку, а иногда и петь хором. На Рождество устраивалась для них елка. Такая обстановка лечения, в домашней семейной атмосфере, так их привязывала к нам, и особенно к Льяне и Марии, а также и Тоне, что после их выписки связь не терялась, и они постоянно писали. Не только они, но и Джуверовичи так сошлись с нами на общем деле, что остались нам верными друзьями. Льяна и Георгий крестили их первого ребенка, и когда по закрытии лазарета Арсений Георгиевич перешел на службу в Хлюстинскую больницу в Калугу, мы продолжали видаться. В день нашего окончательного выезда из Сергиевского после выселения он приехал с нами проститься и плакал, как ребенок, расставаясь с нами. Посетил он нас и в Москве, когда окончательно уезжал в Сербию, но, увы, с тех пор о нем никаких сведений мы не имеем.
Таким образом, цель моя была достигнута: Льяне было занятие и по сердцу, и связывающее ее с домом. У Марии кроме занятий в лазарете была еще и другая деятельность, тоже связанная с войной и требующая от нее много письменной работы. Наше уездное Земство учредило попечительство для оказания помощи семьям запасных и избрало по каждой волости особого попечителя. Я был избран по своей Сергиевской волости и взял себе в помощники Марию. Средств было немного, и весь труд заключался в том, чтобы помощь была оказана действительно
841
нуждающимся, так как казенного пайка во многих случаях не хватало. Мария взяла на себя труд проверять каждую просьбу либо личным сношением, либо переписываясь с местным священником, учителем и проверяя сведения в волостном Правлении. Она же вела все списки, для чего была заведена особая книга, с отметкой о семейном и имущественном положении, она же выдавала пособия. На мне лежало только выхлопатывать на заседаниях эти пособия, и признаюсь, что благодаря моей настойчивости и влиянию в Земстве на мою волость выпадала всегда львиная доля, и то часто Мария была мною недовольна, находя, что я какого-нибудь ходатайства не поддержал. Редкий день проходил без того, чтобы у Марии не было целого приема этих женщин, из которых многих она отлично уже знала. Одна Тоня более или менее продолжала нормальную жизнь, не прекращая своих учебных занятий, но и она много помогала в лазарете, так что и у нее связь с ранеными сохранялась и переписка у нее была тоже большая.

Осоргины в Измалкове: Михаил Михайлович, Мария, Ульяна, Елизавета
Николаевна, Антонина и Георгий. 1918—1923. Частное собрание, Москва
Можно ли было ожидать, что такое тесное единение с меньшой братией так резко оборвется и наш круг будет титуловаться врагами, эксплуататорами народа. Особенно резко и незаслуженно почувствовал я эту несправедливость при следующих обстоятельствах.
Я был в переписке со многими из крестьян нашего прихода, взятых на войну, следил за их службой и в случае поражения принимал все меры к заполучению такого в свой лазарет, что мне часто и удавалось; но моя мысль была еще
842
обширнее: я хотел чтобы и здоровыми они не теряли связь с приходом и чувствовали себя всегда под его попечением. При отъезде их на фронт служился всегда напутственный молебен им и поминались они за здравие за каждой литургией. Но это была духовная связь, а я хотел осветить их серую солдатскую жизнь лаской с родины, предполагал со временем издавать двухнедельный бюллетень о всех событиях приходской жизни в области общественной, сельской и церковной и рассылать как таковые им на фронт. Для начала я задумал в январе 1917-го года послать каждому из них подарок от прихода к Пасхе, привлек к этому всех учителей прихода (а у нас, как я писал выше, было шесть школ, из коих одна второклассная с интернатом, обслуживаемых шестью учительницами и четырьмя учителями). Учителя и учительницы близко приняли это к сердцу, полились пожертвования, ученицы нашили кисетов, ученики второклассной школы взяли на себя укладку вещей, сбивку ящиков для посылок (а их в общем вышло около 200), что было немалый труд. Каждому было послано в виде подарка: почтовая бумага с конвертом, перо, карандаш, черная и белая катушки, иголки, кисет с табаком, мыло в форме яйца, сладости, образок Покрова, дюжина пуговиц, книжка для чтения и открытки с видами Калуги. В каждой посылке вложено было письмо за подписью настоятеля прихода, что это приход с ним христосуется, а я в день отправки посылал отдельную открытку с уведомлением об этой посылке. Наше почтовое отделение было перегружено целую неделю отправкой этих посылок, и отправлялись они не на одной подводе, как всегда, а чуть ли не на трех. Отправка началась с первой недели поста, тут же началась революция и последовало отречение государя. Первое благодарственное письмо было получено на четвертой неделе поста и адресовано было на имя учеников второклассной школы. Понятно, не помню его дословно, но помню его смысл, который был таков: «Спасибо вам за память о нас несчастных, оторванных волею ненавистного правительства от родных семей, но теперь, наконец, свобода; помните, детки, это великое счастье, нет более бар, помещиков, начальства, дорожите этой свободой и пользуйтесь ею вовсю». Сознаюсь, что это первое письмо было сердечным ударом и дало мне еще более сознать весь ужас надвигавшейся разрухи.
Но я забежал вперед к тому времени, когда уже началась революция. Вернусь опять к зиме 1914-го и 1915-го года. В течение ее я был в Петербурге, чтобы повидать сыновей юнкерами и вместе с тем проститься с братом жены Григорием Трубецким, назначенным посланником в Сербию. Насколько никто не ожидал длительности начавшейся войны, видно уже из того, что на прощальной аудиенции Григория Трубецкого государь ему сказал: «Отпускаю Вас ненадолго; к Пасхе я Вас вызову, так как Вы уже нужны при выработке условий мира». Своим пребыванием в Петербурге я воспользовался, чтобы выхлопотать сыновьям хотя бы кратковременный отпуск. На Рождество они приехали; к этому же времени на несколько часов урвался Миша из Калуги, куда он на своем поезде доставил партию раненых. Так что на праздниках мы немножко отдохнули, окруженные детьми. Надо было набираться с силами нам с женой, так как нам предстояла разлука с остальными сыновьями, стремившимися на фронт. Сначала они оба решили поступить в Конногренадерский полк. Полк, которым командовал с начала
843
войны двоюродный брат жены Дмитрий Лопухин и в рядах которого был убит и он, и его единственный сын. Память о нем в полку сохранилась, как о выдающемся командире, почему можно было рассчитывать, что сыновья мои, его племянники, будут приняты офицерством с распростертыми объятиями. Правда, что он и заслуживал такую репутацию, сила его воли и верность его долгу, особенно ярко сказались при смерти сына. Полк наступал пешей стрелковой цепью, и передовая цепь, где был его сын, выбила из окопов немцев; за ходом боя Лопухин наблюдал с пригорка на коне и в бинокль видел, как при перебежке его сын, выделявшийся ростом и стройностью, упал при самом гребне окопов. Подскакавший к Лопухину адъютант, как потом нам рассказывал Георгий с болью в сердце, подбежал к командиру доложить о взятии окопа и о числе раненых и убитых, причем из офицеров был убит только один Георгий Лопухин. На доклад адъютанта: «Линия окопов взята, немцы бегут, раненых столько-то, убит один офицер» последовал краткий вопрос Лопухина: «Кто убит?», и получив ответ: «Корнет Лопухин», перекрестился, поехал в цепь, подъехал к телу сына, перекрестил его, молча поцеловал и сейчас же двинулся с полком дальше преследовать бегущего врага. Правда, что офицеры заметили, что после этого он как бы искал смерти и все так же хладнокровно становился на самые опасные места. Смерти он недолго искал; через какие-нибудь три месяца после кончины сына он был тяжело ранен в живот и скончался через несколько дней в страшных мучениях в лазарете в Варшаве.
Мои ожидания оправдались, оба мои сына были радостно приняты полком, но тут Сережа переменил свое намерение, он решил пойти не в гвардию, а в армию, избрав для этого полк Александрийских гусар, предполагая таким путем скорее попасть на фронт военных действий. Порядок отправления офицеров, прошедших укороченный курс, был таков: после производства они откомандировывались к запасным частям своих полков, где по формировании партий для укомплектования убыли полка их назначали по очереди начальниками этих частей и отправляли на фронт. Запасная часть александрийских гусар стояла в Сызрани, а конногренадер — в Новгородской губернии. Как ни уговаривали Сережу не отделять своей судьбы от Георгия, он остался тверд в своем решении, утверждая, что двум братьям служить в одном полку на войне слишком трудно: опасные поручения, данные одному, невольно подрывают моральную энергию оставшегося. Я думаю, что побудительная причина была другая: у него уже было чувство к своей теперешней жене, и считая этот брак, по их родству невозможным он хотел скорее оторваться, скорее окунуться во все ужасы войны, и зная, что александрийские гусары, носившие даже название «бессмертных» как выдающийся лихой полк, всегда будут в самом центре действий, выбрал именно этот полк.
В марте сыновья были произведены и разъехались по своим местам, и уже в мае меня однажды будят с телеграммой: «Еду на фронт, эшелон наш по расписанию проедет Ферзиково такого-то числа в таком-то часу. Сережа» Трудно было объявлять это жене, но она молодцом перенесла известие, и мы решили все вместе, то есть мы с женой и три дочери, ехать в Алексино, чтобы хоть встретить его и одну станцию вместе с ним проехать. Ожидание в Алексине было особенно тягостно: военные эшелоны следовали один за другим, лишь поздно ночью
844
пришел, наконец, с опозданием чуть ли не на 12 часов, эшелон Сережи. Я встречал каждый поезд и на этот раз в темноте увидал идущего по шпалам высокого офицера со столь знакомой мне плывущей походкой, это и был сын. Сейчас же все забрались к нему в вагон, и мы с женой решили ехать с ним до Калуги, а оттуда вернуться уже пароходом. Что можно сказать про такие часы, проведенные в пути перед продолжительной и страшной по своей неизвестности разлукой? Я даже мало помню, что. В Ферзикове дочери поехали домой, а мы дальше, до Калуги, надеясь на продолжительную там остановку и возможность побеседовать наедине. В Калуге мы были на рассвете, было чудное майское утро, вся природа была так мирно спокойна, что как-то не вязалась с той трагедией, которую мы переживали. Но и в Калуге наши надежды не оправдались: только что мы уселись втроем за кофе на вокзале, как был подан сигнал к отправлению, и Сережа, не начав даже свой стакан, спешно простился с нами и побежал на свое место. Мы с женой едва успели выйти на платформу и издали перекрестить его, а поезд уж тронулся и все дальше и дальше его от нас увозил. Вспомнилось мне пережитое мною настроение в первые дни объявления войны, как я видел проходящие части этого же полка, идущего в первую голову на фронт; тогда, как я писал выше, неизбежность этой машины войны, топчущей в своих тисках все беспощадно, меня как бы разбудила; теперь же, что в тисках этих был и мой сын, — ох, как было больно! Возвращение домой в обычной обстановке, на пароходе, столь мне знакомом, вдоль берегов, на коих каждый кустик был мне знаком, казалось какой-то насмешкой. Неужели обычная жизнь пойдет своим порядком, неужели возможно возвращение к мирным обыденным занятиям? Мудр Бог, что дал нам, ограниченным тварям, этот фактор — время, которое все сглаживает и стирает, и благ Господь, посылающий и испытания, и силы перенести их.
В июле состоялось и отправление Георгия на фронт; ожидаемый отпуск для прощания с родителями ему дали столь кратковременный, что он мог только приехать на несколько часов в Москву, куда нас и вызвал. Так как он уезжал не в военной обстановке, не в эшелоне, а обыкновенным пассажиром вплоть до Новгорода, где ему надлежало вступить в эшелон, отъезд его не имел того характера, как отъезд Сережи, но, понятно, не был ничуть менее болезнен, чем первый. Но надо сказать, что сам он был в таком подъеме духа, горел таким энтузиазмом, что невольно и других заражал. С гордостью могу сказать, что оба они исполнили свой долг перед родиной и царем с таким мужеством, храбростью и самообладанием, что имеют что вспомнить. На фронте они имели даже свои прозвища: Сережа — Осоргин-Коварский, а Георгий — Осоргин-Ланской, по названию тех мест, где они отличились. Но первое отличие Сережи надолго вывело его из строя и оставило след на его здоровье на всю жизнь: он был тяжело контужен. И его полк, и Кавалергардский полк имели задачей выбить немецкую пехоту из сильно укрепленной позиции на Коварске. Местность перед ней была совершенно открытая, и при всякой перебежке урон был большой. Он сам потом мне рассказывал, какую силу воли надо было проявлять, чтобы под убийственным огнем первому встать, подать пример солдатам и добежать до определенного места, где снова залечь. Он все время был впереди и на последней перебежке,
845
когда ему оставалось всего несколько саженей до окопа, он вдруг почувствовал сильный удар в спину, и думая, что это соседний солдат его нечаянно ударил, хотел выругаться, как неожиданно увидал над собой небо. Он понял тогда, что он упал и ранен; впоследствии оказалось, что это была воздушная контузия спинного хребта, одна из самых неизлечимых контузий, все же он не потерял сознания, приподнял голову и увидал, что его цепь ворвалась в окопы. Один из солдат ползком, под непрекращающимся огнем, выволок его до перевязочного пункта, за что сам был награжден Георгиевским крестом. Оттуда его уже на носилках эвакуировали дальше. Когда его проносили мимо начальника отряда, командира Кавалергардского полка, и тот нагнулся спросить как, он себя чувствует, Сережа уже в полусознании отрапортовал: «Окопы взяты, первыми вошли Александрийские гусары». Через три дня он вновь выписался и вернулся в строй, но там терял несколько раз сознание, почему был эвакуирован в Москву на продолжительное лечение.
О контузии Сережи мы узнали из его телеграммы, посланной им, когда его эвакуировали в Москву. Чтобы нас успокоить, он телеграфировал: «Слегка контужен, эвакуируюсь в Москву с поездом такого-то номера». Я немедленно выехал в Москву и думал, что перевезти его в наш лазарет дело самое простое, тем более что я тут же сообщил Земскому союзу, что открываю две офицерские койки на свой счет. Но мои предположения встретили столько препятствий, что я истратил много энергии, чтобы добиться своего, и впервые озлобился на существующие порядки.
В Москве, благодаря моим связям, мне удалось тотчас же выяснить, на какой вокзал прибудет этот поезд, и мне сообщили, что ожидают его лишь на следующий день утром. Поздно ночью, когда я уже спал, меня будят и зовут к телефону, и услыхал я голос Сережи, который сообщал мне, что его поезд давно разгружен, и он на центральном эвакуационном пункте. Оказалось, что, как всегда у нас в России, все шло не по расписанию и поезд прибыл еще вечером, но Сережа был в таком состоянии, что совершенно потерял память и не мог назвать ни одной фамилии родных. Только немного отдохнувши, он вспомнил номер телефона Гагариных, сам телефонировал и попал на меня. Я немедленно поехал на пункт и перевез его к себе, давши подписку, что утром к десяти часам доставлю его в комиссию для освидетельствования. Состояние его было тяжелое, и я понял, что дело нешуточное; вызвал я хирурга Красинцева, нашего старого калужского знакомого, который подтвердил, что контузия эта может оставить след на всю жизнь, что впоследствии и оказалось, и требует упорного лечения при полном покое.
Мытарства наши начались уже в комиссии, жара была несусветная, раненых было столько, что негде было присесть, и я его продержал все время в экипаже. С десяти часов до двух мы ждали очереди и так и не дождались, и ввиду перерыва занятий комиссии уехали домой. Вечером повез его Миша, который был случайно в Москве со своим поездом; вернулись они скоро, на этот раз с благоприятным известием, что его направляют в Калугу в распоряжение Калужской эвакуационной комиссии, и ему разрешено следовать одиночным порядком, так что я было совсем успокоился и телеграфировал в Земскую управу немедленно
846
устроить его перевод ко мне в лазарет, но это было начало всех ожидаемых затруднений.
В Калуге нас встретила вся семья и перевезли мы Сережу в мой Сиротский дом, пока я устрою его перевод ко мне в лазарет. В Управе меня встретили с известием, что такой перевод в уездный лазарет невозможен, препятствует сему начальник Калужского эвакуационного пункта ввиду последнего распоряжения Военного министерства, чтобы офицеры лечились бы только в особых офицерских лазаретах в городе. Сознаюсь, что я поднял всех на ноги: и гражданские, и военные власти, и губернатор, и начальник гарнизона сами просили генерала по эвакуационной части сделать для Сережи исключение, уверяя его, что, несомненно, начальник округа, и даже военный министр санкционируют такое распоряжение, но он был непреклонен. Все же переговоры и хлопоты длились весь день, потому что и поймать этого начальника было трудно. Наконец я его настиг в каком-то лазарете, как раз в том, который только что был оборудован для офицеров, и видя мою настойчивость, он отвел меня в сторону и сказал мне нижеследующее: «Ваш сын еще ко мне не являлся, а потому не в моем ведении; говорят, что по Вашей просьбе высшее военное начальство согласится на такое исключение, действуйте, как знаете, и привозите его лишь тогда, когда получите это разрешение; я же не буду добиваться причины опоздания его явки, а до тех пор везите его к себе». Оставался всего какой-нибудь час до поезда, и мы увезли Сережу в Сергиевское, предварительно послав две телеграммы, слов по двести каждая, моему beau-frère’у Жилинскому и сестре моей жены Гагариной, прося первого ходатайствовать у военного министра, а вторую — у командующего войсками округа. Через день или два был получен благоприятный ответ и разрешение, так что как только Сережа отдохнул, я его повез в Калугу явиться начальнику эвакуационного пункта. Там он был встречен особенно любезно и за все время своего лечения пользовался полным вниманием начальства. Неоднократно он просил комиссию признать его здоровым и отправить опять на фронт, но встречал всегда отказ. Помимо его желания вновь вернуться к делу, он, как я писал выше, стремился уехать и поставить преграду между собой и двоюродной сестрой, на которой впоследствии женился. В этот приезд он и не видал ее, хотя она жила под Москвой, на даче на Воробьевых горах, и вся ее семья, кроме нее, его посетила в Москве; он сам, бедный, очутившись в стенах гагаринского дома, ужасно страдал и все время рвался скорее оттуда уехать. Это его и побуждало проситься скорее на фронт, и через какой-нибудь месяц он добился своего и уехал обратно, но уже в ноябре его здоровье настолько ухудшилось, что он был вновь эвакуирован, но уже на положении отдыхающего, так что одиночным порядком, без всяких комиссий ехал к нам. Между поездами в Москве он остановился у своей сестры Сони Лопухиной. Соня Гагарина вызвала его по телефону к себе, состоялось их свидание и они стали женихами, но необъявленными ввиду их близкого родства.
Во время этого приезда у Миши произошли неприятности на поезде из-за ссоры из-за него двух сестер милосердия. Тот самый командующий войсками округа, который был так любезен по отношению к Сереже, здесь был крайне неприятен и собирался отчислить Мишу от должности, но я поехал в Петербург
847
к начальнику Генерального штаба Беляеву, и распоряжение было немедленно отменено. Смешно вспомнить, что Евдокия Федоровна Джунковская, с которой революция нас так сблизила, в то время как начальница общины сестер милосердия, бывших на поезде Миши, строила козни против него. Добившись прекращения всей этой грязной интриги, Миша сам захотел переменить род службы, приблизиться к действующей армии, и с помощью своего дяди Жилинского перешел в автомобильную роту, в которой и оставался впредь до увольнения по болезни сердца, что совпало уже с началом революции. Со своей автомобильной ротой он исколесил весь фронт. Отречение государя застало его в Румынии ординарцем начальника гарнизона. Румынская королевская чета была с ним очень благосклонна и король прислал ему даже из своего погреба ящик старых вин, которые так до Сергиевского и не доехали благодаря революции. В свою роту Миша перевел многих наших служащих, взятых на войну. Так что он много добра сделал и окружил себя верными людьми.
Не помню хронологически порядок событий и потому буду писать о деятельности сыновей на фронте без определения чисел и годов, ибо важно как семейное воспоминание не время, а самый факт. Сережа еще раз отличился одной разведкой, сделанной настолько толково и исчерпывающе, что в Николаевском Кавалерийском училище, как я слышал, потом выставлялась на лекции как образец. Задача была выяснить, какая именно часть германской пехоты занимала фронт перед тем участком, который охранялся Александрийскими гусарами. Между фронтами протекала река, на которой был маленький безлюдный остров. Сережа с двумя-тремя нижними чинами на утлой лодке переправился на тот берег, оставил своих солдат на самом берегу и один пополз в темную ночь к цепи часовых, где уже выпрямившись во весь рост, смелой и открытой походкой пошел вдоль цепи, пока не наткнулся на часового, давшего ему окрик и потребовавшего пароль. Пародируя Долохова из «Войны и мира», он на чистейшем немецком языке, которым он владел в совершенстве, крикнул часовому, что пароля не спрашивают у офицера, проверяющего посты, и пользуясь минутой замешательства, повалил часового на землю, заткнул ему глотку и с подоспевшими своими солдатами поволок его к реке, где взвалив его в лодку, поплыли домой под огнем неприятеля, начавшего беспорядочную стрельбу по тревоге подчаска. И осветительные ракеты пускались немцами, но Бог Русской земли хранил ее отважных сынов, и Сережа со своими мужиками за прикрытием вышеупомянутого острова благополучно привез своего пленного в штаб отряда.
Георгий, по прозвищу Ланской, отличился именно под этой деревней. Послан он был с двенадцатью своими солдатами в дальнюю разведку, которую окончил благополучно и возвращался к себе в полк, когда в деревне Вулька Ланская наткнулся на эскадрон наших лейб-гусар, имевших задачу удержать этот пункт от наступавшего врага до прибытия пехоты. Георгий, общительный, repandu comme verre d’eau среди военной молодежи, понятно, встретил в командире эскадрона и приятеля. Спросил он его, спокоен ли он за благополучное выполнение предписания, на что гусар ответил, что опасается он лишь за свой левый фланг, который легко может быть обойденным. Георгий, понятно, предложил свои услуги, которые были охотно приняты, и тут же расположил своих людей в цепь,
848
прикрывши левый фланг гусар. Огонь со стороны гусар и конно-гренадер был настолько сильный, что ввел неприятеля в заблуждение, и он свое наступление остановил, ограничившись и со своей стороны убийственным огнем. Это положение длилось уже долго, наступали сумерки, когда к Георгию, понятно, отстреливавшемуся в самой цепи, подполз его унтер-офицер с докладом, что гусары отступили, и они, конно-гренадеры, уже добрый час совсем одни. Приходилось самим подумывать о безопасном отступлении, а тут Георгий, давший приказ отступать, усмотрел в оставшихся в цепи гусара и своего конно-гренадера и не захотел отходить, пока не вытащит их, не зная, ранены ли они или убиты. Пополз он обратно с унтер-офицером за ними, и только отполз от куста, где они совещались с унтер-офицером, как куст этот был сравнен с землей упавшим снарядом; это доброе сердце спасло его от неминуемой погибели. С большим трудом и опасностью он все же оттащил и своего солдата, и гусара, причем первый оказался раненым, а второй убитым, и благодаря наступившей темноте благополучно вернулся со своим разъездом и с одним раненым в расположение полка. Первый, которого он встретил, был адъютант полка; последний накинулся на него с товарищеским выговором: куда он запропастился и так поздно возвращается. Начальник же Георгия возражал, что он превысил свои полномочия и за это, вероятно, будет отдан под суд, тем более что у него есть раненый, что случилось лишь потому, что Георгий самовольно ввязался в дело, на которое не был послан. Вернулся Георгий к себе озадаченный и стал нам писать в подробности все это событие, но не докончил письма и лег. Рано утром на следующий день его требуют к командиру, который вместо выговора встретил его с похвалой, благодарностью и заявлением, что за вчерашнее дело он, Георгий, представлен к Георгию. Оказывается, что гусары еще ночью были у командира гренадерского полка и подробно доложили ему, как было дело, как вмешательство и помощь Георгия со своим разъездом помогли им, причем повинились, что отступили, не предупреждая его. Описанием этого разговора с полковым командиром и кончал Георгий свое письмо, причем с присущей ему скромностью выражал недоумение: в чем же был его подвиг? Все же Георгиевского креста ему не дали, а заменили эту награду Владимиром с медалью, что для него, еще совсем юного, было все-таки большой наградой. А в военной среде ему дали кличку «Ланской». В рассказах его впоследствии о войне он так просто рассказывал о разных случаях своей боевой жизни, что я лично просто диву давался его спокойствию. Привел он по ликвидации полка после революции и свою любимую лошадь Воришку, на которой он не раз спасался от погони немцев. Рассказывал он, как один из самых страшных моментов его боевой жизни был раз в лесу ночью, когда он чутьем почувствовал себя окруженным неприятелями и видел, как кольцо подползавших врагов все сжимается, видел он их по фонарям, которые то здесь, то там вспыхивали, и слушал их по шелесту ползших тел. Спасся он тоже чудом, вырвавшись из этого круга.
С каким волнением и интересом не только мы, но и весь лазарет следил за каждым известием с театра военных действий! Каждая газета читалась и перечитывалась без конца. К этому времени, благодаря хлопотам моего старшего сына и содействию Дмитрия Капниста, тогда члена Государственной Думы
849
и докладчика по смете Почтово-телеграфного ведомства, у нас в Сергиевском открылось почтовое отделение под названием «Сергиевское-Осоргино», в отличие от прежде работавшего, именуемого «Сергиево-Сергиевское» и т. п. Вначале Центральное управление наименовало наше отделение «Карово», но я запротестовал, не желая узаконять и впредь это название по имени прежнего владельца генерала Кара, память которого ни исторически, ни по местной молве нежелательно было утверждать в памяти последующих поколений. Почта, которую по данному мною обязательству возила моя контора до Ферзикова, приходила ежедневно, кроме воскресенья, между 12-тью и часом, и как только завидишь почтальона, проезжающего или проходящего через дверь с тяжелой сумкой, письмоводитель лазарета отправлялся на почту, откуда приносил целые ворохи писем и газет. Газеты получались в большом количестве: я подписался не только для себя, но и для конторы, и для лазарета; получались «Русские ведомости», «Русское слово», «Неделя», «Время», «Биржевые ведомости», «Голос Москвы» и многие другие. Кроме того ежедневно получались бюллетени войны из Калуги — издание Калужской губернской типографией ежедневных агентских телеграмм, получаемых с театра военных действий.

Осоргины, Комаровские и Истомины в Измалкове. 1918—1923.
Частное собрание, Москва
Помню, какие радостные впечатления, какой энтузиазм произвела телеграмма, напечатанная в какой-то маленькой газете, кажется, «Копейка», о десантных действиях соединенного фронта дружественных держав (Америка, Англия, Франция
850
и Италия) в Босфоре у Константинополя. Телеграмма была какая-то путаная и не внушала особого доверия и на следующий день была опровергнута, но в вечер получения телеграммы ликование было общее. Впоследствии к нам приехал Андрей Ильяшенко (см. мои воспоминания по Харькову), он был до того командирован Красным Крестом на фронт в Салоники, дабы ознакомиться с положением в союзных армиях, и рассказал нам со слов участников, как были произведены десантные действия союзников и к чему они привели. Записываю на память со слов, но рассказ этого момента войны прошел через столько [лет], что может быть далеко не точен. Все же он интересен как отголосок того, что говорили, переживали и ожидали от союзников в то время Андрей не [с]только с похвалой, сколько с некоторым изумлением рассказывал, как обеспечивалось продовольствие солдат в английской армии: чуть ли не ежедневно приходил пароход из Англии с мясными порциями и английским пивом (эль, портер) и, понятно, виски, без чего ни один англичанин обойтись не может. Это образцовое продовольствование и погубило дело, как комично рассказывали другие национальности, сражавшиеся бок о бок с англичанами, и, главное, французы. Начало десантной операции было произведено блестяще как по замыслу, так и по точности исполнения. В день, назначенный для сего, была произведена союзниками фальшивая диверсия и этим отвлечено все внимание немцев в другую сторону. Во время этой будто бы высадки был послан буксирный пароход, тянувший несколько барж, по виду с углем или припасами. На определенном месте ложный буксир и баржи течение прибило к берегу, из них-то и выскочил десант, овладел в один миг прибрежной полосой и уже при поддержке судовой артиллерии занял и хребет возвышенности; но вот тут-то и подошел час обеда того культурного войска, и части постепенно начали отрываться и с гребня возвышенности; турки воспользовались ослаблением натиска и в час обеда прогнали уменьшившееся число английских войск с гребня, который так и не удалось до конца операции вновь занять. А он доминировал надо всей местностью и обстреливал впоследствии чуть ли не лагерь союзников, когда прибыли более дальнестрельные оружия…
Сноски к стр. 128
* Михаил Александрович, председатель Государственной Думы.
Сноски к стр. 130
* Увы! Кто их теперь носит? Не знаю, так как во время революции пришлось их продать или, скорее, обменять на муку для семьи.
Сноски к стр. 137
* Брат его старший был моим преподавателем фронта в гимназии, потом был назначен генералом для поручений при командующем войсками Петербургского округа, каковым был тогда наследник-цесаревич Александр Александрович. Когда в 1881 году взошел на престол Александр III, он, по обычаю, повелел военному министру, тогда Д. А. Милютину (еще не графу), зачислить в свиту всех состоявших при нем. По ошибке ли или же нарочно Министерство зачислило в таковую всех, состоявших при нем не только по званию наследника престола, но и по должности командующего войсками округа, и этот Аргамаков нежданно-негаданно попал в генералы свиты. Всем этим случайным свитским, совершенно не придворным людям, такое высокое звание шло, как корове седло; пошли разговоры, нарекания, неудовольствие, и через неделю-две, чтобы положить сему конец, всех бывших при командующем войсками округа произвели в следующие чины с отчислением от свиты.
Сноски к стр. 138
* Сын известного в то время жандармского генерала.
Сноски к стр. 139
* Я был в отделении Бауэра.
** Его сын, по особому высочайшему повелению за честную службу отца, был зачислен в пажи и был со мною в одном классе.
Сноски к стр. 140
* В нашем классе Исаков был сын главного начальника военно-учебных заведений, Ванновский — сын военного министра впоследствии.
** Надо было при безукоризненном поведении иметь годовых в среднем не менее 9 баллов, а из некоторых главных предметов не ниже 10 на переходном экзамене.
Сноски к стр. 142
* Конногвардейский полк.
** Князя Владимира Сергеевича Оболенского, двоюродного брата Коти, по прозванию в полку — он был кавалергардом — «Елка», графа Голенищева-Кутузова, женатого на сестре предыдущего, и графа Олсуфьева.
Сноски к стр. 144
* Мой товарищ был вторым по возрасту.
Сноски к стр. 148
* Какого полка — не помню, но слышал, что полк был армейский из Московского гарнизона.
Сноски к стр. 150
* Впоследствии петербургский губернатор.
** Какой-то странный, нелюдимый, впоследствии женился на Катковой.
*** Мария, вышедшая замуж за барона Таубе и проделавшая во время Боксерского восстания «Пекинское сидение», и Надежда, впоследствии замужем за князем Мышецким.
Сноски к стр. 151
* Дочерей ее сына, женатого на графине Рибопьер.
** Потом замужем за графом Сумароковым-Эльстон, предварительно отказав князю Александру Болгарскому, претендовавшему на ее руку и богатство.
Сноски к стр. 152
* Это тот князь Ливен, который хотел купить наше Сергиевское.
** Один из младших братьев того, который впоследствии женился на княжне Юсуповой.
Сноски к стр. 154
* Из младшего класса Пажеского корпуса можно было выходить в армию офицером, это была наша привилегия, за которую другие военные училища нам завидовали.
** Может быть, эта гуманность, несвойственная военной дисциплине, и была причиной, что на следующий год Будаев был заменен полковником Пржевальским.
Сноски к стр. 156
* До последних дней она служила нам в Сергиевском для катаний.
Сноски к стр. 157
* Одна за Тройницким, другая за князем Манвелловым, третья за графом Тулуз-де-Лотреком, четвертая за князем Оболенским и одна незамужняя, впоследствии за Бобриковым, убитым революционерами на посту финляндского генерал-губернатора.
** Старший сын Владимир и второй, Алексей, женившийся впоследствии на внучке поэта Плещеева и занявший пост гофмаршала Двора великого князя Петра Николаевича.
Сноски к стр. 169
* Сестра ее была за Гусятниковым, а другая, если не ошибаюсь, за Аладьиным.
** Так ее звали мои родители, посмеиваясь над сентиментальным прозвищем «Душа», совершенно к ней, деревенской крестьянской девушке, не подходящем.
Сноски к стр. 170
* Александр Иванович Казначеев, женатый на старшей сестре дедушки Волконского. Умер он в Москве сенатором впоследствии упраздненного Московского присутствия.
Сноски к стр. 174
* Мария Павловна, супруга великого князя Владимира Александровича, второго сына государя.
Сноски к стр. 175
* В царствование Александра II как гражданским, так и военным чинам ношение бороды было запрещено, и все носили бакенбарды.
** Совсем не могу вспомнить, как звали эту принцессу и какое ее было родство с нашим Двором.
Сноски к стр. 177
* Тогда это был первый офицерский чин (одна звездочка на одной полоске), впоследствии замененный чином подпоручика с двумя звездочками. Последнего чина в мое время в гвардии не было и он лишь установлен был в армейских полках как второй офицерский чин.
Сноски к стр. 179
* Впоследствии жиздринский уездный предводитель дворянства.
Сноски к стр. 180
* Он вскоре умер от чахотки.
Сноски к стр. 181
* Маковский писал с него боярина в картине «Свадебный пир».
Сноски к стр. 189
* Не говоря уже о том, что наша привилегия выбирать полк, не справляясь о вакансиях, была им поперек горла; мы кроме того имели над ними старшинство, а потому в полку садились им на шею.
Сноски к стр. 194
* В мое время был обычай в гвардии: солдат становился во фронт своим полковым офицерам.
Сноски к стр. 195
* Меня часто многие спрашивали об этом конногвардейце-однофамильце, но я так и не узнал, был ли он мне родственник. Во всяком случае, если да, то очень отдаленным, так как я, отец мой и дед были единственными сыновьями; его же в Петербурге я лично не встретил, так как он уже давно вышел в отставку.
Сноски к стр. 196
* Белая фуражка присвоена была всем четырем полкам Кирасирской дивизии; полки различались по погонам и околышку. У нас в полку погоны были серебряные, а околышек красный.
Сноски к стр. 203
* Начало текста на нескольких страницах повреждено и читаются только отдельные слова.