233
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Время выхода в свет четвертой книжки «Современника» за 1836 г., в которой опубликована была «Капитанская дочка», точно не установлено. На это литературное событие не откликнулся ни один журнал, ни одна из петербургских и московских газет. Даже «Северная пчела», регулярно отмечавшая в своей хронике или в объявлениях книгопродавцев поступление в продажу очередных номеров всех литературных журналов, обошла молчанием появление «Капитанской дочки». В переписке Пушкина сохранилось два упоминания о четвертой книжке «Современника», но оба эти свидетельства не имеют дат.1 Неудивительно, что и библиографический справочник Н. Синявского и М. Цявловского «Пушкин в печати», определяя время выхода в свет последней книжки «Современника», ограничился условной датировкой: «Во второй половине ноября — в декабре».2 Эта справка основывалась на дате цензурного разрешения четвертого тома, подписанного к печати 11 ноября 1836 г. Вероятно, на этой же дате основано было полвека спустя и глухое упоминание П. И. Бартенева о том, что последняя книжка «Современника» появилась «в исходе ноября».3
Отсутствие точных данных о времени выхода в свет «Капитанской дочки» заставляет нас с особым вниманием учесть все косвенные свидетельства об этом. В их ряду наиболее авторитетными являются отметки в дневниках и в письмах А. И. Тургенева, который день за днем в течение последних двух месяцев 1836 г. регистрировал все новости великосветской, литературной и научной жизни Петербурга. Как старый друг
234
Пушкина и один из ближайших сотрудников его журнала, А. И. Тургенев раньше, чем кто-либо другой, должен был откликнуться и на выход в свет четвертой книжки «Современника».
И действительно, записи в дневнике А. И. Тургенева от 24, 25 и 26 декабря являются самыми ранними из известных нам свидетельств о последней книжке «Современника».4 24 декабря А. И. Тургенев беседовал о ней с П. А. Вяземским и тогда же приступил к чтению «Капитанской дочки»; 25 декабря он поделился впечатлениями от нового номера «Современника» с самим Пушкиным; 26 декабря он рекомендовал познакомиться с четвертой книжкой «Современника» К. А. Булгакову и в тот же день отправил новый том журнала в Москву.5
Все эти записи свидетельствуют о том, что четвертая книжка «Современника» явилась между 24 и 26 декабря самой злободневной новинкой, известной ближайшему окружению Пушкина в Петербурге и еще не успевшей дойти до Москвы. Поэтому мы и полагаем, что если А. И. Тургенев получил свой авторский экземпляр четвертого тома «Современника» 24 декабря, то временем выхода в свет «Капитанской дочки» можно считать или этот самый день, или день предшествующий. Это наше предположение было подтверждено впоследствии документами, обнаруженными Н. И. Фокиным в архиве С.-Петербургского цензурного комитета: билет на выпуск в свет четвертого номера «Современника» был подписан 22 декабря 1836 г.6
Таким образом, и недатированная записка Пушкина к В. Ф. Одоевскому с запросом: «Получили ли вы 4 № Современника и довольны ли им?» — должна быть отнесена к последним числам декабря 1836 г. К этим же дням должны быть приурочены и критические замечания В. Ф. Одоевского о «Капитанской дочке», посланные им Пушкину в ответ на его запрос (16, 195—196). Эту датировку подтверждает и рассказ Л. А. Краевского о том, как он вместе с Пушкиным присутствовал 29 декабря 1836 г. на годовом акте в Академии наук: «Пред этим только что вышел четвертый том „Современника“ с „Капитанской дочкой“, — вспоминал Краевский. — В передней комнате Академии пред залом Пушкина встретил Греч — с поклоном чуть не в ноги: „Батюшка Александр Сергеевич, исполать вам! Что за прелесть вы подарили нам! — говорил с обычными ужимками Греч. — Ваша „Капитанская дочка“ чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать!“ — „Давайте, давайте им читать!“ — говорил в ответ, улыбаясь, Пушкин».7
В тот же день, т. е. 29 декабря 1836 г., Пушкин дал письменное распоряжение о выдаче 25 экземпляров четвертой книжки «Современника» книжному магазину А. Ф. Смирдина.8 Первая же печатная информация
235
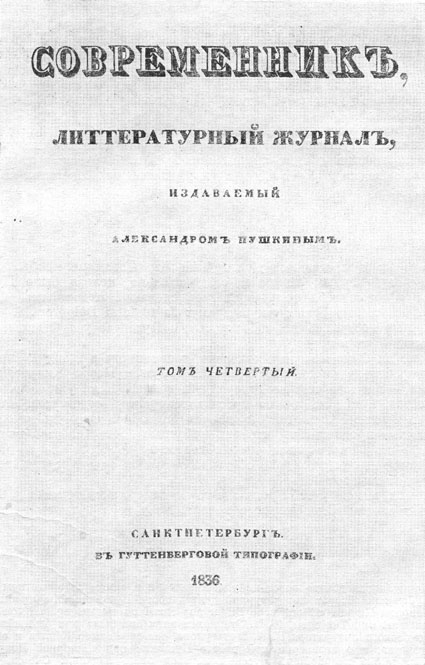
«Современник». Титульный лист четвертого тома журнала за 1836 г., в котором впервые был опубликован роман «Капитанская дочка».
236
о новой книжке «Современника» появилась лишь месяц спустя. Мы имеем в виду две строчки в № 5 «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» от 30 января 1837 г. о публикации «в IV томе „Современника“ на 1836 г. превосходной повести Пушкина „Капитанская дочка“» (с. 48). Эти строки помещены были в разделе «Замечательные явления в русской журналистике» и дошли до читателей уже после смерти поэта. Других откликов на «Капитанскую дочку» в печати не было до 1838 г.9
Объединяя в настоящем разделе все известные нам отклики на роман современников Пушкина, мы включаем сюда же печатные и эпистолярные высказывания о нем крупнейших деятелей русской литературы, искусства и науки XIX—XX вв., а также известных советских литературоведов.
П. А. Вяземский
Кто-то заметил, кажется Долгорукий, что Потемкин не был в пугачевщину еще первым лицом и, следовательно, нельзя было Пугачеву сказать: «Сделаю тебя фельдмаршалом, сделаю Потемкиным». Да и не напоминает ли это французскую драму: Je te ferai Dolgoroucki.
«Важные поступки» где-то, кажется, о Пугачеве у тебя сказано. Гоголь может быть в претензии.
Можно ли было молодого человека, записанного в гвардию, прямо по своему произволу определить в армию? А отец Петра Андреевича так поступил, — написал письмо генералу, и только. Если уже есть письмо, то, кажется, в письме нужно просить генерала о содействии его к переводу в армию. А то письмо неправдоподобно. Не будь письма налицо, можно предполагать, что эти побочные обстоятельства выпущены автором, — но в письме отца они необходимы.
«Абшит» говорится только об указе отставки, а у тебя, кажется, взят он в другом смысле.
Кажется, зимою у тебя река где-то не замерзла, а темнеет в берегах, покрытых снегом. Оно бывает с начала, но у тебя чуть ли не посреди зимы.10
Письмо П. А. Вяземского к Пушкину. Около 5 ноября 1836 г. — 16, 183.
237
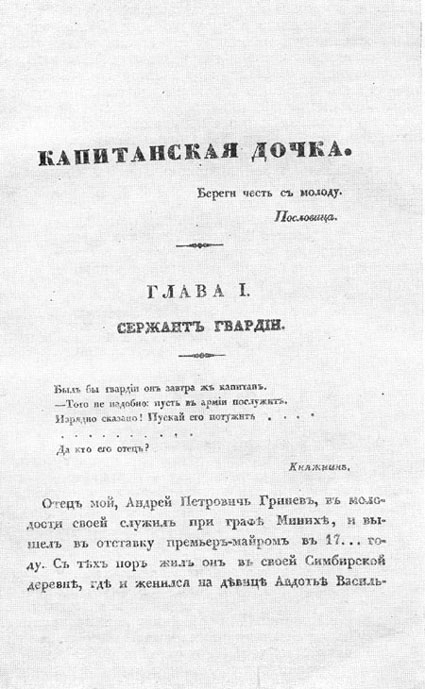
«Капитанская дочка». Первая страница журнального текста («Современник»,
1836, № 4, с. 42).
238
В «Капитанской дочке» история пугачевского бунта или подробности о нем как-то живее, нежели в самой истории. В этой повести коротко знакомишься с положением России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Может быть, в некоторых чертах автор несколько идеализировал его. В его — странно сказать, а иначе сказать нельзя — простодушии, которое в нем по временам оказывается, в его искренности относительно Гринева, пред которым он готов не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очерк Дмитрия Самозванца, начертанный тем же Пушкиным. Но если некоторые подробности встречаешь с недоумением, то основа целого и басня, на ней изложенная, верны. Скажем опять: если оно было и не так, то могло так быть. От крепости Белогорской вплоть до Царского Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина так же удачно и верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна. А что за прелесть Мария! Как бы ни было, она принадлежит русской былине о Пугачеве. Она воплотилась с нею и отсвечивается на ней отрадным и светлым оттенком. Она другая Татьяна того же поэта.
Вяземский П. А. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина. 1847. — Полн. собр. соч. Спб., 1879, т. 2, с. 377.
В. Ф. Одоевский
«Капитанскую дочь» я читал два раза сряду и буду писать о ней особо в «Л<итературных> при<бавлениях к „Русскому инвалиду“>» — комплиментов Вам в лицо делать не буду — Вы знаете все, что я об Вас думаю и к Вам чувствую, но вот критика не в художественном, но в читательском отношении: Пугачев слишком скоро, после того как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость; увеличение слухов не довольно растянуто — читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, когда она уже и взята. Семейство Гринева хотелось бы видеть еще раз после всей передряги: хочется знать, что скажет Гринев, увидя Машу с Савельичем. Савельич чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести. Пугачев чудесен; он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева. По выражению Иосифа Прекрасного,11 Швабрин слишком умен и тонок, чтобы поверить возможности успеха Пугачева, и не довольно страстен, чтобы из любви к Маше решиться на
239
такое дело. Маша так долго в его власти, а он не пользуется этими минутами. Покаместь Швабрин для меня имеет много нравственно-чудесного; может быть, как прочту в третий раз, лучше пойму.
Письмо В. Ф. Одоевского к Пушкину. Около 26 октября 1836 г. — 16, 195—196.
П. Я. Чаадаев
Tout fou que je suis, je compte que Pouchkin voudra bien accepter mon compliment sur la charmante créature, son enfant adultérine, qui est venue l’autre jour me reposer un instant de mes dégoûts. Dites-lui, je vous prie, que ce qui me charme surtout en elle, c’est cette simplicité parfaite, ce bon goût, si rares par le temps qui court, si difficiles à prendre en ce siècle à la fois si fat et fougueux, qui se couvre d’oripeaux et se roule dans l’ordure, véritable prostituée en robe de bal et les pieds dans la boue. Ив. Ив. <Дмитриев> trouve que le vieux général allemand eût mieux été en personnage historique, l’époque étant si parfaitement historique: je suis assez de son avis mais c’est une vétille.
Письмо П. Я. Чаадаева к А. И. Тургеневу. Около 30 декабря 1836 г. — В кн.: Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1913, т. 1, с. 200.
Перевод: Пусть я безумец, но я надеюсь, что Пушкин примет искреннее мое поздравление в связи о появлением на свет очаровательного создания, его побочного ребенка, доставившего мне на днях минуту отдыха от гнетущего меня уныния. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровали меня в нем совершенная простота, утонченность вкуса, столь редкие в нынешнее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в нечистотах, настоящая блудница в бальном платье и с ногами в грязи. Ив. Ив. <Дмитриев> находит, что старый генерал-немец был бы удачнее в качестве исторического лица, ведь эпоха воссоздана так глубоко; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь.
А. И. Тургенев
Повесть Пушкина «Капитанская дочь» так здесь прославилась, что Барант,12 не шутя, предлагал автору, при мне, перевести ее на французский <язык> с его помощию, но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести — кои набросаны во всей повести? Главная прелесть
240
в рассказе, а рассказ перерассказать на другом языке — трудно. Француз поймет нашего дядьку (menin), такие и у них бывали; но поймет ли верную жену верного коменданта?
Письмо А. И. Тургенева к К. Я. Булгакову. 9 января 1837 г. — В кн.: Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 204.
Н. В. Гоголь
Кстати о литературных новостях. Они, однако ж, не тощи. Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская дочь». Видана ли была где такая прелесть! Я рад, что «Капитанская дочь» произвела всеобщий эффект.
Письмо Н. В. Гоголя к Н. Я. Прокоповичу. 25 января 1837 г. — В кн.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1952, т. 11, с. 85.
Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведенье в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительно<сть> кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все — не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном в лучшем виде.
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (гл. XXXI — «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). 1847. — Полн. собр. соч. М., 1952, т. 8, с. 384—385.
241
В. Г. Белинский
А его «Капитанская дочка»? О, таких повестей еще никто не писал у нас, и только один Гоголь умеет писать повести, еще более действительные, более конкретные, более творческие, — похвала, выше которой у нас нет похвал!
Белинский В. Г. Литературная хроника. — Московский наблюдатель, 1838, т. 16, март, кн. 1; Полн. собр. соч. М., 1953, т. 2, с. 347—348.
Самая лучшая его повесть «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами, и драмами, это не больше как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями.13
Белинский В. Г. Герой нашего времени. — Отеч. зап., 1840, № 6, отд. 5, с. 32; Полн. собр. соч., М., 1954, т. 4, с. 198.
«Капитанская дочка» — нечто вроде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие картины по верности, истине содержания и мастерству изложения — чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера-француза и в особенности его дядьки из псарей, Савельича, этого русского Калеба,14 Зурина, Миронова и его жены, их кума Ивана Игнатьевича, наконец, самого Пугачева, с его «господами енаралами», таковы многие сцены, которых, за их множеством, не находим нужным пересчитывать. Ничтожный, бесчувственный характер героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматический характер Швабрина хотя принадлежат к резким недостаткам повести, однако ж не мешают ей быть одним из замечательных произведений русской литературы.
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина, статья одиннадцатая и последняя. — Отеч. зап., 1846, № 10, отд. 5, с. 66; Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 577.
242
В. К. Кюхельбекер
Легко статься может, что «Капитанская дочка» и «Пиковая дама» лучше всего, что когда-нибудь написано Пушкиным.
Письмо В. К. Кюхельбекера к Н. Г. Глинке. 29 июня 1839 г. — В кн.: Летописи Гос. Лит. музея. Декабристы / Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, с. 182.
Н. И. Греч
И не в одних стихах являлся его прекрасный, необыкновенный дар! Он с таким же искусством и счастием писал в прозе. В первых своих прозаических произведениях он играл, можно сказать, таким образом, но в последних поднялся на высокую степень. Слог его повести «Капитанская дочка» простотою, естественностию, выразительностию и правильностию показывает, какую пользу он принес бы русскому языку, если б жил долее.
Греч Н. Чтения о русском языке. Спб., 1840, ч. 1, с. 759.
...его «Пиковая дама» и «Капитанская дочка» занимают первые места в ряду повестей русских. Особенно изобилует неподдельными красотами «Капитанская дочка», в которой Пушкин с удивительным искусством умел схватить и выразить характер и тон средины XVIII века.
Греч Н. Чтения о русском языке. Спб., 1840, ч. 2. с. 339.15
И. Г. Головин
Ses nouvelles en prose ne présentent pas, je crois, le cachet particulier de son génie, quoique sa «Fille du capitaine», sa «Dame de pique» et quelques autres occupent dans la littérature russe une place remarquable.
Golovine Ivan. La Russie sous Nicolas I-er. Paris, 1845, p. 436.
Перевод: На его прозаических повестях, как я думаю, нет особой печати его гения, хотя «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и некоторые другие занимают в русской литературе очень видное место.
243
П. А. Катенин
«История пугачевского бунта» по языку очень хороша, но по скудости материалов, коими мог пользоваться сочинитель, в историческом отношении недостаточна; зато картинную сценическую сторону любопытной эпохи схватил он и представил мастерски в «Капитанской дочке»; сия повесть, пусть и побочная, но все-таки родная сестра «Евгению Онегину»: одного отца дети и «во многом сходны между собою».
Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине. 9 апреля 1852 г. — В кн.: Лит. наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 642.
Л. Н. Толстой
Я читал «Капитанскую дочку», и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, но манерой изложения. Теперь справедливо в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то.
Толстой Л. Н. Дневник. 31 октября 1853 г. — Полн. собр. соч. М., 1934, т. 46, с. 187—188.
П. В. Анненков
Рядом с своим историческим трудом Пушкин начал, по неизменному требованию артистической природы, роман «Капитанская дочка», который представлял другую сторону предмета — сторону нравов и обычаев эпохи. Сжатое и только по наружности сухое изложение, принятое им в Истории, нашло как будто дополнение в образцовом его романе, имеющем теплоту и прелесть исторических записок.
Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855, с. 361.
Н. Г. Чернышевский
Прочитайте три-четыре страницы «Героя нашего времени», «Капитанской дочки», «Дубровского» — сколько написано на этих страничках!
244
И место действия, и действующие лица, и несколько начальных сцен, и даже завязка — все поместилось в этой тесной рамке.
Чернышевский Н. Г. Сочинения Пушкина. Статья вторая. — Современник, 1855, № 3, отд. 3, с. 1—34; Полн. собр. соч. М., 1949, т. 2, с. 466—467.
«Дубровский» и особенно «Капитанская дочка» должны назваться лучшими из прозаических повестей Пушкина. «Дубровский» изображает быт наших помещиков в начале нынешнего столетия, а «Капитанская дочка» — эпоху пугачевского бунта, историею которого Пушкин занимался в это время.
Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин: Его жизнь и сочинения. Спб., 1856; Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 335.16
М. Н. Катков
«Капитанская дочка» составляет блистательное исключение из повествовательной прозы Пушкина. В этой повести есть развитие, целость и много прекрасного. Занятие материалами для истории пугачевского бунта не осталось в Пушкине бесплодным. «Капитанская дочка» несравненно более знакомит нас с эпохою, местами и характером лиц и событий, нежели самая история пугачевского бунта, написанная Пушкиным. Удивительная верность изображений была новостию в нашей литературе. После «Бориса Годунова» повесть эта явилась новым доказательством способности Пушкина воссозидать быт прошедших времен. Но и здесь главное достоинство все же заключается не в развитии целого, а в подробностях и отдельных положениях. Образ Пугачева намечен мастерски: это одна из самых цельных характеристик у Пушкина. Прочие лица в этой повести: сама героиня, ее отец и мать, Савельич, так же хороши по замыслу и по исполнению. Но как ни сильно поддерживало, как ни возбуждало производительную силу повествователя обилие материалов, из которых выработан этот рассказ, оно не могло, однако, вполне заменить то, чего недоставало в самой природе его дарования. И «Капитанская дочка», изобильная прекрасными частностями, не составляет определенного и сильно организованного целого. В рассказе нельзя не заметить той же самой сухости, которою страдают все прозаические опыты
245
Пушкина. Изображения либо слишком мелки, либо слишком суммарны, слишком общи. И здесь также мы не замечаем тех сильных очертаний, которые дают вам живого человека или изображают многосложную связь явлений жизни и быта.
Катков М. Пушкин. — Рус. вестн., 1856, кн. 3, с. 294.
Аполлон Григорьев
...но Пушкин в нашей литературе был единственный полный человек, единственный всесторонний представитель нашей народной физиономии <...>. Ему было дано непосредственное чутье народной жизни, и дана более непосредственная же любовь к народной жизни. Это (вопреки появившемуся в последнее время мнению, уничтожающему его значение как народного поэта, мнению, родившемуся только вследствие знакомства наших мыслителей с народною жизнью из кабинета и по книгам) — неоспоримая истина, подтверждаемая и складом его речи в Борисе, Русалке, Женихе, утопленнике, сказках о рыбаке и рыбке, о Кузьме Остолопе, отрывком о Медведице и т. д. и, что еще важнее, складом самого миросозерцания в «Капитанской дочке», повестях Белкина и проч. <...> Чисто отрицательное созерцание жизни и действительности является только как момент в полной и цельной натуре Пушкина <...> Он на этом может не останавливаться, а идет дальше, облекается сам в образ Белкина, но опять-таки и на этом не останавливается. Отождествление с взглядом отцов и дедов в «Капитанской дочке» выступает в поэте вовсе не на счет существования прежних идеалов, даже не во вред им, ибо в то же самое время создает он «Каменного гостя» <...>.
Когда мы все восторгались «народными» разговорами в романах Загоскина, он, в высокой степени владевший народною речью (отрывок о Медведице), понимавший глубоко и комические принципы быта русского человека («Летопись села Горохина»), и трагические (кузнец в Дубровском, «Емеля» в «Капитанской дочке», пир Пугачева и т. д.), он ни разу не позволил себе написать какую-нибудь повесть с «народными» разговорами, ибо знал, что не пришло еще время, нет еще красок под рукою и неоткуда их взять, пока не последуют его совету и не будут учиться русскому языку у московских просвирней (примечания к Онегину), что речь, которую выдавали за народную, — не народная, а подслушанная у дворни, что чувства, этою речью выражаемые, — фальшивы и т. д.
Григорьев А. Западничество в русской литературе: Причины происхождения его и силы. 1836—1851. — Время, 1861, № 3, отд. 2, с. 3—4, 8; Соч. Спб., 1876, т. 1, с. 512—514, 517—518.
246
В. А. Соллогуб
Есть произведение Пушкина, мало оцененное, мало замеченное, а в котором, однако, он выразил все свое знание, все свои художественные убеждения. Это История пугачевского бунта. В руках Пушкина, с одной стороны, были сухие документы, тема готовая. С другой стороны, его воображению не могли не улыбаться картины удалой разбойничьей жизни, русского прежнего быта, волжского раздолья, степной природы. Тут поэту дидактическому и лирическому был неисчерпаемый источник для описаний, для порывов. Но Пушкин превозмог самого себя. Он не дозволил себе отступить от связи исторических событий, не проронил лишнего слова, — спокойно распределил в должной соразмерности все части своего рассказа, утвердил свой слог достоинством, спокойствием и лаконизмом истории и передал просто, но гармоническим языком исторический эпизод. В этом произведении нельзя не видеть, как художник мог управлять своим талантом, но нельзя же было и поэту удержать избыток своих личных ощущений, и они вылились в «Капитанской дочке», они придали ей цвет, верность, прелесть, законченность, до которой Пушкин никогда еще не возвышался в цельности своих произведений. «Капитанская дочка» была, так сказать, наградой за пугачевский бунт. Она служит доказательством, что в делах искусства всякое усилие таланта, всякое критическое самообуздывание приносит свое плодотворное последствие и дает дальнейшим попыткам новые силы, новую твердость.
Соллогуб В. А. Опыты критических оценок: Пушкин в его сочинениях. 15 апреля 1865 г. — В кн.: Беседы в Обществе любителей российской словесности при имп. Московском университете. М., 1867, вып. 1, отд. 2, с. 4.
Н. Н. Страхов
«Капитанская дочка», собственно говоря, есть хроника семейства Гриневых; это тот рассказ, о котором Пушкин мечтал еще в третьей главе Онегина, — рассказ, изображающий
Преданья русского семейства.
Впоследствии у нас явилось немало подобных рассказов, между которыми высшее место занимает «Семейная хроника» С. Т. Аксакова. Критики заметили сходство этой хроники с произведением Пушкина <...>. Стоит немножко вглядеться в «Войну и мир», чтобы убедиться, что это тоже некоторая семейная хроника <...>. Это не роман вообще, не исторический роман, даже не историческая хроника; это хроника семейная <...>.
Этот своеобразный род, которого нет в других словесностях и идея которого долго тревожила Пушкина и наконец была осуществлена им, может быть характеризован двумя особенностями, на которые указывает
247
его название. Во-первых, это хроника, т. е. простой, бесхитростный рассказ, без всяких завязок и запутанных приключений, без наружного единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чем роман, — ближе к действительности, к правде: она хочет, чтобы ее принимали за быль, а не за возможность. Во-вторых, это быль семейная, т. е. не похождения отдельного лица, на котором должно сосредоточиваться все внимание читателя, а события, так или иначе важные для целого семейства. Для художника как будто одинаково дороги, одинаково герои — все члены семейства, хронику которого он пишет. И центр тяжести произведения всегда в семейных отношениях, а не в чем-нибудь другом. «Капитанская дочка» есть рассказ о том, как Петр Гринев женился на дочери капитана Миронова. Дело вовсе не в любопытных ощущениях, и все приключения жениха и невесты касаются не изменения их чувств, простых и ясных от самого начала, а составляют случайные препятствия, мешавшие простой развязке, — не помехи страсти, а помехи женитьбе. Отсюда — такая естественная простота этого рассказа; романтической нити в нем собственно нет <...>.17
Что же такое «Капитанская дочка»? Всем известно, что это одно из драгоценнейших достояний нашей литературы. По простоте и чистоте своей поэзии это произведение одинаково доступно, одинаково привлекательно для взрослых и детей. На «Капитанской дочке» (так же как на «Семейной хронике» С. Аксакова) русские дети воспитывают свой ум и свое чувство, так как учителя, без всяких посторонних указаний, находят, что нет в нашей литературе книги более понятной и занимательной и вместе с тем столь серьезной по содержанию и высокой по творчеству.18
Страхов Н. «Война и мир»: Сочинения графа Л. Н. Толстого. Статья вторая и последняя. — Заря, 1869, № 2, с. 209—212; см. также в кн.: Страхов Н. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. 4-е изд. Киев, 1901. с. 222—225.
248
Ф. М. Достоевский
И никогда еще ни один русский писатель ни прежде, ни после его не соединялся так задушевно и родственно с народом, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших об народе, а между тем, если сравнить с Пушкиным, — ей-богу, до сих даже пор все это лишь «господа», о народе пишущие. У самых лучших из них, самых великих — нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся взаправду с народом, доходящее иногда до какого-то умиления, до какого-то любования русской силой, до любовного слияния с народом <...>.
В «Капитанской дочке» казаки тащат молоденького офицера на виселицу, надевают уже петлю и говорят: небось, небось — и ведь действительно, может быть, ободряют бедного искренно, его молодость жалеют. И комично и прелестно. Да хоть бы и сам Пугачев с своим зверством, а вместе с беззаветным русским добродушием. С тем же молодым офицером уже наедине смотрит на него с плутоватой улыбкой, подмигивая глазами: думал ли ты, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? И потом, помолчав: ты крепко передо мной виноват <...>. Да и весь этот рассказ «Капитанская дочка» чудо искусства. Не подпишись под ним Пушкин, и действительно можно подумать, что это в самом деле написал какой-то старинный человек, бывший очевидцем и героем описанных событий, до того рассказ наивен и безыскусствен, так, что в этом чуде искусства как бы исчезло искусство, утратилось, дошло до естества <...> вот в этом-то сродстве духа поэта нашего с родною почвою лежит наилучшее и самое обаятельное доказательство правдивости образов его. <...>
Читая Пушкина, читаем правду о русских людях, полную правду, и вот этой-то полной правды о себе самих, которую он нам так беспристрастно про нас рассказывает, мы почти уже и не слышим теперь или столь редко слышим, что и Пушкину пожалуй бы не поверили, если б не вывел и поставил он перед нами этих русских людей столь осязаемо и бесспорно, что усомниться в них или оспорить их совсем невозможно.
Достоевский Ф. М. Речь о Пушкине. Строки рукописи, исключенные из печатной редакции. 1880. — В кн.: Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1924 (на обл.: 1925), сб. 2, с. 526—529.
249
В. О. Ключевский
Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удастся стать им настоящему историку. «Капитанская дочка» была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в «Истории пугачевского бунта», которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. <...>
Среди образов XVIII в. не мог Пушкин не отметить и недоросля и отметил его беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура и не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII в., впрочем более шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горохина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны.
Ключевский В. О. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину. — Рус. мысль, 1880, № 6, с. 20—27; Соч. М., 1959, т. 7, с. 147, 151—152.
А. И. Незеленов
Между великими созданиями Пушкина повесть «Капитанская дочка» занимает несомненно одно из первых мест. Написанная в 1833 году, она носит на себе явные признаки полного расцвета таланта великого поэта. Она замечательна главным образом в двух отношениях: во-первых, потому, что в ней Пушкин с глубоким сочувствием отнесся к простым русским людям, к нашей старине, к нашей обыденной действительности, сумевши открыть в ней бессмертную нравственную красоту; во-вторых, по своей художественности. Художественность сказалась не только в том обстоятельстве,
250
что герои повести как живые возникают перед нашим умственным взором, но еще в большем: ведя рассказ от лица Гринева (повесть имеет форму его записок), Пушкин до такой степени входит сам в нравственное бытие своего героя, влезает, как говорится, в его кожу, что совершенно почти скрывается за личностью добродушного и любящего просвещение, несколько наивного, но обладающего здравым умом помещика конца прошлого века (здесь, может быть, и начало слабой стороны «Капитанской дочки»). Мы видим в повести с осязательной очевидностью взгляды и убеждения Гринева, его сочувствия и антипатии, степень его просвещения, его литературные знания (последнее, например, в эпиграфах к отдельным главам произведения, в различных ссылках). Чрезвычайно замечателен язык, слог повести: к нему как нельзя более применимо известное положение: слог — это человек; в спокойном и вместе живом течении простой, неизысканной речи, в употреблении устарелых «сей» и «оный», в попадающихся порою неправильных оборотах — так и видится Гринев. По всем этим причинам «Капитанская дочка» — верх художественного совершенства; в повести нет ни одного неуместно поставленного слова, и ни одного слова нельзя из нее исключить.
Незеленов А. И. Как и почему пропущена одна глава из повести «Капитанская дочка». — Новое время, 1881, 5 января; см. также в кн.: Незеленов А. И. Шесть статей о Пушкине. Спб., 1892, с. 96—97.
И. С. Тургенев
Ce chapitre, supprimé par la censure impériale, a été retrouvé récemment dans les papiers de l’auteur. La célèbre nouvelle historique de Pouchkine dont il fait partie est publiée en français depuis quelques années. Pour ceux qui ne l’ont pas lue dans l’original ou la traduction il suffit de rappler que cette nouvelle a pour sujet principal la révolte du cosaque Pougatchef sous la grande Cathrine, et que c’est parmi les incidents de cette sanglante aventure, ramenée aujourd’hui par le nihilisme à l’attention publique, que se déroule et récit du personnage inventé par Pouchkine.
Un épisode de guerre civile en Russie. Chapitre inédit de «La fille du capitaine». – La Revue politique et littéraire, 1881, 29 janvier, № 5, p. 131 (напечатано в качестве предисловия к французскому переводу (Тургенева и Виардо) неизвестной ранее «Пропущенной главы» романа «Капитанская дочка»); Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч.: В 12-ти т. М., 1982, т. 10, с. 371.
251
Перевод:
Эта глава, запрещенная царской цензурой, недавно обнаружена в бумагах автора. Знаменитая историческая повесть Пушкина, частью которой является эта глава, была напечатана по-французски несколько лет назад. Тем, кто не читал ее в подлиннике или в переводе, достаточно указать, что главный ее предмет — бунт казака Пугачева при Великой Екатерине и что рассказ вымышленного Пушкиным персонажа развертывается среди событий этого кровавого происшествия, заново привлекшего теперь, благодаря нигилизму, общественное внимание.
А. М. Скабичевский
...перед вами развертывается картина жизни не каких-либо идеальных и эксцентрических личностей, а самых заурядных людей; вы переноситесь в обыденную массовую жизнь восемнадцатого века и видите, как эта жизнь текла день за день со всеми своими мелкими будничными интересами. Этим и отличаются исторические романы Пушкина от всех последующих изображений жизни восемнадцатого века, в которых жизнь, отстоящая от нас не более как на сто или полтораста лет, рисуется перед нами в каком-то мифическом волшебном тумане, причем изображаемым личностям придаются необыкновенно титанические размеры: все это оказываются широкие, размашистые натуры, то поражающие мир своей роскошью и необузданным мотовством и разгулом, то приводящие в ужас демоническим хищничеством, коварством и эксцентричностью своих преступлений вроде замуравливания в стены живых людей или срытия целых усадеб. Я не говорю, чтобы ничего подобного не было в 18-м веке; но отнюдь не из таких баснословных характеров и ужасов слагалась ежедневная, будничная жизнь того времени. Они были лишь выдающимися точками, исключениями из уровня ее. А чтобы понять этот уровень, следует обратиться к Пушкину. Перенесясь за сто лет назад к его «Капитанской дочке», вы отнюдь не попадаете в какой-то сказочный мир, а видите всю ту же самую жизнь, которая, катясь год за год, докатилась и до сего дня. И действительно, ведь эта жизнь все та же самая, а не другая какая, особенно в провинциальной глуши. Одно простое соображение должно внушить вам, что если и в настоящее время провинциальная глушь представляет собой мертвое царство непробудного сна и полного застоя, то сто лет тому назад она должна была быть еще однообразнее, монотоннее и неподвижнее. И действительно, вы видите перед собой в рассказе такое стоячее болото, что даже столь грозная буря, как пугачевский погром, могла покрыть поверхность этого болота лишь едва заметной зыбью. Обитатели Белогорской крепости, жившие в самом очаге бунта, в своей буколической невинности до такой степени не знали, что делается вокруг них, что, когда бунт уже начался и герой сообщил коменданту, что он слышал в Оренбурге, будто на Белогорскую крепость собираются напасть башкиры, комендант отвечал:
— Пустяки! у нас давно ничего не слыхать. Башкиры — народ напуганный, да и киргизы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню.
252
И нужно было, чтобы Пугачев пришел к крепости и взял ее без малейших усилий, и лишь тогда, когда на площади воздвиглись виселицы, обитатели поняли наконец значение и ужас пугачевского бунта.
Но верх художественного совершенства по строгой, трезвой реальности, историческому беспристрастию и глубине понимания бесспорно представляет собою образ самого Пугачева. Можно смело сказать, что во всей нашей литературе другого такого Пугачева вы не найдете. Изобразить верно и в настоящем свете подобного рода личность тем труднее, чем сильнее действует она на воображение и невольно влечет художника к каким-нибудь преувеличениям. Стоило Пушкину немножко более, чем следует, перепустить густых черных красок, что было так легко сделать сообразно тому ужасу и отвращению, какое возбуждал Пугачев в современниках Пушкина, и вышел бы мелодраматический злодей, ни с чем несообразное нравственное чудовище; стоило бы от живой действительности хоть на один шаг вступить в область эффектных романтических образов, и вышло бы нечто вроде Карла Моора, образ очень красивый сам по себе, но чуждый исторической правде. Пушкин гениально избег и того и другого. Ему и Пугачева удалось свести на почву осязательной и будничной действительности. Правда, является он на сцену романа не без поэтичности: словно какой-то мифический дух грозы и бури, он внезапно вырисовывается перед читателем из мутной мглы бурана, но вырисовывается вовсе не для того, чтобы сразу поразить вас, как нечто выдающееся и необыкновенное. Является он простым беглым казаком, полураздетым бродягою, только что пропившим в кабаке последний свой тулуп <...>.
Таким же является Пугачев и в дальнейшем развитии романа. Это вовсе не злодей и не герой, вовсе не человек, устрашающий и увлекающий толпу обаянием какой-нибудь грозной и бездонной мрачности своей титанической натуры, и тем более отнюдь не фанатик, сознательно стремившийся к раз намеченной цели. До самого конца романа он остается все тем же случайным степным бродягою и добродушным плутом. При иных обстоятельствах из него вышел бы самый заурядный конокрад; но исторические обстоятельства внезапно сделали из него совершенно неожиданно для него самого самозванца, и он слепо влечется силою этих обстоятельств, причем вовсе не он ведет за собою толпу, а толпа влечет его <...>.
Натура его в сущности вовсе не хищная и не кровожадная; он рад бы и прощать; добродушие, не покидающее его до конца романа, заставляет его помнить мелочную дорожную услугу, оказанную ему Гриневым; он готов казнить Швабрина, защищая от его козней сироту; но все эти добрые порывы идут совершенно вразрез с настроением окружающей его толпы, возбуждают в ней протесты, и, отдаваясь им урывками, он поневоле должен напускать на себя грозное величие и беспощадность...
Скабичевский А. М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем. — Сев. вест., 1886, № 1, с. 77—83; Соч. Спб., 1890, т. 2; 2-е изд., 1895; 3-е изд., 1903.
253
А. П. Чехов
Может быть, я и не прав, но лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают родство сочного русского стиха с изящной прозой.
Письмо А. П. Чехова к Я. П. Полонскому. 18 января 1888 г. — В кн.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. М., 1949, т. 14, с. 18.
П. И. Чайковский
Я, действительно, иногда помышлял и помышляю до сих пор об опере на сюжет «Капитанской дочки».
Письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. Мекк. 24 апреля 1888 г. — В кн.: Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. М., 1936, т. 3, с. 529.
«Капитанскую дочку» я не пишу и вряд ли когда-нибудь напишу. По зрелом обдумании я пришел к заключению, что этот сюжет не оперный. Он слишком дробен, требует слишком многих не подлежащих музыкальному воспроизведению разговоров, разъяснений и действий. Кроме того, героиня, Мария Ивановна, недостаточно интересна и характерна, ибо она безупречно добрая и честная девушка и больше ничего, а этого для музыки недостаточно. При распределении сюжета на действия и картины оказалось, что таковых потребуется ужасно много, как бы ни заботиться о краткости. Но самое важное препятствие (для меня, по крайней мере, ибо весьма возможно, что другому оно бы нисколько не мешало) — это Пугачев, пугачевщина, Берда и все эти Хлопуши, Чики и т. п. Чувствую себя бессильным их художественно воспроизвести музыкальными красками. Быть может, задача и выполнима, но она не по мне. Наконец, несмотря на самые благоприятные условия, я не думаю, чтобы оказалось возможным появление на сцене Пугачева. Ведь без него обойтись нельзя, а изображать его приходится таким, каким он у Пушкина, т. е. в сущности удивительно симпатичным злодеем. Думаю, что как бы цензура ни оказалась благосклонной, она затруднится пропустить такое сценическое представление, из коего зритель уходит совершенно очарованный Пугачевым. В повести это возможно — в драме и опере вряд ли, по крайней мере у нас.19
Письмо П. И. Чайковского к вел. кн. Константину Константиновичу. 30 мая 1888 г. — Там же, с. 643—644.
254
Н. И. Черняев
«Капитанская дочка» — образец художественного повествования. В ней нет ни пробелов, ни плохо или слишком сжато написанных мест. Но в ней также нет ни одного слова, ни одной сцены, ни одной подробности, которые не оправдывались бы строжайшей необходимостью <...>.
Читая «Капитанскую дочку» в первый раз, каждый из нас испытывал захватывающее любопытство. Предугадать ход ее событий по нескольким начальным главам нет никакой возможности: до самого конца вы переходите от неожиданности к неожиданности, и в то же время чувствуете, что все эти столь странные события, описываемые поэтом, сами собой вытекают из его общего замысла и не только не представляют ничего неправдоподобного, а, напротив того, производят впечатление чего-то неизбежного. Таким образом Пушкин блестящим образом достиг цели каждого романиста. Он сумел объединить в одно стройное целое внешнюю занимательность с бытовой и психологической правдой <...>.
«В наше время, — писал Пушкин при разборе «Юрия Милославского» Загоскина, — под словом роман разумеют историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». А к чему же и сводится «Капитанская дочка», как не к «развитию целой эпохи в вымышленном повествовании», в котором романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшего происшествия исторического? В «Капитанской дочке» отразились и помещичья жизнь, и военный быт, и крепостное право, и русский разбойничий люд, и петербургский двор, и казаки, и инородцы, и иноземные выходцы второй половины прошлого века. Исторических лиц в тесном смысле этого слова, т. е. таких, имена и дела которых сохранились в истории, в «Капитанской дочке» сравнительно немного. К ним принадлежат: Пугачев, Белобородов, Хлопуша, Рейнсдорп, Екатерина II — и только, причем лишь один Пугачев относится к числу главных действующих лиц романа. Но если подразумевать под историческими лицами всех типичных представителей давно минувшей эпохи, не исключая и тех, которые забыты историей как наукой, но которые делали историю, то в «Капитанской дочке» не окажется ни одного лица, которое нельзя было бы назвать историческим и которое не являлось бы ярким выразителем духа и особенностей второй половины XVIII века, когда подготовлялась и разыгрывалась пугачевщина. Гриневы, Мироновы, Швабрин, Савельич и т. д. — все это такие исторические и бытовые типы, без отчетливого изображения и понимания которых нельзя живо описать и представить себе пугачевскую смуту, ее происхождение и развязку <...>.
«Капитанская дочка» вечно будет служить укором для тех романистов, которые распространяют и поддерживают «вкус к мелочам», к «изящным безделушкам» и к «суетным украшениям» и забывают, что задачи истинного
255
художника заключаются в умении сказать в немногих словах многое и сочетать смелость и широту замысла с экономией слова и подробностей и с простотой описаний и повествования. Гоголь метко сказал, что, сравнительно с «Капитанской дочкой», все наши повести и романы кажутся приторною размазней. Приторной размазней кажутся, в сравнении с «Капитанской дочкой», и произведения многих знаменитых западноевропейских романистов. Даже романы Вальтер Скотта (не говорим уже о романах Диккенса, Теккерея, Жорж Занд) поражают своей растянутостью и ненужным многословием, если сопоставить их с «Капитанскою дочкой», и в этом заключается ее всемирно-историческое значение и всемирно-историческое значение Пушкина как ее творца. Он написал единственный в своем роде роман, — единственный по чувству меры, по законченности, по стилю и по изумительному мастерству обрисовывать типы и характеры в миниатюре и вести повествование, не вводя в него ни одного лишнего слова, ни одной лишней черты.
Черняев Н. И. «Капитанская дочка» Пушкина: Историко-критический этюд. М., 1897, с. 71, 76, 78, 79, 188.
Ю. И. Айхенвальд
«Капитанская дочка» заслуживает подробного разбора; но мы не будем его производить и только укажем, вослед едва ли не всем критикам и читателям этой удивительной повести, на проникающий ее дух мудрой простоты и меры, который над головами ее смиренных героев зажигает тихое сияние славы. Иван Кузьмич и его жена и его дочь, Иван Игнатьич и Савельич — они бесспорно являют собою образы самой отрадной и утешительной человечности, какие только знает мировая литература. Героизм вырастает здесь из будней, из того скромного и неэффектного материала, который Пушкин умел претворять в сокровища духовной красоты. Капитан Миронов, родственный не только чином, но и духом штабс-капитану Максиму Максимычу и капитану Тушину, в законченности и цельности своего миросозерцания лучше всех воплощает это скромное величие, этот высший героизм простоты. Не говоря уже о его собственном трагическом конце, на какую высоту возносит он себя, когда при нападении Пугачева на Белогорскую крепость говорит оробевшему гарнизону эти незатейливые, эти великие слова: «Что ж вы, детушки, стоите? Умирать так умирать, дело служивое!».
Вся историческая и бытовая сторона повести — почти совершенство, и затрачено на нее, как и на все другое в «Капитанской дочке», не больше словесных средств, чем это было нужно. Щедрый Пушкин умел быть художнически скупым. У него нет слова для слова, нет самодовлеющих слов. Можно иногда больше сказать, но нельзя сказать меньше, чем говорит он — своею геометрической, но не сухой, своею не красочной, но все-таки выразительной, своею прозрачной прозой.
Айхенвальд Ю. Пушкин. 2-е изд., значит, доп. М., 1916, с. 152—153.
256
А. И. Куприн
Знаете ли вы, что гранильщики драгоценных камней держат перед собой изумруд? Когда глаза устают, то дают им отдыхать на изумруде. Таким изумрудом для меня были всегда две вещи: «Капитанская дочка» Пушкина и «Казаки» Толстого. Хорош для этого и «Герой нашего времени».
Письмо А. И. Куприна к Ф. Ф. Пульману. 31 августа 1924 г. — Веч. Москва, 1962, 14 июля.
А. М. Горький
Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где с проницательностью историка дал живой образ казака Емельяна Пугачева, организатора одного из наиболее грандиозных восстаний русских крестьян.20
Горький А. М. Предисловие к американскому однотомному изданию сочинений Пушкина на английском языке. 1925. — Правда, 1938, 17 июня.
М. И. Цветаева
Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии — следовательно, и бунта, — нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева — любил.
Цветаева М. Из статьи «Искусство при свете совести». 1934. — В кн.: Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967, с. 229.
В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо — Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев — мы есьмы.
Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта — чаре, поэта — врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гете — Гетц, у Шиллера — Карл Моор, у Пушкина — Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная, и как вы ее еще называете, проза — чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только те своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим
257
бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времени лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) — в недрах лирического хаоса, — либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял и вне себя и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину — отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гетц, и Лара, и Мцыри, и собственно пушкинский Алеко — идеи, в лучшем случае — видения, Пугачев — живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.
Цветаева М. Пушкин и Пугачев. 1937. — Там же, с. 138—139.
В. Б. Шкловский
Пушкин в «Капитанской дочке» больше творческого внимания уделяет характерам, меньше — событиям. События в повести занимательны потому, что они истинны. Все средства творческого гения подчинены одной задаче — четкой и ясной обрисовке характеров. Поэтому в небольшой повести, в чрезвычайно кратком действии мы совершенно отчетливо видим Пугачева, Савельича, семью Мироновых, семью Гриневых.
В повести оказывается главным не судьба бунтующего дворянина Шванвича, а судьба вождя крестьянской войны Пугачева. Значение Шванвича уменьшается, тем самым создается необходимость удалить из сюжета ряд занимательных, но не относящихся к теме приключении.
Реалистичность образа Пугачева не только в деталях, в его добродушной благодарности Гриневу за подаренный заячий тулупчик, не только в том, что Пугачев почти на равных правах ссорится с Савельичем, обижается на него, а прежде всего в том, что он, будучи простым мужиком, ведет великое восстание, направляет одно из величайших крестьянских движений.
Поэтичность Пугачева не только в его безмерном великодушии, не только в том, что он возмущен бесчестьем и мстительностью Швабрина, не только в том, что он морально чист, но и в том, что он широко и крупно мыслит, жаждет подвига, глубоко понимает свое положение и в основном верно оценивает обстановку <...>.
В сцене казни офицеров крепости Пушкин, описывая виселицу, сообщает: «На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне». Слово «изувеченный» для Пушкина важно; эта главная портретная деталь отмечена уже в набросках плана. Избирая этот эпитет в сцене казни, Пушкин гасит чувство недоброжелательства к людям, которые казнят Миронова. Народная расправа с капитаном Мироновым — не злодейство, а историческое возмездие <...>.
Образ Пугачева окрашен песней, главы о нем снабжены эпическими эпиграфами, и весь словарь его речи дан в высоком стиле.
Таким образом, способ раскрытия предмета повествования определил и приемы художественного письма. Сообразно с выяснением сущности героев
258
посредством сюжетных положений строятся и речевые характеристики.
Гринев сам поэт, стихи его хвалит Сумароков; это делает ведение рассказа от его имени менее условным: у Гринева есть свои литературные навыки. Мы ощущаем рассказчика «Капитанской дочки», хотя совсем не ощущаем рассказчика в «Повестях Белкина» <...>.
Благоразумные высказывания, моральные сентенции Гринева, его осуждение Пугачева нельзя считать высказываниями самого Пушкина именно потому, что Гринев осмыслен писателем как своеобразный литератор-дворянин. Такой человек, добрый и в то же время связанный многими традициями, человек, точно характеризованный и тем самым отделенный от автора, присутствует в повести как герой-повествователь. Речь Гринева несколько архаична. Особенно архаичны стихи, нравящиеся Гриневу; они примитивны даже для конца XVIII века.
Первый вариант этих наблюдений: Шкловский В. Спор о Пушкине. — Знамя, 1937, № 1, с. 242—263; см. также в кн.: Шкловский Виктор. Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд., испр. и доп. М., 1955, с. 61—64.
Н. Е. Прянишников
Общеизвестна чеховская формулировка одного из законов, которому должна удовлетворять хорошая беллетристика: «Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или в третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, то не должно и висеть».
На постоялом дворе, где Гринев и Савельич нашли убежище от бурана, в горнице «на стене висела винтовка». В одной из следующих глав повести сотни подобных винтовок были пущены в действие против царских крепостей на Яике, и несомненно, что в числе их была и эта винтовка, ибо владелец ее был «родом яицкий казак» и недаром он, к «большому неудовольствию» Савельича, вел сугубо конспиративный диалог с таинственным вожатым.
При первом своем въезде в Белогорскую крепость Гринев, между прочим, увидел у ворот «старую чугунную пушку», о которой в дальнейшем (три главы спустя) читаем, что комендант крепости велел навести ее на толпу наступающих мятежников и «сам приставил фитиль».
Могут возразить, что и винтовка и пушка упомянуты тут без всякого особого умысла, а просто как типичные описательные детали, потребные для характеристики казацкого жилья и военного форпоста. Но тем и замечательна мудрая экономия пушкинской прозы, что ее описательная ткань насквозь динамична, так что каждый элемент описания становится затем необходимым элементом повествования. Когда Гринев впервые вошел в дом капитана Миронова, его внимание, между прочим, привлек «диплом офицерский за стеклом и в рамке». Когда после перерыва — не
259
столь долгого, сколь наполненного бурными событиями, — он вновь появляется в этом доме, хозяином которого был теперь «гнусный» Швабрин, — «на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени». Здесь, при вторичном о нем упоминании, диплом этот действует как некий волнующий символ, заставляющий и Гринева («сердце мое заныло») и читателя живее почувствовать, как много воды утекло за эти 3—4 месяца, что грозно легли между разгаром народного восстания и первоначальной дремотной идиллией.
Вообще нужно сказать, что в «Капитанской дочке» редкая вещь, однажды упомянутая автором, не появляется потом вторично в какой-либо новой функции, что делает эту повесть, с одной стороны, пределом лаконизма, при котором каждая художественная деталь загружается максимально, но вместе с тем и образцом обстоятельности, при которой ничто не пропадает. Так, упоминаемый в I главе «Придворный календарь», имевший свойство производить всегда в отставном премьер-майоре Гриневе «удивительное волнение желчи», так что «матушка всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее», в XIV главе вдруг отыскивается и вновь попадает в руки старику, но уже не оказывает на него «обыкновенного своего действия», — до того, очевидно, ничтожной казалась ему былая досада неудовлетворенного честолюбия в сравнении с теми потрясениями, которые он пережил и переживал.
Иная деталь повести, если и не упоминается повторно самим автором, зато невольно припоминается читателем — в связи с тем косвенным действием, какое она продолжает оказывать в ходе повести. Например, полтина денег, подаренная Гриневым уряднику за доставку лошади и овчинного тулупа от имени Пугачева, несомненно сыграла потом свою роль в той готовности, с какой урядник принял опасное поручение Палашки доставить молодому прапорщику письмо от ее барышни.
Любопытно, что судьбу некоторых вещей автор повести прослеживает по возможности до конца. Письмо, врученное Екатериной дочери капитана для ее «будущего свекра», в эпилоге повести фигурирует как фамильная реликвия в потомстве Гриневых, хранящаяся «за стеклом и в рамке». Вышеупомянутая пушка, так плачевно оборонявшая крепость от Пугачева, оказывается потом в составе пугачевской артиллерии: «Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты».
Не говорим уже о знаменитом заячьем тулупе, который многократно мелькает на протяжении повести и заключает в себе как бы главную пружину ее увлекательной фабулы.
Эта, если можно так выразиться, гениальная «хозяйственность» композиционного мастерства, при которой буквально каждая мелочь идет в дело, в еще большей мере проявляется у Пушкина в его распоряжении людьми. Почти ни один, даже самый второстепенный, персонаж не появляется в повести так, чтобы тут же в ней и исчезнуть. Расставаясь при выезде из Симбирска с Зуриным, Гринев «и не думает с ним уже когда-нибудь увидеться». Однако к концу повести он снова встречается с ним, и именно в этот раз Зурину пришлось сыграть ту свою роль, для которой
260
собственно он и понадобился автору. Так в хорошо сделанной пьесе все актеры нужны до конца и, независимо от значительности своих ролей, идут разгримировываться одновременно, т. е. по окончании последнего акта.
Даже в том случае, когда данный персонаж уже в первое свое появление, казалось бы, выполнил предназначенную ему роль, он обычно не выпадает из повести, но появляется вновь, чтобы выполнить, как бы в порядке совместительства, другое, не менее важное задание. Так, старый изувеченный башкир, схваченный в крепости (накануне взятия ее Пугачевым) с «возмутительными листами», в следующей главе вдруг оказывается на перекладине виселицы в роли исполнителя смертного приговора над Иваном Кузьмичом и его верным адъютантом.
Давно подмечено, что Пушкин-повествователь очень скуп на слова, но можно сказать, что он столь же скуп и на людей. У каждого его персонажа, даже самого эпизодического, неизменно высокий коэффициент полезного действия. В самом начале повести мелькает на минуту некто князь Б., столичный родственник Гриневых, по милости которого Гринев-сын еще в младенчестве был записан сержантом гвардии. Читатель забывает о нем, но в конце повести именно этот самый князь Б. извещает старика Гринева о печальной судьбе его сына <...>.
Лаконизм пушкинской прозы подмечен давно, но большинство писавших о Пушкине-прозаике ограничивалось восторженной констатацией этого лаконизма, не пытаясь разобраться в его технологической основе. В лучшем случае указывали на сжатость текста, как такового, — и только. В действительности же, как это видно на «Капитанской дочке», существенным условием лаконизма пушкинских повестей является предельная плотность их сюжетной ткани. Что касается манеры изложения, то ее роль при этом, конечно, также огромна, но и тут отнюдь нельзя, как это обычно делается, сводить все к краткости фразы и к простоте пушкинского синтаксиса. Дело в том, что сама по себе короткая фраза еще не спасает повести от рыхлости и не гарантирует читателя от авторского многословия, ибо и короткими фразами можно наговорить много лишнего. Кто из читателей не разделял нетерпения Лизы Муромской (из повести «Барышня-крестьянка»), когда она досадливо перебивает свою крепостную наперсницу, вздумавшую было задерживать информацию об Алексее Берестове описанием именинного меню и перечислением гостей: «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!».
Учитывая это нетерпение читателя, Пушкин-прозаик не томит его излишними описаниями, тормозящими ход повествования, причем иногда делает на этот счет даже специальные оговорки.
Так, в «Гробовщике», например, читаем: «Не стану описывать ни русского кафтана Андриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого романистами» («Гробовщик»).
Точно такого же метода придерживается Пушкин и в «Капитанской дочке». «Не стану описывать, — читаем мы в Х главе, — оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам».
261
И действительно, всякий, кому интересны подробности этой осады, найдет их у того же Пушкина в его «Истории Пугачева», как там же найдет он и подробную предысторию восстания, которой в повести отведен всего лишь один небольшой абзац (начало VI гл.).
Пушкин стремится всемерно избегать перегрузок в повести. Если герой повести рассказывает кому-либо из персонажей то, что уже известно читателю, последний неизменно избавляется от бремени этого повторного изложения. Например: выслушав рассказ попадьи обо всем случившемся в крепости за время своего отсутствия, Гринев в свою очередь рассказывает ей о своих приключениях за тот же период, но так как читателю они уже известны, то повествователь в этом месте ограничивается беглым упоминанием о самом факте рассказывания: «Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю» (XII гл.). Так же поступает он и при описании второй встречи Гринева с Зуриным: «Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием» (XIII гл.). И — все. <...>
Замечательна экономия средств, с какой дается в «Капитанской дочке» описание наружности каждого вновь вводимого персонажа.
«На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым». Это — Швабрин. Вот капитан Миронов: «Впереди <перед инвалидами, выстроенными во фрунт> стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате». А вот героиня повести Маша: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесаннными за уши, которые у ней так и горели».
Четкость этих зарисовок такова, что в дальнейшем автор уже ни разу больше не возвращается к наружности данных персонажей, кроме разве Швабрина, о котором, в связи с его переходом на сторону Пугачева, дополнительно сообщается (в XII гл.), что «он был одет казаком и отрастил себе бороду». Больше того, иные из этих внешних характеристик при всей их сжатости настолько колоритны, что уже содержат в себе некоторые элементы и внутренней характеристики, развертывающейся затем в речах и поведении данного лица. Таков, например, из только что выписанных, портрет капитана Миронова с упоминанием «колпака» и «китайчатого халата» (при исполнении служебных обязанностей) как эмблемы патриархального добродушия и с подчеркиванием «бодрости» как признака скрытого в нем активного «верноподданничества». Таков же и живописный портрет гусара Зурина: «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах».
Прянишников Н. Поэтика «Капитанской дочки» Пушкина. — Лит. учеба, 1937, № 1, с. 94—113; см. также в кн.: Прянишников Н. Проза Пушкина и Л. Толстого. Чкалов, 1939, с. 3—6, 8—10, 10—11; Прянишников Н. Е. Записки словесника. Оренбург, 1963, с. 5—26.
262
В. Б. Александров
«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Выражают ли эти столько раз цитировавшиеся слова основной смысл «Капитанской дочки» или, наоборот, противоречат ему?
На этот вопрос отвечали по-разному. С одной стороны, указывали на то, что в пушкинской повести есть элементы стилизации — ведь это семейные записки дворянина XVIII столетия: «Любезный внук мой Петруша! Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни...». Не следует отождествлять мнения Гринева с мнениями Пушкина — в особенности это суждение о «бессмысленном и беспощадном» бунте; это дань Пушкина цензурным условиям.
С другой стороны, утверждали, что именно в этих-то словах и заключается основное; что пушкинская повесть — художественная материализация тезиса о «бессмысленности и беспощадности» русского бунта; что именно этим страхом перед крестьянским восстанием объясняется «поправение» Пушкина, будто бы происшедшее в 30-х годах; что, ставя перед собой вопрос — крестьянское восстание или николаевская монархия, Пушкин будто бы безоговорочно становился на сторону этой последней; что этим страхом предопределено то изображение восстания, которое Пушкин дает в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».
Думается, что неправильно было бы делать цензуру ответственной за все консервативные высказывания Пушкина. И уж несомненно неверна вторая, злостно-социологическая концепция. Вероятно, правы сторонники третьей точки зрения: цензурные условия, конечно, учитывались Пушкиным; мнения Пушкина, конечно, не во всем совпадают с мнениями Гринева; слова о русском бунте могут выражать мысль самого Пушкина; но эти слова отнюдь не покрывают содержания ни «Капитанской дочки», ни «Истории Пугачева», больше того: эти слова опровергаются содержанием этих произведений <...>
Сон — пророческий, как сны в «Онегине» и в «Годунове»; но здесь этот сои имеет особое значение. Это введение, пролог; с исключительной силой здесь выражена борьба тех чувств, которые вызывает у Пушкина его тема. Потом объяснится, почему отец, почему «пусть он тебя благословит». Но тут это личное, интимное соприкосновение, эта близость к образам крестьянского восстания — все это дикое, иррациональное: мужик с черной бородой в отцовской постели, топор, мертвые тела. Пушкин проверяет — благоразумному дворянину сама постановка вопроса показалась бы дикой — можно ли принять это? Нельзя: мертвые тела, страшно. Но страшный мужик ласково кличет: «не бойсь».
Такой ли уж он страшный в конце концов? <...>
Симпатия Пушкина к Пугачеву настолько очевидна и несомненна и настолько противоречит тем чувствам, которые (согласно социологическим трафаретам) дворянин Пушкин должен был бы проявлять к этому своему герою, что «социологи» вынуждены придумывать на сей предмет специальные концепции, насильственно возвращающие Пушкина его «братьям по классу». <...>
263
Вовсе не случайно то, что Гринев-отец и Дубровский-отец не просто дворяне, а именно дворяне фрондирующие.
Таковы отцы: куда пойдут их сыновья? Пушкин спрашивает: в каком отношении окажется эта «стихия мятежей» к другой стихии мятежей — крестьянской? Пушкина беспокоит не вопрос о том, как бы избежать крестьянской революции; вопрос ставится им по-другому: могут ли сомкнуться эти две стихии, нужно ли им сомкнуться, хорошо ли это будет? Это не забота о предотвращении революции, а попытка найти выход из той ситуации, которая сложилась после разгрома декабристов.
Пушкин отказался от «стародворянской» мотивировки перехода Шванвича — Швабрина к пугачевцам, вероятно, не потому, что опасался цензуры. «Дворянски-фрондерская» мотивировка участия в крестьянском восстании была бы просто неверной, нереалистичной. Фрондирующие дворяне были чрезвычайно далеки от дворянской революционности декабристского типа, а уж от какого-либо сочувствия крестьянским восстаниям и подавно. <...>
В Швабрине действительно много «нравственно чудесного». По своему развитию он стоит несравненно выше Гринева. «Его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева» требовал какой-то идеологической мотивировки. Такая мотивировка в повести отсутствует,21 — опять-таки не только по соображениям цензурного порядка. Можно ли было бы представить себе среди пугачевцев дворянина с перенесенной в XVIII век идеологией декабриста? — Нет. Можно ли было бы представить себе в войсках «Петра Федоровича» — Пугачева человека вроде Радищева? — Нет. Сведения о фактически принимавших участие в пугачевском восстании дворянах достаточно скудны, но, конечно, эти люди — подпоручик Шванвич или обвинявшийся в «неуказном винном курении» сержант Аристов — не радищевцы, не «идеологи».
Радищев, декабристы — эти лучшие люди из дворян — «страшно далеки от народа». Такой идеологии, которая могла бы заполнить эту пропасть, не было, ее нужно было создавать; трактовка образов крестьянского восстания в «Капитанской дочке» объективно содействовала выработке этой идеологии; но дать реалистический образ дворянина-идеолога, присоединяющегося к пугачевцам, Пушкин не смог, потому что материалов для создания такого образа не было в самой действительности <...>.
Народность и реализм в пушкинском искусстве — не отдельно друг от друга существующие особенности этого искусства. Объективное отражение действительности необходимо предполагает объективное отражение народа, с его чаяниями и стремлениями; так эти чаянья и стремления проникают в пушкинское искусство; оно реалистично и поэтому народно. И наоборот: оно народно и поэтому реалистично. Объективность не обозначает какого-то равнодушия, бесстрастия; такое объективное
264
отражение становится возможным лишь благодаря личной, эмоциональной связи, лишь благодаря тому, что художник любит эти народные массы.
Интерес Пушкина к образу дворянина-отщепенца, к крестьянским движениям, к дворянам, которые принимали участие в пугачевском восстании, объясняется, повторяем, не так, как говорят об этом сторонники «теории страха». Отчетливо сознавая бессилие дворянских революционеров, Пушкин спрашивает себя: могут ли, должны ли они присоединиться к крестьянскому движению.
Пушкин отвечал на этот вопрос отрицательно. То, чего достиг Пушкин в «Капитанской дочке», так значительно и огромно, что незачем замалчивать это отрицание, замалчивать это противоречивое отношение Пушкина к своей теме. Это противоречие, которое тщетно пытаются «снять» различные интерпретаторы, «снимается» не той или иной более или менее остроумной интерпретацией — оно «снимается» последующим развитием русского общественного движения.
Крестьянское восстание, которое Пушкин изобразил с такой объективностью и любовью, для политического сознания Пушкина, было неприемлемым. Не будем требовать от Пушкина того, чтобы он, оставаясь Пушкиным, был кроме того еще и Чернышевским: это слишком много для одного человека, даже такого человека, каким был Пушкин.
Александров В. Пугачев: (Народность и реализм Пушкина). — Лит. критик, 1937, № 1, с. 20—22, 29, 33, 36—38, 44.
Е. Н. Купреянова
С самого начала тридцатых годов Пушкина занимал образ героя-дворянина, восстающего и действующего против своей дворянской Среды <...>. Якубович, русский Пелам, Дубровский, Шванвич — все эти образы, теснившиеся в воображении Пушкина и сменявшие друг друга на протяжении каких-нибудь двух лет, были вызваны к жизни его размышлениями о судьбах русского дворянства. <...>
После поражения декабрьского восстания политическое бессилие дворянской оппозиции стало ясно для всех. Зато вполне реальную и грозную для самодержавно-крепостнического строя силу крестьянской революции Пушкин увидел в народных волнениях 1830—31 годов.
Противоположность классовых интересов крестьянства и дворянства, в том числе и оппозиционного, была Пушкину также очевидна. Тем самым вопрос о совместных действиях против самодержавия революционного крестьянства и оппозиционного дворянства для Пушкина также отпадал. Речь могла идти для него только об отдельных одиночных выступлениях дворян-отщепенцев на стороне восставшего крестьянства. Подобная ситуация была изображена уже в «Дубровском».
Биография Шванвича давала Пушкину возможность развить ее на подлинном социально-историческом материале <...>.
265
<...> в процессе работы над романом, в процессе изучения исторических материалов о Пугачеве тема народного восстания заслонила перед Пушкиным тему дворянского недовольства. Образ дворянина-отщепенца отступил на второй план перед образом народного вождя.
В результате образ Шванвича расслоился в окончательной редакции «Капитанской дочки» на двух героев — Гринева и Швабрина <...>.
В лице Гринева Пушкин изобразил верного своему классовому и воинскому долгу, но недалекого дворянина. Являясь по своим нравственным качествам полной противоположностью беспринципному злодею Швабрину, Гринев много уступает ему в умственном отношении. <...>
Пушкин ведет повествование именно от лица недалекого, но благородного Гринева. Это дает Пушкину возможность, оставаясь в рамках цензурных требований, осветить ряд исторических событий и лиц, не изменяя своему собственному мнению о них <...>.
Гринев и история его взаимоотношений с Марией Ивановной нужны были Пушкину главным образом для того, чтобы в рамках этого сюжета, поддерживая занимательность рассказа, правдиво изобразить картину народного восстания. Соответственно с этой задачей первостепенное значение приобрел для Пушкина образ Пугачева. <...>
Пугачев дан в романе только в его взаимоотношениях с Гриневым. И вся история их взаимоотношений обнаруживает в Пугачеве черты прямого благородства и доброты. <...>
И силе этой личной привлекательности не может не поддаться и Гринев, несмотря на всю его непримиримость к действиям Пугачева и его сподвижников. <...>
Пушкин понимал историческую закономерность пугачевского восстания и с точки зрения народных интересов оправдывал его. В лице Пугачева Пушкин видел и изображал не кровожадного злодея, каким принято было его считать с точки зрения официальной, а сильного, одаренного человека, сумевшего возглавить открытое проявление народного возмущения. <...>
Пушкин сочувствовал движению Пугачева в том смысле, что понимал его историческую закономерность и видел в нем движение подлинно народное. Он сочувствовал угнетенному положению закрепощенного крестьянства и восхищался скрытыми в нем народными силами и талантами.
Таким мощным народным талантом был для Пушкина и Пугачев. Но ведь проблема крестьянской революции и восстания Пугачева, как одного из крупнейших ее проявлений, интересовала Пушкина с точки зрения грядущих исторических судеб России. Пушкин ставил перед собою и современниками вопрос: каково может быть влияние постепенно нарастающей силы крестьянской революции на социальное переустройство России? И вот на этот вопрос Пушкину пришлось ответить отрицательно. Как современность (крестьянские волнения начала тридцатых годов), так и историческое прошлое (восстание Пугачева) обнаруживали перед Пушкиным только разрушительную силу революционной крестьянской стихии. И ни история, ни современность не давали Пушкину материала для предвидения
266
тех созидательных сил, которые открываются в крестьянской революции при организованном руководстве ее другим революционным классом — пролетариатом. <...>
Теми же <что и Пушкин> словами «бунт бессмысленный и беспощадный» В. И. Ленин характеризовал стихийное крестьянское движение в отличие от подлинно революционной борьбы. Говоря о наличии революционных элементов в крестьянстве, Ленин писал: «Наличность революционных элементов в крестьянстве не подлежит, таким образом, ни малейшему сомнению. Мы нисколько не преувеличиваем силы этих элементов, не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, нисколько не стираем разницы между „русским бунтом, бессмысленным и беспощадным“, и революционной борьбой <...>. Но из всего этого следует только то, что безрассудно было бы выставлять носителем революционного движения крестьянство, что безумна была бы партия, которая обусловила бы революционность своего движения революционным настроением крестьянства».22
В какой же мере сильнее это сказывалось по отношению к крестьянскому движению в XVIII веке и в пушкинское время!
Купреянова Е. Н. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина: Материалы для пушкинских чтений и лекций. Л., 1947, с. 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21—22.
Г. А. Гуковский
Социологизм истолкования событий и понимания людей в «Капитанской дочке» не вызывает сомнений и не требует разъяснений, как и демократические симпатии Пушкина в этом романе, где авторским сочувствием или обаянием могучей внутренней правды овеяны только люди «низов» — сам Пугачев, вся семья Мироновых (капитан Миронов, «вышедший в офицеры» из солдатских детей, был человек необразованный и простой, гл. IV), Савельич, даже Хлопуша. При этом люди «низов» освещены светом сочувствия, независимо от того, в каком они лагере — повстанческом или борющемся против него: в обоих случаях они несут в себе начала правды. Наоборот, люди «верхов» осуждены — тоже независимо от того, примкнули они к Пугачеву или сражаются с ним: и Швабрин, гвардейский столичный офицер, и в стихах понимающий, и на дуэли дравшийся, и, по-модному, не верующий, — негодяй; и руководители оренбургской защиты — пошлые ничтожества. Глубоко понимая социальные пружины «пугачевщины» и оправдывая ее даже в ее жестокости — жестокостью режима, против которого восстали пугачевцы, строя сюжет таким образом, что мужицкий царь дал герою право и счастье, которых ему не дали императорские чиновники, Пушкин не пропагандировал
267
крестьянский бунт, считая его, как и во времена создания «Бориса Годунова», бесперспективным, бессмысленным. Но его анализ событий был не только социален, но и демократичен в степени, совершенно недоступной Гизо или Тьерри; а созданные им образы героев в самой сути своей психологии, своей духовной эволюции, своих характеров определены историко-социально, в мере, не доступной ни одному историческому романисту до него, в том числе и Вальтеру Скотту.
Нет необходимости останавливаться и на вопросе о моральной оценке героев «Капитанской дочки»: она обоснована в пушкинском романе оценкой социальных групп и явлений, их сформировавших <...>. Вообще же персональный, так сказать, суд героев устранен в романе, — это находит явственное выражение в том признании равноправия внутренней правды человека, куда бы ни привел его индивидуальный путь, которое определяет равноправие сочувствия к Пугачеву и капитану Миронову. Индивидуально — они в разных лагерях, но в каждом из них говорит некая народная правда; и эта народная правда оценивается Пушкиным высоко, тогда как личные пути каждого из этих людей Пушкин отказывается судить. Так же он никак не судит Гринева, ни в его примитивной верности своей присяге помещичьему режиму, ни в его обращении за спасением к Пугачеву <...>. Следовательно, оценка из плоскости морального суда над личностью перенесена в плоскость общих социальных категорий, обосновывающих общие этические нормы (демократизм, народность, свобода, героизм, верность и т. д.); сами же эти категории и нормы истолкованы и исторически, и социологически. Это и есть те категории и нормы, которые будут строить общественную этику всей передовой русской литературы XIX века, и Белинского и Некрасова («разумное, доброе, вечное»).
Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 372—374.
В. В. Виноградов
Основным принципом творчества Пушкина с конца 20-х годов становится принцип соответствия речевого стиля изображаемому миру исторической действительности, изображаемой среде, изображаемому характеру. Белинский ошибочно полагал, что в стиле «Бориса Годунова» этот принцип нашел свое «полное и оконченное» выражение. Метод художественного воспроизведения исторической действительности у Пушкина с начала 30-х годов уже был свободен от малейших признаков или примет не только натуралистической реставрации, но и романтической идеализации. Пушкин создавал иллюзию правдивого изображения времени и национальности соответствием речевой семантики национальным типам и положениям, быту и эпохе. Вместе с тем он не допускал анахронизмов и «погрешностей противу местности». Действительность должна рисоваться в свете ее культурного стиля, в свете ее речевой семантики.
268
Именно с этой точки зрения Пушкин решительно осуждает стиль исторического романа таких подражателей Вальтера Скотта, которые быт данной эпохи изображают в духе своего времени.
Выдвинутый Пушкиным реалистический принцип исторической характерности и народности не мирится ни с однообразно-декламативными тенденциями повествовательно-исторического стиля Марлинского, ни с традиционно-патриотической патетикой исторических описаний и рассуждений Загоскина, ни с безлично официальным дидактизмом булгаринского стиля, ни с натуралистической экзотикой стиля Вельтмана, ни с романтической напряженностью стиля Лажечникова, лишенной «исторической истины».
У Пушкина как реалиста-историка стиль исторического повествования и изображения близок к простой «летописной» записи основных и наиболее характерных событий или к скупым и лаконическим наброскам мемуаров, хроники, которые являются как бы экстрактом из множества наблюдений, сгущенным отражением широкой картины жизни. В этом отношении показателен интерес Пушкина к безыскусственным запискам, воспоминаниям и тому подобной бытовой словесности, к своеобразным историческим документам <...>.
Повествователь у Пушкина — это не только многогранная призма отражения исторической действительности, но и форма ее внутреннего раскрытия и идейного осмысления. Он так же многозначен и противоречив, как она сама. Повествовательная речь впитывает в себя речевые стили персонажей, присущие им приемы выражения и осмысления жизненных событий. Прием «несобственно-прямой» речи расширяет экспрессивно-смысловую перспективу повествования. Возникает внутренняя «драматизация», встреча и смена разных голосов эпохи в речи самого автора. Вместе с тем в ней выражается не только образ рассказчика — современника изображаемых событий, но и личность автора — современника читателей. От этого речь персонажей не унифицируется. Принцип индивидуальной характерности стиля персонажа сохраняет всю свою силу <...>.
В стиле «Капитанской дочки» достигает наибольшей глубины индивидуализация речей действующих лиц, конкретизирующая и разнообразно оттеняющая типические свойства разных социально-речевых стилей. Исследователи творчества Пушкина уже указывали на то, что у каждого из персонажей «Капитанской дочки» свой стиль речи, соответствующий духу и образу мыслей эпохи. Кроме того, Пушкиным мастерски используются и своеобразие письменных стилей изображаемого времени, и жаргонно-иносказательных способов выражения, и даже поэтические вкусы, стилевые формы как народно-словесного искусства, так и дворянской художественной литературы сумароковской школы. Эпиграфы своеобразно освещают историческое правдоподобие изложения. Вместе с тем изменяются и углубляются принципы и приемы отбора слов и выражений в соответствии с духом и стилем воспроизводимой эпохи. Индивидуально характеристические приметы стиля отдельных действующих лиц своим повторением обостряют впечатление своеобразия, типичности и историчности их речи.
269
Например, в речи Савельича, кроме постоянных упоминаний о дитяти («как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет?»), забавен рефрен, относящийся к «проклятому мусье»: «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало»; «А кто всему виноват? проклятый мусье...И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»
Для стиля Ивана Кузьмича Миронова характерен зачин: «А (да) слышь ты...»: «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатушек учил»; «Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка». Ср.: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!»23
Можно было бы продемонстрировать и другие характеристические признаки индивидуальных стилей таких персонажей, как Василиса Егоровна, Иван Игнатьич, Пугачев,24 генерал Андрей Карлович и др.
Вместе с тем в диалогах «Капитанской дочки», быть может отчасти в порядке развития и реалистической переработки традиции, шедшей от комедий Фонвизина и даже от интермедий конца XVII и начала XVIII века, осуществляются острохарактеристические противопоставления и сопоставления разных социально-речевых стилей, подчеркивающие их специфику. Например, в разговоре генерала Рейнсдорпа (в речи его «сильно отзывался немецкий выговор») с молодым Гриневым комически истолковывается в противоположном реальному смысле непонятное немцу выражение: «Держать в ежовых рукавицах».
В разговоре между Гриневым, Иваном Игнатьичем и капитаншей Мироновой:
«„А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?“ Я отвечал, что такова была воля начальства. „Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. „Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний“».
Еще острее социально-речевые различия стилей обнажаются в сопоставлениях и противопоставлениях предметно-однозначных, но экспрессивно-разнородных выражений — в разговоре Швабрина с Василисой Егоровной:
«— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузьмич может это засвидетельствовать.
270
— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмин, — баба-то не робкого десятка».
Не менее тонко и характерно показаны экспрессивные словесные и фразеологические расхождения между социальными стилями речи в разговоре между Иваном Игнатьичем и Гриневым о поединке.
«Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. „Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить“».
Ср. также соотношение имен — Фридерик и Федор Федорович — в разговоре Гринева с Пугачевым:
«— Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?
Хвастливость разбойника показалась мне забавна.
— Сам как ты думаешь? — сказал я ему. — Управился ли бы ты с Фридериком?
— С Федор Федоровичем? А как же нет?»
Необходимо признать также, что хронологическая близость пугачевщины к пушкинской эпохе, богатство мемуарно-исторической литературы и устных преданий о пугачевском движении, преемственная связь современных великому поэту социально-речевых стилей с соответствующими стилями второй половины XVIII века — все это способствовало усилению «историзма» в строе диалогической речи «Капитанской дочки» <...>.
Несомненно, что основным средством реалистического преобразования всей стилистической системы исторического романа в творчестве Пушкина были новые принципы структуры «образа автора», «образа повествователя» и новые формы взаимоотношений между стилем повествования и стилями речей действующих лиц. Эти два круга стилистических явлений соотносительны и взаимосвязаны. Повествователь-мемуарист является участником и современником воспроизводимых событий. Он вместе с тем носитель стиля эпохи — и притом литературно-обобщенного. Ведь. он пишет свои записки не только для себя, но и для читателя <...>.
Внутренние изменения повествовательно-исторического стиля в «Капитанской дочке» мотивировались и тем, что самое повествование Гринева отражало два разных исторических периода, которые иногда и сопоставлялись. С одной стороны, происшествия, люди, речи и документы времени пугачевского восстания воспроизводились в их «исторической истине», в формах языка и стиля того времени. А с другой стороны, Гринев как мемуарист излагает события 70-х годов XVIII века уже спустя несколько десятилетий, «в кроткое царствование императора Александра». Таким образом, стиль его изложения, пусть и в разной мере, характеризует две эпохи и тем самым до некоторой степени сближается с языком современности. Например: «Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия... Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же
271
время никто не сомневался в необходимости пытки: ни судьи, ни подсудимые» <...>.
За повествователем-мемуаристом стоит «издатель» повести, который, согласно послесловию, «решился, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена». Художественно обобщающая и вместе с тем исторически предопределяющая функция эпиграфов в композиции «Капитанской дочки» известна; она была предметом многочисленных исследований. Но внутренняя, структурная роль «издателя-редактора», конечно, не ограничивается лишь подбором эпиграфов и сменой имен. Она мотивирует вместе с тем оригинальность и выразительность новых форм повествования и изображения, как бы непосредственно выхваченных из исторически достоверных «семейных записок», но доведенных до высоты современного издателю литературного искусства.
Так, необыкновенно интересен для характеристики новых реалистических принципов изображения персонажей такой эпизод. После пирушки освобожденный от виселицы Гринев остается «глаз на глаз» с Пугачевым. «Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему».
Таким образом, в повествовательном стиле «Капитанской дочки» происходит сложное взаимодействие образа мемуариста Гринева и автора-художника. И в той мере, в какой образ повествователя входил в круг действующих лиц романа, его стиль воплощал специфические черты образа мыслей и языка изображаемой эпохи. Следовательно, в стиле исторического романа Пушкин создает совершенно новые формы отношений между речью автора и речью действующих лиц, а также новые принципы построения повествовательно-исторического стиля. В творчестве Пушкина стиль исторического воспроизведения постепенно образует ядро начавшей формироваться со второй половины 20-х годов системы пушкинского художественного реализма.
Виноградов В. В. Из истории стилей русского исторического романа. — Вопр. лит., 1958, № 12, с. 127, 129, 132—134, 135, 137; см. также в кн.: Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 582—600.
Б. В. Томашевский
Этот народный русский образ — подлинный крестьянский вождь крестьянской революции <...> в романе противопоставлен бледной фигуре русско-немецкого генерала. Не следует забывать, что по первоначальному замыслу Пушкина сам герой, а не антагонист его Швабрин переходил на
272
сторону Пугачева. По-видимому, версия эта сохранялась до самой последней редакции. Можно думать, что цитированные слова Гринева: «В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему» — являются рудиментом этой первой редакции, мотивировкой перехода Гринева на сторону Пугачева. Переход этот совершался под моральным обаянием Пугачева. <...>
Дело, конечно, не только в индивидуальном образе предводителя восстания, а в постановке самой темы восстания.
Самую тему революции Пушкин прямо назвал в романе, найдя для нее легальную формулу, данную им от имени Гринева: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Возможно, что формула эта была искренней: в 30-х годах Пушкин был далек от проповеди «насильственных потрясений», т. е. революции. Но важно, что эта тема революции стояла перед Пушкиным как историческая тема, более того — как историческая проблема, определяющая будущие судьбы России. <...>
Тема крестьянского восстания не оставляет Пушкина и тогда, когда он обращается к сюжетам западноевропейским. Почти одновременно с работой над «Капитанской дочкой», в августе 1835 г., Пушкин пишет «Сцены из рыцарских времен», в которых опять-таки в основу положены эпизоды крестьянского восстания, происходящего в Германии в XIV в. И здесь симпатии Пушкина ничем не затушеваны. О них свидетельствуют тупые фигуры рыцарей, с одной стороны, и противопоставленные им фигуры талантливых мечтателей — поэта Франца, предводителя восставших крестьян, и алхимика Бертольда Шварца, изобретателя пороха. Этот порох и кладет конец господству рыцарей. План пьесы заканчивается знаменательной фразой: «Изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии».
Замечательно, что сочувствие крестьянской революции не вытекало непосредственно из системы политического мышления Пушкина, который был либеральным последователем Монтескье, Вольтера, Бенжамена Констана и Сталь и сам неоднократно высказывался за умеренную конституцию английского типа. Но с его программными взглядами боролись глубокое историческое чутье и инстинкт художника, проникавшие в истинный смысл «судьбы народа».
Пушкин как художник, глубоко понимавший народную жизнь, знал, что подлинные источники жизни, силы и талантов находились не среди правящих кругов и механических исполнителей воли самодержавно-политического государства, а в самом народе, еще порабощенном, но готовом рано или поздно свергнуть своих поработителей.
И после Пушкина тема крестьянской революции, независимо от политических симпатий или антипатий авторов, так или иначе присутствует в произведениях русских писателей и окрашивает в совершенно своеобразный цвет русскую литературу в отличие от литератур западных. Это была тема, завещанная Пушкиным всему XIX веку. <...>
В заметках, начиная с 1830 г., Пушкин постоянно останавливается на вопросе об идеологической подготовке революции. В болдинских заметках 1830 г. много внимания уделено одной фразе, напечатанной
273
в «Литературной газете»: «Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приуготовили крики: Аристократов к фонарю».
Как уже справедливо отмечалось, размышления Пушкина о судьбах западного феодализма тесно связаны с разрешением вопросов о будущей революции в России. Единственным революционным классом в России Пушкин считал крестьянство. Однако для полной победы крестьянской революции необходимо было идеологическое руководство революционным движением. Основными условиями, закреплявшими победу, Пушкин считал сохранение национальной культуры и государственного единства страны. Между тем в крестьянстве Пушкин не видел тех созидательных сил, которые обеспечили бы в случае победы крестьянского восстания развитие русской государственности и сохранение русской культуры <...>.
Носителей культуры Пушкин видел в той части дворянства, которая была оттеснена от власти новым дворянством, вышедшим из наемников самодержавия. В «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830 г.) Пушкин характеризует наличие в дворянстве двух групп: «новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию», и «старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов». Но, конечно, не от дворян Пушкин ждал руководства крестьянским движением.
Для Пушкина казалось ясным, что, несмотря на оппозиционное настроение мелкого дворянства, не ему принадлежит будущее. Правда, в двух своих романах он пытался изобразить дворянина-изгоя, покидающего ряды своего класса, чтобы связать свою судьбу с крестьянством, но не в таких одиночках-дворянах Пушкин видел силу, определяющую исторические пути будущего. В примечаниях к «Истории Пугачева» Пушкин констатировал: «Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны». <...>
В существовавшей тогда обстановке Пушкин не находил той культурной силы, которая могла бы явиться союзником и возглавить крестьянское восстание. А без этого возглавления крестьянское восстание могло бы вылиться только в стихийное, разрушительное движение. Отсюда родилась формула: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Формула эта, хотя и произнесенная от имени Гринева, выражает собственное отношение Пушкина к стихийному крестьянскому восстанию, основанное и на изучении крестьянских движений прошлого (Разин, привлекавший внимание Пушкина с 1826 г., и Пугачев), и на собственных впечатлениях от непрекращавшихся крестьянских волнений, особенно ярко выразившихся в бунтах 1830 и 1831 гг. Перекладывать ответственность за эти слова с Пушкина на Гринева вряд ли имеется необходимость, тем более что автор в конце концов отвечает и за слова своих героев. Эта сентенция первоначально находилась в главе, где описывался
274
бунт в имении Гринева. Глава эта была исключена из романа при окончательной обработке, но Пушкин сохранил рукопись этой главы, надписав на ней: «Пропущенная глава». Последние абзацы этой главы вместе с данной фразой вошли с некоторыми изменениями в главу XIII окончательной редакции. Пушкин сохранил эту фразу, но отбросил дальнейшее рассуждение, которое действительно более характеризует Гринева, чем автора романа: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка». Оставленная в тексте романа сентенция отнюдь не вызывалась необходимостью изложения событий. Что же касается до взглядов Гринева, как героя романа, на Пугачева и крестьянское движение, то Пушкин отлично охарактеризовал их в других более четких словах и в самом ходе действия. Если он сохранил эту фразу, то потому, что она отвечала собственной системе взглядов Пушкина на крестьянскую революцию. За этой фразой не кроются ни презрение к русскому крепостному крестьянству, ни неверие в силы народа, ни какие бы то ни было охранительные мысли. Эта фраза лишь выражает, что Пушкин не верил в окончательную победу крестьянской революции в тех условиях, в которых он жил.
Мысли Пушкина о стихийности крестьянской революции не находятся в противоречии с темп положительными красками, какими он пользуется для обрисовки вождя крестьянского движения — Пугачева (что дается опять-таки через восприятие того же Гринева). <...>
Недоверие к созидательной силе крестьянского восстания не значило для Пушкина отрицания революционного движения вообще. С другой стороны, это не исключало исторического интереса к крестьянскому движению как к наиболее революционной силе в русской действительности того времени. Отсюда и интерес к Пугачеву, выразившийся в выборе темы для романа и исторического труда. Отсюда же и интерес к Радищеву, которому в эти годы Пушкин посвящает две большие статьи и пытается напечатать их. Вес это связано с размышлениями о судьбах народа и страны.
Томашевский Б. В. Пушкин и народность; Историзм Пушкина. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 148—150, 187—190.
Ю. М. Лотман
Вся художественная ткань «Капитанской дочки» отчетливо распадается на два идейно-стилистических пласта, подчиненных изображению миров — дворянского и крестьянского. Было бы недопустимым упрощением, препятствующим проникновению в подлинный замысел Пушкина, считать, что дворянский мир изображается в повести только сатирически, а крестьянский — только сочувственно, равно как и утверждать,
275
что все поэтическое в дворянском лагере принадлежит, по мнению Пушкина, не специфически дворянскому, а общенациональному началу.25
Каждый из двух изображаемых Пушкиным миров имеет свой бытовой уклад, овеянный своеобразной, лишь ему присущей поэзией, свой склад мысли, свои эстетические идеалы. <...>
Пушкин раскрывает сложные противоречия, возникающие между политическими и этическими коллизиями в судьбах его героев. Справедливое с точки зрения законов дворянского государства оказывается бесчеловечным. Но было бы недопустимым упрощением отрицать, что этика крестьянского восстания XVIII в. раскрылась Пушкину не только в своей исторической оправданности, но и в чертах, для поэта решительно неприемлемых. Сложность мысли Пушкина раскрывается через особую структуру, которая заставляет героев, выходя за мир свойственных им классовых представлений, расширять свои нравственные горизонты. Композиция романа построена исключительно симметрично. Сначала Маша оказывается в беде — суровые законы крестьянской революции губят ее семью и угрожают ее счастью. Гринев отправляется к крестьянскому царю и спасает свою невесту. Затем Гринев оказывается в беде, причина которой, на сей раз, кроется в законах дворянской государственности. Маша отправляется к дворянской царице и спасает жизнь своего жениха. <...>
В основе авторской позиции лежит стремление к политике, возводящей человечность в государственный принцип, не заменяющей человеческие отношения политическими, а превращающей политику в человечность. Но Пушкин — человек трезвого политического мышления. Утопическая мечта об обществе социальной гармонии им выражается не прямо, а через отрицание любых политически реальных систем, которые могла предложить ему историческая действительность — феодально-самодержавных и буржуазно-демократических («слова, слова, слова...»). Поэтому стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям и «законным интересам», возвышаются до простых человеческих душевных движений, — совсем не дань «либеральной ограниченности», а любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма — закономерный этап на пути к широчайшему течению русской мысли XIX в., включающему и утопических социалистов и крестьянских утопистов-уравнителей, весь тот поток духовных исканий, который, по словам В. И. Ленина, «выстрадал», подготовил русский марксизм.
276
В связи со всем сказанным приходится решительно отказаться, как от упрощения, от распространенного представления о том, что образ Екатерины II дан в повести как отрицательный и сознательно сниженный. <...>
Русское общество конца XVIII века, как и современное поэту, не удовлетворяет его. Ни одна из наличных социально-политических сил не представляется ему в достаточной степени человечной. В этом смысле любопытно соотнесение Гринева и Швабрина. Нельзя согласиться ни с тем, что образ Гринева принижен и оглуплен вроде, например, Белкина в «Истории села Горохина», ни с тем, что он лишь по цензурным причинам заменяет центрального героя типа Дубровского — Шванвича.
Гринев — не рупор идей Пушкина. Он русский дворянин, человек XVIII века с печатью своей эпохи на челе. Но в нем есть нечто, что привлекает к нему симпатии автора и читателей: он не укладывается в рамки дворянской этики своего времени, для этого он слишком человечен. Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется полностью. В нем черты более высокой, более гуманной человеческой организации, выходящей за пределы его времени. Отсвет пушкинской мечты о подлинно человеческих общественных отношениях падает и на Гринева. В этом — глубокое отличие Гринева от Швабрина, который без остатка умещается в игре социальных сил своего времени. Гринев у пугачевцев на подозрении как дворянин и заступник за дочь их врага, у правительства — как друг Пугачева. Он не «пришелся» ни к одному лагерю — Швабрин к обоим: дворянин со всеми дворянскими предрассудками (дуэль), с чисто сословным презрением к достоинству другого человека, он становится слугой Пугачева. Швабрин хуже, чем рядовой дворянин Зурин, который, воспитанный в кругу сословных представлений, не чувствует их бесчеловечности, но служит тому, в справедливость чего верит.
Для Пушкина в «Капитанской дочке» правильный путь состоит не в том, чтобы из одного лагеря современности перейти в другой, а в том, чтобы приподняться над «жестоким веком», сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и уважение к живой жизни других людей. В этом для него состоит подлинный путь к народу.
Лотман Ю. Идейная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 5—6, 12, 16, 19—20.
Н. Н. Петрунина
Пугачев не только выводит Гринева к умету, не только сохраняет ему жизнь и становится его посаженым отцом. Он — «вожатый» Гринева на пути к самому себе. Постепенно фигура его вырастает. Бродяга, заложивший тулуп у целовальника, приобретает черты лица исторического, а в самозванце Гринев подсознательно ощущает присутствие грозной
277
и поэтической народной стихии. По ходу действия Пугачев поворачивается к герою разными гранями, и каждая рождает новый оттенок в отношении Гринева к его «странному» приятелю и благодетелю. Фигура Пугачева не только обретает бытовую и историческую объемность, но и перерастает по масштабу фигуру главного героя.
Не только Гринев и Пугачев, но и Гринев и Савельич становятся у Пушкина соизмеримыми в их внесословной, человеческой сущности. Соотнесение разных героев, судеб, разных планов повествования делается в «Капитанской дочке» одним из наиболее общих композиционных и содержательных принципов. Не заданной наперед ролью, а динамикой развертывающихся характеров, системой исторических и нравственно-психологических параллелей и контрастов между ними определяется у Пушкина облик каждого персонажа. <...>
<...> герой — не пассивный хранитель традиции. Сложный исторический момент, формируя Гринева, вносит новые черты и в его понимание семейного и гражданского долга. «Чему учится дворянство?» — спрашивал Пушкин. И отвечал: «Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить — или задушить» (12, 205). Гринев развивает и закаляет их в момент исторического потрясения, соприкоснувшись с великодушием и удалью своего «посаженого отца».
В «Капитанской дочке» пугачевщина — прежде всего момент общественного потрясения, разрушившего устоявшиеся формы жизненных отношений. В такой момент спадают привычные маски, каждая из основных сил русской истории обнаруживает свое истинное лицо, предел своих исторических и нравственных возможностей. Состояние борьбы поминутно рождает непредвиденные ситуации, поднимая одних из ее участников на неизвестную прежде высоту, роняя с пьедесталов других. Резче выступают «проклятые вопросы» русского исторического развития; самые простые человеческие отношения — любовь, дружба, простое, случайно родившееся расположение — превращаются для каждого в испытание общественного и нравственного достоинства. Отсюда необычайная многозначность и емкость даже мельчайших «клеточек» сюжетной ткани романа. <...>
Человеческий контакт, случайно установившийся между молодым барином и бродягой-дорожным, оказывается в романе началом цепи «странных» событий, сквозь которые просматриваются наиболее важные, стержневые вопросы русской жизни, бывшие таковыми и в эпоху пугачевщины, и в 1830-х годах. Через сказку и песню Пугачев приобщен к вековечным чаяниям народа, основам его миросозерцания. Но этого мало — в «Капитанской дочке» Пугачев обретает голос, способность суждения о самом себе и своем деле. В народное красноречие Пугачева наряду с песенно-сказочными образами вплетаются аргументы от русской истории («А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» — 8, 332). Здесь начинается область «неписаной» истории, где художественный вымысел подходит к исторической истине ближе, чем документы и свидетельства. <...>
278
Можно сказать, что «Капитанская дочка» — звено<...> образующее центральную часть своеобразного триптиха. В «Истории Пугачева» Пушкин остается историком в полном смысле слова: вопросы современности ощущаются лишь в глубинном подтексте исследования. «Путешествие из Москвы в Петербург», напротив, повернуто к настоящему. Состояние России во времена Радищева — здесь та шкала, которая позволяет измерить пройденный путь и осознать насущные задачи дня. В «Капитанской дочке» история и современность связаны в единый нерасторжимый узел. Семейное предание Гриневых — это лишь страница русского прошлого, но страница, включенная в перспективу непрерывного исторического движения. Динамика событий переплетается здесь с динамикой личных и общественных судеб. Народная Россия и мыслящее дворянство, их настоящее и будущее, вся противоположность их интересов, не исключающая возможностей взаимопонимания, — вот неполный перечень вопросов, затронутых в истории «странных отношений» Гринева и его «вожатого».
Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки». — В кн.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 116, 120—123.
М. Б. Храпченко
На всем протяжении литературной деятельности Пушкина глубоко волновали темы протеста, бунта против социального порядка. Поэт остро воспринимал произвол, несправедливость, господствовавшие в обществе его времени. Он ясно видел и то накопление энергии сопротивления, гнева, которое происходило внутри социального организма. Общественный протест нашел свое яркое выражение в лирике Пушкина, но он стал также содержанием п его крупных произведений, в том числе «Медного всадника» и «Капитанской дочки».
Раскрытие конфликта в «Медном всаднике» носит во многом обобщенный характер. Фигуры Евгения и самодержавного властелина освещены прежде всего в социально-философском плане; их сопоставление затрагивает важнейшие аспекты человеческого, общественного бытия — это противоречие между счастьем отдельного человека, его семьи и исторической, государственной необходимостью.
Вместе с тем драма Евгения — маленького человека большого города — обрисована и в ее реальной, повседневной конкретности. Герой «Медного всадника» — «живет в Коломне, где-то служит, Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине». Евгений не жаждет многого. Его желания, мечты очень скромны, они не выходят за пределы незатейливого домашнего довольства и семейного согласия, счастья:
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
279
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу...
Но и этим скромным мечтам не суждено сбыться. Крушение надежд Евгения определено хотя и неожиданными, но вполне конкретными событиями, за которыми, однако, вырисовываются более сложные явления и обстоятельства. Они персонифицируются в образе Медного всадника. Образ этот выступает в поэме как олицетворение самодержавной власти и одновременно как символ деяний, преобразующих дикую природу, символ человеческой культуры. Евгений поднимает бунт против «державца полумира». Но его протест скорее выражает скорбь, чем сопротивление; в нем больше отчаяния, чем убежденности и стремления внутренне противостоять мощному властелину судьбы.
Динамическое соединение конкретно-изобразительного и характерологического начал с обобщенно-символическим отражением действительности обусловило сложность и глубину содержания пушкинской поэмы, которая в ее историческом существовании раскрывается своими различными сторонами, гранями.
Совершенно по-иному изображены социальный конфликт, герои в «Капитанской дочке». Образ Пугачева несоизмерим с образом Евгения, и несоизмерим не только по силе выражения протеста, бунта, но и по той внутренней широте, оригинальности, мощи, которые отличают духовный облик донского казака и мало свойственны бедному петербургскому чиновнику. Пушкинский Пугачев — характер особенного склада. Он предстает в повести как своеобразное воплощение народного ума, удали, народной стихии. В этом смысле образ Пугачева значительно объемнее, шире «обычных» характеров, в том числе и тех, которые нарисованы в «Капитанской дочке».
В то время как в «Медном всаднике» выразительно очерчены обстоятельства, оказывающие неотразимое влияние на жизнь, характер основного героя, его судьбу, в «Капитанской дочке» все, что касается предыстории Пугачева, формирования его душевного облика, остается за пределами повествования. Вряд ли это можно объяснить лишь стремлением писателя не входить в резкие столкновения с цензурой. Сам образ Пугачева так, как он нарисован в повести, несет в себе и свою предысторию. Описание конкретных событий, сцен, деталей, относящихся к прошлому героя, в данном случае, вероятно, лишь мельчило бы крупный, сильный характер.
И это тем более интересно, что другие герои «Капитанской дочки», и прежде всего Гринев, изображены в социально-бытовом окружении, которое проясняет их отношение к жизни, их поведение. Тут преобладают выразительные детали устоявшегося жизненного уклада, а рядом с ним событийные неожиданности. В обрисовке же Пугачева очень важную роль играют диалог, самораскрытие героя, выявление им самим своих стремлений и чувств.
Пугачев изображен не только вне конкретных обстоятельств, предопределивших его жизненный путь, но и как человек, которому разрушение
280
этих трудных, «стеснительных» обстоятельств представляется единственной формой его существования. В этом смысле облик Пугачева замечательно раскрывается в главе «Мятежная слобода». Калмыцкая сказка о вороне, который питается мертвечиной и живет триста лет, и об орле, живущем на свете всего тридцать три года и питающемся свежим мясом, кровью, — сказка, переданная Пугачевым, помимо своего ближайшего значения — о разных способах жизни — заключает в себе и более широкий смысл — поэтизацию мятежной свободы, отрицание всякой мертвечины.
В рассказе о Пугачеве, его суровой непреклонности существенное место занимает история с заячьим тулупчиком. Тема эта неоднократно появляется на протяжении повествования. Ее развитие освещает глубокий отклик, который вызывает у Пугачева доброе отношение к изгою, человеку из низов общества. Отзывчивость на добро раскрывает одно из коренных качеств пушкинского героя, которое, по мысли писателя, вместе с другими свойствами Пугачева, является выражением его подлинной незаурядности, высокого душевного склада.
Как ни характеризовать восприятие Пушкиным крестьянской революции, несомненно, что образ Пугачева — одно из лучших его художественных обобщений. Писатель был увлечен этой исторической фигурой, увлечен той поразительной энергией, духовной сосредоточенностью, которые были присущи его герою.
Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность,человек. М., 1976, с. 81—83.
1 Как свидетельствуют воспоминания И. П. Сахарова, основанные в данном случае на рассказах А. А. Краевского, «Капитанская дочка» появилась в «Современнике» вопреки желанию Пушкина: «Как теперь помню, — отмечал мемуарист, — сколько было хлопот с „Капитанской дочкой“. Пушкин настаивал, чтобы отдельно напечатана была эта повесть, а Краевский и Врасский — хозяин типографии Гуттенберговой — не соглашались и, кажется, поставили на своем» (Рус. арх., 1873, кн. 1, стб. 974—975). О взаимоотношениях Пушкина, Врасского и Краевского осенью 1836 г. см. опубликованные нами материалы: Лит. наследство. М., 1952, т. 58, с. 289—296.
2 Пушкин в печати: 1814—1837. М., 1914, с. 156; 2-е изд., испр. М., 1938, с. 132.
3 См.: А. С. Пушкин: К биографии А. С. Пушкина. М., 1885, вып. 2, с. 84.
4 Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М., 1928, с. 281.
5 Письма А. Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 202.
6 См.: Учен. зап. / Урал. гос. пед. ин-т, 1957, т. 4, вып. 3, с. 124.
7 Рус. старина, 1880, № 9, с. 220.
8 Читатель и писатель, 1928, № 4—5, с. 2.
9 «Капитанская дочка» вовсе не упоминалась и в самом авторитетном из первых зарубежных обзоров литературной деятельности Пушкина. Мы имеем в виду книгу Генриха Кенига «Literarische Bilder aus Russland Herausgegeben von H. Koenig» (Stuttgart, und Tübingen, 1837). Эта книга написана была при ближайшем участии московского литератора Н. А. Мельгунова, осведомившего Кенига и об «Истории Пугачева», и о незавершенной работе Пушкина над «Историей Петра Великого». См. также позднейший русский перевод этого издания: Очерки русской литературы. Спб., 1862.
10 Письмо отражает отклики первых слушателей «Капитанской дочки», которая была прочитана (в рукописи) Пушкиным на вечере у Вяземского 1 ноября 1836 г. (см.: Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т. 3, с. 347).
11 Иосиф Михайлович Виельгорский, молодой человек, сын друга Пушкина и Одоевского, увековеченный Гоголем в «Ночах на вилле» (1839).
12 Амабль-Проспер Барант (1782—1866) — французский историк и политический деятель либерального лагеря, с 1834 г. посол Франции при русском дворе.
13 Развитие этих же положений см. в письме Белинского к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 г. (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 11, с. 508) и в статье «Русская литература в 1843 г.» (Там же. М., 1955, т. 8, с. 79).
14 Калеб — слуга Равенсвуда, одно из главных действующих лиц в романе В. Скотта «Ламмермурская невеста».
15 В позднейшей передаче А. А. Краевского до нас дошел и устный отклик Н. И. Греча на «Капитанскую дочку», относящийся к 29 декабря 1836 г. (см. выше, с. 233).
16 В дневнике Чернышевского от 19 февраля 1853 г. сохранилась запись его беседы с О. С. Васильевой, будущей его женой. Эта запись явно навеяна «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева»: «У нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем <...>. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 1, с. 418—419).
17 Существенные возражения по поводу якобы отсутствия в «Капитанской дочке» основных жанровых признаков классического романа сделаны были Н. Н. Страхову в кн.: Черняев Н. И. «Капитанская дочка» Пушкина. М., 1897, с. 20—21.
18 Н. Н. Страхов, подчеркивая в статье о «Войне и мире» непреходящую значимость и актуальность «Капитанской дочки», попутно отвечал на демонстративную недооценку Пушкина в критических фельетонах Д. И. Писарева. Так, например, в своей программной статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев в 1865 г. заявлял: «Я очень хорошо знаю, что „Евгений Онегин“ гораздо лучше „Фелицы“ Державина и что „Капитанская дочка“ стоит во всех отношениях выше „Бедной Лизы“ Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина в том, что он не был проникнут теми идеями, которые в его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задам себе и решу только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту или же мы можем поставить его на полку, подобно тому, как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским?» (Рус. слово, 1865, № 3, отд. 2, с. 56; Писарев Д. И. Соч. М., 1956, т. 3, с. 295).
19 В архиве драматической цензуры сохранилось значительное число инсценировок «Капитанской дочки», запрещенных III Отделом и Главным управлением по делам печати за время с 1859 по 1905 год. Все запрещения мотивированы недопустимостью показа в театральном произведении самого образа Пугачева в пушкинской его трактовке и «сцен восстания крестьян против своих помещиков» (Абрамкин В. М. Пушкин в драматической цензуре. — Лит. арх., 1938, т. 1. с. 244—255).
20 В воспоминаниях А. М. Горького о Л. Н. Андрееве сохранился парадоксальный отклик последнего на произведения классической литературы, «замусоленные слюною» казенных педагогов. В числе этих произведений неожиданно оказалась и «Капитанская дочка»: «Для меня, — утверждал Л. Н. Андреев, — „Горе от ума“ скучно так же, как задачник Евтушевского, „Капитанская дочка“ надоела, как барышня с Тверского бульвара» (цит. по: Горький М. Собр. соч. М., 1931, т. 22, с. 93).
21 В писавшейся почти одновременно с пушкинским «Дубровским» повести Лермонтова «Вадим» — юношеском, сугубо романтическом произведении — переход героя-дворянина к пугачевцам мотивирован желанием отомстить за отца <...>. К пугачевцам, которые для этого романтического Вадима только орудие его мести, он относится с презрением <...>. Вадим называет пугачевцев «подлыми рабами».
22 Ленин В. И. Соч., т. 4, с. 228—229.
23 Здесь и далее курсивы в пушкинских цитатах принадлежат В. В. Виноградову.
24 Ср., например, дважды употребленное Пугачевым поговорочное выражение: «Казнить так казнить, миловать так миловать»; «Казнить так казнить, жаловать так жаловать».
25 В этом смысле характерно часто встречающееся стремление исследователей перенести «простого» Миронова из дворянского лагеря в народный. Позиция Пушкина в «Капитанской дочке» значительно более социальна, чем, например, Толстого в «Войне и мире», где Ростовы, действительно, вместе с народом противопоставлены миру Курагиных. Не случайно Пушкин не ввел в повествование фигуры троекуровского типа — вельможи XVIII в. — антагониста Гриневых и Мироновых. Швабрин — фигура совсем иного типа: он отщепенец, противопоставленный всему дворянству в целом. Попытки увидеть в Екатерине II фигуру, противоположную Мироновым, как мы постараемся показать, лишены оснований.