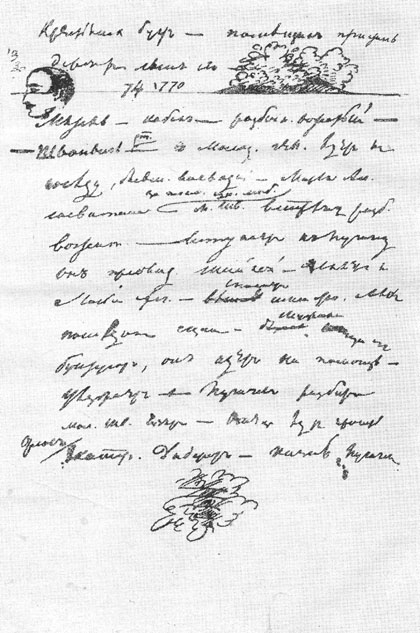- 145 -
Ю. Г. Оксман
ПУШКИН В РАБОТЕ НАД РОМАНОМ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
I. КРЕСТЬЯНСКО-СОЛДАТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1830—1831 гг.
И ГЕНЕЗИС РОМАНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»Перспективы крестьянской революции и связанные с ней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.
Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.
«Les temps sont bien tristes, — писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой. — L’épidémie fait à Petersbourg de grands ravages. Le peuple s’est ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s’étaient répandus. On prétendait que les médicins empoisonnaient les habitants. La populace furieuse en a massacré deux. L’empereur s’est présanté au milieu des mutins <...>. Ce n’est pas le courage, ni le talent de la parole qui lui manquent; cette fois-ci l’émeute a été apaisée; mais les désodres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d’avoir recours à la mitraille» (14, 184).1
Даем это письмо в переводе: «Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты рассвирепевшей чернью. Государь явился среди бунтовщиков <...>. Нельзя отказать ему ни в мужестве, ни в умении говорить; на этот раз возмущение было подавлено; но через некоторое время беспорядки возобновились. Возможно, что будут вынуждены прибегнуть к картечи».
- 146 -
Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян. «...ты верно слышал о возмущениях новогородских и Старой Руси. Ужасы, — писал Пушкин 3 августа 1831 г. князю П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новог<ородских> поселен<иях> со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт старо-русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (14, 204—205).
Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Новгородской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений».2
Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности».3
- 147 -
В огне и буре происшествий 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины.
Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о жестоких эксцессах восстания военных поселян — фактах, не подлежавших, конечно, оглашению в тогдашней прессе, — был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии.
«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назади, мой любезнейший Александр Сергеевич, — писал Н. М. Коншин в первых числах августа 1831 г. Пушкину. — Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, — и это все вместе. Черт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считаю умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» (14, 216).
Эти заключения но вызывают у Пушкина никакого протеста, никаких сомнений. Если бы «История Пугачева» или «Капитанская дочка» писались в пору восстания военных поселян под Новгородом и Старой Руссой, Пушкин стоял бы, вероятно, на позициях, не очень далеких от тех, которые занимал Н. М. Коншин.4
Впечатления от событий 1831 г. не могли не оживить воспоминаний Пушкина и о крестьянских волнениях осенью 1830 г., когда он «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний» (12, 310), застрял на несколько недель в Болдине.
«Le peuple est abattu et irrité, — писал Пушкин 9 декабря 1830 г. своей приятельнице Е. М. Хитрово. — L’année 1830 est une triste année pour nous. Espérons — c’est toujours bien fait d’éspérer (перевод: «Народ подавлен и раздражен. 1830-й год — печальный год для нас. Будем надеяться — надеяться всегда хорошо») (14, 134).
С тревогами 1830 и 1831 гг. в «Капитанской дочке» были связаны не только дискуссии широкого философско-исторического плана о русском народе и о судьбах помещичье-дворянского государства, но и некоторые характерные формулы официозной фразеологии, перемещенные из писем Н. М. Коншина в рассуждения на те же темы П. А. Гринева. С болдинскими воспоминаниями оказались связанными и совершенно конкретные детали бытописи последнего романа Пушкина. Напомним, например, известную сцену «Пропущенной главы»:
«„Что такое?“ — спросил я с нетерпением. „Застава, барин“, — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту» (8, кн. 1, 376).
- 148 -
Сцена эта полностью восходила к рассказу Пушкина об одной из его попыток пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 г.: «Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава! Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку <...>. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр. (12, 310). Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830 г. предопределили зарисовку столкновения Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (см. выше, с. 60).
К болдинским писаниям 1830 г. восходили и известные строки главы IV «Капитанской дочки» (8, кн. 1, 303): «Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:
Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь»В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной 20 сентября 1830 г., нами обнаружены следующие строки:
«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:
Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь».II. БИОГРАФИЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА А. В. СУВОРОВА
ИЛИ «ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА»?Академик Я. К. Грот, публикуя в «Русском вестнике» за 1862 г. переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, тогда же впервые предложил вниманию читателей свои соображения о том, что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», что лишь в процессе реализации этого замысла он заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации «мятежа Пугачева» и что только обилие интересных неизданных материалов о событиях 1773—1774 гг. заставило Пушкина отказаться от его начального плана и перейти от генералиссимуса Суворова к Емельке Пугачеву.
Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина», вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики», безоговорочно утвердилась в специальной литературе и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «Истории пугачевского бунта».
«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно, — удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов. — Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный
- 149 -
образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабатывать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, овеянная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородина и Кавказа — генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным „генералиссимусом“, но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным „История Суворова“ привела поэта к „Истории Пугачева“. Как это случилось? Несколько справок разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, „неутомимому“ Суворову приписывалось „взятие самозванца и конечное прекращение мятежа“. Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать „Историю графа Суворова“, пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой „Истории“ и „следственное дело о Пугачеве“. 29 февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петербургского архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымникского. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя — Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, по-видимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою „Историю Пугачевского бунта“ как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил какого, — вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова».5
Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. П. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании предисловия Пушкина к «Истории Пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с генерал-адъютантом А. И. Чернышевым.
- 150 -
В самом деле, Пушкин нигде не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то другого, им якобы «оставленного труда». Напомним точный печатный текст первых строк предисловия к «Истории Пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых». И далее: «Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в государственном Санкт-Петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы <...>. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный».
Итак, Пушкин подчеркивал в своем предисловии только тот факт, что его труд был задуман в масштабах, гораздо больших, чем его удалось осуществить, что собранный им материал далеко не полностью вошел в его книгу и что поэтому сам автор рассматривает последнюю только как «часть труда», им «оставленного».
Пушкин не скрыл от читателей и одной из важнейших причин прекращения своей работы — невозможности воспользоваться материалами следственного дела о Пугачеве, оставшегося, несмотря на все его старания, «нераспечатанным». Сохранившиеся черновики отмеченного выше предисловия (9, кн. 1, 398—401), равно как и вся переписка Пушкина, относящаяся к изданию «Истории Пугачева», непреложно свидетельствуют о том, что поэт, называя свой труд «оставленным», никак не связывал «Истории Пугачева» с «Историей Суворова». Все же домыслы об этой линии исторических интересов Пушкина основывались на неправильном понимании письма будущего автора «Истории Пугачева» к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г.:
«Приношу Вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе, — писал Пушкин. — Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.
1. Следственное дело о Пугачеве.
2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.
3. Донесения его 1799 года.
4. Приказы его к войскам.
Буду ожидать от Вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами» (15, 47).
Письмо это, закрепляющее какую-то нам неизвестную беседу Пушкина с А. И. Чернышевым о Суворове, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова». Пушкин в своем письме выражал интерес лишь к документам, «касающимся Истории графа Суворова», причем неожиданно начинал перечень необходимых ему материалов «следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях Суворова во время кампаний 1794 и
- 151 -
1799 гг. производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты биографии Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковым, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и многие другие, почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если предположить, что поэт в беседе с военным министром дал последнему какой-то повод для неправильного заключения о своей готовности заняться «Историей Суворова», то эту беседу следовало бы понимать как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным архивным материалам.
Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации восстания Пугачева, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской войне не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 г. лишь разыскания в области биографии Петра Великого.
Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторического романа (см.: 8, кн. 2, 929), точная дата которого на девять дней предшествовала обращению поэта к графу А. И. Чернышеву.6 Приводим этот план полностью:
Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость — подступает Пуг.<ачев> — Шв.<анвич> предает ему крепость — взятие крепости — Шв.<анвич> делается сообщником Пуг.<ачева>. Ведет свое отделение в Нижний — спасает соседа отца своего — Чика между тем чуть было не повесил стар<ого> Шв.<анвича> — Шв.<анвич> привозит сына в П.<етер>-б.<ург> — Орлов выпрашивает его прощение.
31 янв. 1833.
III. ПЛАНЫ РОМАНА О ШВАНВИЧЕ — СПОДВИЖНИКЕ ПУГАЧЕВА
Роман, первые контуры которого наметились в записной книжке Пушкина в самом конце января 1833 г., относился ко временам Пугачева, причем героем его являлся один из случайных сообщников самозванца —
- 152 -
подпоручик 2-го гренадерского полка Михаил Александрович Шванвич (он же Шванович), сын лейб-кампанца, крестник императрицы Елизаветы Петровны. Взятый в плен 8 ноября 1773 г. под Юзеевой отрядом Чики, он доставлен был в Берду, присягнул Пугачеву и в течение нескольких месяцев состоял в его штабе в должности переводчика. В марте 1774 г., после разгрома войск Пугачева под Татищевой, Шванвич бежал в Оренбург, где вскоре был арестован. Лишенный по суду чинов и дворянства, он много лет прозябал затем в ссылке в Туруханском крае, где и умер, не дождавшись амнистии.
Краткое обвинительное заключение по делу Шванвича вошло в правительственное сообщение от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»: «Подпоручика Михаила Ивановича, — отмечалось в разделе восьмом этого документа, — за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, — лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу» (9, кн. 1, 190).
Никаких других данных о Шванвиче Пушкин не мог заимствовать из печатных источников, так как их еще и не существовало. Естественно поэтому предположить, что поскольку архивные материалы о Шванвиче в январе 1833 г. еще были недоступны поэту, его интерес к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то устных свидетельств об этом соратнике Пугачева. И действительно, в бумагах Пушкина сохранилось несколько заметок, тематически близких плану задуманного им исторического романа. Все эти заметки восходили к рассказам современников, а иногда и знакомцев отца и старшего брата М. А. Шванвича (см. выше, с. 99).
Позднее, готовя для Николая I свои дополнительные замечания к «Истории Пугачева», которые по цензурным соображениям нельзя было включить в печатный текст книги, Пушкин писал: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворянин не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Из хороших фамилий, был Шванвич; он был сын кронштадского коменданта, разрубившего палашем щеку гр. А. Орлова» (9, кн. 1, 478).
В другой заметке, относящейся к «анекдоту» о старом Шванвиче и А. Г. Орлове, Пушкин подробно рассказывал о том, как Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орлова на первую степень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич служил в Новгороде, сын же его, «находившийся в команде Черны<шева>, имел малодушие пристать к Пугачеву
- 153 -
и глупость служить ему со всеусердием. Г.<раф> А. Орлов выпросил у гос.<ударыни> смягчение приговора» (9, кн. 1, 479—480).
Краткие биографические данные об отце и сыне Шванвичах имели официальное назначение — они направлялись царю. Но в этих же справках нетрудно установить сейчас и некоторые наметки будущих сцен и образов задуманного Пушкиным исторического романа.
Для того чтобы точнее определить факты, известные Пушкину о будущем Швабрине, напомним данные о подпоручике Шванвиче, вошедшие в рукописное «Известие о самозванце Пугачеве», автором которого был один из летописцев осады Оренбурга — священник Иван Полянский. Копия этого «Известия», сохранившаяся в бумагах Пушкина (9, кн. 2, 579—598), была использована и в «Истории Пугачева» (данные главы третьей о Хлопуше), и в «Капитанской дочке».
Как рассказывает Иван Полянский, первые сведения о переходе подпоручика Шванвича на службу к Пугачеву получены были в осажденном Оренбурге 6 ноября 1773 г. вместе с данными о разгроме самозванцем войск генерал-майора Кара. Передавая, что сам генерал едва «убрался» от преследовавших его пугачевцев, перебежчики с ужасом вспоминали о том, как подпоручик Шванвич, захваченный в плен «с прочими офицерами и солдатами», «пришедши в робость, падши пред Емелькою на колена, обещался ему, вору, верно служить, за что он, Шванович, прощен Емелькою, и, пожаловавши того ж; часу его атаманом, Емелька, остришти ему, Швановичу, косу <...> велел ему дать к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу», после чего «и самым делом он, Шванович, ему, Емельке, верно служил, так что не только русские, но и немецкие в Оренбург присылал на Емелькино имя с большим титулом письма и манифесты варварские. Те же самые солдаты сказывают, что Емелька от генерала Кара солдат отбил больше 200 человек, которых, к присяге вор всех приведши, себе в службу взял; офицеров всех, не хотящих присяги своей нарушить, перевешал, а Ивановича одного оставил» (9, кн. 2, 594).
Рукописи Пушкина свидетельствуют о том, что замысел романа о Шванвиче родился в процессе работы поэта над романом «Дубровский». Вплотную подойдя в «Дубровском» к проблеме крестьянского восстания и к истории дворянина и офицера, изменившего своему классу, Пушкин в своем повествовании оказался несколько скованным поэтикой западноевропейских романов конца XVIII — начала XIX столетия о благородных разбойниках, борцах за униженных и оскорбленных, мстителях за поруганную справедливость. Особенно явно связан был с этой традицией (после Пушкина она вновь возродилась в романах Эжена Сю и Александра Дюма) образ центрального персонажа — однолинейно-мелодраматического Владимира Дубровского, непосредственного предшественника Шванвича.
Между 15 и 22 января 1833 г. Пушкин еще работал над начатым в октябре 1832 г. «Дубровским», а 31 января в одной из его тетрадей появляется план повести о Шванвиче.
У нас нет никаких оснований утверждать, что новый замысел Пушкина
- 154 -
в том или ином отношении противостоял «Дубровскому» и представлял собою принципиальный отказ от повествовательных форм, получивших воплощение в первом из этих произведений. Приемы сказа, характерные для будущей «Капитанской дочки» и очень рано закрепленные в проектах романа о Шванвиче (см. черновой набросок предисловия к нему от 5 августа 1833 г.), отнюдь не исключали других методов решения вопроса о внешней и внутренней структуре эпического письма (напомним в связи с этим хотя бы «Пиковую даму»). Повествованием о Шванвиче и Пугачеве вовсе не отменялся роман о Дубровском: на некоторое время откладывалось лишь продолжение работы над ним.7 Кстати сказать, известное свидетельство Пушкина в письме к жене от конца сентября 1834 г. из Болдина, обычно относимое к «Капитанской дочке», с несравненно большим основанием должно быть приурочено к «Дубровскому»: «И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю» (15, 192—193).
Пушкин был увлечен работой над «Дубровским» в течение нескольких месяцев. Мы не располагаем ни одним свидетельством о том, чтобы он был неудовлетворен результатами своего труда, чтобы он был готов отказаться от таких своих творческих достижений в недописанном романе, как образы Троекурова, князя Верейского, кузнеца Архипа. Характеры и коллизии «Дубровского» оставили большой след в русской классической литературе. Нельзя забывать и о том, как высоко оценен был «Дубровский» его первыми читателями и критиками, в числе которых были и Белинский, и Тургенев, и Чернышевский.
Но самым значительным аргументом в пользу того, что Пушкин дорожил начатым им романом и рассчитывал вернуться к нему, является факт отказа поэта от перемещения каких бы то ни было страниц «Дубровского» в другие произведения.
Как известно, Пушкин очень широко пользовался материалом своих старых записных книжек, начатыми и не оконченными по тем или иным причинам стихотворными и прозаическими прозведениями для новых художественных построений. Так, например, из начатой им в 1829 г. повести о прапорщике Черниговского полка целая страница была перемещена в повесть «Станционный смотритель»; так, из «Романа в письмах», над которым Пушкин работал в том же 1829 г., он перенес некоторые детали бытописи в повести «Метель» и «Барышня-крестьянка»,
- 155 -
а некоторые образы, ситуации и наблюдения — в «Пиковую даму» (1834); так, в начальные главы «Египетских ночей» перенесены были стихи о «Клеопатре» (1824) и две страницы «Отрывка» («Несмотря на великие преимущества...») 1830 г., а в «Медном всаднике» (1833) и в «Родословной моего героя» (1836) ожили строфы неоконченной поэмы «Езерский» (1832—1833). Точно по таким же соображениям перемещена была в роман «Дубровский» (1832) страница из брошенной «Истории села Горюхина» (1830).
Мы могли бы значительно увеличить число примеров этого рода, но едва ли они нужны.8 И без этого ясно, что если бы Пушкин не собирался возвратиться к рукописи «Дубровского», он поступил бы с нею так же, как и с другими брошенными произведениями, т. е. широко использовал бы в новых повестях и романах, прежде всего — в «Капитанской дочке». Между тем ни одна строка из написанных им девятнадцати глав «Дубровского» не перешла в его более поздние начинания. Никак не подрывает этого заключения творческий учет в главе VIII «Капитанской дочки» той самой «старой меланхолической песни», которую поют и крестьяне Дубровского: «Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, молодцу, думу думати». При доработке «Дубровского» эта песня легко могла быть заменена любой другой из того же цикла.
—————
6 февраля 1833 г. Пушкин обрывает работу над «Дубровским», а через три дня обращается к А. И. Чернышеву с просьбою о предоставлении ему доступа к «следственному делу о Пугачеве». Все эти даты достаточно красноречивы и не нуждаются в комментариях. Между тем популяризаторы легенды об интересе Пушкина в начале 1833 г. к биографии генералиссимуса Суворова, а не к восстанию Пугачева, почему-то никогда к рабочему календарю и бумагам Пушкина не обращались и никаких выводов из совершенно безошибочно устанавливаемой последовательности фактов творческой истории «Дубровского», романа о Шванвиче и монографии о Пугачеве не делали.
Имя Шванвича стоит в центре еще двух дошедших до нас планов задуманного Пушкиным исторического романа. Один из них, возможно, даже предшествовал тому, который оформился 31 января 1833 г. В нем Шванвич связан еще не с Пугачевым, а с его ближайшим соратником — Перфильевым.
Афанасий Петрович Перфильев, сотник Яицкого казачьего войска, был главою тайной делегации, прибывшей незадолго до восстания Пугачева в Петербург и пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II, чтобы вручить ей петицию о нуждах казачества, разоряемого
- 156 -
своими старшинами и бюрократической агентурой центральной власти. Миссия Перфильева оказалась безуспешной. Однако, когда до Петербурга дошли вести о первых успехах Пугачева под Оренбургом, при дворе возник проект использования Перфильева в качестве правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для захвата последнего. Перфильев спешно выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым присоединился к нему 6 декабря 1773 г. в Берде и вскоре занял один из руководящих постов в штабе мятежников. Захваченный в конце 1774 г. под Черным Яром, Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию, Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствует использованная Пушкиным рукопись воспоминаний И. И. Дмитриева, очевидца казни, Пугачев «во все продолжение чтения манифеста, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» (9, кн. 1, 148).
Заметка о Шванвиче и Перфильеве имеет в бумагах Пушкина всего три строки:
Кулачный бой — Шванвич — Перфильев —9
Перфильев, купец —
Шванвич за буйство сослан в деревню — встречает Перфильева — (8, кн. 2, 930)
Таким образом, завязкой романа в первом его варианте являлась встреча Шванвича с Перфильевым в Петербурге. Не случаен был в этом контексте и «купец», упоминаемый в плане рядом с Перфильевым. Это Евстафий Долгополов, разорившийся ржевский купец, соратник Пугачева, предложивший правительству, после разгрома повстанцев под Казанью, захватить и выдать Пугачева. В своем письме к князю Г. Г. Орлову Долгополов ссылался на содействие, якобы обещанное ему Перфильевым. Документы позднейшего следствия о Пугачеве и его сообщниках обнаружили совершенную непричастность Перфильева к афере Долгополова. Да и самый образ этого сподвижника Пугачева, его действия в пору восстания, его героическое поведение во время следствия, суда и казни говорили о том, что именно Перфильев являлся с начала и до конца самым последовательным врагом самодержавно-помещичьего государства. Об этом, кстати сказать, свидетельствовала и запись о Перфильеве самого Пушкина, сделанная им в 1834 г. в процессе его работы над бумагами Д. Н. Бантыша-Каменского о событиях 1773—1775 гг.: «Перфильев сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки государыни» (9, кн. 2, 776).
- 157 -
«Капитанская дочка». План («Крестьянский бунт...»). Автограф. 1833 г.
ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 277.
- 158 -
Третий вариант повести о Шванвиче исключает из числа ее персонажей Перфильева, а вместе с ним и петербургскую завязку отношений между героями. В новом проекте Пушкин непосредственно связывает Шванвича с самим Пугачевым теми же нитями («Метель, кабак, разбойник вожатый»), которые были впоследствии развернуты в «Капитанской дочке»:
Крестьянский бунт — помещик пристань держит, сын его.10
Метель — кабак — разбойн.<ик> вожатый — Шванвич ст.<арый>. Молод.<ой> чел.<овек> едет к соседу, бывш.<ему> воеводой, — Марья Ал. сосватана за плем.<янника>, кот.<орого> не люб.<ит>. М.<олодой?> Шв.<анвич> встречает разб.<ойника> вожат.<ого> — вступает к Пугачеву. Он предвод.<ительствует> шайкой — является к Марье Ал. — спасает семейство и всех.
Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь — уезжает — Пугачев разбит — мол.<одой> Шванвич взят — отец едет просить. Орлов. Екатер.<ина>. Дидерот. Казнь Пугачева. (8, кн. 2, 929)
Если для двух первых планов повести о Шванвиче характерно отсутствие любовной интриги (свидетельство, конечно, не о том, что эта интрига вообще могла отсутствовать в повести, а лишь. о том, что любовная коллизия не играла в ней существенной роли), то в третьем варианте плана этот узел начинает завязываться. Правда, образ Марьи Александровны <или Алексеевны?>, дочери «соседа» Шванвичей, в новом плане едва намечен, он еще, так сказать, «проходной», лишенный тех черт характера, которые определяют функцию Марьи Ивановны как одного из центральных персонажей будущей «Капитанской дочки». Но не случайно, что именно Марью Александровну спасает герой повести от пугачевцев, в рядах которых активно действует и сам, подобно будущему Швабрину.
В третьем варианте плана нет ни Гринева, ни семьи Мироновых, ни капитанской дочки. Место действия в плане не определено, но во всяком случае это не Белогорская крепость, а помещичья усадьба в одной из поволжских губерний. Судя по наметкам «последней сцены» нового варианта романа («мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»), в 1833 г. уже определились контуры «пропущенной главы» будущей «Капитанской дочки», той самой главы, которую Пушкин в 1836 г. изъял из черновой редакции уже законченного романа перед его перепиской для сдачи в цензуру. С окончательной редакцией «Капитанской дочки» связана и концовка третьего варианта ее плана («Казнь Пугачева»), навеянная, видимо, знакомством Пушкина с рукописью неизданных воспоминаний И. И. Дмитриева, оказавшихся в его распоряжении не ранее осени 1833 г.
В то же время можно утверждать, что старый Шванвич в начальных планах романа еще не имел ничего общего с Андреем Петровичем Гриневым: Шванвич-отец даже «пристань держит», т. е. явно связан с разбойничьей
- 159 -
вольницей. Во второй главе «Капитанской дочки» сохранился отдаленный след этой характеристики старого Шванвича — мы имеем в виду описание степного постоялого двора, к которому выводит Пугачев во время бурана кибитку Гринева: «Постоялый двор, или, по-тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань» (8, кн. 1, 290).
Чем дальше Пушкин отходил от первых вариантов фабулы своего романа о дворянине-пугачевце, тем резче менялся и образ отца героя. В «Капитанской дочке» Андрей Петрович Гринев прежде всего человек строгого долга, носитель просветительских принципов общественной морали, высокие понятия которого о служении дворянина и офицера государству определяют его наставления сыну при отправке последнего в армию: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» (8, кн. 1, 282). Эту «честь» сохранил и он сам, преждевременно уйдя в отставку, чтобы отстоять то, «что почитал святынею своей совести».
Образ старого оппозиционера, прозябающего в деревенской глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г., за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина (см. «Мою родословную», «Родословную Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 годе» в «Дубровском»). Этот образ был связан даже с семейными преданиями об опале деда поэта, Льва Александровича:
Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних верен оставался
Паденью третьего Петра.Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что Андрей Петрович Гринев «служил при графе Минихе и вышел в отставку в 1762 году» (см. раздел «Из вариантов рукописей», с. 87). Таким образом и он «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева, исключенная из печатного текста, объясняет и опальное пребывание его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах романа и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней (мотивировки для подцензурного издания пушкинской поры совершенно, конечно, неприемлемые), а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, оказавшегося, по мотивам особого и сугубо личного порядка, в стане восставших крепостных рабов.
- 160 -
IV. РАБОТА НАД «ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА» И НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
ФАБУЛЫ БУДУЩЕЙ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ».
РУКОПИСНАЯ И ПЕРВОПЕЧАТНАЯ РЕДАКЦИИ РОМАНАРабота над задуманным романом не пошла дальше начальных набросков плана, ибо изучение архивных материалов о пугачевщине, доступ к которым Пушкин получил 25 февраля 1833 г., настолько его увлекло, что вместо романа он сразу же принялся за «Историю Пугачева». Книга писалась небывало быстрыми темпами. 25 марта 1833 г., т. е. ровно через месяц, завершена была черновая редакция главы первой монографии, а еще через два месяца, судя по дате последней ее главы («22 мая 1833 г.»), «История Пугачева», в самой сжатой, местами даже еще в полуконспективной форме, доведена была до конца.
Однако ошибочно было бы думать, что «История Пугачева» означала отказ Пушкина от работы над романом. Об определенном параллелизме в эту пору художественных и исследовательских интересов Пушкина свидетельствуют не только бумаги его архива, но и общеизвестное авто-признание. Так, готовясь к поездке в Казань и Оренбург для ознакомления с районом восстания, а также для собирания местных архивных и фольклорных материалов о нем, Пушкин на официальный запрос от имени Николая I о целях его путешествия отвечал 30 июля 1833 г. управляющему III Отделением: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (15, 70). Это глухое упоминание о начатом романе нельзя толковать как простую отписку, имевшую целью только прикрыть основную мотивировку поездки — необходимость доработки «Истории Пугачева». Через пять дней после приведенного письма Пушкин набрасывает проект художественного введения к роману, генетически связанного с замыслом повести о Шванвиче, но с весьма существенными изменениями не только его персонажных характеристик, но и некоторых линий развития самой фабулы.
Вместо Шванвича, служившего Пугачеву «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в новых вариантах плана романа о дворянине-пугачевце появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. не игравшая. Эта смена героев очень симптоматична. От Шванвича, измена которого была осмыслена политически, который пусть и не надолго, но сознательно соединяет свою судьбу с судьбами крестьянского восстания, Пушкин переходит к Башарину, не союзнику, а пленнику Пугачева, помилованному по просьбе его солдат, но скоро вновь оказавшемуся в рядах правительственных войск.
Архивные материалы о занятии пугачевцами 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» следующую сцену суда и расправы Пугачева:
«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. „Зачем вы шли на
- 161 -
меня, на вашего государя?“ — спросил победитель. — „Ты нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец“. Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. „Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю“. И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость» (9, кн. 1, 35—36).
Эта сцена, впоследствии широко развернутая в главе VII «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине — показания о нем фурьера Иванова в бумагах архива Главного штаба, доставленных поэту по распоряжению графа Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. (15, 51, 54, 57).
Таким образом, никак не раньше марта-апреля 1833 г. мог сложиться и тот новый вариант плана романа о дворянине-пугачевце, который первоначально связан был в замыслах Пушкина с фактами биографии поручика Шванвича. Мы должны особенно подчеркнуть именно эту последовательность планов романа и их хронологию, так как до получения материалов из архива Главного штаба о капитане Башарине, пощаженном Пугачевым при взятии крепости Ильинской, Пушкин никакими данными об этом эпизоде не располагал. Имя капитана Башарина не встречалось ни в одном из печатных источников, во-первых, и не принадлежало к числу имен, известных людям из окружения Пушкина, во-вторых.
Приводим план романа о капитане Башарине:
Башарин отцом своим привезен в П.<етер>б.<ург> и записан в гвардию — за шалость сослан в гарнизон11 — пощажен Пугач.<евым> при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Синбирск под начальством одного из полковников Путач.<ева>. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугач.<ева> — принят опять в гвардию. Является к отцу в Москву — идет с ним к Пугач.<еву>.
[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость.]
[Пугачев, взяв одну, подступает к другой — Башарин первый на приступе.]
[Требует в награду.]
К этому же плану относятся несколько строк, намечающих новую мотивировку одного из узловых моментов фабулы, — появление героя в стане Пугачева:
Башарин дорогою во время бурана спасает башкирца (le mutilé). Башкирец спасает его по взятии крепости — Пугачев щадит его, сказав
- 162 -
башкирцу: «Ты своею головою отвечаешь за него». Башкирец убит — etc. (8, кн. 2, 929)
Из проекта введения к роману о Башарине, относящегося к 5 августа 1833 г., мы можем установить, что он был задуман как записки героя, т. е. точно так, как повествование в «Капитанской дочке», построенное как рассказ П. А. Гринева. Политическая дидактика мемуариста прикрывалась в этом предисловии совершенно якобы бесхитростным обращением автора к своему внуку: «Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей». И далее: «Ты увидишь, что, завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство» (см. выше, с. 99).
По своей тональности это «введение» настолько близко к «Капитанской дочке», что если бы мы не знали его даты, то никак не могли бы ассоциировать его героя с Башариным. Этот же план, несмотря на наличие в нем многих эпизодов, близких «Капитанской дочке», в своих основных линиях гораздо более тесно связан с начальным замыслом Пушкина, когда в центре эпопеи стоял не Гринев, а Шванвич. В фабуле романа о Башарине вновь воскресли петербургские сцены, известные нам по варианту «Шванвич — Перфильев» (см. выше, с. 155—157).
Башарин — гвардеец, высланный «за шалость» из столицы в окраинный крепостной гарнизон, как будущий Швабрин в Белогорскую крепость. Он и возвращается в гвардию, побывав в войсках и Пугачева и его усмирителя Михельсона. В черновых заметках, развивающих и дополняющих начальный план, появляются первые контуры образов отца и дочери Мироновых — «старый комендант» и «комендантская дочка». Пушкин, правда, перечеркивает эти строчки, но мы не можем не учесть, что Башарин, подобно будущему Гриневу, не только уже связан с «комендантской дочкой», но даже спасает ее от пугачевцев, в рядах которых действует и он сам. Башарин честно служит Пугачеву. Он даже «первый на приступе» и после взятия крепости, в которой скрывается любимая им девушка, «требует в награду» за свой подвиг именно ее, дочь убитого коменданта. С этой фабульной линией связан в новом варианте романа и другой литературный штамп — Башарин «спасает отца своего, который его не узнает». Как далеки еще эти надуманные эффекты от «нагой простоты» типических ситуаций того же плана в «Пропущенной главе» будущей «Капитанской дочки»!
Приближает этот план к «Капитанской дочке» и новый вариант мотивировки пощады Башарина Пугачевым («Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца»). Возвращаясь в этой сцене к одному из планов романа о Шванвиче, Пушкин рассчитывает свести своего героя уже не с самим Пугачевым, а с одним из изувеченных в процессе следствия
- 163 -
и суда деятелей башкирского восстания 1741 г. От этого замысла Пушкин скоро отказался — вместо «старого башкирца» в последнем плане «Капитанской дочки» появляется опять Пугачев. Но образ изувеченного башкирца настолько прочно утвердился в памяти поэта, что именно с этим башкирцем, у которого отрезаны язык, уши и нос, мы встречаемся в «Капитанской дочке» (сцена допроса его в главе VI и его же образ в главе VII, когда изувеченный старик сам распоряжается у виселицы в качестве палача).
К зиме 1834—1835 гг. относится последний из известных нам планов новой перестройки некоторых частей романа о Шванвиче. Мы говорим только о перестройке, и притом не всего романа, а лишь некоторых его эпизодов, так как в новом варианте плана нет ни начальных сцен произведения (завязка отношений между его героем и Пугачевым во время бурана), ни его концовки (судьба Валуева — Гринева после получения им в Оренбурге письма от Марьи Ивановны и роль последней в его спасении) . В новом варианте плана характерен, в отличие от всех предшествующих, упор не на политическую линию Шванвич — Пугачев, а на локальный историко-бытовой материал (семья Горисовых, т. е. будущих Мироновых, и роман Валуева — Гринева с Марьей Ивановной на фоне белогорской идиллии, разрушаемой в огне и буре гражданской войны). Снижение героя продолжается — Валуев не Шванвич и даже не Башарин, но все же образ его не расщеплен еще, как в окончательной редакции романа, на Швабрина и на Гринева, — поэтому в новом варианте нет и поединка (будущей главы IV), а ранение героя происходит не на дуэли, а во время осады крепости.
Оговорим еще одну особенность этого плана — в нем новый «герой» обозначен именем и фамилией своего живого прототипа. Это Петр Александрович Валуев (1815—1890) — девятнадцатилетний жених дочери князя П. А. Вяземского, друга Пушкина. Не трудно установить и прототип героини. Под именем и фамилией Марьи Горисовой (барышни) в плане значится Марья Васильевна Борисова, молодая девушка, сирота, жившая в доме П. И. Вульфа. Именно о ней Пушкин шутливо писал 27 октября 1828 г. из Малинников, что «намерен на днях в нее влюбиться» (14, 33). Характерен и зачеркнутый вариант фамилии Валуева — Швабрин, впоследствии использованный в «Капитанской дочке». Знак вопроса (в скобках), заменяющий фамилию пугачевского атамана, подступающего к крепости, свидетельствует о том, что Пушкин еще не решил, сам ли Пугачев будет показан в этой главе романа или кто-либо из его соратников.
Приводим текст нового плана:
Валуев приезжает в креп.<ость>.
Муж и жена Горисовы. Оба душа в душу — Маша, их балованная дочь (барышня Марья Горис.<ова>). Он влюбляется тихо и мирно.
Получают известие, и капит.<ан> советуется с женою. Казак, привезший письмо, подговаривает крепость — капит.<ан> укрепляется, готовится к обороне, [а дочь отсылает], подступает (?).
- 164 -
Крепость осаждена — приступ отражен — Валуев ранен — в доме ком.<енданта> — второй приступ. Крепость взята. Сцена виселицы. [Швабрин] Валуев взят во стан Пуг.<ачева>. От него отпущен в Оренб.<ург>.
Валуев в Оренб.<урге>. Совет. Комендант. Губернат.<ор>. Тамож.<енный> см.<отритель>. Прокурор. Получает письмо от М.<арьи>Ив.<ановны>. (8, кн. 2, 930)
Этот вариант плана исключительно близок к центральной части «Капитанской дочки», т. е. главам VI—X. Если его отнести к зиме 1834—1835 гг. (план набросан на листке, занятом стишками некоего А. Боде, дата которых 28 октября 1834 г.), то процесс создания первой редакции «Капитанской дочки» придется, по-видимому, на какую-то часть 1835 и первую половину 1836 г. Пушкин рассчитывал на более быстрые темпы работы, о чем свидетельствует его письмо к П. А. Плетневу от начала октября 1835 г. из Михайловского: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (16, 56).
Роман не был дописан осенью 1835 г. не только из-за отсутствия «сердечного спокойствия». Неуспехом «Истории Пугачева» и отдельного издания «Повестей», запрещением «Медного всадника» и решением вернуться к «Дубровскому» лишь после напечатания «Капитанской дочки» создавалось положение, при котором Пушкин не мог рисковать гибелью в цензуре своего романа о Пугачеве. Несмотря на то что путь в печать был некоторым образом расчищен для него «Историей Пугачева», этот роман приходилось приспособлять к цензурно-полицейским требованиям с помощью целого ряда сложнейших литературно-тактических перестроек и ухищрений. Художественной и политической ответственностью этой неблагодарной работы и были прежде всего обусловлены медленные темпы ее осуществления.
Дошедшие до нас планы романа особенно ярко, как это было показано уже выше, демонстрируют процесс постепенного интеллектуального снижения его героя. Вместо Шванвича, выходца из кругов петербургской гвардейской оппозиции, активного союзника Пугачева, в четвертом варианте плана появляется капитан Башарин — пленник Пугачева, пощаженный по просьбе любивших его солдат, но скоро вновь оказавшийся в рядах правительственных войск. В шестом варианте плана исторический Башарин, которого Пушкин предполагал связать с Пугачевым случайным эпизодом «спасения башкирца» во время бурана (фабульное зерно, давшее в последней редакции «Капитанской дочки» заячий тулупчик), заменяется безличным Валуевым (в черновой редакции романа Валуев назван был Буланиным, чтобы не возникало никаких ассоциаций с его живым прототипом), но и этот невольный пугачевец, фигура почти нейтральная, в силу именно своей нейтральности в разгар крестьянской войны, не мог, разумеется с точки зрения охранительного аппарата дворянской монархии, функционировать в качестве положительного героя в исторической эпопее. Для закрепления
- 165 -
в «Капитанской дочке» даже скромных позиций Валуева — Гринева приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, являлся громоотводом, охраняющим от цензурно-полицейской грозы положительный образ другого (Гринева).12
Фамилии Буланина и Гринева не вымышлены — обе они взяты были Пушкиным из известных ему документов о событиях 1773—1774 гг. В ведомости об обывателях, умерщвленных пугачевцами в окрестностях города Пензы, значился прапорщик Иван Буланин (9, кн. 1, 124), а в правительственной информации от 10 января 1775 г. об окончании процесса Пугачева имя подпоручика А. М. Гринева отмечалось в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными» (9, кн. 1, 191).
Ломка романа не ограничилась, конечно, отказом от его начального плана и изменением характера и функций его героев. Дошедшие до нас черновые и беловые рукописи «Капитанской дочки», относящиеся к 1836 г., позволяют установить, что Пушкину даже в процессе переписки романа приходилось исключать из него ряд сцен, образов и положений, социально-политическая значимость и острота которых была неприемлема для подцензурной печати 1830-х гг.
Так, например, при перебелении чернового автографа глав X—XII Пушкин изменил мотивировку появления Гринева в лагере Пугачева. Судя по рукописям, Гринев, получив отказ генерала Рейнсдорпа помочь ему спасти Марью Ивановну, принимает решение обратиться за помощью к Пугачеву. В этом и заключалась мелькнувшая в его голове «странная мысль», о которой упоминалось в начальной редакции главы X. С такой ситуацией более гармонировал и эпиграф главы XI — Гринев появляется у Пугачева в качестве его гостя, а не пленника. Полностью тогда же изъята была из романа глава, в которой Пушкин дал несколько ярких бытовых зарисовок крестьянского бунта в усадьбе отца Гринева. Эта глава (Гринев назывался в ней еще Буланиным, а Зурин — Гриневым) намечена была в одном из самых ранних планов романа о Шванвиче («Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь...»). Изымая эту главу из черновой редакции «Капитанской дочки», Пушкин сам назвал ее «Пропущенной главой» (см. об этом
- 166 -
далее, с. 293) и сохранил в своих бумагах, не в пример другим частям рукописи.
Исторические черты дворянина-пугачевца, еще очень четкие в начальных планах повести о поручике Шванвиче, постепенно нейтрализуясь и стушевываясь в линии поведения Башарина, Валуева и Буланина, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Швабрина и Гринева. Если этот разлом прежде единого персонажа и был обусловлен в конечном счете соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (роман о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не мог рассчитывать на печать), то нет все же никаких оснований для признания вольного или невольного пугачевца Шванвича политическим рупором Пушкина даже в тех вариантах его фабулы, которые предшествовали «Капитанской дочке».
Вчерне роман был закончен 23 июля 1836 г. Занявшись собственноручной его перепиской, Пушкин 27 сентября представил цензору П. А. Корсакову «первую половину» романа. 19 октября «Капитанская дочка» переписана была до конца, а около 24 октября сдана для подписи к печати. В обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво просил сохранить тайну своего имени, предполагая выпустить роман в свет анонимно. Какие-то несущественные изменения Пушкину пришлось внести по требованию цензора в первые главы романа, а по поводу заключительной его части он же должен был письменно разрешить недоуменный вопрос своего официального читателя: «Существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы?»
«Имя девицы Мироновой, — отвечал Пушкин 25 октября 1836 г. П. А. Корсакову, — вымышленно. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (16, 177—178).
В переписке Пушкина с П. А. Корсаковым впервые появляется название его романа, до тех пор едва ли кому известное и в дошедших до нас бумагах великого поэта не упоминающееся.
Можно только гадать о причинах, в силу которых Пушкин не связал своего романа с именами Пугачева и Гринева, хотя эти его персонажи имели преимущественные права на выдвижение их в заголовке.
Остановившись на названии «Капитанская дочка», Пушкин тем самым поднимал в общей концепции романа роль Марьи Ивановны Мироновой как положительной его героини. Этим названием подчеркивался в «Капитанской дочке» и жанр семейной хроники как сюжетной основы утверждаемого им исторического повествования нового типа.
«Марья Ивановна, — правильно заключает один из исследователей прозы Пушкина, — далека от исторических событий, но в обстановке взбудораженной и жестокой стихии восстания, в потоке обрушившихся на нее несчастий она не теряет душевной силы, присутствия духа, нравственного обаяния. Маша Миронова сродни Татьяне Лариной — в ней
- 167 -
Пушкин еще раз подтвердил свой идеал скромной, но сильной духом русской женщины. Вместе с тем, выдвигая на первый план Машу Миронову, писатель выделял и тот внутренний смысл своей повести, который гласил, что в грозных испытаниях исторических бурь, ломающих и уничтожающих благополучие многих тысяч людей, опрокидывающих устоявшиеся формы жизни, высшей ценностью является человек, сохранение в нем той духовной красоты, благородства и гуманности, которые, пройдя сквозь горнило испытаний, в конце концов торжествуют».13
V. ВОСПОМИНАНИЯ И. А. КРЫЛОВА И ПОВЕСТЬ А. П. КРЮКОВА
«РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ» КАК ПЕРВООСНОВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
ГЕРОЕВ РОМАНА И БЫТА БЕЛОГОРСКОЙ КРЕПОСТИ25 февраля и 8 марта 1833 г. Пушкин получил из архива Военного министерства первые партии секретной переписки о восстании Пугачева и о действиях правительственных войск по его ликвидации.14 В числе документов, с которыми познакомился поэт, были и материалы об осаде пугачевцами Яицкого городка, одним из наиболее энергичных защитников которого являлся капитан Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца. Понятно, что в числе первых живых свидетелей гражданской войны в Оренбургских степях, опрошенных Пушкиным, был Иван Андреевич Крылов.15
В своей статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825) Пушкин характеризовал знаменитого баснописца как «представителя духа» русского народа (11, 34); в полемических заметках 1830 г. он называл Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом — le plus national et le plus populaire» (11, 154); стихами Крылова постоянно уснащал свои произведения и письма, а за недооценку его басен горячо упрекал П. А. Вяземского (13, 89, 238, 240).
- 168 -
Поэтический опыт Крылова, как одного из величайших мастеров художественного слова, его опора на русскую сатирическую традицию, на просторечие и фольклор, его неразрывная связь с национально-демократической культурой, его ориентация на массового читателя обусловили тягу к нему наиболее передовых писателей-декабристов, вместе со всеми их учениками и попутчиками. На Крылова ориентировался и молодой Пушкин, разрывая с традициями Карамзина и Жуковского.
Нам известны две встречи Пушкина и Крылова, относящиеся к началу 1833 г., — одна из них произошла на заседании Российской Академии 4 февраля, а другая через два дня, на похоронах Н. И. Гнедича. Возможно, что в эти дни Пушкин и поделился впервые с Крыловым своими планами романа о Пугачеве (первые варианты нового замысла относились к концу января 1833 г.) и тогда же условился о встрече с ним для беседы о событиях 1773—1774 гг. Встреча эта, состоявшаяся 11 апреля 1833 г. в Петербурге, дала Пушкину материал для интереснейшей записи рассказов Крылова о делах и людях занимавшей его эпохи.
Пушкин широко использовал эту запись в «Истории Пугачева». Так, на основании данных И. А. Крылова о некоторых подробностях осады Яицкого городка, не получивших отражения в официальных источниках. Пушкин значительно выдвинул и очень положительно в своей монографии охарактеризовал скромного армейского капитана А. П. Крылова, как фактического руководителя защиты крепости, и несколько иронически отнесся к действиям полковника И. Д. Симонова, номинального начальника крепостного гарнизона. Напомним, например, описание штурма Яицкого городка пугачевцами 31 декабря 1773 г.: «Симонов оробел; к счастию, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения» (9, кн. 1, 37).
Внимательно учтены были Пушкиным все бытовые детали воспоминаний Крылова — о голоде в Оренбурге, об угрозе Пугачева «обречь смерти» капитана Крылова и всю его семью, презрительная характеристика генерала Рейнсдорпа (9, кн. 1, 36—38). Один из эпизодов защиты Яицкого городка, рассказанный в «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 16), почти дословно перешел в главу VII «Капитанской дочки», в которой изменено было только имя Крылова, названного капитаном Мироновым.
Опираясь на рассказы И. А. Крылова об его отце, полунищем боевом офицере, выслужившемся из солдат, Пушкин создал в «Капитанской дочке» яркий образ капитана Миронова, тоже выдвиженца из низов, дворянина только по своему чину, пасынка крепостнического государства, но принадлежащего к той славной когорте простых русских людей, которые, служа своей родине, никогда не щадили, по крылатому слову Радищева, «ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства».
Когда «Капитанская дочка» была уже закончена и готовилась к печати, Пушкин в нескольких строках начатого им предисловия глухо упомянул еще об одном источнике своего романа:
- 169 -
«Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю. Читателю легко будет распозна<ть> нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением. [Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был]» (8, кн. 2, 928).
Что же именно имел в виду Пушкин, ссылаясь в этом наброске на какой-то «оренбургский анекдот» и переходя затем от этого «анекдота» к его альманашной публикации? Нам представляется, что недописанное предисловие имело непосредственное отношение к факту использования в некоторых сценах «Капитанской дочки» повести под названием «Рассказ моей бабушки», опубликованной в «Невском альманахе на 1832 год»,16 за подписью А. К. (инициалы эти принадлежали оренбургскому литератору-краеведу А. П. Крюкову).
В основе этого рассказа лежали бесхитростные воспоминания дочери коменданта Нижне-Озерной крепости капитана Шпагина (фамилия вымышленная) о тех злоключениях, которые выпали на ее долю после взятия крепости войсками Пугачева. Укрывшись после гибели отца в избе мельничихи, которая выдает капитанскую дочку за свою племянницу и тем спасает от домогательств Хлопуши, Настя Шпагина остается верна своему жениху, молодому офицеру Бравину, находящемуся в Оренбурге; с ним она и соединяется после освобождения Нижне-Озерной правительственными войсками. О близости образа капитана Миронова его прототипу в «Рассказе моей бабушки» особенно убедительно свидетельствуют следующие строки: «Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елисавете Петровне) командовал <...> отставными солдатами, казаками и разночинцами <...>. Батюшка мой <...> был человек старого века <...> Он или учил своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век!), или читал священные книги, хотя <...> был учен по-старинному — и сам, бывало, говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. <...> Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу старик-поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кой-какие жители крепости...».17
Нет никаких сомнений, что введение в фабулу романа о Пугачеве и Шванвиче образов капитана Миронова, старика-поручика, казачьего
- 170 -
старшины, священника, равно как и многих конкретных деталей быта степной окраинной крепости, обусловлено было знакомством Пушкина не только с воспоминаниями Крылова, но и с «Рассказом моей бабушки».
VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ ГРИНЕВА,
ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИЯ В РОМАНЕВ концовке третьего из дошедших до нас вариантов плана романа о Шванвиче мы находим неожиданное упоминание имени Дени Дидро («Дидерот»). Великий французский просветитель упоминается в этом плане в связи с хлопотами старого Шванвича в Петербурге за сына, оказавшегося в рядах соратников Пугачева: «...отец едет просить. Орлов. Екатер.<ина>. Дидерот. Казнь Пугачева» (8, кн. 1, 929). Переписка Пушкина позволяет установить, что за четыре или за пять месяцев до возникновения этого варианта плана он жил в Москве, где хлопотал по делам, а на досуге беседовал с П. В. Нащокиным и читал «Mémoires de Diderot» (15, 32).
В библиотеке Пушкина сохранилось посмертное четырехтомное издание «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot», вышедшее в свет в Париже в 1830—1831 гг.18 Самый внимательный анализ статей, заметок и писем Дидро в этом четырехтомнике не дает материала для каких бы то ни было ассоциаций имени Дидро с именами Пугачева и Шванвича, но в предисловии к этому изданию дочери Дидро читатель обнаруживает беглую справку о поездке Дидро в Петербург, позволяющую установить, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как Пушкин аттестовал Дидро, с сентября 1773 г. по февраль 1774 г. жил в столице Российской империи, т. е. находился в ней весь тот отрезок времени, который соответствует начальным месяцам восстания Пугачева и его наибольшим успехам. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочки».
Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее, что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не сохранилось не только прямых высказываний, но даже попутных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина.
В пору работы над романом о Шванвиче поэт уже располагал одним из редчайших списков еще не изданных тогда воспоминаний княгини Е. Р. Дашковой, в которых она рассказывала о своих спорах с Дидро
- 171 -
о «рабстве наших крестьян».19 Эти споры происходили в Париже за три года до восстания Пугачева. Дидро требовал от русских помещиков скорейшего освобождения крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения».
Княгиня Дашкова принадлежала к той придворной аристократии, к той новой знати, которая приходила к власти с каждым новым дворцовым переворотом, с каждым новым временщиком. Разумеется, Дашкова не с Гриневым п не с Дубровским, а с Паниным и Троекуровым.20 Пушкин прямо говорит об этом в черновой редакции романа «Дубровский»: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне» (8, кн. 1, 162).
Суждения княгини Дашковой о «просвещении» и «свободе», высказанные в ее споре с Дидро и оправданные, с точки зрения апологетов помещичье-дворянской диктатуры, всем последующим ходом русской истории, начиная с пугачевщины и кончая «ужасами» восстания военных поселян, оставили определенный след не только в планах романа о Шванвиче, но и в окончательной редакции «Капитанской дочки». Мы имеем в виду философско-исторические афоризмы Гринева, прерывавшие в главе VI романа рассказ о пытке, которой подвергают старого башкирца, распространявшего в Белогорской крепости «возмутительные листы» Пугачева: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записи мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (8, кн. 1, 319).
В «Пропущенной главе» романа эти же размышления Гринева-мемуариста были дополнены и углублены еще более агрессивным высказыванием общеидеологического порядка: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас
- 172 -
невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (8, кн. 1, 383—384).
Перерабатывая эти политические формулировки для главы XIII последней редакции «Капитанской дочки», Пушкин оставил только первую из них, а все остальное отсек начисто.21
В новом варианте декларация Гринева утрачивала свою прежнюю остроту и претенциозность. Без навязчивой проекции в будущее, без прозрачных ассоциаций, связывающих Пугачева и пугачевцев с людьми, «которые замышляют у нас невозможные перевороты» (намек этот мог относиться и к Радищеву, и к декабристам, и к тому и другим вместе), скептическая сентенция о «русском бунте» превратилась в простую констатацию горестных впечатлений Гринева от событий и уроков крестьянской войны, живым свидетелем которой он оказался в 1773—1774 гг.
Для правильного понимания суждений, характеризующих политическую платформу Гринева, далеко не достаточно сослаться на их связь с установочными положениями княгини Дашковой в ее споре с Дидро, хотя эта связь и совершенно бесспорна. Не менее бесспорна близость мыслей Гринева и их словесного оформления тем пессимистическим суждениям о революции как о тормозе прогресса, которые Н. М. Карамзин декларировал в «Письмах русского путешественника».
«Утопия (или царство счастия), — писал Карамзин, — будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания добрых нравов... Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».22
В устах Гринева эта убогая «философия истории» не производила впечатления анахронизма, тем более что она документировалась в его же обращении к читателям ссылкой на «кроткое царствование императора Александра». Можно ли, однако, ставить знак равенства между суждениями автора «Капитанской дочки» и его «героя», если нам хорошо известно, что Пушкин всегда был глубоко враждебен тем идеологам дворянского консерватизма, мысли которых популяризировал Гринев? Больше того, борясь с философско-историческими принципами и княгини
- 173 -
Дашковой и Карамзина, Пушкин никогда, по собственным его словам, не принадлежал к числу «подобострастных» поклонников культуры XIX столетия, отвергая ее антигуманистический характер, свой век считал «жестоким веком» и, вопреки Гриневу, не имел никаких оснований идеализировать Александра I, которому «подсвистывал» до самой его смерти.
Напомним, что созданию «Капитанской дочки» сопутствовали не только «История Пугачева» и статьи о Радищеве, но и работа над «Медным всадником» и «Сценами из рыцарских времен». А в тот самый день, когда закончена была переписка «Капитанской дочки», т. е. 19 октября 1836 г., Пушкин, отвечая Чаадаеву на его «Философическое письмо», заявлял: «Нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (16, 393).
Мы выписываем полностью эти строки, так как они являются едва ли не самым значительным свидетельством бескомпромиссно отрицательного отношения Пушкина к верхам дворянской общественности 1830-х гг., с их «равнодушием ко всякому долгу, справедливости и истине», с их «циничным презрением к человеческой мысли и достоинству». Приходя в отчаяние от духовного одичания правящего класса, Пушкин, разумеется, не мог в это же самое время простодушно «дивиться» вместе с Гриневым «быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия».
Изучение истоков суждений Гринева о культуре и революции привело нас к общественно-политическим взглядам княгини Дашковой и Карамзина. Как прописные истины, характерные для консервативно-дворянского мышления, дидактические афоризмы Гринева, в тех же словах и в той же художественной функции, определились в творческом сознании Пушкина не в процессе его работы над образами «Капитанской дочки», а в пору изучения им «Путешествия из Петербурга в Москву».
Книгу Радищева Пушкин знал давно — и знал не понаслышке. Не являлись новостью для него и те споры о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», которые волновали передовых русских людей 1810-х и 1820-х гг. Пушкин был близок с Н. И. Тургеневым еще в ту пору, когда будущий вождь Союза Благоденствия, негодуя на низкий культурный уровень верхушки русского поместного дворянства, следующим образом обобщал свои мысли по этому поводу: «Есть ли верить, — писал он 14 ноября 1817 г. своему брату, — словам тех, которые говорят, что образованность и свобода рождаются единственно от просвещения и что хорошие писатели всего более действуют на образованность, есть ли верить словам сим, то в последние 30 лет мы далеко должны бы уйти вперед и в образованности и в свободе. Но опыт не подтверждает слов сих». И далее: «Свобода, устройство гражданское производят и образованность и просвещение. Одно просвещение никогда не доведет до свободы. Франция прежде революции была в сем случае убедительным
- 174 -
доказательством. Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению».23
В письме от 13 октября 1818 г. Н. И. Тургенев писал тому же своему корреспонденту: «Беда, как мы и в просвещении пойдем назад. По крайней мере идти недалеко — „Мы на первой станции образованности», — сказал я недавно молодому Пушкину. — „Да, — отвечал он, — мы в Черной Грязи“».24
Это меткое символическое обобщение следствий затянувшейся диктатуры «дикого барства» имело в каламбуре Пушкина двойной упор, ассоциируясь не только с названием первой ямской станции на большой дороге из Москвы в Петербург, но и с заголовком заключительной главы книги Радищева, той главы («Черная Грязь»), где подытоживались его мысли о «горестной участи многих миллионов» жертв «самовластия дворянского».25
Возобновляя старый спор Дидро с княгиней Дашковой о «просвещении» и «свободе» и переводя эту дискуссию в условия 1810-х гг., и молодой Пушкин и Н. И. Тургенев в борьбе со своими оппонентами имели на вооружении не только «Путешествие» Радищева. В 1804 г. вышла в свет в Петербурге книга И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России». Страстный противник крепостничества, автор этого замечательного трактата отнюдь не являлся сторонником революционной ломки исторически сложившихся форм социально-политического быта. Он верил и в реформы сверху, принимал не только царя, но и сословное государство, в котором все четыре основных «состояния» — дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство — якобы «необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее». И все же Пнин отказывается понимать, почему в России «из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице».
И. П. Пнин не сомневается, что «там, где нет собственности, где никто не может безопасно наслаждаться плодами своих трудов, там самая причина соединения людей истреблена, там узел, долженствующий скреплять общество, уже разорван, и будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую».26
«Опыт о просвещении» И. П. Пнина лег в основание двух антикрепостнических рукописных трактатов, вышедших из среды декабристов. Один из них — «Нечто о состоянии крепостных крестьян» — принадлежал
- 175 -
Н. И. Тургеневу и подан был в конце 1819 г. царю через петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича.27 Второй — «О рабстве крестьян» — вышел в конце 1820 г. из-под пера капитана В. Ф. Раевского и представлял собою гневную отповедь на записку известного идеолога крепостничества графа Ф. В. Ростопчина «Замечания на книгу графа Стройновского „Об условиях помещиков с крестьянами“».
«Не человек созревает до свободы, — писал Раевский, — но свобода делает его человеком и развертывает его способности <...> Общий голос некоторых невежд: «еще рано, еще умы не готовы» — означает или выражает отголосок феодализма и малодушия. Делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно <...> Крестьянин, не имеющий никакого голоса и не смеющий доносить, жаловаться и быть свидетелем на своего помещика, может ли созреть для свободы? Нет! Отягощение приводит его в отчаянное бездействие и невнимание к собственному».28
Пушкин был одинаково близок и с Н. И. Тургеневым и с В. Ф. Раевским. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что спор о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», получивший отражение и в первой и во второй из отмеченных выше декабристских записок о необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений, ему был не менее памятен в пору работы над «Капитанской дочкой», чем парижская дискуссия Дидро с княгиней Дашковой.
К «Путешествию из Петербурга в Москву» и к его проблематике Пушкин вновь обратился через восемь лет после разгрома декабристов. Свою работу над статьей о книге Радищева он начал в Болдине в первых числах декабря 1833 г., тотчас же после окончания второй редакции «Истории Пугачева». Эта редакция, созданная под впечатлением «Путешествия» Радищева, отменила первый вариант монографии о Пугачеве, вчерне законченный в конце мая 1833 г. в Петербурге.
Одной из наиболее острых и ответственных частей статьи Пушкина являлся тот ее раздел, который посвящен был предпоследней главе книги Радищева («Пешки») и назывался в его беловой редакции «Русская изба» (11, 256—258). Именно в этой части своего трактата Пушкин характеризовал с наибольшей четкостью и полнотою правовое положение русского крестьянина и условия его экономического быта, именно в этом разделе определял свое отношение к особенностям подхода Радищева к занимавшим их обоих большим проблемам и реагировал на сформулированные с железной логикой суждения автора «Путешествия из Петербурга
- 176 -
в Москву» о неотвратимости крестьянской революции, если крепостничество в ближайшее же время не будет ликвидировано тем или иным путем сверху.
Трудности, стоявшие перед Пушкиным как политическим публицистом, усугублялись еще и тем, что писал он не памфлет, рассчитанный на нелегальное распространение, а статью для печати. Он хорошо знал о невозможности в цензурно-полицейских условиях 1830-х гг. хоть сколько-нибудь свободной трактовки вопросов, поставленных в книге Радищева, а потому и писал о них с исключительной осторожностью, избегая точных цитат и обнаженных формулировок, часто лишь намеками, эзоповским языком.
Самым заголовком «Русская изба» Пушкин искусно маскирует тематику этого раздела своей статьи и усыпляет бдительность цензуры, переводя внимание читателя с политических выводов Радищева на его бытовые зарисовки. Якобы всерьез стремясь подорвать не только общие заключения, но п конкретные наблюдения автора «Путешествия», Пушкин иронизирует по поводу его «приторных и смешных» сравнений русского крестьянина с «несчастными африканскими невольниками», по поводу его «карикатурного» описания условий быта русского мужика. Пушкин подчеркивает свое нежелание быть голословным и, в противовес Радищеву, дает большой и разнообразный сравнительно-исторический материал — от «Путешествия в Московию» Мейерберга и зарисовок французской деревни в книгах Лабрюйера и маркизы де Севинье до «Писем из Франции» Фонвизина. И действительно, некоторые параллели, извлеченные из этих источников, давали основание утверждать, что быт французского хлебопашца XVII—XVIII столетия был не лучше, а хуже условий жизни русского крестьянина той же поры. Но, выдвигая этот тезис, утешительный для мышления апологетов крепостного строя, Пушкин как бы вскользь, на ходу, вносит в свои заключения оговорку, совершенно аннулирующую цепь всех предшествующих сопоставлений. В самом деле, если Фонвизину, путешествовавшему по Франции лет за 15 до «Путешествия из Петербурга в Москву», судьба русского крестьянина «показалась счастливее судьбы французского земледельца», если по авторитетным свидетельствам других наблюдателей «судьба французского крестьянина не улучшилась» ни в царствование Людовика XV, ни в правление его сына, то впоследствии, по удостоверению Пушкина, «все это, конечно, переменилось» (11, 231). В начальной редакции главы эти строки имели еще более выразительную концовку: «И я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина» (11, 231). Пушкин прямо не говорит о причинах этого коренного изменения условий быта «французского земледельца», но и из контекста совершенно ясно, что французский крестьянин стал счастливее после царствования «преемника Людовика XV», т. е., в переводе с эзоповской фразеологии на общепонятную, после казни Людовика XVI и ликвидации революционным путем дворянского землевладения.29
- 177 -
Итак, если судьбу французского крестьянина сделала «счастливой» победоносная революция, то в судьбе русского крестьянина со времен Фонвизина и Радищева никаких перемен к лучшему не произошло. Пушкин утверждает, что «ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 г., как русская деревня в 1833 г.». Не рискуя сравнивать наблюдения Радищева во время «Путешествия из Петербурга в Москву» со своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Оренбург и из Оренбурга в Болдино, Пушкин предлагает своему читателю вглядеться в зарисовки Мейерберга, сделанные почти 200 лет назад, и, со своей стороны, не находит существенных изменений к лучшему.
Каков же ход дальнейшей работы Пушкина над этой главой? В абзаце четвертом, непосредственно следующем за сентенцией о счастливом положении французского земледельца, Пушкин признается, что «строки Радищева навели на него уныние»: «Я думал о судьбе русского крестьянина.
К тому ж подушное, боярщина, оброк,
И выдался <ль> когда на свете
Хотя один мне радостный денек?..»Характерно, что Пушкин не рискует дать точную цитату из нелегального Радищева о тяжести крепостного гнета и заменяет ее строфой из басни Крылова «Крестьянин и Смерть». Не остается никаких сомнений в том, что Пушкин, говоря об «унынии», которое вызвали в нем строки Радищева, имел в виду следующее обращение Радищева к правящему классу: «Звери алчные, пьявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем: то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет <...>. С одной стороны — почти всесилие, с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина ость законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребии заклепанного во узы, се жребии заключенного в смрадной темнице, се жребии вола во ярме».30
В черновой редакции своих замечаний к этой главе «Путешествия» поэт заставляет полемизировать с Радищевым вымышленного «английского путешественника», утверждающего, что свободный английский крестьянин «несчастнее русского раба» (11, 231). В беловой редакции главы «Русская изба» Пушкин заменяет английского туриста московским барином, от имени которого якобы и корректирует Радищева. Этот «барин» подменяет в окончательной редакции «Русской избы» не только английского путешественника, но и самого Пушкина.31 Именно в его уста поэт
- 178 -
вкладывает знаменитую сентенцию: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения <...> Благосостояние крестьянина тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены, но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (11, 58).
Именно эти строки неоконченной статьи о книге Радищева и перенесены были Пушкиным через два года после их написания в главу VI «Капитанской дочки» как автоцитата, необходимая для конкретизации в романе условных идеологических позиций его героя. Для того чтобы обеспечить прохождение романа в печать, Пушкин должен был пойти на расщепление образа дворянина-интеллигента, оказавшегося в стане Пугачева. Положительными чертами Шванвича наделен был Гринев, а отрицательными — Швабрин. Но этого раздвоения оказалось недостаточно, и Пушкин решительно отделил Гринева — участника событий, молодого человека, невольно поддающегося обаянию Пугачева, от Гринева — позднейшего мемуариста и комментатора, безоговорочно осудившего, с моралистических позиций правящего класса, крестьянское восстание и его вождей.32
Еще в середине 1825 г., в дискуссии, которую затеял Пушкин в своей переписке с Рылеевым по поводу его уступок цензуре, обесцветивших «Войнаровского», будущий автор «Истории Пугачева» уже, видимо, близко подошел к тем самым решениям некоторых проблем эзоповского
- 179 -
языка, которые впоследствии получили плоть и кровь в образах «Истории села Горюхина», «Повестей Белкина», «Путешествия из Москвы в Петербург» и даже «Капитанской дочки».
Письмо Пушкина с разбором «Войнаровского» не сохранилось, но об его установочных положениях мы можем судить по ответу Рылеева: «Ты во многом прав совершенно, особенно говоря о Миллере. Он точно истукан. Это важная ошибка; она вовлекла меня и в другие. Вложив в него верноподданнические филиппики за нашего великого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова» (13, 182).
Пушкину не пришлось смягчать впечатления от Пугачева автокомментариями, писанными не столько для читателей, сколько для цензоров, — «говорить за Войнаровского для Бирукова».
В подчеркнуто наивных философско-исторических сентенциях и моралистических афоризмах Гринева, комментировавших события романа, окончательно определился в творчестве Пушкина метод новых форм эзоповского языка и связанных с этим языком некоторых других приемов художественной экспозиции. На подступах к «Капитанской дочке» все больше и больше занимает внимание поэта работа над сатирическим образом бесхитростного выразителя консервативно-помещичьей идеологии, который то пытается полемизировать с Радищевым (московский барин, член «английского клоба», едущий из Москвы и Петербург), то негодует на «Историю Пугачева» (образ престарелого «провинциального критика» в ответе Пушкина на рецензию Броневского), то громит всю современную мировую литературу с позиций мракобесов Российской академии, не замечая комического эффекта своих претензий («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной»). Все эти образы генетически связаны между собою, выполняя одну и ту же литературно-политическую функцию и в художественной прозе и в публицистике Пушкина. К числу их принадлежит и Гринев как автор записок о временах Пугачева, в которых он «с важностью забавной» судит об успехах европейского просвещения, о «кротком царствовании Александра I» и о том, что «всякие насильственные потрясения гибельны и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».
Для усыпления бдительности цензурно-полицейских органов и официозной печати этой дымовой завесы было совершенно достаточно, но внимательный читатель с условными «верноподданническими филиппиками» Гринева-мемуариста мог не считаться. Язык образов и логика фактов были гораздо убедительнее сентенций их толкователя.
VII. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПУГАЧЕВА
10 апреля 1834 г. Д. Н. Бантыш-Каменский, автор известной «Истории Малой России» и собиратель материалов для «Словаря достопамятных людей русской земли», обратился к Пушкину с предложением прислать ему «верное описание примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева», почерпнутое «из писем частных особ» к его, Бантыш-Каменского,
- 180 -
«покойному родителю» (15, 125). Пушкин реагировал на это предложение очень живо и в середине мая получил уже от Бантыш-Каменского не только сводку данных о Пугачеве, но и специальную подборку биографических материалов о крупнейших деятелях восстания 1773—1774 гг. и об его усмирителях.
Все эти материалы Пушкин получил уже после того, как работа над основным текстом «Истории Пугачева» была доведена им до конца и даже успела пройти через цензуру Николая I. Тем не менее поэт с большим вниманием отнесся к бумагам Бантыш-Каменского и в письме к последнему от 3 июня 1834 г. высоко оценил их значение: «Не знаю, как Вас благодарить за доставление бумаг, касающихся Пугачева. Несмотря на то что я имел уже в руках множество драгоценных материалов, я тут нашел неизвестные, любопытные подробности, которыми непременно воспользуюсь» (15, 155).
Чем же Пушкин воспользовался из этих материалов в своей монографии? В печатном тексте «Истории Пугачева» ссылка на бумаги Бантыш-Каменского сделана только однажды, и то по весьма случайному и малозначительному поводу, — мы имеем в виду справку в главе седьмой об убитом в Казани генерале Кудрявцеве: «Извлечено из неизданного Исторического словаря, составленного Д. И. Бантыш-Каменским» (9, кн. 1, 115).
Можем ли мы заключить на основании единственной печатной ссылки Пушкина на «Словарь» Бантыш-Каменского, что в других случаях он в своей «Истории» к этому источнику не обращался? Разумеется, нет! Сошлемся, например, на строки о Белобородове в перечне сподвижников Пугачева, который Пушкин дает в главе третьей своей монографии. Ни в черновых рукописях «Истории Пугачева», ни в беловой рукописной ее редакции мы не найдем имени Белобородова в ряду «главных сообщников» самозванца. Имя Белобородова появляется только в печатном тексте, т. е. лишь после того, как Пушкин познакомился с биографией Белобородова, составленной Бантыш-Каменским, и сделал из нее следующую выписку:
«Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонер, пристал к Пуг<ачеву> в 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину. Взят в июле под Казанью, пытан в Тайной экспедиции, наказан кнутом 13 августа, потом привезен в Москву и казнен смертию на Болоте 5 сентября 1774 — в 10 час. пополудни (?).33
(Б.<антыш>-Каменский)».
На основании данных Бантыш-Каменского Пушкин дополнил перечень «главных сообщников» Пугачева именем Белобородова и оттенил в его характеристике именно те черты, которые автор «Словаря достопамятных
- 181 -
людей» считал для Белобородова основными: «Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бутовщиков» (9, кн. 1, 28).
Характеристика Белобородова, бегло намеченная в «Истории Пугачева», была художественно развернута впоследствии в «Капитанской дочке», в знаменитой сцене главы «Мятежная слобода», когда «щедушный и сгорбленный старичок» в голубой ленте, которого Пугачев называет то «Наумычем», то «фельдмаршалом» (вот когда Пушкину пригодилась его выписка из Бантыш-Каменского!), настаивает на том, что Гринев подослан в лагерь пугачевцев от «оренбургских командиров», и требует его повешения.
————
В числе материалов, полученных Пушкиным от Бантыш-Каменского, была биография и самого Пугачева.
Опираясь на такие источники, как официальное «Описание происхождения, дел и сокрушения злодея, бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева», как сентенция «О наказании смертною казнию самозванца Пугачева и его сообщников», как «Летопись Рычкова», Бантыш-Каменский, вопреки его уверениям, не располагал для своего труда никакими «письмами частных особ о Пугачеве», если не считать тех, которые опубликованы были в «Записках о жизни и службе А. И. Бибикова» (Спб., 1817). Из официальных источников Бантыш-Каменский механически перенес в свою компиляцию все их тенденциозно-памфлетные измышления о Пугачеве и многочисленные фактические ошибки при изложении событий 1773—1774 гг. Ни одна деталь повествования Бантыш-Каменского не представляла для Пушкина интереса новизны, чем, конечно, и объясняется его молчание об этой биографии как в основном тексте «Истории Пугачева», так и в примечаниях и приложениях к ней.
Однако, отвергая какую бы то ни было связь монографии Пушкина с рукописной биографией Пугачева, вошедшей впоследствии в «Словарь достопамятных людей русской земли»,34 мы не можем не признать разительного сходства одной из страниц этой биографии с пушкинской зарисовкой Пугачева в начальных главах его «Истории». Это была именно та страница, которую Бантыш-Каменский характеризовал как «верное описание примет» и «образа жизни Пугачева». К чему же сводилось описание этих «примет»?
«Пугачев имел лицо смуглое, но чистое, сухощавое, — гласила эта справка, — глаза быстрые и взор суровый; левым глазом щурил и часто
- 182 -
мигал; нос с горбом; волосы на голове черные, на бороде такие же с проседью; роста был менее среднего; в плечах хотя широк, но в пояснице тонок; говорил просто, как донские казаки. Платье его состояло из плисовой малиновой шубы, под которою носил панцырь, и из таких же шаровар и казачьей шапки. С любимцами своими за обедом часто напивался допьяна; они сидели часто в шапках, а иногда в рубахах, пели бурлацкие песни, не оказывая ему никакого почтения; но когда он выходил на улицу, следовали за ним с открытыми головами. Являясь среди народа, Пугачев всегда бросал в толпу деньги...».
Нет надобности напоминать сейчас общеизвестные строки «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», чтобы доказать совпадение их даже в деталях с этими зарисовками Пугачева и его быта. Однако не будем спешить с выводами, ибо все то, о чем повествовал Бантыш-Каменский, принадлежало не ему, а его первоисточникам, хорошо известным Пушкину в подлинниках.
В основном тексте «Истории Пугачева» Пушкин не дал или, точнее, не мог еще дать той портретной и речевой характеристики своего героя, которую он с таким мастерством развернул через несколько лет в «Капитанской дочке». Но, даже не ставя себе в 1834 г. этих задач, великий поэт уже в «Истории Пугачева» полностью использовал все первоисточники Бантыш-Каменского. В самом деле, первые краткие сведения о внешнем облике Пугачева Пушкин дает в главе второй своей работы, показывая будущего вождя крестьянского восстания после его бегства из казанской тюрьмы: «Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою» (9, кн. 1, 15). В главе четвертой Пушкин закрепляет это изображение, относящееся к лету 1773 г., деталями более раннего портрета Пугачева (1771): «Он был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-русые, бороду черную, небольшую и клином» (9, кн. 1, 41).
В обеих этих справках Пушкин опирается не на компиляцию Бантыш-Каменского, а на подлинные документы: в первом случае на показания яицкого казака Кожевникова, у которого скрывался Пугачев после своего бегства из казанской тюрьмы, во втором — на описание примет Пугачева, сделанное со слов его жены.
В приложениях к «Истории Пугачева» Пушкин печатает «Летопись» П. И. Рычкова, в которой находим мы еще один источник Бантыш-Каменского — показания о Пугачеве писаря оренбургского соляного правления Полуворотова: «Рост его <Пугачева> небольшой, лицо имеет смуглое и сухощавое, нос с горбом; а знаков он <Полуворотов> на лице его не приметил, кроме сего, что левый глаз щурит и часто им мигает. Волосы на голове черные, борода черная ж, но с небольшою сединою. Платье имеет: шубу плисовую малиновую, да и шаровары такие ж; шапку казачью. Речь его самая простая и наречия донских казаков; грамоте или очень мало, или ничего не знает» (9, кн. 1, 235).
Пушкин полностью перепечатывает первоисточник и основную часть отмеченного выше рассказа Бантыш-Каменского — показания корнета
- 183 -
Пустовалова, бывшего в плену у Пугачева и бежавшего 16 марта 1774 г. из Берды в Оренбург.
«Лицо имеет он, — сообщал Пустовалов о Пугачеве, — смуглое, но чистое, глаза острые и взор страховитый; борода и волосы на голове черные; рост его средний или и меньше; в плечах хотя и широк, но в пояснице очень тонок; когда случается он в Берде, то все распоряжает сам и за всем смотрит не только днем, но и по ночам; с сообщниками своими, которых он любит, нередко вместе обедает и напивается допьяна, которые обще с ним сидят в шапках, а иногда-де и в рубахах, и поют бурлацкие песни без всякого ему почтения; но когда-де выходит он на базар, тогда снимают шапки и ходят за ним без шапок, а он сам, когда публично ходит, то почти всегда бросает в народ медные деньги» (9, кн. 1, 324).
Показания Пустовалова, широко использованные Пушкиным в тексте главы третьей «Истории», извлечены были из «Летописи Рычкова» и вместе с последней перешли в «Приложения» к «Истории Пугачева».
Мы напомнили об основных документальных источниках, с помощью которых Пушкин реконструировал в своей «Истории» портретные черты Пугачева, вовсе не для того, чтобы показать несоизмеримость сведений Пушкина с эрудицией даже самого осведомленного из его предшественников. Для раскрытия пушкинского понимания образа Пугачева гораздо существеннее другой вывод, который позволяют нам сделать его первоисточники. И в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» портрет Пугачева является не простым обобщением впечатлений от его живого образа, зарегистрированных в тех или иных документах и мемуарах, а результатом большой творческой работы по изучению, критическому отбору и политическому осмыслению всех этих исторических материалов.
Бантыш-Каменский смотрит на Пугачева глазами его классовых врагов, глазами его судей. Поэтому их свидетельства биографом только суммируются, а не анализируются. Если, например, в показаниях корнета Пустовалова отмечается в ряду других черт самозванца его якобы «страховитый взор», то составитель «Словаря достопамятных людей» закрепляет этот штрих в справке о Пугачеве как основной («взор суровый»), несмотря на то что в других свидетельствах о Пугачеве эта «примета» отсутствует. Решительно отбрасывает ее и Пушкин.
Почти во всех показаниях о Пугачеве подчеркивается его неграмотность («грамоте или очень мало, или ничего не знает», «безграмотный Пугачев», «он же вовсе и грамоте не умеет»). Повторяется об этом не раз и в биографической справке Бантыш-Каменского. Разумеется, не может обойти эту характерную деталь и Пушкин. Но уже в «Замечаниях о бунте», представленных Николаю I в дополнение к печатному тексту «Истории», великий поэт утверждал, что эта «безграмотность» Пугачева нисколько не мешала ему в его воззваниях к народу находить именно те слова, образы и формулировки, соперничать с которыми никак не могли ни правительственные манифесты, ни «публикации» высокообразованного начальства на местах: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам, — писал Пушкин, — есть удивительный образец
- 184 -
народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (9, кн. 1, 371).
И все же подлинный исторический образ вождя крестьянского восстания не получил яркого художественного воплощения на страницах «Истории Пугачева». Не имея возможности полным голосом говорить о Пугачеве по соображениям цензурно-тактического порядка, Пушкин еще в большей степени был стеснен в этих страницах своего труда усвоенной им политической концепцией событий 1773—1774 гг. Эта концепция, уходящая своими корнями еще в пору изучения Пушкиным событий периода крестьянских войн и польской интервенции начала XVII в. и истории первого самозванца, закреплена была известной недооценкой личности самого Пугачева в «Путешествии из Петербурга в Москву» и теми соображениями, которые Пушкин нашел об этом в письмах генерала А. И. Бибикова к Д. И. Фонвизину: «Пугачев, — утверждал Бибиков, — не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» (9, кн. 1, 45).
Эти строки, которые Пушкин с таким сочувствием выдвигал в главе пятой своей «Истории», дают ключ к его толкованию взаимоотношений Пугачева и его атаманов в главе третьей («Пугачев не был самовластен» и пр.). Эти же установки определяют позиции исследователя в главе восьмой: «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков; и каждая имела у себя своего Пугачева...» (9, кн. 1, 69).
Вот почему в «Истории Пугачева» оказались только мастерские этюды к портрету Пугачева, но не цельный и законченный образ вождя крестьянского движения.
Не менее далек от оригинала был и тот вариант нарочито суженной характеристики Пугачева, который дал Пушкин в своем обращении в 1835 г. к поэту-партизану Д. В. Давыдову при посылке ему «Истории пугачевского бунта»:
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.————
Декабрист Н. И. Тургенев еще в 1819 г., в пору своего постоянного общения с Пушкиным, бросил замечательную мысль о том, что многие пробелы русской историографии объясняются только тем, что «историю пишут не крестьяне, а помещики».35 Работая над «Историей Пугачева»,
- 185 -
Пушкин сделал все, что только было в его силах, чтобы избежать этих упреков. Едва закончив в Болдине новую редакцию своего труда (в отмену той, которая сложилась к середине 1833 г.), Пушкин в одном из черновых набросков письма к Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. отмечал, что «по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни господствующему образу мыслей» (15, 226).
Как известно, рупором этого «господствующего образа мыслей», т. е. общественного мнения крепостников, явился тотчас по выходе в свет «Истории Пугачева» министр народного просвещения и начальник Главного управления цензуры С. С. Уваров.
«В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают, — отмечал Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 г. — Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (12, 337).
Глава цензуры реагировал на «Историю пугачевского бунта» точно так же, как и в свое время Екатерина II на «Путешествие из Петербурга в Москву», назвав его страницы «совершенно бунтовскими»: «Намерение сей книги на каждом листе видно, — писала царица. — Сочинитель <...> ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства».36
Переходя от «Истории Пугачева» к «Капитанской дочке», Пушкин не мог уже не учитывать последствий сближения своей позиции с позицией Радищева, тем более что сближение это подсказывалось не только мнительностью и злонамеренностью тех или иных его критиков, но самым существом дела — особенностями пушкинской трактовки крепостнической общественности с «великими отчинниками» во главе и его же оценкой перспектив крестьянской революции. Трудности показа в этих условиях образа вождя крестьянского движения не упрощаются, а увеличиваются. В период между «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева» Пушкину приходится работать над полемической статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву» и над очерком «Александр Радищев». Эти поиски новых путей к осмыслению событий романа оказываются особенно необходимыми потому, что поэт решительно отказывается от своего прежнего подхода к Пугачеву как человеку более или менее случайному, как к слепому орудию в руках яицких казаков, как к «прошлецу, не имевшему другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной» (9, кн. 1, 27).
В окончательной редакции романа от этой трактовки его героя почти не остается уже и следа. Мы говорим «почти», ибо образ Пугачева дан в «Капитанской дочке» не однолинейно, а в разных аспектах, в речах и действиях, о которых сообщает читателю не только автор романа, но и Гринев, от имени которого ведется повествование.37
- 186 -
Пушкин, конспектируя летом 1833 г. рукописную хронику П. И. Рычкова «Осада Оренбурга», обратил внимание на рассказ о поведении пленного Пугачева в ставке графа П. И. Панина: «В Синбирск привезенный на дворе гр. Панина Пугачев отвечал ему дерзко и смело (хотя и признавался в самозванстве), за что граф ударил его несколько раз по лицу» (9, кн. 2, 772).
Поэт И. И. Дмитриев, рассказывая Пушкину об этой сцене, вспомнил еще одну жуткую ее деталь: «Панин вырвал клок из бороды Пугачева, рассердясь на его смелость» (9, кн. 2, 498).
В окончательном тексте «Истории Пугачева» Пушкин тщательно учел оба эти свидетельства. Но самый факт развертывания в самостоятельный эпизод кратких мемуарных данных о бессудной расправе графа Панина с Пугачевым не мог бы, конечно, иметь места, если бы в распоряжении Пушкина не оказалось еще одного источника. Мы имеем в виду то предание о Панине и Пугачеве, которым Пушкин это столкновение политически и психологически мотивировал в главе восьмой «Истории Пугачева»: «Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. — Кто ты таков? — спросил он у самозванца. — Емельян Иванов Пугачев, — отвечал тот. — Как же смел ты, вор, назваться государем? — продолжал Панин. — Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает <...>. Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды» (9, кн. 1, 78).
Кто же из симбирских старожилов (а сцена эта едва ли могла быть записана в другом месте) познакомил Пушкина с преданием о бесстрашной реплике Пугачева, которую не мог вспомнить Дмитриев и которую не записал Рычков? Естественнее всего предположить, что на помощь Пушкину здесь пришел П. М. Языков, старший брат Н. М. Языкова, один из интереснейших представителей симбирской интеллигенции 1830-х гг., знаток местного края и ревнитель его преданий, этнограф, историк и натуралист, с которым Пушкин провел несколько часов на пути в Оренбург и вновь увидался по дороге в Болдино. Именно о нем Пушкин писал 12 сентября 1833 г. жене из Симбирска: «Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвычайно замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащокина. Я провел с ним вечер» (15, 80).
В пользу симбирской локализации предания о смелой пугачевской шутке, вызвавшей кулачную расправу с ним графа Панина, свидетельствует и тот факт, что именно в Симбирской губернии записана была
- 187 -
А. М. Языковым, другим братом поэта, народная песня о беседе Пугачева с его тюремщиком:
Судил тут граф Панин вора Пугачева.
— Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иваныч,
Много ль перевешал князей и боярей?
— Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
За твою-то бы услугу повыше подвесил.38Предание, рассказанное Языковым, оставило след не только в «Истории Пугачева». Слова из живой речи пленного крестьянского вождя, записанные Пушкиным в Симбирске в 1833 г., явились тем зерном, из которого выросла вся речевая характеристика Пугачева в «Капитанской дочке».
————
Радищев, характеризуя мотивы или, как он говорил, «голоса русских народных песен», в них, в этих «голосах», предлагал искать ключи к правильному пониманию «души нашего народа».39
Пушкин с исключительным вниманием отнесся к этим творческим заветам автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и уже во время своей поездки в Заволжье, Оренбург и Уральск именно в фольклоре нашел недостававший ему материал для понимания Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения и свойств его характера как типических положительных черт русского человека. Это было открытием большой принципиальной значимости, ибо без него было бы невозможно и новаторское разрешение задачи воскрешения подлинного исторического образа Пугачева.
В процессе работы над монографией и романом Пушкин явился и первым собирателем и первым истолкователем устных документов народного творчества о Пугачеве, памятью о котором более полувека продолжало жить крестьянство и казачество Поволжья и Приуралья. Подобно тому как еще в пору своей михайловской ссылки великий поэт в «мнении народном» нашел разгадку успехов первого самозванца и гибели царя Бориса, так и сейчас, в осмыслении образа нового своего героя, он опирался не только и не столько на свои изучения памятников крестьянской войны в государственных архивах, сколько на «мнение народное», запечатленное в преданиях, песнях и рассказах о Пугачеве. В 1825 г. Пушкин считал Степана Разина «единственным поэтическим лицом русской истории» (13, 121); пугачевский фольклор позволил ему эту формулу несколько расширить.
- 188 -
«Уральские казаки (особливо старые люди), — осторожно удостоверял Пушкин в своих замечаниях о восстании, представленных царю 31 января 1835 г., — доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал. — Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженым отцом? — Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович» (9, кн. 1, 373).
Без учета этих ярких и волнующих рассказов свидетелей и участников восстания, непосредственно воздействовавших на Пушкина своей интерпретацией личности Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения, как живого воплощения их идеалов и надежд, «Капитанская дочка» не могла бы, конечно, иметь того политического и литературного звучания, которое она получила в условиях становления русского критического реализма как новой фазы искусства. Мастерство Пушкина, как и мастерство Толстого, это мастерство раскрытия самых существенных сторон действительности, самых существенных черт национального характера, показываемого не декларативно, не статично, а в живом действии, в конкретной исторической борьбе.
В своих суждениях по поводу «Путешествия из Петербурга в Москву», оформившихся примерно за два года до «Капитанской дочки», Пушкин с гордостью отмечал высокий интеллектуальный и моральный уровень русского трудового народа: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и осмысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны».40 Этот перечень положительных свойств русского крестьянина как черт типических, закрепленных в самых неблагоприятных условиях его политического и экономического быта, был полностью повторен, углублен и дополнен в знаменитой формулировке Белинского.
«Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен? — спрашивал великий критик во второй своей статье о «Деяниях Петра Великого» и тут же отвечал: — Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость, — на обухе рожь молотить, зерна не обронить, нуждою учиться калачи есть — молодечество, разгул, удальство, и в горе и в радости море по колено».41 Всеми этими качествами, родившимися в конкретных материальных условиях и закрепившимися в многовековой исторической борьбе, в избытке наделен в «Капитанской дочке» именно Пугачев. Именно он является воплощением неиссякаемой творческой энергии и таких высоких моральных и интеллектуальных качеств русского народа,
- 189 -
как ясный ум, свободолюбие, великодушие, справедливость, бесстрашие, находчивость, удаль и широта натуры.
Образ Пугачева Пушкин заново освещает не только своим пониманием лучших свойств русского человека. Вся речевая его характеристика строится по тем же принципам.
Еще в 1825 г., определяя Крылова как «представителя духа» русского народа, Пушкин «отличительными чертами в наших нравах» признал «какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (11, 34). Не случайно именно эти признаки выдвигаются как основные в повадках и речах Пугачева, начиная от первой встречи с ним Гринева во время бурана до вдохновенной передачи Пугачевым сказки об орле и во́роне в главе XI романа.
«Сметливость его и тонкость чутья меня изумили <...>, — рассказывает Гринев о первой встрече своей с Пугачевым. — Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское» (8, кн. 1, 288, 290). В главе VIII эта характеристика дополнялась: «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такой непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не знаю чему» (8, кн. 1, 331).
Вот когда Пушкину пригодилось его знание документальных описаний «примет» Пугачева, вот когда возвратился он к показаниям Пустовалова и Полуворотова, едва затронутым им на страницах «Истории Пугачева». В главе «Вожатый» Пушкин заставляет Гринева быть свидетелем замечательного разговора Пугачева с хозяином умета. Будущий самозванец дает понять старому казаку, что яицкому войску, утесненному после восстания 1772 г., не следует унывать, что оно еще даст себя знать правительству.
«Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: „Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?“ — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: „В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?“
— Да что наши? — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.
— Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит» (8, кн. 1, 290).
Этот метод речевой характеристики Пугачева выдерживается Пушкиным до конца романа, поскольку именно пословицы, сказки, шутки и прибаутки, лукавые намеки и иносказания окрашивают юмор Пугачева в национальные русские тона. Характеризуя использование Пушкиным в одной из последних глав «Истории Пугачева» народной песни о Пугачеве и графе Панине, мы определили самый ранний опыт демонстрации поэтом
- 190 -
«веселого лукавства ума» Пугачева и его «живописного способа выражаться». Сцены в умете, с Хлопушей и Белобородовым, беседа с Гриневым в кибитке во время поездки в Белогорскую крепость являлись иллюстрацией тех же приемов письма. Все действия Пугачева одухотворены его волей к победе, сознанием правоты его исторической миссии. Он уверенно ждет своего часа. Как свидетельствует уже сцена в умете, он терпелив, но знает и то, что всякому терпению есть предел.
Пушкин, оттеняя в Пугачеве и эту черту характера русского человека, хорошо помнил, видимо, наблюдения Радищева: «Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив: и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать.42
VIII. «СЧЕТ САВЕЛЬИЧА»
Предметные уроки крестьянского восстания 1773—1774 гг., его противоречия и их социально-политический смысл волновали Пушкина в «Капитанской дочке» не в меньшей степени, чем в «Истории Пугачева».
Естественно поэтому, что роман, вытесненный на некоторое время из творческого календаря Пушкина научно-исследовательской работой, вновь оказывается в центре его внимания тотчас же после опубликования «Истории Пугачева». Материалы, собранные и критически освещенные Пушкиным в его исторической монографии, политически и литературно были так значимы и богаты, так свежи, так многообразны, что поэту, казалось бы, не было нужды в процессе работы над романом выходить из круга первоисточников его книги, утруждать себя новыми историческими разысканиями.
Однако чем внимательнее вчитываемся мы в материалы архива Пушкина, тем явственнее определяется изначальный параллелизм его не только творческих, но и собирательских интересов. Из многих тысяч документов, просмотренных Пушкиным в архивах Петербурга, Москвы, Казани, Оренбурга и Нижнего Новгорода, он отбирает для копировки лишь наиболее значительные, наиболее колоритные, наиболее характерные, причем этот отбор с самого начала производится не только под специальным углом зрения историка и источниковеда, но с учетом запросов исторического романиста. Так, явно для будущего романа, а не для «Истории Пугачева», Пушкин копирует в 1833 г. такой замечательный бытовой документ, как «Реестр» убытков, понесенных неким надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами пригорода Заинска. Приводим этот неизвестный документ полностью.43
- 191 -
РЕЕСТР,
ЧТО УКРАДЕНО У НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА БУТКЕВИЧА
ПРИ ХУТОРЕ В ПРИГОРОДЕ ЗАИНСКЕКобыл больших 65 — ценою на 780 рублей.
Трех и двух лет 21 — ценою на 5 р.
Коров больших нетельньх 58 — на 230 ру<блей>.
Три седла черкасских с кожаными подушками, с хометами, войлоками и подметками и 3 узды ямских и сыромятных ремней с медными пряжками — на 8 рублей.
Котлов медных 3, в 43 <п.>, а 1 ведро весом 1 п. — на 10 р. 70 к.
Гусей 20, 4 уток, 45 кур русских — на 8 р. на 80 к.
Людской одежды пять шуб бараньих — на 7 р. на 50.
Епанеч валеных — на 3 р.
3 пары суконных онуч — на 1 р.
5 п. шерстяных чулок — на 60 коп.
Три шапки — в 60 коп.
Холстов на 3 р. посконных.
Сена поставленного 38 стогов — на 76 рубл.
Овса 30 четв.<ертей> — на 25 р.
Два человека дворовых.
Спасителев образ в ризе и серебряном окладе.
Казанская богоматерь в окладе с жемчугом — на 330 рублей.
Экипажу: сундук, кованный железом, с внутренним замком — на 5 рублей; в нем: три п. кафтанов немецких 1) люстриновая, вторая кофейная — на 25 руб.
Епанча суконная, алая, обложенная золотым прорезным позументом, — 65 р.
Два тулупа, один мерлущетой, второй беличьего меху, — 60 руб.
Два халата, один хивинский, другой полосатый, — на 20 рубл.
Женского платья. Два лаброна, один люстриновый, другой гризетовый, — на
100 р .Три кофты с юбками тафтяных — на 90 р.
Салоп штофный на лисьем меху — в 50 р.
Мантилья черная на сибирских белках — 26 р.
Платков штофных три, тальянских пять на etc, ситцевых — на 46 р.
Косынок шелковых — на 10 р.
Черевиков, шитых золотом, — 9 руб.
Башмаков, шит<ых> зол.<отом>, 2 п. — на 4 руб.
12 рубах мужских полотняных с манжетами — на 60 р.
Скатерти и салфетки — на 45 р.
Одеяло из лисьих хвостов, другое из барсучьих — 26 руб.
Одеяло ситцевое, другое на хлопчатой бумаге — 19 руб. etc.
О том, что реестр этот, обнажавший с большой яркостью своекорыстие, мелочность и жадность правящего класса, предназначался уже в момент его копировки для будущего романа, свидетельствуют и некоторые формальные признаки копии, снятой Пушкиным собственноручно, но без обычной для него археографической тщательности. Так, переписывая документ, Пушкин не обозначил ни места его хранения, ни даты,
- 192 -
а самый текст подлинника воспроизвел с сокращениями, о которых говорят две его же отметки «etc» в самой концовке реестра и в перечне «платков штофных» и итальянских»). Копия писана была чернилами, на двух сторонах полулиста бумаги обычного канцелярского формата (размер 220×342 мм) фабрики Гончаровых. Водяной знак — «1829». В момент смерти поэта «реестр» находился в его личном архиве — автограф хранит следы той самой жандармской нумерации (цифра «11» красными чернилами в середине листа), которую прошли все бумаги, опечатанные по распоряжению Николая I в кабинете Пушкина 29 января 1837 г.
————
Историкам пугачевского восстания хорошо известен «пригород Заинск», откуда вышел заинтересовавший Пушкина «реестр». Заинск — это старинный укрепленный пункт, входивший в Закамскую линию пограничных постов Московского государства. В конце 1773 г. Пугачев без боя взял Заинск, где встречен был «с честью» не только народом, но и всем городским начальством, с комендантом во главе.
В «Истории Пугачева» Пушкин очень точно передал содержание официальных документов как об этом эпизоде, так и о позднейших действиях полковника Бибикова, который на пути из Бугульмы в Мензелинск вырвал буйный пригород «из злодейских рук». Боям под Заинском уделено было внимание и в одном из приложений к «Истории Пугачева» — в «Экстракте из журнала генерал-майора и кавалера кн. П. М. Голицына». Ни в печатном тексте «Истории Пугачева», ни в приложениях и дополнениях к ней не нашли мы имени «надворного советника Буткевича». Но другие члены, видимо, этой же большой помещичьей семьи неоднократно упоминаются в материалах, собранных Пушкиным. Так, один из Буткевичей («секунд-майор», «воеводский товарищ») вместе с женою был убит пугачевцами в г. Петровске, а другой — отставной прапорщик, перешедший на сторону самозванца, — претендовал на пост заинского коменданта.
«Реестр», представленный начальству третьим из этих Буткевичей, находился, возможно, в числе приложений к тому самому рапорту Бибикова о взятии Заинска, точная копия с которого сохранилась в бумагах Пушкина и частично была использована в «Истории Пугачева».
Рапорт Бибикова учтен был в «Истории Пугачева», реестр Буткевича Пушкин оставил для «Капитанской дочки».
Счет Буткевича исключительно выразителен. Не только духовный облик, но и вся социально-политическая сущность «дикого барства» получала выражение в этой деловой бухгалтерской справке Буткевича о его убытках от революции. Несмотря на то что «состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно» (мы цитируем «Капитанскую дочку»), несмотря на то что кровавая расправа карательных отрядов с «виноватыми и безвинными» была еще единственной формой решения гражданских и уголовных дел, господа Буткевичи спешили по-своему использовать предоставленную им историей передышку. Без всяких
- 193 -
претензий на юмор счет Буткевича механически регистрировал все, что вспоминалось его составителю в процессе писания, — «кобыл больших 65» и «два человека дворовых», «Спасителев образ в ризе» и «сена 38 стогов», «Казанскую богоматерь» и «три пары суконных онуч».
————
Читатель, вероятно, уже вспомнил знаменитую сцену главы IX «Капитанской дочки», в которой Савельич с таким простодушным упорством домогается возмещения убытков, понесенных его барином в дни взятия Белогорской крепости. У самой виселицы, на которой еще качаются тела капитана Миронова и «кривого поручика», официальных представителей помещичьего государства, крепостной дядька Гринева хлопочет о том, чтобы вождь крестьянской революции немедленно обратил внимание на представленный ему «реестр барскому добру, раскраденному злодеями»:
«Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. „Читай вслух“, — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.
„Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей“.
— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.
— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.
Обер-секретарь продолжал:
„Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей.
Штаны белые суконные, на пять рублей.
Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей.
Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною...“
— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?
Савельич крякнул и стал объясняться. „Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...“
— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.
— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич <...> — Прикажи уж дочитать.
— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:
„Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.
Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.
Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей“.
— Это что еще? — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами» (8, кн. 1, 335).
Формы использования в «Капитанской дочке» материалов документа, скопированного Пушкиным, были многообразны. Реестр Буткевича, предопределив сценарий и идейную нагрузку главы IX, оказался учтенным и в самой завязке романа (глава II). «Два тулупа, один мерлущетой, второй беличьего меху», отмеченные в документе, подсказывают ход и
- 194 -
к «тулупчику заячьему», который так облегчил Пушкину долго не дававшуюся ему, судя по начальным планам «Капитанской дочки», мотивировку отношений его героев.
Дословно или с самыми незначительными уточнениями из реестра Буткевича переключено было в счет Савельича все то, что могло найти себе место в гардеробе молодого офицера. К этому добавить пришлось лишь кое-что из офицерского обмундирования («мундир из тонкого зеленого сукна», «штаны белые суконные») и из походного инвентаря («погребец с чайною посудою»). Характерная деталь: Пушкин, используя номенклатуру Буткевича, значительно снижает все его расценки, как бы противопоставляя этим преувеличенные претензии жадного заинского помещика бескорыстию крепостного слуги.
Изучение реестра Буткевича позволяет значительно расширить и углубить понимание социально-политической функции счета Савельича как документа, которым трагикомически оперирует в романе старый слуга только потому, что ни обычная цензура, ни тем более цензура Бенкендорфа и Николая I не могли бы допустить использования «реестра» в его прямой исторической значимости.
Но и при переводе этого документа в рамки «семейной хроники» Гриневых Пушкин устами разгневанного Пугачева, выхватывающего из рук Савельича его нелепый «реестр», определял отношение вождя крестьянского восстания, конечно, не к Савельичу, а к его господам. И не только к Гриневым, но и к Буткевичам.
«Глупый старик! их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... » (8, кн. 1, 306).
Для правильного понимания позиций Пушкина как автора «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» много дает сделанная им самим запись спора его с великим князем Михаилом Павловичем, братом царя, о судьбах русского самодержавия, с одной стороны, и родового дворянства, деклассирующегося исключительно быстрыми темпами в условиях загнивающего крепостного строя, — с другой. Имея, очевидно, в виду такие акты, как уничтожение местничества при царе Федоре Алексеевиче, как введение «Табели о рангах» при Петре, такие явления, как режим военной диктатуры императоров Павла и Александра, Пушкин, не без некоторой иронии, утверждал, что «все Романовы революционеры и уравнители», а на реплику великого князя о том, что буржуазия как класс таит в себе «вечную стихию мятежей и оппозиций», отвечал признанием наличия именно этих тенденций в линии политического поведения русской дворянской интеллигенции. Интеллигенции этой, по прогнозам Пушкина, и суждено выполнить ту роль могильщика феодализма, которую во Франции в 1789—1793 гг. успешно сыграло «третье сословие»: «Что ж значит, — писал Пушкин за несколько дней до выхода в свет «Истории Пугачева», — наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и
- 195 -
богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (12, 335).
Этим пониманием диалектики русского исторического процесса вдохновлены были записи Пушкина в его дневнике от 22 декабря 1834 г., а в черновой редакции заметок об уроках пугачевщины, над которой Пушкин работал в январе следующего года, мы находим следы тех же самых политических раздумий: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворя<нин> не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему» (9, кн. 1, 478).
Планы повести о Шванвиче — дворянине и офицере императорской армии, служившем «со всеусердием» Пугачеву, в начале 1833 г. сменяются собиранием и изучением материалов о самом Пугачеве и вырастают в монографию о нем. Подготовка к печати этого труда идет в 1833—1834 гг. одновременно с работой над специальной статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву», которая в свою очередь сменяется в 1835 г. собиранием материалов для биографии Радищева. От Пугачева к Радищеву и от Радищева опять к Пугачеву — таков круг интересов Пушкина в течение последнего трехлетия его творческого пути. Для своего «Современника» Пушкин готовит в 1836 г. две статьи о Радищеве и роман о Пугачеве. Проблематику именно этих своих произведений Пушкин и имеет в виду, отмечая в начальной редакции «Памятника», написанного вскоре после окончания «Капитанской дочки», свои права на признательное внимание потомков:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.Комментаторская традиция, связывающая строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», представляется нам совершенно несостоятельной. Биографы Пушкина, опирающиеся на эту традицию, во-первых, не учитывают того обстоятельства, что Пушкин в 1836 г. никак не мог придавать большого значения своей юношеской нелегальной оде (он уже в 1825 г. называл ее «детской»), и, во-вторых, забывают о том, что «Вольность» Пушкина не столько продолжала и развивала политические установки Радищева, сколько полемизировала с ними с умеренно-либеральных позиций Союза Благоденствия. С проблематикой крестьянской революции, определившей литературно-общественное значение «Путешествия из Петербурга в Москву», связываются не «Вольность» и не «Деревня», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Именно в этих своих произведениях Пушкин пошел «вслед Радищеву».
- 196 -
IX. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН НОВОГО ТИПА
Сам Пушкин обычно называл «Капитанскую дочку» не повестью, а романом. Этим жанровым обозначением он пользовался и в 1833 г.» когда его роман еще не вышел из стадии самых предварительных наметок плана, и в 1836 г., когда «Капитанская дочка» была уже опубликована. Лишь однажды, в недописанном предисловии к «Капитанской дочке», Пушкин определил ее как «повесть»: «Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю» (8, кн. 2, 928). Повторяем, это было сказано только один раз, в черновом наброске, и никогда не повторялось.
В литературной терминологии 1830-х гг. понятия «роман» и «повесть» не были строго размежеваны одно от другого. Никакой разницы между этими видами художественной прозы не усматривал в своих лекциях по эстетике и Гегель, все суждения которого о «современной буржуазной эпопее» одинаково имели в виду и современный роман и современную повесть.44 На этих же позициях стоял и Белинский, утверждавший в статье «Разделение поэзии на роды и виды»: «Повесть есть тот же роман, только в меньшем объеме, который условливается сущностью и объемом самого содержания».45
Апелляция к «содержанию» нейтрализовала остроту каких бы то ни было противопоставлений «романа» и «повести» в жанровом отношении. Повесть, даже очень небольшая по своим размерам, но значительная по своей проблематике — философско-исторической, политической или общественно-бытовой, — все чаще и чаще обозначалась в русской печати 1830-х и 1840-х гг. как «роман». Эта жанровая характеристика после «Капитанской дочки», закрепилась и за «Тарасом Бульбой», и за «Героем нашего времени», и за «Бедными людьми».
В 1867 г., работая над предисловием к «Войне и миру» (оно осталось недописанным), Л. Н. Толстой следующим образом характеризовал опыт своих великих предшественников, новаторов русской художественной прозы: «Мы, русские, вообще не умеем писать романы в том смысле,
- 197 -
в котором понимают этот род сочинений в Европе».46 Возвратившись к этой же теме в статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“», Толстой в 1868 г. оправдывал жанровое своеобразие своей исторической эпопеи не умышленным пренебрежением к «условным формам прозаического художественного произведения», а тем обстоятельством, что «история русской литературы со времен Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от „Мертвых душ“ Гоголя и до „Мертвого дома“ Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».47
————
«В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании, — писал Пушкин в рецензии на роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» («Литературная газета» от 21 января 1830 г.). — Вальтер Скотт увлек за собой целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея» (11, 92).
Исключительно высоко оценив новаторство Вальтер Скотта, Пушкин сурово осудил тут же его эпигонов за исторические несообразности и фактические ошибки их романов, за примитивную модернизацию характеров и быта, за утомительную мелочность описаний, за претенциозную изысканность языка.
До нас дошла еще одна заметка Пушкина о романах В. Скотта, видимо связанная как-то с его же статьей 1830 г. Эта заметка, совсем черновая и неотделанная, очень многое уясняет в том, что особенно привлекало Пушкина в мастерстве шотландского романиста и какими принципами нового реалистического письма он вдохновлялся в «Арапе Петра Великого» и в «Капитанской дочке»:
«Главная прелесть романов W. Scott, — заявлял Пушкин, — состоит <в том>, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure <надутостью> французской трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité <приподнятостью тона> истории, но современно, но домашним образом <...>.
Sh<akespeare>, Гете, W. S<cott> не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих la dignité et la noblesse. Ils sont familliers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n’a rien d’affecté, de théâtral,
- 198 -
même dans les circonstances solenelles, — car les grandes circonstances leur sont familliéres» (перевод: «...достоинство и благородство. Они держатся просто в обычных жизненных обстоятельствах, в их речах нет ничего искусственного, театрального, даже в торжественных обстоятельствах, — ибо подобные обстоятельства им привычны») (12, 195).
Полностью принимая в романах В. Скотта все то, что органически связывало их с конкретной исторической действительностью и что так резко противостояло в них практике его французских и русских учеников, Пушкин ничего не сказал, однако, о том, что было для него неприемлемо даже в самых больших из достижений «шотландского чародея». Мы имеем в виду медленность темпа действия, разительное многословие романов В. Скотта.48
«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (11, 19) — так формулировал Пушкин еще в 1822 г. свои мысли о тупике, из которого никак не могла выйти русская художественная проза первой четверти XIX столетия. Характерные особенности стиля и композиции «Капитанской дочки» не оставляют сомнений в том, что вкусы ее автора в этом отношении оставались неизменными.
Предельный лаконизм повествования обеспечен был в «Капитанской дочке» не только общеизвестным пристрастием Пушкина к «прелести нагой простоты», к тем формам художественной прозы, образцы которых он усматривал в «Анналах» Тацита и в философских повестях Вольтера. Нельзя забывать еще и того, что достигнутая в «Капитанской дочке» быстрота темпа рассказа, его свобода от исторических и этнографических излишеств, от «психологизмов», от биографической и пейзажной детализации обусловлена была наличием у автора и у читателей такого широкого экрана для всестороннего освещения основных глав романа, как «История Пугачева», вышедшая в свет за два года до публикации «Капитанской дочки». Монография о Пугачеве, рассматриваемая как широко развернутый общеисторический фон событий, происходящих в романе, являлась в то же время и живым комментарием к нему, его конкретной социально-политической документацией.
Без «Истории Пугачева» были бы невозможны такие демонстративные сокращения текста романа, какие мы наблюдаем, например, в главе X («Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам» — 8, кн. 1, 341) или в главе XIII («Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности» — 8, кн. 1, 364). Без «Истории
- 199 -
Пугачева» трудно было бы мотивировать и отсутствие в ряду действующих лиц романа государственных и военных деятелей этой поры. Все они остались даже неназванными, как и усмирители восстания — А. И. Бибиков, граф П. И. Панин, генерал В. А. Кар, А. В. Суворов, Благодаря «Истории Пугачева» Пушкин мог ограничиться упоминанием лишь в нескольких строках о событиях второго года восстания, мог не объяснять читателям, кто такой «Иван Иванович Михельсон» или «князь П. М. Голицын» (глава XIII).
Гоголь, характеризуя в 1846 г. «Капитанскую дочку» как «решительно русское произведение в повествовательном роде», утверждал: «Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все — не только самая правда, но и еще как бы лучше ее».49
Гоголь едва ли был прав здесь только в одном. «Действительность» романа Пушкина нигде и никогда не противостояла «самой природе». Действительность «Капитанской дочки», отраженная гениальным поэтом и историком, была совершенно конкретной крепостнической действительностью, понимаемой, правда, как преходящая форма процесса исторического развития, со всеми его уродствами и противоречиями. Роман Пушкина не уводил читателей от «искусственности» и «карикатурности» этой действительности, а звал на борьбу за скорейшее ее переустройство.
Сноски1 Здесь и далее ссылки на изд.: Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949 — даются в тексте с указанием тома и страницы.
2 Крестьянское движение 1827—1861 гг. М., 1931, вып. 1, с. 10; ср.: Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949, т. 12, с. 199—201. Основной документальный материал о восстании 1831 г. опубликован в кн.: Слезскинский А. Бунт военных поселян в холеру 1831 г. (по неизданным конфирмациям). Новгород, 1894. См. также работу: Евстафиев П. П. Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г. М., 1934.
3 Шильдер Н. К. Император Николай I. Спб., 1903, т. 2, с. 613. Обращение Николая I к депутатам новгородского дворянства мы цитируем по публикации «Новгородские дворяне и военные поселяне» (Рус. старина, 1873, № 9, с. 411—414).
4 О деятельности Н. М. Коншина в Новгородской следственной комиссии см. в кн.: Слезскинский А. Бунт военных поселян..., с. 212—213. Биографические данные о нем же см. в кн.: Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы. М., 1903, т. 2, с. 90—121, и в публикации: Бейсов П. С. Воспоминания Н. М. Коншина о Боратынском. — Краевед. зап. / Ульян. обл. краевед. музей, 1958, вып. 2, с. 373—404.
5 Пушкин. Соч. Пг., 1914, т. 11, с. 20—24 второй пагинации. Характерно, что даже В. Я. Брюсов, очень резко выступивший против Н. Н. Фирсова в специальной статье «Пушкин перед судом ученого историка», не решился оспаривать традиционной версии об обращении Пушкина к материалам о Пугачеве лишь в связи с начатой им биографией А. В. Суворова (Рус. мысль, 1916, № 2, с. 110—123). На позициях Н. Н. Фирсова остался по сути дела и Е. А. Ляцкий, принявший всерьез мнимый интерес Пушкина к написанию биографии Суворова и толковавший этот проект «биографии» как «своего рода мостик» для перехода Пушкина к Пугачеву (см.: Ляцкий Е. А. Пушкин-повествователь в «Истории пугачевского бунта». — В кн.: Пушкинский сборник. Прага, 1929, с. 266—267). Эта ошибка подрывала значение правильных, но, к сожалению, никак не аргументированных высказываний Е. А. Ляцкого о необходимости критического отношения к данным письма Пушкина к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г. См. далее, с. 150.
6 Дата первого плана романа о Шванвиче (31 января 1833 г.), равно как и некоторые другие заготовки для будущей «Капитанской дочки», относящиеся к 1833 г., позволили П. В. Анненкову утверждать, что «Капитанская дочка» была якобы «написана вчерне» уже к «осени 1833 года» (см.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855, с. 360). Эта ошибочная датировка в течение нескольких десятков лет бытовала во всех изданиях сочинений Пушкина и в биографических трудах о нем. Еще более несостоятельна попытка Н. И. Фокина отнести замысел романа Пушкина о Шванвиче к 1830—1832 гг. См. его статью «К истории создания „Капитанской дочки“» (Учен. зап. / Урал. гос. пед. ин-т, 1957, т. 4, вып. 3, с. 104—124). Биографические данные о Шванвичах с наибольшей полнотою собраны и освещены в статье: Блок Г. П. Путь в Берду . — Звезда, 1940, № 10, с. 208—217; № 14, с. 139—149.
7 Основные материалы о романе «Дубровский» см.: Степанов Н. Л. Проза Пушкина. М., 1962, с. 118—123; Соболева Т. П. Повесть А. С. Пушкина «Дубровский». М., 1963. В современной литературе о «Дубровском» мнимое «недовольство» Пушкина этим романом особенно резко подчеркнуто Б. В. Томашевским: «Пушкин остался недоволен „Дубровским“, — утверждает исследователь в работе «Пушкин и народность». — Написав уже две части и набросав план третьей, он бросил свой роман. По-видимому, мелодраматический характер героя и механичность романтической интриги были причинами, по которым Пушкин расстался со своим произведением, не доведя его до конца» (см.: Томашевский Б. В. Пушкин — родоначальник русской литературы / Под ред. Д. Д. Благого и В. Я. Кирпотина. М.; Л., 1941, с. 95; вошло в кн.: Томашевский Б. В. Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 146).
8 Материалы о разных формах использования в художественной прозе Пушкина его ранних неоконченных повестей, черновых отрывков и набросков, образных, пейзажных и бытовых зарисовок, сентенций и т. п. с наибольшею полнотою учтены нами в комментариях в изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 717—746 и 761—784.
9 Над первой строкой, в скобках, набросан вариант «на пиках», т. е. «бой на пиках», а не «кулачный». Менее вероятное чтение этих двух слов: «на пирах».
10 Далее набросаны были цифры, определявшие, вероятно, хронологию повести: <17>74, 1770.
11 К этому месту плана относится вставка, сделанная карандашом на полях в верхней части листа. Вставка эта от времени совершенно стерлась и читается с большим трудом. Условная ее расшифровка: «Он отправился из страха отцовского гнева» (8, кн. 2, 928).
12 Имена и фамилии основных персонажей «Капитанской дочки» полностью оправдывают тонкое наблюдение А. З. Лежнева о пристрастии Пушкина к именам, «бытовой колорит которых не слишком ярок: Гринев, Миронов, Белкин, Дубровский, Муромцев, Берестов. Повинуясь общему закону, он дает густо бытовое имя-отчество жанровой фигуре, но никогда не героине: Василиса Егоровна (Миронова-мать) и Марья Ивановна (дочь). Кстати, любопытно отметить, что особенно охотно Пушкин называет своих героинь Машами («Капитанская дочка», «Дубровский», «Метель», «Выстрел», «Роман на Кавказских водах», «Роман в письмах»)» (см.: Лежнев А. Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования. М., 1937, с. 244).
13 Степанов Н. Л. Проза Пушкина, с. 221. Об этом же очень тонко писал А. Македонов в статье «Гуманизм Пушкина»: «Маша — совершенно обыкновенна, она просто человек, только человек. Но именно поэтому она в определенных условиях приобретает черты некоей героической личности, побеждающей обстоятельства, судьбу, причем этот героизм не имеет в себе ничего «тиранского». Ее спокойная решительность, сознание внутренней правоты, внутренняя сила побеждает, покоряет всех тех людей, с которыми она сталкивается. Она — победительница, она — настоящий герой повести (отсюда и название повести). Судьба, казалось, обрекла ее на то, что ее любовь к Гриневу не может осуществиться, ибо между ними стоит социальное неравенство. Но Маша избежала пути Дуни (в «Станционном смотрителе») и пути „русалки“. Человеческое победило принцип класса» (Лит. критик, 1937, № 1, с. 92—100).
14 Документальный и мемуарный материал, собранный Пушкиным для «Истории Пугачева», см. в академическом издании Пушкина (9, кн. 1 и 2), а также в специальных работах, указанных далее, на с. 282.
15 Рассказы И. А. Крылова о пугачевщине, записанные Пушкиным, см. выше, с. 101. Критический свод дошедших до нас данных о литературных и личных отношениях Пушкина и Крылова см. в кн.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»: Исследования и материалы. Саратов, 1959, с. 36—42 и 111—114.
16 Невский альманах на 1832 год. Спб., 1832, с. 250—332. Перепечатку «Рассказа моей бабушки» см. выше, с. 118—142. Комендантом Нижне-Озерной крепости был не капитан Шпагин, как указывалось в «Невском альманахе», а майор Харлов, молодая жена которого после его гибели стала наложницей Пугачева (см. выше, с. 110, 117). Возможно, конечно, что Настя в «Рассказе моей бабушки» была дочерью Харлова от первого брака, а подлинную фамилию коменданта не позволяли сохранить в рассказе, предназначенном для печати, бытовые и литературные условности. Отметим кстати, что Пушкин, создавая в «Капитанской дочке» образ коменданта Белогорской крепости, кроме рассказов Крылова и повести А. П. Крюкова, воспользовался еще и присловьем «слышь ты» из реплик Скотинина в «Недоросле» Д. И. Фонвизина (д. 2, явл. 3), которое, впрочем, встречается и у Крюкова.
17 Невский альманах на 1832 год, с. 263—264.
18 Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина: (Библиографическое описание). Спб., 1910, с. 225—226. Критическую сводку высказываний Дидро о России и русских см. в работах: Бильбасов В. А. Дидро в Петербурге. Спб., 1884; Tourneux M. Diderot et Cathrine II. Paris, 1899; Алексеев М. П. Д. Дидро и русские писатели его времени. — В кн.: XVIII век. Л., 1958, сб. 3, с. 416—431.
19 Записки Е. Р. Дашковой / Пер. с франц. по изд., сделанному с подлинной рукописи под ред. и с предисл. Н. Д. Чечулина. Спб., 1907, с. 101—103. Пушкин, в бумагах которого сохранились выписки из французского текста воспоминаний Дашковой, пользовался, вероятно, тем списком с рукописи, который принадлежал П. А. Вяземскому (Рус. арх., 1866, с. 17—21).
20 Первой наметкой образа Троекурова в «Дубровском» можно считать строки одной из черновых строф поэмы «Езерский», над которой Пушкин работал в марте 1832 г.:
Матвей Арсеньевич Езерский,
Случайный, знатный человек,
Был [очень] славен в прош <лый век>.21 О словах Гринева «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» см. примеч. на с. 290—291.
22 Карамзин Н. Соч. М., 1803, т. 4, с. 193 («Письма русского путешественника», ч. 3, письмо из Парижа от 1790 г.). Формула «без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» в заметках Пушкина по поводу «Путешествия» Радищева очень близка известной сентенции Ж.-Ж. Руссо о проекте «вечного мира» Сен-Пьера: «des moyens violents et redoutables à l’humanité» («средства жестокие и ужасные для человечества»). Цитируя в 1821 г. эти слова Руссо, Пушкин писал: «Il est évident que ces terribles moyens, dont il parlait, c’étaient les révolutions» (перевод: «Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции» — 12, 189). См.: Томашевский Б. В. Пушкин: Материалы к монографии, кн. 2, с. 149.
23 Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к С. И. Тургеневу / Ред. и примеч. А. Н. Шебунина. М.; Л., 1936, с. 241 (курсив наш).
24 Там же, с. 267.
25 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Спб., 1790, гл. «Черная грязь», с. 417—418.
26 Пнин И. П. Опыт о просвещении относительно к России. — В кн.: Пнин И. П. Соч. М., 1934, с. 132—133. Литературно-политическую характеристику Пнина и наиболее полный свод материалов о нем см. в кн.: Орлов Вл. Русские просветители 1790—1800-х годов. Л., 1950, с. 63—176 и 445—459.
27 Записка Н. И. Тургенева «Нечто о состоянии крепостных крестьян» была опубликована по автографу, представленному царю в 1819 г., в изд.: Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его императорского величества канцелярии. Спб., 1891, вып. 4, с. 441—460.
28 См.: Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. Л.; М., 1949, с. 110, 112 (записка В. Ф. Раевского «О рабстве крестьян»). О записке В. Ф. Раевского см. также в нашей статье «Из истории агитационной литературы двадцатых годов XIX века» (в кн.: Очерки из истории движения декабристов / Под ред. Н. М. Дружинина, В. Е. Сыроечковского. М., 1954, с. 509).
29 Некоторые обобщения, вытекавшие из анализа текста «Русской избы», впервые опубликованы были нами (см.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника», с. 74—76). Эти страницы бегло пересказаны в кн.: Еремин М. П. Пушкин-публицист. М., 1963, с. 212—213.
30 Именно эта цитата из «Путешествия» Радищева (глава «Пешки») заменена была в статье Пушкина выпиской из басни Крылова.
31 Впервые образ рассказчика в неоконченной статье Пушкина о «Путешествии из Петербурга в Москву» был отделен от ее автора в работе: Макогоненко Г. П. Пушкин и Радищев. — Учен. зап. / Ленингр. гос. ун-т, 1939, № 33, вып. 2, с. 110—133. Наблюдения Г. П. Макогоненко были развиты в 1949 г. в статье: Мейлах Б. С. «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина. — Изв. ОЛЯ АН СССР, 1949, № 3, с. 218; вошло в кн.: Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. Л., 1958, с. 398—400. О нашем толковании образа путешественника как одного из многих других сатирических образов носителей реакционной общественно-политической и литературной идеологии, созданных Пушкиным в период 1827—1836 гг., см. далее, с. 179. Ничего нового не внесли в предложенную нами расшифровку текста «Русской избы» случайные замечания об этой ключевой главе статьи Пушкина о Радищеве в очерке: Абрамович С. Л. Крестьянский вопрос в «Путешествии из Москвы в Петербург». — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962, т. 4, с. 224 и 233—236.
32 Для молодого Гринева, а не для Гринева-мемуариста характерны были и те его черты, о которых напомнил Ю. М. Лотман в статье «Идейная структура „Капитанской дочки“». Исследователь утверждает, что герой романа Пушкина привлекает и сейчас симпатии читателей потому, что он «не укладывается в рамки дворянской этики своего времени — для этого он слишком человечен». И далее: «Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется полностью. В нем черты более высокой, более гуманной человеческой организации, выходящей за пределы его времени. Отсвет пушкинской мечты о подлинных человеческих общественных отношениях падает и на Гринева». Мы согласны с Ю. М. Лотманом и в том, что в отличие от Гринева Швабрин «без остатка умещается в игре социальных сил своего времени. Гринев у пугачевцев на подозрении как дворянин и заступник за дочь их врага, у правительства — как друг Пугачева. Он не „пришелся“ ни к одному лагерю — Швабрин к обоим: дворянин со всеми дворянскими предрассудками (дуэль), с чисто сословным презрением к достоинству другого человека, он становится слугой Пугачева» (Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 19—20).
33 Знаком вопроса Пушкин откликнулся на нелепость обозначения в «10 час. пополудни» вместо «в 10 часов утра».
34 Словарь достопамятных людей русской земли, составленный Дмитр.<ием> Бантыш-Каменским. М., 1836, ч. 4, с. 231—253. Дата цензурного разрешения: 30 октября 1836 г. Об использовании Пушкиным первоисточников этого «Словаря» см. в названной выше моей книге «От „Капитанской дочки“ к „Запискам охотника“» (с. 126—127).
35 Нечто о состоянии крепостных крестьян в России. Записка статского советника Николая Тургенева 1819 года. — В кн.: Декабристы: Отрывки из источников / Сост. Ю. Г. Оксман. М.; Л., 1926, с. 53.
36 Архив князя Воронцова. М., 1872, кн. 5, с. 407—422.
37 В политических афоризмах Гринева Пушкин явно пародировал порою тематику и язык философско-исторических сентенций В. Б. Броневского, выступившего против «Истории Пугачева» в «Сыне отечества» 1835 г.: «Политические и нравоучительные размышления, — писал Пушкин, — коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точность известий и ясного изложения происшествий» (9, кн. 1, 392).
38 Песни и сказания о Разине и Пугачеве / Вступ. статья, ред. и примеч. А. Лозановой. М.; Л., 1935, с. 186 и 386—387. Подробнее об этом эпизоде и об его отражении в народной песне см.: Лит. наследство. М., 1952, т. 58, с. 231—232.
39 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву, гл. «София», с. 7.
40 «Русская изба» (11, 258). Впервые этот набросок опубликован в изд.: Пушкин, А. Соч. Спб., 1841, т. 11, с. 49.
41 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.; Л., 1954, т. 5, с. 126. Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1841, № 5. Писано под непосредственным впечатлением только что опубликованных набросков «Русской избы». См. примеч. 40.
42 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву, гл. «Зайцево», с. 128—129.
43 «Реестр, что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заинске». Печатается по автографу Пушкина, не вошедшему в академическое издание, хотя и опубликованному, с приложением фотокопии, в «Литературном наследстве» (М., 1952, т. 58, с. 235—237). Оригинал, с которого Пушкин снял копию этого документа, неизвестен. Связь «реестра» Буткевича с «реестром барскому добру, раскраденному злодеями» в «Капитанской дочке» (глава IX) впервые была отмечена нами в примечаниях к изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 755. Находившийся в собрании автора настоящей статьи «Реестр» хранится теперь в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 1745.
44 Гегель. Соч. / Пер. П. С. Попова. М., 1958, т. 14, с. 273—274.
45 Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 42. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский характеризовал «повесть» как «распавшийся на части, на тысячи частей, роман» (там же, т. 1, с. 271). В журнале «Сын отечества» в 1828 г. в анонимной статье о главах IV и V «Евгения Онегина» сделана была попытка дифференцировать основные прозаические жанры: «Роман изображает всю или по крайней мере несколько лет жизни человека. Повесть описывает из сей жизни одно происшествие. Следовательно, в повести должно быть более движения, полноты и живости рассказа; в романе должны быть развернуты более и яснее нравственные свойства действующих лиц» (Сын отечества, 1828, № 7, ч. 118, с. 244). Более эмоциональна характеристика обоих видов прозы в одной из статей «Московского телеграфа»: «Роман — огромная живописная картина; повесть — картина, набросанная карандашом» (Московский телеграф, 1829, № 3, анонимный обзор «Русская литература». Книги 1828 г.», с. 395).
46 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1952, т. 13, с. 55. В этом же наброске Толстой подчеркивал, что «Война и мир» ни в какой мере не напоминает ни обычную «повесть», в которой «описывается какое-нибудь одно событие», «проводится одна мысль», ни традиционный роман, отличительными признаками которого являются, во-первых, многоплановость, а во-вторых, «постояно усложняющийся интерес и счастливая или несчастливая развязка, с которой уничтожается интерес повествования».
47 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 16, с. 7.
48 В бумагах П. И. Бартенева сохранилась интересная запись, сделанная со слов П. В. Нащокина: «Пушкину все хотелось написать большой роман. Раз он откровенно сказал Нащокину; „Погоди, дай мне собраться, я за пояс заткну Вальтер Скотта“». Рукою С. А. Соболевского к этим строкам сделана была приписка: «Пушкин, хотя и весьма уважал Вальтер Скотта, но ставил „Promessi sposi“ <А. Манцони> выше всех его произведений» (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860-х гг. М., 1925, с. 35).
49 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (гл. 31 — «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). — Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 8, с. 384.